Читать онлайн Блуждающий разум: Как средневековые монахи учат нас концентрации внимания, сосредоточенности и усидчивости бесплатно
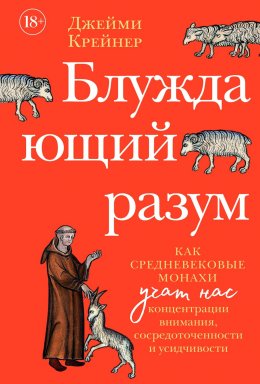
Jamie Kreiner
THE WANDERING MIND
What Medieval Monks Tell Us About Distraction
Впервые книга была опубликована в издательстве W. W. NORTON & COMPANY, INC.
© Jamie Kreiner, 2023
© Ионова В.А., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
* * *
Введение
Кажется ли вам, что в настоящее время вы отвлекаетесь больше по сравнению с тем, как обстояли дела 5, 10 или 50 лет назад? Многие люди убеждены, что к ним это точно относится. Участники проведенного в 2012 году опроса чаще всего называли следующие причины указанной проблемы: стресс, серьезные жизненные перемены, недостаток сна и (всего лишь на четвертом месте) смартфоны. В 2019 году группа исследователей, куда входили аналитики данных и врачи, предположила, что общая склонность отвлекаться растет из-за все более неподъемного потока информации: чем больше вопросов требуют нашего внимания, тем меньше времени мы тратим на обсуждение или обдумывание любого из них, прежде чем переходим к следующему. Ученые выдвигали и другие гипотезы, причем предполагаемых виновников проблемы невнимательности убежденно и непрерывно клеймят с XIX века: ситуация все хуже из-за постоянно ускоряющихся медиатехнологий, капитализации труда и времени, а также нашей глобальной взаимосвязанности. В 2022 году журналист Йохан Хари[1] составил целый список причин усугубляющейся рассеянности, и некоторые из них, например «надзорный капитализм»[2] и чрезмерная зависимость от медикаментов в лечении СДВГ, – сравнительно недавние явления {1}.
Наше общее ощущение, что мы теряем способность концентрироваться, внушает тревогу. Журналисты и ученые твердят, что последствия невнимательности очень серьезные: низкая продуктивность, непреодолимая скука, нарушения сна, плохие оценки, нестабильные отношения, аварии на дорогах, сложности с самореализацией и утрата гражданской солидарности. Это выводит из себя даже в малых дозах и даже если вы не работаете с тяжелым оборудованием {2}. В такие времена, как наши, когда кажется, что всe стремительно катится под уклон, далекое прошлое может выглядеть особенно привлекательным. Историкам хорошо знакомы похожие умонастроения: многие общества в период быстрых перемен оглядывались на более ранние эпохи в поисках утраченного и предположительно более стабильного Золотого века. В нашем случае современный груз беспокойства из-за снижения внимательности породил ностальгические думы о тех, кого мы воспринимаем как идеал сосредоточенности, – о средневековых монахах. Вот у них-то не было наших проблем, с грустью думаем мы. У них-то все отлично работало {3}.
Впрочем, не только современные эксперты считают этих святых людей образцовыми мастерами концентрации. Способность монахов ни на что не отвлекаться поражала сторонних наблюдателей уже в Средневековье. Однако сами монахи лучше знали, что да как. Допустим, у них не было Twitter, YouTube и бесконечных веток комментариев со ссылками от друзей, допустим, многие из них действительно жили в уединенных обителях, где не поощрялась праздная болтовня, – их все равно все время что-то отвлекало.
Более того: сами монахи были глубоко обеспокоены проблемой рассеянного внимания. Они пытались выявить причины и разрабатывали тактику борьбы с отвлекающими факторами. И хотя они жили в мире, очень сильно отличавшемся от нашего, это их противоборство предлагает нам свежий взгляд на вопрос рассеянности и сосредоточенности. Благодаря монахам понятно, что проблема ускользающего внимания намного старше наших технологий. Монахи напоминают, что наше сознание – часть глобальных и подвижных сфер в быстро меняющемся мире. И монахов до некоторой степени даже можно винить в этих наших неприятностях: отчасти мы резонерствуем по поводу собственного внимания из-за того, что более полутора тысяч лет назад так делали они.
Женщины и мужчины, о которых пойдет речь, жили во времена поздней Античности и раннего Средневековья, примерно с 300 до 900 года н. э. Они много думали о мышлении, поскольку одна из целей, определявших их деятельность, заключалась в воссоединении сознания с Богом и достижении такого состояния ума, в котором ничто не могло поколебать их внимания. В этом состоянии разум полностью охватывал просторы вселенной, выходя за пределы пространства и времени – «ясно-видящее» спокойствие, парящее над хаосом.
В течение всего означенного периода такой идеал вновь и вновь утверждался повсюду от Катара до Ирландии. Он появлялся в монашеских жизнеописаниях, руководствах, трактатах и даже заметках, оставленных на стенах в процессе благочестивых размышлений[3]. Но причина, по которой мы так часто встречаем его в текстах, вовсе не в том, что монахи умели хорошо справляться с рассеянностью. По их же свидетельствам, зачастую они делали это из рук вон плохо. С их точки зрения, проблема существовала изначально, частично являясь результатом дьявольских происков, частично – плодом собственной греховности, но прежде всего – следствием разрыва между Богом и его творением в начале времен. Впрочем, считали они, хоть рассеянность и общая беда всех человеческих существ, из этого не следует, что она морально нейтральна. Напротив, на них, монахов, это накладывает обязанность бороться с ней. Такая борьба стала чем-то вроде профессиональной характеристики: способность занимать свой ум по-настоящему важными вещами, отбрасывая менее значимые в этическом смысле альтернативы, и делала монаха монахом. Мы вполне можем разделить с монахами переживания по поводу битв с отвлекающими факторами. Их образ жизни и взгляды порой представляются нам на редкость причудливыми, но их внимание к работе ума способно вдохновить нас на переосмысление своего образа жизни и взглядов.
* * *
О том, как много значила концентрация внимания для христианских монахов поздней Античности и раннего Средневековья, свидетельствует, в частности, богатство метафор, используемых для ее восхваления. В хороший день разум инока был гибким, пылким, ясным. Он – разум – строил сооружения, доходящие до самых небес. Он проводил время с тем, что любит. Он был рыбой, плавающей на глубине, где ее невозможно поймать; кормчим, ведущим судно сквозь бурю; гончаром, выкручивающим глиняные сосуды; котом, не выпускающим из лап мышь; курицей, бережно высиживающей яйца {4}.
Со стороны было непонятно, как такое активное внутреннее состояние принимало совершенно, казалось бы, противоположные внешние формы. Пока монашеские умы сосредоточенно трудились, незаметно достигая мировых рекордов, их тела сохраняли неподвижность статуй. Говорили, что монах по имени Гор прожил в церкви 20 лет, ни разу не подняв глаз к потолку. Сара, по слухам, 60 лет обитала возле реки, так и не взглянув на нее. Мартин три года делил пещеру со змеей и совершенно не смущался этим. Калуппа молился в гроте, где змеи частенько падали на него сверху и обвивались вокруг его шеи – однако он ни разу не вздрогнул. Ландиберт стоял на голой земле и молился, пока снег не засыпал ему ноги по щиколотку. Иаков же молился на улице так долго, что снег засыпал его целиком, и соседям пришлось откапывать его. А прославленный монах Пахомий[4] переиграл целый отряд заглянувших на огонек демонов[5], которые отчаянно пытались его отвлечь. Демоны превращались в обнаженных женщин и садились с ним за трапезу. Они становились в строй, как солдаты, и маршировали взад-вперед, выкрикивая имя Пахомия. Они сотрясали стены его жилища. Они обвязали веревкой пальмовый лист и таскали его по земле, притворяясь строителями, двигающими камень с воплями и криками «раз-два, взяли!» – и всё надеялись, что Пахомий посмотрит на них и рассмеется. Но тот и бровью не вел в сторону мучителей. В непрекращающихся битвах за его внимание демоны неизменно проигрывали и в итоге исчезали {5}.
Но эта книга посвящена отнюдь не историям успеха, ибо торжествующие рассказы о достижениях монахов ведут к куда более интересной теме, а именно – с какими трудностями сталкивалось большинство монахов, так и не достигших полного контроля над своим вниманием. Сами монахи рассказывали и пересказывали байки о свершениях в области познания именно потому, что их внимание очень страдало от отвлекающих факторов. Даже эксперты в этой области постоянно терпели неудачи. Уважаемый монах и наставник по имени Иоанн Дальятский[6], живший в VIII веке на территории современного северного Ирака, как-то не удержался и пожаловался в письме брату, тоже монаху: «Я только и делаю, что ем, сплю, пью и отвлекаюсь» {6}. У Иоанна случались очень хорошие дни – он отлично знал, что значит быть полностью сосредоточенным, и писал об этом с пленительной теплотой. Но человеческие слабости брали верх и над ним.
Монахи описывали феномен рассеянного внимания по-разному. В основном речь шла об этаких внутренних отклонениях от курса, и иногда это было не так уж плохо. К примеру, в одной обители некий авва[7] по имени Иоанн, будучи занят плетением корзины, так погрузился в мысли о Боге, что сделал кромку в два раза больше, чем следовало. Другой монах, Иоанн Колов[8], попал в такую же ситуацию во время разговора с погонщиком верблюда. Он отправился в келью за веревкой, но внезапно увлекся благочестивыми раздумьями и совершенно забыл, за чем шел, заставив погонщика ждать снаружи. Наконец тот постучал в дверь и напомнил Иоанну о веревке. Иоанн опять взялся за дело, но снова отвлекся. С третьей попытки он справился с задачей благодаря тому, что непрестанно повторял себе вслух фразу «веревка, погонщик»: спасательный мнемонический круг для человека, витающего мыслями где-то в другом месте {7}. Монахи делились подобными байками, восхищаясь и забавляясь.
Но обычно отвлекающие факторы являлись или в виде дел, которые не хотелось делать, или в виде нежелательных мыслей. От таких вещей монахи как раз стремились избавиться, и весьма подходящий пример здесь дает нам Григорий Великий[9]. Прежде чем стать священником, а затем епископом Римским в 590 году, Григорий жил в монастыре. Он часто ощущал, что высокая должность сильно отвлекает его от столь любимых им созерцательных практик. Его «Диалоги», невероятно популярный текст в эпоху раннего Средневековья, начинаются с пролога: Григорий ускользает от своих рабочих обязанностей ради нескольких мгновений тишины, то есть чтобы отвлечься от того, что его отвлекает. «…корабль ума моего потрясается от волнений сильной бури»[10], – жалуется он священнослужителю, обнаружившему его тайное убежище, и далее излагает – своему собеседнику и своим читателям – череду историй о святых людях, которые вели более благой образ жизни, чем он сам {8}.
Впрочем, останься Григорий монахом вместо того, чтобы стать самым прославленным папой раннего Средневековья, вряд ли его дела обстояли бы намного лучше. У затворников тоже хватало занятий, вынуждавших их думать совсем не о том. Антоний Хозевит[11] (его монастырь находился на нынешней территории Западного берега реки Иордан) жаловался, например, что его очень отвлекают обязанности монастырского келаря {9}. Но более распространенная – и более серьезная – проблема заключалась в том, что, даже когда удавалось создать идеальные условия для сосредоточенной молитвы, монахи все равно испытывали трудности в концентрации на самом важном, то есть на Боге, на божественной логике, структурирующей мироздание от Сотворения до Страшного суда, и на своих моральных обязательствах внутри этой системы. Тянуться разумом и всем своим существом к высшим материям – ключевое требование в работе монаха, но куда важнее, что для них это был вопрос вечной жизни или смерти. На чаше весов лежала участь души монаха и даже участь других душ. Монахи не просто старались выполнить как можно больше работы. Эти женщины и мужчины стремились соответствовать самой этике спасения. Ставки достигли максимума.
Именно в таком ключе трактовал проблему рассеянного внимания и ее значимость один из самых ранних энтузиастов монашеской жизни Василий Кесарийский[12]. Василий считался искушенным учителем: в 370-х годах он служил архиепископом в римской провинции Каппадокия, и в его ведении находилось немало монастырей. Он потратил десять лет, чтобы записать свои размышления и наставления, родившиеся в беседах с их обитателями, и еще много веков после его смерти монахи сверялись с этими трудами. Василий говорил подопечным, что несобранность вступает в игру тогда, когда некто недостаточно старается угодить Господу, и настаивал, что бороться с ней – фундаментальная задача во всех аспектах монастырского обучения. «[Мы] не можем преуспевать ни в соблюдении всякой другой заповеди, [ни в самой любви к Богу и в любви к ближнему], – учил он их, – блуждая мыслями туда и сюда»[13] {10}.
Губительные последствия рассредоточенности стали сквозным мотивом в среде христианских монахов поздней Античности и раннего Средневековья. Опять-таки, всеобъемлющий интерес и беспокойство отразились в изобилии метафор. Отвлекающие факторы представали как змеиная кожа, которую следовало снять; мухи, которых приходилось отгонять; запахи, морочащие пса возле мясного рынка. А еще – «большое облако пыли», попавший в глаз волосок, засилье мышей, густой лес, предательское болото, пороги в реке, разбойники. То были злые ветра, треплющие деревья; груз, непосильный для корабля; чужаки, осаждающие город; кони, вырвавшиеся из стойл; воры, проникшие в дом. Из-за них монах задыхался, словно выброшенная на берег рыба, а молитвы его так и не рождались, все заканчивалось выкидышем {11}.
Не менее живо формулировались советы бывалых относительно рассеянного внимания. Так, своими аналогиями славился авва Пимен[14], влиятельный наставник из монашеской обители Скит (ныне Вади эль-Натрун, к западу от дельты Нила). Его остроумные высказывания составляют изрядную часть имевшей широкое хождение и изменчивой по части содержания книги Apophthegmata patrum («Изречения [египетских] отцов»), представлявшей собой набор историй о раннехристианских подвижниках, известных как «отцы-пустынники» и «матери-пустынницы», по большей части живших в Египте в IV – начале V века. Сирийская версия Apophthegmata приводит слова Пимена, считавшего, что «всякому пороку предшествует блуждание мыслей». Это замечание всплывает в Apophthegmata («Апофтегмах») и на других языках, тогда как в греческой рукописной традиции, известной как «Алфавитная коллекция», многие приписываемые ему афоризмы полны решимости помочь монахам в их борьбе с рассеянностью. Как правитель нанимает себе телохранителя, так и ум должен обзавестись таковым, будто бы говорил Пимен. Монах должен упорядочить свои мысли, как одежду в чулане, а нежелательные мысли ловить в бутылку, словно змею или скорпиона; хорошие же лучше пусть побулькивают на огне, чем остывают, как объедки, на которые сбегаются вредители {12}. Если же на такие выдумки воображения не хватало, под рукой всегда были популярные сравнения из области спортивных соревнований и военной подготовки: отвлекающие факторы изображались противником на спортивной арене или на поле боя – и их следовало одолеть. Милитаристский подход к вопросу блуждающего внимания – одна из причин, почему из бывших спортивных звезд и солдат получались хорошие монахи-новобранцы. Это было состязание на выносливость. Это была война {13}.
То, насколько распространены были монашеские метафоры для описания самого явления рассеянного внимания, отражает неустанные попытки этих самых монахов запечатлеть свой опыт познания. В этом смысле они мало отличаются от нас – мы тоже по-прежнему ищем точные метафоры, чтобы описать устройство и работу нашего мозга {14}. Однако, когда дело доходит собственно до решения проблемы, монахи оказываются более поднаторевшими, чем среднестатистический современный человек. Монахи твердо верили, что склонности ума можно изменить. Они пытались охватить проблему всесторонне, вдумывались в связь рассеянности и более сложных феноменов за пределами мозга, что привело к созданию немалого количества стратегий – и весьма изощренных – для достижения предельной сосредоточенности. В их сознании отвлекающие факторы были неразрывно связаны с такими феноменами, как общество, деньги, культура и так далее, а потому монахи стремились отрезать себя от этого мира, объединялись в новые сообщества с новым образом жизни на основе общих для них ценностей. Они меняли рабочий распорядок своих будней и вводили взаимную подотчетность. Они разрабатывали системы физических тренировок, чтобы улучшить совместное функционирование тела и ума. Они экспериментировали с книжными технологиями, мнемоническими изобретениями, практиками благочестивых размышлений и метапознания – и все для того, чтобы отточить внимание и с большей отдачей заниматься духовным ростом.
Монахи расходились во мнениях относительно методов (что уж говорить о метафорах!) и так и не решили проблему рассеянного внимания до полного своего удовлетворения. Им было прекрасно известно, что у всякой стратегии есть риски и изъяны. Их история не снабдит нас простыми решениями, но их сражения и победы и спустя века могут послужить предостережением и руководством к действию.
* * *
Сложности с концентрацией внимания не являются специфической приметой современного мира и современного опыта, и, судя по рассказам монахов, то же относится и к тревоге по поводу этой проблемы. По выражению нейробиолога Адама Газзали и физиолога Ларри Д. Розена[15], у нас «древний мозг»: и современные мы, и средневековые монахи получили в наследство от наших далеких предков одни и те же нейрологические механизмы – они-то и делают нас такими уязвимыми перед отвлекающими факторами. Но современные мы также унаследовали весьма специфически-монашеский и до некоторой степени специфически-христианский набор культурных ценностей, связанный собственно с процессом познания. Это не значит, что вопросы внимания и рассеянности волновали исключительно христианских монахов. Множество адептов духовного развития по всей древней Евразии стремились обрести покой и овладеть искусством концентрации. В тот же самый период даосские и буддистские монахи разработали разветвленную систему тренировки внимания. Одни их техники учили просто игнорировать отвлекающие факторы, переждать, пока они сами исчезнут; другие рассматривали посторонние мысли как некую греховную преграду или как знак блокировки кармы. В V–VII веках буддисты Центральной Азии, например, очень любили изображать демонов в виде вооруженных разбойников, угрожающих медитирующим монахам. (Особенно много таких свидетельств собрано в Турфанском оазисе, поселении на Шелковом пути, где, между прочим, с большим энтузиазмом воспринимали раннехристианские монашеские тексты в IX–X веках, а возможно, и раньше.) Так или иначе, очевидно, что раннехристианские монахи глубоко переживали из-за своей рассеянности, часто намного сильнее своих восточных современников. Этим христианским переживаниям суждено было столь долгое существование, что мы все еще разбираемся с оставленным нам наследством. По иронии судьбы в Европе и Северной Америке сейчас широко распространились и прижились медитационные практики родом как раз из Южной и Восточной Азии – и все потому, что мы сильно обеспокоены утратой способности концентрироваться. Это обстоятельство заслоняет тот факт, что самим беспокойством мы обязаны раннехристианской монастырской культуре: именно монахи заронили в нас семена тревоги {15}.
Философы эллинистического и римского мира подчеркивали важность внимательности – к своим мыслям и действиям, к настоящему, к божественному – и рассматривали ее как ключевой аспект владения собой. Но сама проблема рассеянности не особенно занимала их, хоть они и жаловались порой, что отвлекаются от насущного. Они склонны были видеть отвлекающие факторы как нечто внешнее, не относящееся к личности. Возьмем стоиков: философы, мыслившие в этой традиции с IV века до н. э., особенно отличились тем, что отвергли физику форм Платона, но, помимо этого, глубоко интересовались логикой и этикой, включая этику психологическую. Стоики рассматривали отвлекающие факторы, perispasmos, как различные обязанности и дела, мешающие человеку отдаться по-настоящему серьезной работе – философии, а источником таковых считали требования других людей и неумение правильно расставить приоритеты. Впрочем, они допускали, что и не отягощенные заботами философы могут неожиданно столкнуться с чем-то отвлекающим: люди вообще часто имеют дело с чем-то, чего не просили и не предвидели. Стоики назвали подобные внезапные встречи «явлениями». Контролировать эти «явления» человек, как правило, не мог – была ли то сцена в представлении, внезапное острое осознание неравномерности заработков, смерть друга и что угодно в этом роде. Но стоики полагали, что можно контролировать реакцию на них, и именно это имеет решающее значение. Они настаивали, что лучший способ реагировать на не слишком значимые вещи – это не реагировать вовсе: если твой выбор – не формировать никакого суждения или оценки, то ты освобождаешься от эмоций, присущих тому или иному исходу дела. Это и есть состояние покоя: смотри на явления бесстрастно, и они не смогут потревожить тебя или увести в сторону. Таким образом потенциальные отвлекающие факторы не становятся реальными отвлекающими факторами {16}.
Христианское монашество в большом долгу перед античной философской традицией Средиземноморья, включая стоицизм. Однако в вопросах рассеянности они не разделяли уверенности предшественников: им было недостаточно адекватно реагировать на внезапные события и сценарии, требующие внимания. Они полагали, что отвлекающие факторы могут проявляться в менее интерактивных формах и что сама по себе склонность отвлекаться есть некий врожденный недуг, нечто извечное, неосознаваемое, вплетенное в личность, ставящее под угрозу решимость человека концентрироваться на важных и благих вещах. Для многих христианских монахов рассеянность представлялась не какой-то потенциальной опасностью, а противником, уже прорвавшимся за крепостные стены и надежно утвердившимся внутри.
Этот чисто монашеский взгляд на вещи можно наглядно проиллюстрировать, сравнив две точки зрения на феномен праздного любопытства – одну из многих манер поведения, ассоциировавшихся у монахов с отвлечением мыслей. В I веке н. э. писатель и философ Плутарх посвятил этому вопросу небольшое сочинение «О любопытстве» (Peri polypragmosynes), вошедшее в сборник, ныне известный как Moralia. Плутрах считал себя платоником, но в текстах подобного рода не ставил перед собой цели защищать ту или иную философскую школу. Вместо этого он стремился убедить читателей из высших кругов, что философия как таковая может многое дать им в повседневной жизни. Его подход к докучливому любопытству четко укладывается в античную традицию отношения к рассеянности: подобно многим греческим и римским авторам до него, он осуждает сование носа не в свои дела прежде всего потому, что такое поведение – неподобающее и непродуктивное. Вот ты обсуждаешь сплетни, заглядываешь в жилища и повозки других людей, затаив дыхание ждешь последних новостей, читаешь надписи на стенах о том, кто кому лучший друг, пока идешь по городу, – все это отвлекает тебя от более интеллектуальных задач и от ответственности за собственные дела. Людям, и без того склонным к философской инертности, это позволяет и дальше ничего не делать. Плутарх указывает, что с возрастом черты праздно-любопытствующего нрава только усугубляются. Охотники до чужих дел, падкие на всякую диковинку, постепенно становятся настолько уязвимы для любых отвлекающих факторов, что теряют способность выделять действительно существенные вопросы {17}.
Примерно три века спустя монах по имени Иоанн Кассиан[16] также описывал праздное любопытство как проблемное поведение, но, в отличие от Плутарха, считал его симптомом куда более серьезного недуга. Сам Кассиан был общительным, любознательным и склонным к самоанализу человеком. На протяжении почти двух десятилетий он со своим лучшим другом, собратом-монахом Германом[17], странствовал по монастырям и обсуждал со сведущими коллегами способы дисциплинировать свою личность, а особенно – ум. И когда в начале V века Иоанн писал на основе этих бесед собственное монашеское наставление, он пришел к выводу, что праздное любопытство (curiositas на латыни) есть симптом ментальной нестабильности, а конкретнее – состояния, называемого «уныние» (acedia). Монах, пораженный унынием, одновременно чувствует неудовлетворенность и бессилие и настолько теряется перед задачей изменить себя или свое положение, что вместо этого прибегает к совершенно неадекватному занятию – мешаться под ногами у братьев и совать нос в их дела, словно надоедливый коллега или сосед.
Кассиан приписывает авторство этого диагноза апостолу Павлу (а тот был примерно на поколение старше Плутарха), но в его – Кассиана – трактовке отчетливо проступают признаки позднеантичного христианства, и в частности монастырской культуры. Рассеянность, отвлечение на чужие дела воспринимаются как и раньше: это уход в сторону от действительно важных обязательств. Но они уже не приписываются исключительно внешнему воздействию и не трактуются просто как предлог избежать настоящей работы и рефлексии. К тому же Кассиан утверждает, что в основе недуга лежит некое состояние сознания, ему могут быть подвержены даже те люди, которые твердо намеревались мыслить и действовать праведно. А поскольку болезнь произрастает из внутреннего смятения, то вылечить ее, просто избегая определенных внешних раздражителей или с помощью силы воли совершенствуя намерения и практики, нельзя. Инокам приходилось разбираться с рассеянностью методично и целенаправленно, и они видели в этом свою нравственную обязанность. Если мы сейчас чувствуем нечто подобное, отчасти нам следует благодарить за это раннехристианское монашество {18}.
* * *
Что же отвлекало монахов? В их солидном списке есть немало знакомых триггеров, например повседневные бытовые дела (и их количество), перегрузка информацией, другие люди. Однако все это мешает нам непосредственно в окружающем пространстве, а выдвинутые монахами метафизические предположения требовали более широкого взгляда на вещи. Главенствующая теория винила в рассредоточенности демонов. Уже в античном мире многие верили, что некие космические силы прямо влияют на людей, но в раннехристианской демонологии это влияние трактовалось как глубоко персонализированное. В извечной битве между добром и злом бесы задействовали в качестве оружия назойливые мысли, тщательно заточенные под сознание жертвы. Некоторым монахам казалось, что демоны способны читать их мысли – настолько искусно подбирался арсенал. Кассиан и Герман даже советовались с неким отче Сереном на этот счет, однако тот заверил, что даже бесам неведомо такое могущество, просто они превосходные аналитики человеческого поведения, не более того.
Это, впрочем, не делало демонов менее устрашающими, и именно поэтому они так густо населяют литературу поздней Античности, включая ту банду, что осаждала Пахомия. Сварливый настоятель Шенуте[18], возглавлявший значительное объединение мужских и женских монастырей в Верхнем Египте почти 80 лет, до самой своей смерти в 465 году, однажды поведал слушателям, что Христос отсек дьяволу все конечности, и с тех пор самая действенная часть князя тьмы – это его мысли. Но в отличие от Черного рыцаря Монти Пайтона этот персонаж вовсе не был шуточным. Монах, ведущий внутреннюю борьбу за сосредоточенность, не воспринимал дьявольское могущество всего лишь как метафору: бесы были буквальными противниками, иногда даже во плоти. Причем их коварное вторжение в сознание представлялось куда более зловещим, чем периодические внешние яростные нападки. Такая невинная вроде бы вещь, как внезапное желание прилечь и поспать, могла оказаться дьявольскими происками, утверждал Евагрий Понтийский[19] в IV веке. «Тела у бесов очень холодные, как лед», – предостерегал он; бесы прикасаются к векам или голове монаха, чтобы согреться, и монах впадает в дрему, зачастую во время чтения {19}.
Евагрий родился в причерноморской области Анатолия и после весьма извилистой карьеры, которая свела его со многими светилами эпохи, в конце концов осел в Келлии[20], одной из наиболее значительных обителей в дельте Нила. Там он обучался у почитаемых старцев и в конце концов сам стал учителем. Евагрий оказался, пожалуй, самым влиятельным египетским наставником в том, что касалось христианских монашеских учений и молитвенных практик, заслужив такие прозвища, как «просветитель ума» и «досмотрщик мыслей», хотя его труды вызывали и острые противоречия. Но поскольку монастырская культура в равной степени основывалась на традиции и экспериментах, монахи не боялись расширять полученное знание и не склонны были оставлять его неизменным. К примеру, Кассиан, протеже Евагрия, тоже верил в бесов, но предпочитал акцентировать внимание на личных слабостях и недостатках человека (vitia), видя в них более постоянный источник отвлекающих факторов. Кассиан предполагал, что большая часть этих слабостей – к примеру, гнев, желание или печаль, – изначально создавались как благие силы, и Бог поместил их в человеческие тела, чтобы вдохновлять людей на благие свершения. Однако в процессе неправедного применения они извратились, стали пороками и теперь мешают сосредоточиться {20}.
Другие монахи приписывали внутренние конфликты и сопутствующие им отвлекающие факторы воле (thelema, voluntas). Сам термин означал что-то вроде «эго», в том смысле, что они понимали волю как некую силу, одновременно и сохраняющую, и расщепляющую личность. Воля могла одновременно стремиться к противоречивым вещам, но имела склонность желать привлекательного, выгодного или комфортного, а не благого. Спутывая устремления человека, воля перекрывала ему доступ к Богу. Некоторые монахи, например катарский старец Дадишо[21], в конце VII века утверждали, что можно решить проблему рассеянности, укрепляя волю и направляя ее правильным курсом. Иные отстаивали диаметрально противоположный взгляд: причиной рассеянного внимания является не слабая, а сильная воля. Этой точки зрения придерживались в VI веке отшельники Варсонофий и Иоанн, ставшие духовными наставниками благодаря объемному потоку переписки с Фаватским монастырем неподалеку от Газы. Старцы полагали, что волю следует остругивать и кромсать на кусочки, отказывая ей во всех отвлекающих желаниях, едва те появляются {21}.
Пусть разные монахи с разной степенью накала винили бесов, личные пороки и волю – все они чаще всего верили, что в основании проблемы – один фактор, и он не из области личного, а из области первозданного. Рассредоточенное внимание изначально и как бы генетически явилось результатом исходного отделения человечества от Бога.
В начале, на заре существования мира, гласила эта теория, природа человека была целостна и незыблема. Но Адам и Ева, ослушавшись Бога и начав думать в первую очередь о себе, запустили процесс скатывания в зону умственных колебаний и создали разлом, причиняющий страдания всему человеческому роду от рождения до смерти. В одном из самых ранних сохранившихся монашеских текстов, письмах Антония Великого[22], написанных в 330–340-х годах, уже звучит мысль, что само это начинание – монашеская жизнь – есть попытка заделать разлом и воссоединиться с Богом. Позже, в IV веке, в сирийском сборнике проповедей происхождение рассеянности напрямую связывается с грехопадением. «Вначале Адам жил в чистоте. Он контролировал свои мысли. Но с тех пор как он нарушил веление Бога, тяжелые горы легли на его ум, и порочные мысли проникли в него и стали неотъемлемой частью его ума, и все же то не был естественный человеческий ум, потому как подобные мысли опоганены грехом». Склонность отвлекаться была симптомом травмы разделения. Неудачи в искусстве концентрации служили постоянным напоминанием об удаленности человека от Бога {22}.
Корни этой точки зрения уходят в библейский миф о сотворении мира, но здесь также присутствует легкий привкус неоплатонизма. В III веке египетский мыслитель Плотин предположил, что отвлекающие факторы не только расщепляют личность, но и отделяют человека от Бога, стало быть, духовная цель состоит в том, чтобы изъять эти факторы из поля зрения души, создать ясную и безупречную линию обзора, устремленную ввысь к божественному. Однако с точки зрения монахов, живших спустя столетие после Плотина, разум человека пал так низко относительно небесной равнины, что вопрос сосредоточенности просто не мог быть решен с помощью расчистки местности. Сознанию следовало сперва совершить вертикальное восхождение, отбиваясь при этом от отвлекающих мыслей, бесконечно донимавших его в горизонтальной плоскости. Ради желанного воссоединения с божественным требовалось задействовать все средства, имевшиеся в распоряжении у человека, – физические, социальные и психологические {23}.
Коротко говоря, монахи-христиане рассматривали рассеянное внимание как часть космической драмы, отзвуки которой особенно отчетливо доносились в тишину их келий. Одолеть рассеянность и дотянуться разумом до Бога стало их прямой обязанностью.
Сами монахи осознавали этот моральный и практический сдвиг в восприятии проблемы. Они даже зафиксировали его в одном эпизоде Apophthegmata patrum, пересказанном на греческом, латинском и сирийском языках. Группа философов-нехристиан решает провести своеобразное исследование аскетичности христианских монахов. Первый встреченный ими монах хорошо одет; он оскорбляет их, и они продолжают поиск. Дальше им попадается старик, которого они поначалу принимают за носильщика воды; они колотят его, но монах терпеливо сносит побои. Философы под большим впечатлением. Они объявляют его настоящим монахом и пытаются понять, как он умудряется сохранять такую безучастность. В ход идет сравнительный метод: он постится, и они постятся; он связан обетом безбрачия, и они тоже. Старец сообщает им, что верует в Божью благодать, а еще охраняет свой разум. Философы игнорируют замечание насчет Бога, но потрясены комментарием касательно ума. Они приходят к выводу, что в этом вся разница: «Мы не способны так сторожить свой ум». И с этим удаляются {24}.
Мы видим в этом рассказе историческую прозорливость, однако имеются в нем и некоторые искажения: он преуменьшает значимость собственно борьбы монаха за достижение подобного контроля; он приписывает разницу в ментальных привычках способностям, а не противоположным культурам познания. Само же соперничество между монахами и философами скрывает факт их взаимодействия, предшествующего этой постановочной сцене. При этом в тексте четко фиксируется идея, что монашеская заинтересованность в решении проблемы беспрецедентна. И еще кое-что верно подсвечено в данной истории: в ней два монаха, и один не сумел показать себя с хорошей стороны – тонкий намек на тот факт, что «монастицизм», само явление монастырской жизни даже на раннем этапе представляло собой культуру довольно разномастную и порой состязательную, и это внутреннее разнообразие тоже сыграло большую роль в истории феномена рассеянного внимания.
* * *
Монашество предполагало не только эксперимент; в эпоху поздней Античности и раннего Средневековья оно зачастую предполагало соревновательность. Четко определенных монашеских орденов с IV по IX век просто не существовало. По меткому выражению двух историков, то была эра «монастырской лаборатории». Или, если прибегнуть к терминологии христианина Закхея[23], которую он в начале V века использовал в вымышленном диалоге с философом Аполлонием, имелось множество видов монахов (diversa genera monachorum), а монастырские практики были весьма разнородны (multiplex) {25}.
За 500 лет монахи и поддерживающие их сообщества создали так много различных наработок и теорий, что в данной книге получится лишь слегка пробежаться по верхам. Даже сам термин «монашество» являлся полемичным и неустойчивым. Однако «лаборатория» трудилась не покладая рук и невероятно обогатила историю проблемы рассеянности. Все монахи сходились на том, что проблема очень серьезная, и предложенные ими способы ее решения захватывающе разнообразны.
Изучая историю раннехристианского монашеского движения, все время поражаешься, насколько ее пронизывает вездесущая напряженность между колоссальным разнообразием взглядов, с одной стороны, и общими для всех идеалами и полемикой – с другой. Эта напряженность пронизывает и книгу в ваших руках. Наш рассказ охватывает пространство Ближнего и Среднего Востока, Средиземноморья и Европы в период посленикейского и раннесредневекового христианства в рамках общепринятой хронологии (или в соответствии с политической хронологией – в период, связанный с правлением римлян, Сасанидов, «варварских» королей, Византии, династий Омейядов и Аббасидов). Эта напряженность также связывает различных «сектантов». Монахи, которым важны были конфессиональные ярлыки, называли себя православными (orthodox) или католиками, исходя из того, что именно их версия христианства – всеобщий образец. Конкурирующие группы христиан именовались еретиками, для них придумывали уничижительные прозвища, клеймящие их как приверженцев какого-нибудь заблудшего главаря. Однако многие монахи оставались безразличны к подобной риторике, и в этой книге мы тоже будем ее избегать, поскольку монашеский дискурс сам по себе часто шел вразрез с догматическим учением и редко заканчивался полным согласием относительно того, что истинно, а что нет.
Соответственно я использую термин «монах» в очень широком смысле, включая в него всех женщин и мужчин, которые экспериментировали с разными формами монашества. Христиане поздней Античности и раннего Средневековья применяли много существительных для деятелей монашеского движения, но ключевые термины применимы для обоих полов: monachos/monache в греческом и коптском, monachus/monacha на латыни, iḥidaya в сирийском, rahib/rahiba в арабском и mynecenu/munuc в староанглийском {26}. Такое равновесие в терминологии отражает широко распространенное убеждение, что монашество в христианстве рассматривалось как универсальная, открытая для всех возможность, равно подходящая мужчинам и женщинам: в монастырь мог уйти любой человек. Впрочем, это не означало, что они получали одинаковый опыт. Пол иногда накладывал существенный отпечаток на роль в монашеском движении. И хотя в письменных источниках хватает случайных упоминаний о монахинях, чтобы прийти к выводу об их значительном количестве, все же женщины представлены там недостаточно; скажем, истории об отцах-пустынниках куда более многочисленны, чем истории о матерях-пустынницах. В любом случае имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что монахи и монахини ставили перед собой похожие когнитивные цели, а также о том, что те и другие влияли друг на друга и обменивались результатами экспериментов.
Источники по раннехристианской монастырской культуре, имеющиеся в нашем распоряжении, ограничены, но их корпус все равно необычайно богат. Монахи были, прямо скажем, одной из наиболее «разговорчивых» прослоек общества в период поздней Античности и раннего Средневековья. Многие их письменные труды появились как часть экспериментов по разработке новых способов осмысления монашеской жизни и поиску решений тех проблем, которые этот образ жизни порождал {27}. Этот материал, как любые исторические источники, не очень прост для толкования, и ученые предупреждают, что складывающаяся по ним картина неизбежно фрагментарна. Но те же исследователи обнаружили, что монастырская культура вовсе не была герметично изолированной. Христианские обители исполняли функции консультативных, финансовых и научно-исследовательских центров, благотворительных организаций, компаний-застройщиков, литургических точек сбора и праздничных площадок. Многие из них получали материальную поддержку в разных формах – начиная с очень скромных приношений и заканчивая земельными пожертвованиями от христианских, зороастрийских и мусульманских правителей. Некоторые привлекали мусульманскую знать, которая уважала их дисциплину (и любила их книги и вино). Некоторые вершили акты насилия в качестве прирученных террористов или санкционированных государством «ударных частей». Иные выступали как миротворцы {28}.
Что это значит в отношении нашего материала? Пусть мы никогда не узнаем, сколько именно бесов одолел Пахомий, но разошедшиеся повсюду рассказы о его битвах отражают живой интерес к проблеме рассеянного внимания и средствам ее решения. Борьба с посторонними мыслями была насущной необходимостью в той работе, которую монах выполнял на благо общества (как видно в главе 1). В более общем смысле когнитивные свершения монахов из соседней обители или с далеких скалистых гор захватывали воображение множества людей, до которых доходили рассказы о них. Люди находили утешение в том, что какие-то мужчины и женщины способны на подвиги сосредоточенности и что составленная из таких героев звездная команда устремляет свой разум ввысь на службе чего-то более великого.
В книге «Блуждающий разум» мы проследим подход монахов к проблеме, двигаясь снаружи внутрь. Начнем с решения сосредоточиться на Боге и последовательно пройдемся по разным идейным и практическим уровням: начнем с мира, который они оставили, проникнем в сообщества, к которым присоединялись, тела, которые тренировали, книги, которые читали, размышления и воспоминания, которые конструировали, метапознавательный мониторинг, который они устанавливали у себя в уме, и закончим мимолетными мгновениями предельного внимания, которые довелось пережить кому-то из них. Многие техники, изобретенные монахами для защиты от отвлекающих факторов, все еще применимы сегодня, и некоторые весьма напоминают современные методы. Однако те их взгляды, которые вскрывают пропасть между нами, завораживают ничуть не меньше. Христианские монахи, может, и наградили нас своей зацикленностью на проблеме рассеянного внимания, а заодно и некоторыми стратегиями борьбы с ней, но не все из их опыта сообразуется с настоящим. Их сознание порой работало совершенно неожиданным образом.
1. Мир
В сегодняшнем мире, ощутив полную беззащитность относительно рассеяния внимания, мы отключаемся: объявляем во всеуслышание, что временно покидаем социальные сети, уходим на цифровой детокс, удаляемся в лесные хижины. Пока отключение длится, нам становится легче, мы убеждаемся, что наш ум все еще способен пребывать в покое. Но подобные меры – временное решение, да к тому же не всем доступное, и полное удовлетворение так никогда и не наступает.
Наши попытки показались бы монахам поздней Античности и раннего Средневековья вполне осмысленными. Они тоже по-своему «отключались», когда делали первый шаг на пути к большой цели – сконцентрироваться на Боге и своих моральных обязательствах в пределах его Творения. Правда, их уход от общества совершался, предположительно, навсегда, ведь посторонние мысли и дела – неотъемлемая черта этого самого общества. Нужно было отказаться от мира целиком, а не от какой-то его отдельной части.
Называют немало мест, откуда родом концепция разрыва с миром, да и сами монахи по-разному рассказывали, откуда она взялась. Толкователь по имени Астерий[24], писавший в начале V века, назначил первым отшельником Адама, ибо до появления Евы тот жил в тихом уединении. Другие усматривали корни монашества в истории Моисея, чья покорность Богу вызрела в пустыне. Третьи же возводили монашеский «род» к книге Деяний, где апостолы описываются как люди, у которых «было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее»[25]. Сегодня в научно-популярной литературе вы чаще всего прочтете, что первым христианским монахом являлся Антоний (ок. 251–356 гг.), а его собрат египтянин Пахомий (ок. 292–346 гг.) – тот самый невозмутимый Пахомий, с которым мы уже встречались, – основал первую монашескую общину. Однако отшельники существовали и до того, как Антоний удалился в пустыню, равно как и монашеские обители существовали до того, как Пахомий принялся собирать их вместе около 320 г. Исторические упрощения почти такие же древние, как сама идея монашества. Позднеантичных и раннесредневековых христиан так же, как и нас, влекли истории об истоках вещей и явлений, и в данном случае они фокусировались на нескольких фигурах, ставших звездами международного масштаба благодаря некоторым необычайно популярным текстам {1}.
Впрочем, рассказы об истоках монашеской жизни отдельных личностей доставляли не меньшее удовольствие: переломный момент истории, то есть свершившийся выбор уйти из мира – сколько бы раз он ни повторялся, – неизменно будоражил умы. Моисей Мурин[26] отрекся от разбойничьей жизни и стал монахом. Пастух Аполлон убил беременную женщину, чтобы посмотреть, как выглядит плод у нее в чреве, а затем бежал в монастырь, чтобы каяться и искупать вину. Сахдона[27] шел на купеческом корабле в Индию, когда на судно напали пираты, и он поклялся, что примет монашество, если уцелеет. Некто Павел застал свою жену с другим мужчиной; он развернулся и направился прямиком в пустыню, учиться у самого великого Антония {2}.
Большинство монахов не могло похвастаться столь драматичными биографиями, но какими бы фантастическими ни казались эти байки, в них очень точно отслеживался весьма важный для всякого инока критический момент {3}. Монашеская жизнь начиналась с отказа от «мира» и поворота к новой этической системе. В этой точке и происходило conversio – разворот на 180°.
Сам «мир» по природе своей не был плохим. Обращаясь к повествованию о его началах, изложенному в Книге Бытия, христиане обычно приходили к выводу, что все созданное Богом – благое. Просто слово «мир» также служило эвфемизмом для состояния поглощенности житейскими заботами. Речь шла о семье, друзьях, собственности, работе и повседневной рутине; о судебных тяжбах и бесконечных разговорах насчет урожая и скота; о сплетнях и новостях. Речь шла о будничной жизни, полной треволнений, травм и тривиальности, где всё требует внимания {4}.
В общем, хоть мир и хороший, христиане – и особенно монахи – рассматривали его по сути своей как нечто, отвлекающее от Cоздателя этого мира. Епископ и теоретик монашества Василий Кесарийский утверждал, что «невозможно продвинуться в таких размышлениях и молитвах среди множества всего, которое тащит душу туда и сюда и держит ее в путах мирских дел». Спустя почти полтысячелетия аббат Хильдемар[28] из Чивате сформулировал мысль еще проще: нельзя сосредоточиться на двух вещах сразу. Василий и Хильдемар не удивились бы, узнав от нейрофизиологов и психологов XXI века, что наш мозг действительно не способен выполнять много задач сразу, если только речь не идет о рефлекторной деятельности. Он может лишь метаться между разными задачами и структурами, отчего быстро теряет эффективность {5}. Вот и монахи считали, что человек не в состоянии нормально сосредоточиться, если не сократить объем потенциального «множества всего». Мир населен людьми, которые безразличны к духовному росту и по уши погружены в привычные дела, постоянно требующие внимания и мешающие изменить жизнь.
Монахи сохраняли это ощущение, даже когда христианство в Европе и Средиземноморье превратилось из религии меньшинства в религию большинства – всего-то за пару столетий с IV века. В конце Античности и начале эпохи Средних веков жизнь большинства христиан (а также иудеев, язычников, зороастрийцев, манихеев и мусульман) определялась отнюдь не только их религиозной принадлежностью, даже если сам человек имел серьезные намерения по этой части {6}. Именно от такого многовекторного мира и бежали монахи ради более единонаправленной цели – предаться божественному. Монашество привлекало очень разных людей, однако все они постепенно обнаруживали, что мир нельзя ни бросить насовсем, ни утихомирить полностью. На овладение искусством сосредоточенности уходила целая жизнь.
* * *
Уже в самом начале пути монахи сталкивались с намеками на вызовы, ожидающие их в новой жизни. Большая часть обращений происходила не так эффектно, но и не так просто, как в историях Моисея, Аполлона и Сахдоны. Многим приходилось тяжело даже на предварительной стадии «ухода». Например, за десятилетия до того, как Мар Йонан[29] стал почитаться святым мужем в регионе Персидского залива, он переживал такое давление со стороны родителей, прочивших ему медицинскую карьеру, что предпочел вообще не говорить им о своем желании уйти в монахи, а дождаться, когда его отправят из дома изучать лекарственную ботанику, и сбежал уже оттуда. Похожий случай произошел в Северной Галлии, на пару тысяч километров северо-западнее Персидского залива (ныне Северо-Восточная Франция). Отпрыск одного знатного семейства по имени Вандрегизель[30] очень боялся признаться родителям в своих мечтах о монашестве, поэтому дотерпел до женитьбы и только тогда приступил к действиям, а именно убедил супругу вместе уйти из мира, и, говорят, она этой идеей весьма воодушевилась. Ему очень повезло, потому что, вообще-то, уход от супруга или супруги без его или ее согласия считался деянием безответственным и иногда противозаконным. Но не только семья стояла у Вандрегизеля на пути. Он состоял на службе при королевском казначействе у монарха, который требовал, чтобы чиновники высокого ранга лично испрашивали у него дозволения покинуть двор и уйти в монастырь, и хотя король сам был христианином, он далеко не всегда хотел их отпускать. Вандрегизель (как и Мар Йонан) попытался в принципе избежать этого разговора и просто удалился без уведомления, однако был вызван обратно ко двору и вынужден защищаться перед королем и бывшими коллегами {7}.
Христиане на противоположном конце социальной лестницы обнаруживали, что главное препятствие в уходе из мира – это, как ни смешно, недостаток ресурсов. Предполагалось, что монах отказывается от всего, чем владеет, но при этом после обращения ему нужно было как-то содержать себя. Упорное движение к цели оказывалось в некоторой степени привилегией, и особенно трудно приходилось малоимущим женщинам. Помимо всего прочего, девушки, как правило, вступали в брак в более юном возрасте, чем юноши; то есть женщины, избравшие монастырь вместо брака, зачастую были просто подростками. В этих условиях некоторые из них вступали в фиктивный брак с мужчиной-аскетом, и пара просто по-соседски делила жилище. Подобные взаимовыгодные сделки зафиксированы еще в начале четвертого столетия и продолжали существовать в течение нескольких веков: они позволяли поделить расходы, облегчали ведение хозяйства и, возможно, обеспечивали некоторую физическую защиту, отнюдь не лишнюю. Так, Аврелий Августин[31], епископ из Северной Африки, теолог и покровитель монахов, описывает случай, когда одну североафриканскую отшельницу изнасиловал работник, служивший у владельца этих земель. А монах по имени Иоанн Мосх[32] рассказывал об инокине из Александрии, пострадавшей от настырного преследователя {8}.
Преступники, впрочем, не единственные люди, тащившиеся за иноками в их новую жизнь. «Мир» просачивался в монашеское существование и вполне ненасильственными путями. Мы знаем примеры, когда слуги, рабы и вообще все члены домохозяйства вместе с господином уходили в монастырь, а там уже растворялась иерархичность их отношений. Некоторые семьи отдавали в дар монастырю детей, они назывались облаты; и смысл заключался не в том, чтобы избавиться от них (по крайней мере, в норме), а в том, чтобы создать крепкую связь с монахами и их святыми покровителями. Члены одной семьи уходили в монастырь вместе, друзья уходили в монастырь вместе. А кроме того, монахи приносили с собой воспоминания. Способы не пускать память о прошлом в благообразные размышления были, мы еще поговорим об этом позже. Однако монахи не всегда хотели расставаться с этой памятью. Ирландская поэтесса Дигде приняла монашеские обеты в старости, будучи вдовой, но и тогда с удовольствием вспоминала годы, когда была красивой и нарядной девушкой, наслаждалась сексом с молодыми королями и веселилась на пирах {9}.
Невозможно было полностью отречься от мира и его искушений. Только смерть обеспечивала полное отречение. Возьмем монаха по имени Франге, который в VIII веке, когда Египтом правили Омейяды, обосновался в могиле фараона в местечке Джеме. Несмотря на замогильную обстановку, Франге не терял связи с живыми. От него осталась куча писем, написанных на осколках керамики, – археологи обнаружили их прямо в гробнице. Судя по этим остраконам, он состоял в переписке более чем с 70 корреспондентами обоего пола, и большинство из них – миряне. Он слал им приветы, просто чтобы поддерживать связь. Он отправлял благословения им, их детям и их скоту. Он напоминал, что они задолжали ему за работу (чтобы содержать себя, Франге изготавливал книги и ткани). Он просил одолжить ему кое-какие тексты. Он просил передать ему кардамона. Он приглашал в гости. Но иногда он также писал, что хочет побыть в одиночестве {10}.
Авторитетные деятели монастырского движения часто указывали, что отречение и обращение не происходят в один момент. Все это часть продолжительного процесса отделения от материального мира, и в долгосрочной перспективе их ждет тяжелая нагрузка. Игумен Синайского монастыря Иоанн Лествичник[33] писал в VII веке, что, вообще-то, «если бы люди вполне осознавали это, никто не отрекся бы от мира» {11}. Даже когда человек принимал фундаментальное решение отказаться от всего, ему постоянно приходилось прикладывать усилия, чтобы освободиться от собственности, социальных связей, повседневных драм и прочих вещей, до сих пор поглощавших внимание.
* * *
Единой готовой формулы для подобного освобождения просто не существовало. Монахи обрезали эти нити по-разному, поскольку разграничить «мир» и «отречение» означало распределить по категориям вещи и понятия, очевидным образом не укладывающиеся в эти категории. Что отвлекает от Бога, если Бог во всем? Что отвлекает человека от его морального долга, если личность – часть целостной космической системы?
Обязательный отказ от имущества, например, на практике принимал разные формы. Монахи любили рассказывать истории об отшельниках, которые доводили отказ от собственности до того, что отдавали даже свои Евангелия. Но про такие случаи и судачили оттого, что происходили они редко. В конце IV века Августин всячески уговаривал женщин и мужчин, живших в подконтрольных ему монастырях, раздать все свое добро. И все же, как явствует из его писем, у иных монахов уходило довольно много времени на полное избавление от имущества – как правило, потому, что сначала им требовалось обеспечить надежное будущее своих матерей, братьев, сестер и прочих зависимых родственников. А если они жили на территории Римской империи и принадлежали к слою городской администрации, то, прежде чем отречься от мира, им приходилось сперва улаживать всякие бюрократические и налоговые дела. Финансовые договоренности были вопросом щепетильным, даже для людей, не обремененных особыми фискальными трудностями, а потому некоторые монастыри предпочитали юридически оформлять акт полного отказа от имущества и настаивали, чтобы перед постригом будущие монахи уступили всю собственность и подтвердили это письменно. Состояние могло отойти монастырю или любому человеку на выбор, главное уже на старте окончательно и бесповоротно отказаться от всего имущества {12}.
На противоположном конце шкалы находятся многие египетские монастыри, позволявшие сохранять личное имущество вплоть до IX века. Об этом свидетельствуют записанные на папирусе контракты и прочие юридические документы, откуда явствует, что отдельные монахи владели и различным образом распоряжались землей, мастерскими, рабами и даже своими кельями. А в Средиземноморском регионе братья искали какую-нибудь халтуру на стороне, чтобы подзаработать, – иногда не ради наживы, а просто от беспокойства за свое будущее. Например, Иоанн Кассиан, весьма проницательный психолог, встречал монахов, сильно обеспокоенных тем, что они могут заболеть или состариться и не иметь средств на лечение. Он не считал, что таковое беспокойство – достаточное основание для приносящей доход подработки, но соглашались с ним, очевидно, не все {13}.
Противоречивые подходы отражают расхождение во взглядах на сам вопрос: обладают ли сами по себе собственность и подработка такими свойствами, которые непременно засасывают монаха в пучину? В конце концов, цель ведь не просто в отказе от материального имущества. Для монаха это лишь предварительное условие перед отречением от главного владения – «своего тайного достояния, то есть ума и мыслей» (как это формулировалось в одном популярном сборнике наставлений IV века) {14}. Настоящей ценностью считалось обладание не собственностью, а вниманием, и монахи приходили к очень разным выводам насчет того, как личные вещи влияют на мысли, и, соответственно, как с ними, вещами, поступать. Некоторые заключали, что определенные формы владения имуществом вовсе не вредны для монашеского сознания.
В одних обителях от братьев требовали, чтобы они не говорили о вещах «мое», в каких-то считалось, что вся одежда – общая. Но где-то каждого монаха обеспечивали личным комплектом одежды, и в некоем сирийском уставе даже разрешалось эту одежду подписать. В том же духе монахини аббатства Амаж в Галлии сделали себе личные глиняные кружки и после обжига запечатлели на них разные послания, причем как минимум одна из сестер оставила нам свое имя: Огхильда {15}.