Читать онлайн Крепостное право бесплатно
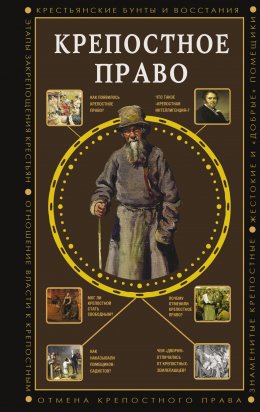
© Баганова М., 2024
© ООО Издательство АСТ, 2024
* * *
«Мужицкими мозолями бары сытно живут».
«Неволя – боярский двор: ходя наешься, стоя – выспишься».
Народные пословицы
«Как будто за разбой вчерашняго дни, Фрол,
Боярин твой тебя порол:
Ни ништо, плут, тебе! Ведь сек он не без дела:
Ты чашку чая нес, а муха в чай влетела».
Иван Иванович Бахтин, общественный деятель и писатель. 1789 год
«Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца».
Александр Сергеевич Пушкин. 1819 год
«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным».
Николай I Павлович. 1841 год
«Совершенная зависимость от произвола владельца и безнадежность освободиться от этой зависимости убивают в крепостном склонность к бережливости и прочному улучшению своего быта, рождая, напротив, или скупость, или страсть к минутным наслаждениям, к пьянству, праздности и разврату…. Да и может ли быть иначе, когда помещик может отнять нажитое кровавым трудом его крепостного?..»
Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский – русский государственный деятель, статистик и экономист, член Государственного совета. Из записки «О крепостном состоянии России», 1841 год
«Если грозила человеку на каком-нибудь месте великая опасность, по миновании ее он непременно оглянется на то место и долго будет глядеть: повлечет его к тому непреодолимая сила. Так и тут: крепостное право, грозившее при дальнейшем своем существовании убить окончательно силы народного духа, – такое место в русской народной жизни, на которое невольно, часто и долго придется оглядываться…»
Степан Тимофеевич Словутинский – русский писатель, беллетрист. 1876 год
«При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации».
Валерий Дмитриевич Зорькин, председатель Конституционного суда РФ. 2014 год
Введение
Современному человеку трудно себе представить, что такое – быть крепостным. Вообразите: права на вашу жизнь принадлежат другому человеку. На всю вашу жизнь! Вы самостоятельно не смеете выбирать, за кого идти замуж или на ком жениться. Не можете решать, кем вам быть, на кого учиться. И учиться ли вообще. Да и не во все учебные заведения вас примут, ведь вы по закону – неполноценный человек. И неважно, что вы красивы, умны или талантливы. Вы – крепостной. Вы не принадлежите самому себе.
А еще вы обязаны постоянно работать, но не на себя, а на человека, считающегося вашим хозяином. Выполнять всё, что он скажет, и подчиняться всем его прихотям… И этот хозяин имеет право вас наказать – физически: высечь плетью и кнутом, заковать в рогатку и кандалы, посадить на цепь, словно собаку. Закон это разрешает. Вы – вещь! Вас можно продать, сдать в аренду или поставить на кон в карточной игре. И вы не имеете права жаловаться или возмущаться. Терпение – ваша главная добродетель.
И подобных вам – очень много! По данным переписи 1858–1859-х годов из 62 миллионов населения Российской империи 23 миллиона были крепостными. А в центральных губерниях России доля крепостных составляла почти семьдесят процентов.
Как становились крепостными
Крепостное право не уникально для России! Подобное было и в феодальной Европе. Особенность России состоит в том, что в нашей стране крепостное право установилось позже и продержалось долго – вплоть до середины XIX века, став пугающим анахронизмом, превратившись фактически в рабство.
В советское время многие ученые занимались вопросом установления крепостного права на Руси. По общему мнению, родилось крепостное право из противостояния крестьянской общины и крупного землевладения. Крупные землевладельцы – князья и бояре – победили и обзавелись большим количеством зависимых от них людей, в первую очередь – крестьян. Крестьяне платили князю дань, а князь со своим войском обеспечивал им некоторую защиту.
Русский народ сложил полушутливую-полугорькую легенду о том, как свободные люди свою свободу утратили. Мол, князья дали крестьянам по яйцу, чтобы те их положили под кур, и с тех пор стали требовать дань – курами да яйцами. «Барская курица бессмертна», – ходила на этот счет пословица. Возможно, тут слышен отголосок какого-то древнего обычая.
Г.-Т. Паули. Великороссияне разных губерний. 1862
В XI веке крестьяне уже не только платили дань, но и лишились права покидать земли, которые они обрабатывали. Сведения об этом есть в Русской Правде – сборнике правовых норм 1016 года.
Появилось в Русской Правде и понятие «рядович» – от слова «рядиться», «подряжаться». Так назывался человек, заключивший с боярином или князем договор, на основании которого он живет на его землях. Примечательно, что действие договора не прекращалось со смертью рядовича, а переходило на его оставшихся в живых близких родственников. Ученые видят в этом начало крепостничества. Век спустя появился термин «закуп» – то есть человек закупался богатым вотчинником, получал от него некую сумму и должен был ее отрабатывать. Позже подобные отношения стали называть татарским термином «кабала», а еще позднее таких людей могли называть крестьянами-серебренниками, то есть пошедшими в неволю за деньги, за серебро; еще позднее их называли «новоподрядчиками». В некоторые века согласно обычному, неписаному праву они могли выкупиться из неволи, уплатив не только долг, но и проценты по нему. Что, конечно, удавалось очень немногим.
Крестьяне-половники нанимались к богатым землевладельцам обрабатывать их землю, отдавая вотчиннику половину урожая. При этом обычно оговаривалось, что все риски за потравленный, испорченный, погибший урожай нес половник, а господин принимал лишь целое и неиспорченное. Понятно, что если год выдавался неурожайным, половник терял личную свободу.
Века шли, терминология менялась, а принцип сохранялся: бедные люди шли в кабалу к богатым и знатным, потому что иначе было не выжить. Государи давали своим боярам жалованные грамоты на земли – порой пустующие. И к ним шли заключать кабальные договоры безземельные крестьяне.
Несколько особняком стоит такая категория, как бобыли – люди, обязавшиеся выплачивать помещику лишь оброк, но не работать на пашне. Это могли быть даже не крестьяне, не страдники, не землепашцы, а ремесленники.
Рядовичи, закупы, серебренники, новоподрядчики, бобыли шли в кабалу относительно добровольно, принужденные к этому бедностью. Этим они отличались от смердов – простых общинников, попавших под власть князей и бояр. Таких крестьян еще называли «старожильцами», то есть давно, «извечно» принадлежащими определенному знатному роду.
Порой зависимыми от вотчинника крестьянами становились и военнопленные. Так, князь Ярослав Мудрый захваченных на войне пленников «посадил» – то есть поселил на реке Рось (приток Днепра), с тем чтобы они отдавали ему часть производимой сельскохозяйственной продукции, то есть, говоря более поздним языком, – платили оброк. Спустя полвека летописец все еще застал их потомков живущими в тех местах.
Русская Правда дает нам сведения и о том, как ценилась жизнь людей из разных социальных слоев. За убийство княжеского тиуна – сборщика податей – нужно было заплатить 80 гривен. За смерть «ратайного», то есть сельского старосты, – 12 гривен. А вот за насильственную кончину смерда или рядовича – всего 5 гривен. Для сравнения: за нарушение межи, разделяющей полевые участки, платился штраф в 12 гривен, а за кражу коня – 3 гривны.
И все же первоначально большинство крестьян прикреплялось именно к земле, а не к ее владельцу. Это означало, что крестьянин по своей воле не имел права оставить деревню и переселиться в город. Он должен был заниматься сельским хозяйством и главное – хлебопашеством. Отсюда и второе старинное название крестьян – страдные люди или страдники[1]. Ведь именно от урожайности полей, от сельского хозяйства зависело процветание Руси.
Этапы закрепощения
Именно из этих достаточно разных групп людей и возникла масса прикрепленного к земле крестьянства, тоже далеко не однородная.
Дошедшие до нас документы показывают, что еще в XIV веке крестьяне пользовались определенными правами и могли жаловаться князю на притеснения со стороны более мелких вотчинников, а потом их права постепенно сокращались. Да и прикрепление к земле долгое время не было абсолютным: крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому. Как именно решался этот вопрос, мы точно не знаем, так как регулировало его не писаное, а «обычное» право – то есть правовые нормы, зафиксированные лишь в памяти и сознании людей.
В конце XV века ситуация изменилась, Судебник 1497 года ограничил право крестьян переходить от одного помещика к другому: «А хрестяном отказыватися из волости в волость, из села в село один срок в году за неделю до Юрьева дня, и неделя после Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А который христианин поживет за кем год да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года проживет, а пойдет прочь, и он полдвора платит, а три годы проживет, а пойдет прочь, и от платит три четверти двора; а четыре года проживет, и он весь двор платит».
С.В. Иванов. Юрьев день. 1902
То есть уход от помещика был возможен лишь две недели в году, до и после дня Святого Георгия (26 ноября), да еще крестьянин должен был выплатить «с двора» выкуп, размер которого варьировался в зависимости от места проживания и срока жизни крестьянина у конкретного помещика.
Почему именно в этот день? Да потому, что к концу ноября завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян. К тому же крестьянин должен был выплатить помещику «пожилое» – нечто вроде выкупа. Его размер варьировался от 50 копеек до рубля, но для тех, кто жил у помещика менее четырех лет, снижался. Но все эти полтины и рубли в те века были немалыми деньгами, да и само переселение стоило денег, поэтому для крестьянина кочевать по помещикам в поисках лучших условий было делом хлопотным и накладным. Тем более что свободы он не получал, а мог лишь сменить господина – «шило на мыло».
Несколько десятилетий спустя, в 1580-х, крестьянский выход был вовсе запрещен, якобы временно, введением так называемых «заповедных лет». Историками до сих пор не найден конкретный закон об отмене Юрьева дня, однако он упоминается в некоторых других документах, например в 1595 году в письме старцев Пантелеймоновского монастыря царю говорится, что ныне «крестьянам и бобылям[2] выходу нет». В преамбуле Уложения царя Василия Шуйского 1607 года записано еще более конкретно и подробно: «при царе Иоанне Васильевиче… крестьяне выход имели вольный, а царь Фёдор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал и, у кого колико тогда крестьян было, книги учинил…» – то есть провел нечто вроде переписи податного населения.
Но так как текст указа не найден, некоторые историки высказывали сомнение в том, что он вообще существовал.
Зато сохранились другие тексты. Указ 1597 года установил право помещика на розыск беглого крестьянина в течение пяти лет, так называемые «урочные лета». В 1607 году срок сыска беглых крестьян был увеличен до 15 лет.
Окончательно крепостное право было оформлено Соборным уложением царя Алексея Михайловича в 1649 году. Ни о каком праве перехода или выхода крестьян более не упоминалось, а сыск беглых стал бессрочным.
Однако в том веке крестьяне еще не полностью лишились своих прав. Несмотря на крепостное состояние, они имели право заниматься торговлей и предпринимательством, передавать имущество по завещанию. Известны случаи, когда крепостные люди судились в государственном суде, совершали сделки и владели своей собственностью. Они не были лишены гражданских прав и были органично встроены в российское общество. И главное – крестьян нельзя было продавать и покупать, словно скот. В главе 20 Уложения на этот счет недвусмысленно говорилось: «Крещеных людей никому продавати не велено». Можно было продать лишь землю, к которой они были прикреплены, – и крестьян вместе с ней.
Но, как оказалось, это было лишь начало!
Русский историк и социолог, профессор Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) писал: «Крепостное право владельцев возникло у нас частью вследствие настоятельной государственной потребности дать прочную оседлость сельскому народонаселению, частью исторгнуто у московских царей в бедственное время шаткости нашей государственной власти, когда она вынуждена была льстить и потворствовать знатным, богатым и сильным, забыв настоящее святое свое призвание покровительствовать незнатным, бедным и слабым. Отсутствие всяких идей о справедливости и праве и бессмысленное варварство выработали из неопределенной зависимости крестьян от землевладельцев, в течение XVII века, полное личное рабство, и в этом виде крепостное помещичье право завещано XVIII веку».
Земли, находившиеся в частном владении, делились на вотчинные и поместные. Вотчинные – это древние боярские владения, многие века передававшиеся по наследству. Конечно, вотчинник считал себя полным хозяином на своей земле и полагал, что имеет право поступать со своими людьми, как ему заблагорассудится.
А вот поместные земли выдавались дворянам за службу. Эта система землевладения возникла в XV–XVII веках. Юридические основы «Поместной системы» Русского государства были закреплены в Судебнике 1497 года. Поначалу поместье нельзя было отчуждать или передавать по наследству. После смерти служилого человека земля его возвращалась в царский домен. И главное – помещик не имел права распродать всех крестьян и вернуть в казну «голую» землю.
Но постепенно права дворянства расширялись, и поместья таки стали передаваться по наследству. Это привело к упрочению власти помещиков над людьми.
А в 1675 году царь Алексей Михайлович разрешил продавать крестьян без земли. В дальнейшем это было закреплено в указах от 1682 и 1688 годов. 30 марта 1688 года, то есть в пору малолетства Петра Первого, в те годы, когда он считался царем совместно со своим братом Иоанном, а фактически правила страной царевна Софья, был издан указ, в котором упоминалась розничная продажа крепостных как обычная практика. Указ лишь устанавливал пошлину с таких сделок: с рубля по алтыну, то есть по три копейки, и обязывал помещиков регистрировать сделки в Поместном приказе.
Это стало поворотным моментом и, по сути, стерло грань между крепостным правом и рабством.
Помещик имел право в любой момент выдернуть крестьян из привычной среды, разделить сына с матерью, мужа с женой и продать их на рынке точно так же, как продавали чернокожих невольников в Америке. Или отправить на особо тяжелую работу.
Крестьянин-мемуарист Савва Пурлевский[3] вспоминал: «В ту пору людей сбывали без дальних затей, как рабочий скот. Нужны помещику деньги – несколько человек крестьян на базар. Покупать мог всякий свободный, формальных крепостных записей не было, требовалось только письменное свидетельство помещика. И целую вотчину тоже можно было поворотить на базар».
Образованных людей, людей с понятием о добре и зле шокировало столь жестокое отношение к крепостным. В 1721 году Пётр I издал указ, в котором выражал недовольство обычаем продавать крестьян «врознь», то есть в розницу, «как скотов»: «А наипаче от семей от отца или от матери дочь или сына помещик продает, от чего не малой вопль бывает». Однако менять ничего Пётр не стал, ведь государь-реформатор нуждался в большом количестве бесплатной рабочей силы для осуществления своих замыслов. И этой рабочей силой стало крепостное крестьянство, по сути, приравненное к рабам.
Пётр I ввел и такое новшество, как «дарение крестьян». Он дарил государственных крестьян своим фаворитам. Подсчитали, что за свое правление он подарил около 27 тысяч дворов. Этот обычай – дарить крестьян – подхватили и преемники Петра Великого.
Крестьянин Леонтий Автономович Травин, или, как было принято писать в то время, Леонтий Автономов сын Травин – один из первых русских мемуаристов, вышедших из крепостной среды, – вспоминал, как негодовали государственные крестьяне, когда им объявляли, что они теперь помещичьи. Бывали даже бунты. Травин пишет о временах правления императрицы Анны Иоанновны: «…в 1744 году крестьяне Велейской вотчины взбунтовались, назвав себя дворцовыми, отреклись подвластными быть господину». «Смятение» продолжалось более восьми месяцев и в конце концов было жестоко подавлено: для усмирения крестьян «прислан был подполковник Алексей Гордеевич Головин с командою военного триста сорок человек, но и против такой власти крестьяне имели сопротивление, почему в Граенской волости, при деревне Серебренникове, будучи во многочисленном собрании, отважились по солдатскому фрунту стрелять и застрелили одного солдата, да двух ранили, их же застрелено двенадцать да ранено пять человек; напоследок, по покорении их, наказаны кнутом сто тридцать три, да плетьми более четырехсот человек».
После Петра, в течение еще почти сотни лет, положение крестьян лишь ухудшалось. Они полностью лишились свободы и стали видом частной собственности, не имея даже права распорядиться собственным телом. Англичанин Скельтон, производивший в 1818 году осушительные работы на Охте, был поражен, когда один из рабочих, крепостной человек, обратился к нему с просьбой разрешить ему отлучиться к его барину, живущему за 80 миль от Петербурга, чтобы испросить позволение вырвать больной зуб. Оказалось, что без согласия своего господина крепостной не смел его удалить, так как это могло быть расценено как порча имущества: отсутствие определенного числа зубов у рекрута препятствовало сдаче его в солдаты. Скельтон отпускать крестьянина не стал, но на свой страх и риск разрешил ему вырвать зуб.
То, что крепостных за людей не считали, подчеркивал и указ 1741 года, запретивший крепостным приносить присягу верности новому правителю. Их считали более не за граждан, а именно за рабов. По замечанию выдающегося русского историка В.О. Ключевского, «закон всё более обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица».
Государственные и помещичьи
В конце XVII – начале XVIII века крестьяне составляли большую часть населения России. Но эта огромная масса не была однородна.
Крестьяне могли быть государственными – то есть принадлежащими государству. Жили они лучше прочих: три дня трудились на барщине, остальное время – на своих полях. Но такой регламент был установлен не писаным законом, а обычным правом – и это важно!
Близки к государственным были дворцовые крестьяне, принадлежащие лично царю и членам царской семье.
А вот помещичьим крестьянам приходилось куда хуже: признанные обычаем ограничения барщины и оброка на них не распространялись. Сколько прикажет помещик – столько и работай, столько и плати.
При императрице Екатерине II крепостное право распространилось на новые территории: в Прибалтику и Малороссию. Посполитые люди – так называлось лично свободное сельское население Левобережной и Слободской Украины. В конце XVIII века и посполитые стали крепостными крестьянами.
Таким образом, общее количество крепостных людей к XIX веку резко увеличилось. С 1857 по 1859 год в России была проведена 10-я народная перепись. По ее итогам в 1861 году издана книга «Крепостное население в России, по 10-й народной переписи». Чуть ранее, в 1858 году, в Санкт-Петербурге была опубликована работа А.Г. Тройницкого «О числе крепостных людей в России». В этих книгах были приведены точные данные о количестве крепостных.
В Польше, Прибалтике, Финляндии, на территории Средней Азии и современного Казахстана их было немного. А в центральных районах России их доля была высока. В отдельных губерниях, например в Смоленской и Тульской, она составляла 69 %.
Иногда к крестьянам причисляют и однодворцев, хотя это не совсем верно. Однодворцы – это особое сословие, возникшее при расширении юго-восточных границ Русского государства и состоявшее из военизированных землевладельцев, живших на окраинах государства и несших охрану пограничья.
Крепостные использовались не только в сельском хозяйстве. В стране развивалась промышленность, уже в XVII веке появились первые мануфактуры, а для них требовалась рабочая сила.
В 1703 году был принят указ о приписных крестьянах. Так называли людей, приписанных к той или иной мануфактуре – частной или государственной. Они, формально находясь под властью помещика, работали на предприятии вместо уплаты оброка. Уволиться или перейти на другую работу они не имели права. Срока у этой приписки не было, людей прикрепляли к мануфактуре пожизненно.
Их могли безжалостно наказывать, нещадно эксплуатировать, по выражению крестьянина Травина, «уже не волну стричь, а кожу сдирать и тем исполнить свою алчную утробу обогащением».
О тяжкой доле крестьян, приписанных к фабрикам, вспоминал и Савва Дмитриевич Пурлевский (1800–1868). Его родная деревня принадлежала князю Репнину, который «вовсе не занимался хозяйственною экономией», а из-за слишком роскошной жизни погряз в долгах и вынужден был продать земли некому «откупщику», «богачу из купцов». «С той поры, как богатый откупщик купил вотчину, жизнь крестьянская пошла иначе. Буйная свобода заменилась рабскою покорностью, за прежнее ото всех посыпались укоры, земские крючки стали беспрестанно наезжать в село по делу и без дела, жить там и кормиться; нет уж былой барской защиты: за всё откупайся деньгами! Новый владелец устроил при реке близ села бумажную фабрику, и на работу туда поставил всех, кто неисправно вносит положенный оброк, то есть чуть не всю вотчину», – вспоминал Пурлевский.
Очень близки к приписным были посессионные крестьяне. Указ о таких крестьянах Пётр Великий издал в 1721 году. Посессией называлось арендное владение государственными крестьянами и землями, предоставлявшееся промышленным предпринимателям в России в XVIII–XIX веках.
Так как официально владеть крестьянами имели право только дворяне, то купцы брали их в долгосрочную аренду целыми деревнями – для того чтобы они работали на фабриках. Люди считались чем-то вроде живого инвентаря. Владелец производства не имел права продавать и закладывать крестьян отдельно от завода. Предприятия продавались и покупались сразу с работниками.
Александр Николаевич Радищев писал как бы от лица крепостного крестьянина: «Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; всё работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?»
Труд именно этих людей лег в основу богатства уральских купцов – Демидовых, Губиных, Лугининых, Мосоловых, Осокиных, Походяшиных, Турчаниновых, Яковлевых, Твердышевых, Мясниковых.
Пытки, издевательства и даже убийства работных людей были обычным явлением на их заводах. Мрачно прославился Андрей Родионович Баташев (1729–1799) – человек немыслимой жестокости и совершенно бессовестный. Владел он железоплавильным заводом в Рязанской области. Ходили слухи, что если с кем случалось ему повздорить, то Баташеву ничего не стоило приказать своим рабочим кинуть несчастного в домну и сжечь.
Дворня, или холопы
Крепостному праву, то есть прикреплению крестьян к земле, сопутствовало и такое явление, как холопство. Изначально холоп – это раб, не имевший никаких личных прав. Холопами могли становиться пленные – ведь далеко не всех их селили на пустующих землях. А еще в холопы попадали за долги – холопом мог стать неудачливый половник. Холопы были полной собственностью господина – как корова или коза. Согласно древним русским законам, господин имел право убить холопа, а если другой человек убивал холопа, то он должен был выплатить его господину штраф – за испорченное имущество.
Первоначально крепостные крестьяне и холопы были разными категориями, но постепенно их положение все меньше и меньше различалось. Перепись населения, проведенная в 1718–1724 годах, уже не делала никаких различий между полностью бесправными холопами и крепостными крестьянами, которые тоже теперь воспринимались как «говорящая скотина», «крещеная собственность».
Крепостные крестьяне-землепашцы отличались от рабов наличием собственного хозяйства на земле помещика. Но помещик имел право и это хозяйство отнять!
- О! горе нам, холопем, от господ и бедство!
- А когда прогневишь их, так отъимут и отцовское наследство.
- Что в свете человеку хуже сей напасти?
- Что мы сами наживем – и в том нам нет власти, —
говорилось в крестьянской песне XVIII века.
Таких крестьян, которых лишили своих участков земли, иногда даже собственного жилья и заставили прислуживать в господском доме, стали называть дворовыми или холопами, то есть фактически – рабами. Они должны были выполнять всевозможные прихоти барина, взамен получая одежду и питание. Положение их было незавидно: бывшие братья-крестьяне презирали холопов, считая их паразитами.
- Позавидовали крестьяне
- Все холопскому житью
- Холоп подати не платит,
- В оброк денег не несет,
- Косы в руки не берет, —
пелось в старинной песне.
Да и сами помещики тоже порой называли паразитами дворню, которую сами множили своими приказами.
- Без выбору нас бедных ворами называют,
- «Напрасно хлеб едим» – всечасно попрекают,
- И если украдет господский один грош,
- Указом повелят его убить, как вошь.
- А барин украдет хоть тысяч десять,
- Никто не присудит, что надобно повесить, —
плакались холопы.
Крепостной Фёдор Дмитриевич Бобков, автор пространных дневниковых записок о своей жизни, упоминает, что в «Отечественных записках» прочитал статью, которую он приписывает графу Толстому. Автор ее писал: «Лакейство и все дворовые начали огрызаться. Это уже становится невыносимым. Хотя бы поскорее освободили нас от этих тунеядцев»[4].
По этому поводу Бобков замечает: «Меня эта статья очень оскорбила, и я хотел было написать ответ. У меня роились мысли и возникали вопросы. Кто же другой, как не сами помещики, создали этот класс людей и приучили их к тунеядству? Кто заставлял их дармоедничать, ничего не делать и спать в широких передних господских хором? Разве кто-либо из дворовых мог жить так, как хотел? Живут так, как велят. Отрывают внезапно от земли и делают дворовым, обучая столярному, башмачному или музыкальному искусству, не спрашивая, чему он желает обучаться. Из повара делают кучера, из лакея – писаря или пастуха. Каждый, не любя свои занятия, жил изо дня в день, не заботясь о будущем. Да и думать о будущем нельзя, потому что во всякую минуту можно попасть в солдаты или быть сосланным в Сибирь».
А между тем житье дворового или холопа было нерадостным, наказывали их куда чаще, нежели крестьян в деревне: «Не довернешься – бьют, и перевернешься – бьют», – говаривали они о барском к ним отношении. Именно дворовые должны были ежедневно выдерживать всевозможные помещичьи придирки.
Богатые помещики считали за правило держать обильную дворню. Статистик и экономист, видный русский государственный деятель Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский писал: «Нам случалось толковать со многими об излишестве домашней прислуги: “Неужели нашего брата надо заставить в самом деле жить, как немца, с одним слугою”, – говорит деревенский дворянин. Вообще у нас, даже и у образованных людей, понятие о какой-то роскоши, выражающейся в огромности прислуги (роскоши, сопряженной нередко с лохмотьями), соединяется с понятием о достоинстве русского дворянина».
Известный путешественник и этнограф Семёнов-Тян-Шанский вспоминал о своем деде, которого он сам считал заботливым помещиком времен Екатерины Великой: «…численность нашей многочисленной дворни превосходила у нас впоследствии 60 душ обоего пола. Между ними были обученные отчасти в Москве, отчасти у соседей специалисты по разным частям: повара, столяры, портные, сапожники, башмачники, ткачи, слесаря, кузнецы, кучера, форейторы, скотники, ученые овчары, садовники и огородники».
Тян-Шанский пишет о том, как бедно и скудно жили крестьяне даже в процветающем поместье, а затем описывает быт дворни: «Еще хуже были помещены не имевшие уже никакой собственности дворовые люди, хотя прокормление их (в виде «месячины») было всегда хорошо обеспечено. Состоявшие в личных услугах ночевали в довольно просторных передних и девичьих, но конечно все спали на полу и без всяких кроватей, люди же, не состоявшие в личной прислуге, а также семьи дворовых помещались зимою в общей людской избе, а летом в своих клетях: это были хижинки, наскоро построенные из плетня, смазанного глиною, и кое-как покрытые соломою, без печей и даже окон, служившие собственно для хранения принадлежавшего дворовым домашнего скарба, которым они очень дорожили, так как ни земли, ни недвижимого имущества не имели. Были при клетях иногда и маленькие дворики, в которых дворовым дозволялось держать кур, мелкий скот, а в исключительных случаях и корову. В нашей владельческой усадьбе такие клети составляли маленький городок около обширной людской избы».
Ближе к середине XIX века многие дворяне стремились переводить своих крестьян в дворовые. Это происходило потому, что ползли слухи о готовящемся освобождении, а дворовых не нужно было наделять землей.
О содержании дворовых заботились очень мало. Так, в Нижегородской губернии дворовые княгини Мансуровой разбежались, «будучи не в силах переносить голод от мало выдаваемой госпожой пищи».
В Харьковской губернии у помещицы Свирской ситуация была не лучше. Пища варилась раз в неделю, причем качество ее оставляло желать лучшего: борщ без соли (это было распространенным явлением), на второе – гнилая тыква или ягоды бузины, червивое мясо выдавали лишь раз в неделю. Даже было начато следствие, и врач признал пищу дворовых негодной.
В Рязанской губернии помещик Логвенов вообще не выдавал пищи дворовым. В той же губернии помещик Татаринов тоже не кормил своих дворовых, зато бил их смертным боем.
Впрочем, многие из помещиков чувствовали тягость дворовых. Вот что один из них говорил по этому случаю: «Неумеренное число дворовых людей есть совершенная пагуба для помещиков». Бытописатель Николай Фёдорович Дубровин в книге «Русская жизнь в начале XIX века» описывал быт помещичьих усадеб. Он сообщал в частности: «Толпа дворовых людей наполняла переднюю: одни лежали на прилавке, другие, сидя или стоя, шумели, смеялись и зевали от нечего делать. В одном углу на столе кроились платья, в другом – чинились господские сапоги; спертый и удушливый воздух царствовал в этой комнате. Рядом с залой бывала обыкновенно девичья, где сидело несколько десятков девушек, кто за пяльцами, кто за шитьем белья, кто за вязанием чулок. Громадное число прислуги содержалось даже и бедными помещиками, не говоря уже о богатых.
У князя Долгорукова почти четвертая часть всего числа душ его имения составляла его дворню.
При генерале Измайлове находились 271 мужчина и 231 женщина, а с малолетними, стариками и старухами дворня его доходила до 800 человек. 12 девушек состояло при незаконнорожденных детях Измайлова.
У графа Каменского было 400 человек дворовых, причем в передней сидело 17 лакеев, из которых каждый имел определенные обязанности и не смел исполнять других. Один подавал трубку, другой – стакан воды, докладывал о приезде гостей и проч. В свободное время лакеи вязали чулки и невода. Дворня графа Каменского жила на военном положении, содержалась на общем плохом столе, собиралась на обед и расходилась по барабану; никто не смел есть сидя, a непременно стоя, чтобы не слишком наедаться. Прислуга эта одевалась в ливрейные фраки с белыми, красными и голубыми воротниками, обозначавшими разряд и степень должности, и по мере заслуг переводилась из одного цвета в другой, о чем объявлялось в ежедневном вечернем графском приказе по дому…
У помещика Юшкова в одной Москве находилось постоянно до 200 человек дворни».
В доме Гончарова, кроме множества прислуги, был оркестр музыкантов от 30–40 человек и особый охотничий оркестр роговой музыки, введенной в моду князем Потемкиным. Роговой оркестр примечателен тем, что каждый рог может издавать звук только одной тональности. Музыканты должны действовать очень выверенно и синхронно, чтобы в итоге получилось звучание наподобие органного. Француз Поль Дюкре, бывший в то время в России и оставивший нам «Записки», по этому поводу замечал: «Этот род музыки может исполняться только рабами, потому что только рабов можно приучить издавать всего один звук»[5].
Елатомский помещик Кашкаров имел дворовых более 40 человек мужчин и столько же женщин; в передней его дома сидело до 20 человек лакеев.
Тот же Дубровин передает такой разговор двух титулованных дам: «Однажды за столом великая княгиня Екатерина Павловна жаловалась графине Браницкой, что большое число прислуги и лошадей вызывает большие расходы.
– А сколько у вашего высочества дворовых людей и лошадей? – спросила Браницкая.
– Людей до ста человек, а лошадей до 80, – отвечала великая княгиня.
– Как же вам иметь меньше, когда я имею дворовых людей до 300 и лошадей столько же.
– На что вам такая толпа?
– Потому что я графиня и знатная помещица. Мне они в год не много раз понадобятся; но когда нужно – не занимать же у соседей.
Так рассуждали наши предки и, при тогдашних условиях жизни, считали себя правыми».
Нравственность дворовых порой оставляла желать лучшего, но не их была в том вина. Очень часто помещики запрещали для них браки, чем провоцировали внебрачные связи. Дворовые девушки зачастую становились жертвами сладострастия своих господ.
Труд дворовых – причем порой весьма квалифицированный – ценился недорого. Так, у помещика Колобова Рязанской губернии выходные платья его дочерей обшивались блондами – то есть шелковыми кружевами – домашнего изготовления. Крепостные мастерицы, годами не разгибая спины трудившиеся над плетением кружев, не получали за свой труд ни гроша. Они работали за еду.
Некий «сельский священник»[6] опубликовал в журнале «Русская старина» (27-й том) свои записки, где описывал таких мастериц: «В девичьей девок пятнадцать поурочно плели кружева и вышивали. Эти тоже сидели и день, и ночь до проседней с подбитыми глазами и синяками от щипков по всему телу».
У помещицы Неклюдовой в Орловской губернии были швеи, которых она заставляла вышивать в пяльцах, а чтобы девки не дремали вечером и чтобы «кровь не приливала им к голове», лепила им шпанские мушки к шее, а чтобы не бегали, косами привязывала к стульям.
Жестокая эксплуатация самым пагубным образом сказывалась на здоровье несчастных крестьянок. Писатель Сергей Николаевич Терпигорьев, он же Сергей Аттава, в книге «Потревоженные тени» описал такую сцену: «На террасу стали выносить бесчисленные горничные бесчисленное количество удивительного вышитого белья. Бабушка со скромным, но исполненным гордости видом, происшедшим от сознания своего недосягаемого превосходства над всеми хозяйками-помещицами, давала объяснения.
– Вот этот, мой друг, чепчик, – говорила она матушке, – вышивали две девки ровно полгода… ты посмотри…
– Удивительно… удивительно… – повторяла матушка.
– А вот эту рубашку подвенечную – ты посмотри – две девки вышивали год и три месяца.
– Удивительно.
Поленька приятно улыбалась; жених, видевший, конечно, уже это приданое, и, может быть, не раз, показывал вид, что тоже изумлен, поражен. А может, он и в самом деле был в восторге от этого…
Осмотр продолжался долго… Было пересмотрено огромное количество белья, и всё вышитого, расшитого. Наконец бабушка, обращаясь к Маланьюшке, надзирательнице за вышивальщицами, сказала:
– Ну, теперь, как уложишь это всё опять на свое место, тогда принеси… понимаешь?
Маланьюшка, женщина степенного вида, с необыкновенной, таинственной важностью шепотком отвечала ей:
– Понимаю-с… слушаю-с…
– А это что такое, тетенька, вы велели принести? – очень хорошо зная что, но как бы не догадываясь, спросила матушка.
– Ты сейчас, мой милый друг, увидишь, – отвечала бабушка.
Но все знали, что это такое, потому что и матушка, и Поленька, и жених, и даже сама бабушка поглядели друг на друга, приятно и довольно улыбаясь.
В дверях из гостиной на террасу показались сперва сама Маланьюшка-надзирательница, высоко поднимая и держа на уровне с головой что-то белое в руках, и этому белому, широкому и длинному не было еще видно конца, а там были уж видны из дверей головы горничных, с полуиспуганным выражением на лицах поддерживавших это же белое и дальше. Все встали, и послышались те короткие, отрывочные, невольные одобрения, как в театре: «браво, браво, браво», когда зрители не могут удержаться от восторга, но боятся высказать или выразить его громко, чтобы не прервать вызвавшего их восторг действия…
– Вот… – проговорила бабушка.
Это нечто было удивительное! Это был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки – живого места, что называется, на нем не было – всё вышито!..
Эффект был произведен чрезвычайный. Когда наконец удивления, восхищения и восторги всех уже были выражены и бабушка приняла от всех дань одобрения, подобающую ей, матушка наконец спросила ее:
– Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали его?
– Два года, мой друг… Двенадцать девок два года вышивали его… Три из них ослепли…
Все выразили сожаление по этому случаю. А бабушка, вздохнув, добавила:
– И самая моя любимая, лучшая – Дашка… Такой у меня уж не будет другой, – с грустью закончила она.
– Лушка, сударыня, тоже хорошо будет вышивать, – заметила от себя ей, как бы в утешение, надзирательница.
Бабушка только с грустью улыбнулась.
– Что та безответная-то только была… – опять сказала надзирательница и вдруг остановилась.
Горничные, державшие пеньюар, стояли, и точно это до них нисколько, ни малейше не касалось… Точно эти слепые были не из их же рядов, не из них же набраны…
А бабушка, под впечатлением грустной утраты своей, продолжала:
– Я сказала ей еще тогда: «Ну, Дашка, говорю, кончишь этот пеньюар – сама себе выбирай из всей дворни жениха: какого выберешь, за того и выдам тебя…» И я знала даже, кого бы она выбрала…
– И где же она, там теперь? Во флигеле, с другими? – спросила, я услыхал, матушка.
– Там-с, сударыня, – отвечала надзирательница, – с прочими слепыми… ей только всё отдельно приказано поставить от других: и кровать, и сундук, и всё…»
Виды крестьянских повинностей
Крепостные крестьяне были обязаны выполнять разные виды повинностей как в пользу барина, так и в пользу государства.
Самой распространенной повинностью крестьян по отношению к помещику была барщина или, на юге России и в Малороссии, – панщина, то есть даровой, принудительный труд зависимого крестьянина на барском поле. Причем работать ему приходилось на своей лошади и со своим инвентарем.
Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский писал: «Крестьянам обыкновенно предоставляются отдаленнейшие поля. Он туда отправляется чуть свет. Вдруг скачет от барина ездок и требует на барщину. Крестьянин бросает свою работу, едет на барщину, а на его поле хоть трава не расти».
«Я на панщину иду – торбу хлеба несу, а с панщины иду – спотыкаюся, дробненькими слезами умываюся», – говорили в народе о тяготах подневольного труда. «Находился я с ралом, намахался цепом и пришел с панщины перед самым рассветом», – пели крестьяне. И так еще пели: «Ой, в недилю, рано-пораненько уси звоны звонят, то атаман с десятником на панщину гонят». Недиля – это воскресенье, день, когда ничего не делают, но злой помещик в этот праздничный день гонит крестьян на барщину: «Нечего вам в церковь ходить, берите цепы да лопаты – идите пшеницу молотить».
О барском обычае в воскресенье отправлять крестьян на барщину писал и Заблоцкий-Десятовский: «В некоторых местах Тульской губернии, например, в Новосильском уезде, существует обычай: крестьянин работает три дня себе, три дня помещику; но в воскресенье после обедни есть бенефис помещика; ему крестьяне работают поголовно. Один из помещиков, вступя во владение своим имением, уничтожил этот обычай. Многие из соседей восстали на него: «вы делаете», говорили они, «вред и себе, и нам, – балуете мужиков».
Еще более показательны следующие строки народной песни: «Продадим всю пшениченьку за тысячу грошей, да справим нашему пану два кафтана хороших», – здесь представлено реальное соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и на предметы роскоши. Крестьянам приходилось в поте лица собирать и обмолачивать пшеницу, дабы помещик мог щеголять на балах в новых кафтанах. Недаром поэт XVIII века Антиох Кантемир писал о дворянском транжирстве: «Деревню взденешь на себя ты целу».
В другой песне крестьяне жалуются, что некому идти на барщину: батько в степи косит, сын – молотит, дочка – тютюн (то есть табак) сажает, да есть еще малые дети, за которыми надо смотреть. На что управляющий отвечает: а вы своих детей утопите да на барщину идите. И, как будет видно из дальнейшего, подобное отношение вовсе не было преувеличением.
С.В. Малютин. Пахарь. 1890
Согласно обычаю, барщина должна была продолжаться три дня в неделю, но многие помещики не принимали в расчет обычное право, и у них барщина могла достигать шести дней в неделю.
Такую барщину описывает, к примеру, Александр Николаевич Радищев в повести «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее герой в праздник видит пашущего крестьянина.
«Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостью.
– Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду.
– Бог в помощь, – повторил я.
– Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.
– Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?
– Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне сложенные три перста. – А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.
– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?
– В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим вставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, – крестяся, – чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят.
– У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?
– Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.
– Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?
– Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как ета устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.
– Так ли ты работаешь на господина своего?
– Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины».
На робкое замечание просвещенного городского барина, что, мол, «мучить людей законы запрещают», мужик отвечал:
«– Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился».
В конце XVIII – начале XIX века почти все помещики стали увеличивать барщину: вместо трех положенных дней землепашцы трудились шесть. Некоторых только в праздники отпускали обрабатывать свою землю.
А еще помещик мог поступить так: отобрать у крестьян всю землю и сделать ее своей. На этой земле крестьяне должны были трудиться как рабы, получая в качестве платы скудный натуральный паек, который назывался «месячиной». Если кто-то пытался протестовать, то помещик имел право сослать «бунтовщика» на каторгу.
Оброк
Другой повинностью был оброк – налог, который взимался с крестьян в пользу помещика. Они должны были выплачивать оброк ежегодно, независимо от того, работали ли они на поле помещика или нет.
Оброк мог быть натуральным и денежным. Натуральный – это часть урожая с личных крестьянских наделов. Обычно он составлял 1/10 или даже 1/5 от всего урожая. А могло быть и больше – как барин решит!
Денежный оброк выплатить было труднее: крестьянин должен был продать часть урожая и отдать барину вырученные деньги.
Академик Николай Яковлевич Озерецковский рассказывал, что крепостные баронессы Фридрихсовой[7], жившие по реке Морье, близ Петербурга, обязаны были каждый, помимо денежного оброка, ежегодно «поставлять в Петербург, к дому своей госпожи, 18 саженей березовых дров и 50 бревен, которые сплотя и поклав на них дрова, гоняют они в Петербург водою». Кроме того, каждый крепостной должен был еще доставить 500 соленых сигов и 25 свежих лососей.
Высокий оброк платили также окрестные огородники.
Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский писал: «Количество оброка не всегда соразмеряется с пространством и качеством угодий, оно основано только на возможности взять с крестьян ту или другую сумму». Он добавлял: «Оброчный крестьянин редко имеет достаточный капитал для производства выгодного хозяйства. Но если бы и имел, то он не захочет обратить его на улучшение хозяйства, потому что ни земля, ни строения, ни даже рабочий скот и орудия не принадлежат ему по закону в собственность. Самый образ занятий его зависит от произвола помещика, который во всякое время может переселить крестьянина, взять во двор, отдать в солдаты, продать и пр».
Крепостной Фёдор Бобков – человек грамотный и даже не без образования – тоже писал, причем совершенно без эмоций, как об обычном деле: «Наступил октябрь, и барыня увеличила оброк. Велела написать в варнавинское имение о присылке 3 пудов меду и 100 пар рябчиков и в юрьевецкое о присылке 300 аршин холста и белых грибов и малины сушеной – пуд. Хочет также барыня продать дом, за который назначила цену 12 000 рублей. Приходил комиссионер, поговорил о продаже дома и стащил из буфета серебряные ложки».
Конечно, крестьяне всеми силами пытались преуменьшить свой доход, чтобы выплачивать меньший оброк. Ведь размер оброка помещик устанавливал произвольно и мог в любой момент его увеличить. Поэтому даже те, кому удавалось хорошо заработать, не спешили покупать себе хорошую одежду или еще как-то демонстрировать достаток. Как отметил в своих мемуарах русский географ и путешественник Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, русский крепостной «опасался проявлять какие бы то ни было признаки своей зажиточности, боясь, что всё накопленное им, при полном его бесправии, будет отнято у него помещиком или приказчиком, что нередко и случалось». Когда одного из крепостных спросили, почему у него такой плохой печной горшок и дурная ложка, он ответил: «Если бы мой хозяин увидел, что я пользуюсь лучшими, он тотчас увеличил бы мой оброк».
Бывший крепостной богатого петербургского помещика Салтыкова Николай Шипов рассказывал, как однажды его барин приехал со своей женой в принадлежащую ему слободу Выездную, близ города Арзамаса Нижегородской губернии. «По обыкновению, богатые крестьяне, одетые по-праздничному, – писал Шипов, – явились к барину с поклоном и различными дарами; тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом. Барыня с любопытством всё рассматривала и потом, обратясь к мужу, сказала: «У наших крестьян такие нарядные платья и украшения; должно быть, они очень богаты и им ничего не стоит платить нам оброк». Недолго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Потом дошло до того, что на каждую ревизскую душу падало вместе с мирскими расходами свыше 110 рублей ассигнациями оброка. Помещик назначал сколько следовало оброчных денег со всей вотчины; нашей слободе приходилось платить 105 000 руб. ассигнациями в год».
Если помещик решал, что крестьяне заплатили ему недостаточно, он мог взять недоимку силой. Молодой князь А.И. Одоевский, сын весьма состоятельных родителей, поэт и будущий декабрист, в августе 1824 года обратился к ярославскому губернатору с письмом, в котором, указав, что его крестьяне, «под разными предлогами от платежа наложенного на них умеренного оброка уклоняются», ходатайствовал о принятии губернатором «всех мер» для взыскания оброка. «Все меры» означали безжалостную порку землепашцев.
Помещику Дурново его управитель докладывал: «Какие были мои предприятия и неплательщикам жесточайшие истязания – один только бог знает».
Богатейшие князья Юсуповы тоже применяли подобные меры для взыскания оброка. «Взнос без палки не бывает», – докладывал в 1840 году их тульский управитель. Однажды он счел необходимым пять раз перепороть «всех вообще» крестьян, чтобы вытребовать с них запрошенный барином оброк.
Истязания могли быть не только физические. Фёдор Бобков писал: «В январе получен ярославский оброк 1600 рублей. Это в первый раз из доставшегося по наследству имения после смерти Петра Ивановича Демидова. Покойный не любил, чтобы оброк не вносили в срок. В противном случае староста вызывался в Москву, ему обривали голову и заставляли мести двор до тех пор, пока новый староста не привозил оброка. Иногда же бывали случаи, когда Демидов списывал со счета оброк за целый год, прощал».
А.А. Красносельский. Сбор недоимок. 1869
Бритье головы или полголовы старостам было в обычае у помещиков. Александр Иванович Герцен тоже вспоминал: «Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья».
Но кроме налогов в пользу помещика крестьяне платили еще и государственное тягло или, в более позднее время – подати. Так называлась система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве. Основной единицей налогообложения долгое время была соха. Одной сохой можно было вспахать примерно 400 четвертей[8] земли. В 1679 году эта система налогообложения была заменена подворной.
Пётр Великий ввёл еще и подушную подать – то есть налог, который выплачивал каждый крестьянин мужского пола.
Крестьяне не только платили налоги, но и исполняли другие повинности. Например, их могли обязать участвовать в строительстве или ремонте дорог.
Паспорта и беспаспортные
В 1724 году был принят указ «О перемещении крестьян». Согласно этому указу, крестьяне без разрешения помещика не могли уйти со своей земли даже на заработки. Для того чтобы выехать из родной деревни, крепостной обязан был иметь при себе паспорт, который должен был быть засвидетельствован земским комиссаром и полковником того полка, который стоял в данной местности.
В случае кратковременной отлучки могло быть достаточно лишь отпускного билета, который подписывал управляющий поместьем.
Крестьянин, не имевший документа, считался беглым, если его обнаруживали на территории, отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст.
«Беспаспортные», то есть беглые, проживавшие без документов, были редким явлением в больших городах, переполненных агентами царской полиции. Укрывательство беглых преследовалось законом очень строго: если какому-нибудь дворнику случалось пожалеть и впустить переночевать беспаспортного, то дворника сдавали в солдаты.
Даже простое общение с такими людьми могло быть сочтено укрывательством. Елизавета Водовозова вспоминала, как однажды во время прогулки с няней увидела, что из-под моста через овраг «стало выползать и приподниматься какое-то страшное существо, которое в первую минуту даже трудно было признать за человека: оборванные лохмотья, которыми он был прикрыт, волосы на голове, лицо – все представляло какой-то громадный ком грязи. Во всей фигуре этого несчастного выделялись только его глаза, бегающие из стороны в сторону, как у затравленного зверя, и рот, обрамленный гнойными струпьями. При нашем приближении он хотел заговорить, но издавал только гортанные звуки».
Девочка испугалась и убежала, но ее няня оказалась смелее и поговорила с несчастным. Оказалось, «что это был беглый из имения верст за тридцать от нас, что он хоронится от людей уже больше месяца, до ужаса оголодал и охолодал и теперь идет в город «заявиться», то есть отдаться в руки властям».
Добрая няня умоляла помещицу «дать ему возможность «силушки набраться», чтобы до города дотащиться». Помещица разрешила «взять из хозяйства все, что найдет необходимым», но только тайно, «иначе она будет в ответе за пристанодержательство»[9].
Однако сами помещики порой выдавали своим крепостным паспорта, чтобы те уходили зарабатывать и платили им больший оброк. Эти люди нанимались на мануфактуры, занимались кустарными ремеслами или вовсе становились кузнецами, плотниками и извозчиками, зачинали какое-то свое дело.
Крепостной, безвыездно проживавший в Петербурге десятки лет, должен был неизменно отсылать свой оброк на родину или относить деньги в столичную контору своего барина; иначе ему не выдавался паспорт, отсутствие которого или даже просрочка грозили арестом и высылкою, как беспаспортного, со всей семьей, по этапу, на родину.
Константин Дмитриевич Кавелин, внимательно изучавший данный вопрос, писал: «Оброки с крепостных, отпущенных по паспортам, у которых нет ни земли, ни тягла в господском имении, – безобразны. Один помещик, проживающий в Петербурге, берет с своих крестьян, торгующих по свидетельствам, ежегодно по 450 рублей серебром. С каждого; а сколько таких владельцев, которые берут с своих крестьян в год до 60 рублей серебром оброка. Такая повинность не имеет даже того, весьма любимого помещиками, оправдания, что она будто бы взимается за землю, которою пользуются крестьяне; ибо оброк с крепостных, живущих по паспортам, есть налог на труд, личная подать, часто до того неумеренная, что лишает крепостного всякой энергии, всякой охоты заняться чем бы то ни было. Один маляр, проживавший в Петербурге и плативший с братом своим в год 400 рублей ассигнациями оброку, жаловался на свою судьбу и на крепостную зависимость. Ему заметили: «Зато семья твоя не замерзнет, когда у тебя сгорит изба, барин построит новую». – «Это так, отвечал маляр, да я плачу барину по 200 рублей вот уже десять лет, а это – 2,000 рублей; останься эти деньги у меня в кармане, я бы четыре избы на них построил».
Порой помещики обирали отпущенных на заработки крепостных до нитки. Подсчитали, что крепостные, работавшие в Петербурге прислугой или извозчиками, отдавали своим господам примерно 70 процентов своего заработка. Один из петербуржцев вспоминал, что платил своему слуге 35 рублей в месяц, а тот был вынужден 25 рублей отдавать своему барину, оставляя себе только десять.
Кавелин приводит в пример одного работника кондитерской на Невском проспекте – крепостного человека. Он служил там в 1842 году. Хозяин заведения был им во всех отношениях доволен, но все же вынужден был уволить, так как после вычета из жалованья оброка бедняк не имел довольно денег, чтоб одеться прилично, как требовалось в столичной кондитерской.
Жена английского дипломата Блумфильда, жившая в Петербурге в начале 40-х годов, передавала, что нанятые в посольский дом слуги (русские крепостные) платили своим господам за право проживания в столице до двухсот рублей оброка. Мелкопоместные дворяне иногда сами старались подыскать своим «подданным» прибыльную работу, чтобы иметь возможность требовать с них удвоенный оброк. Даже образованные и просвещенные люди не гнушались подобным! Так, известный драматург, князь Александр Александрович Шаховской, имевший всего лишь 20 крепостных, устраивал их на службу в петербургский театр в качестве машинистов сцены, требуя с них за это усиленный оброк.
Ф.С. Журавлёв. Приезд извозчика на родину. 1868
Порой отпущенным на оброк крепостным везло, они богатели и могли выкупиться на волю – если помещик согласится.
Так начинались многие купеческие роды. Например, крепостной села Троицкого Чембарского уезда Степан Николаевич (1737 – ок. 1812) очень хорошо умел варить конфитюры из ягод и плодов. Он стал родоначальником фамилии Абрикосовых; по одной версии, это было измененное Оброкосов, то есть ходивший по оброку, по другой – фамилию ему дали за умение делать сладости из абрикосов.
Но помещик мог и не согласиться на выкуп. А мог взять деньги – и в последний момент отказать. А деньги не вернуть! Ведь по закону вся собственность крепостного считалась барской, и барин имел право всё отобрать.
Освоение Сибири и крепостничество
В 1760 году помещикам было разрешено ссылать крепостных в Сибирь. Так заселялся этот край. При этом барин получал компенсацию: 10–20 рублей за душу.
По закону, в Сибирь можно было послать только физически здоровых крепостных не старше 45 лет. Но это была теория. По факту туда часто отправляли старых и больных.
Опять же по закону помещик должен был вместе с мужем отправить и жену, а вот детей имел право оставить себе. Другие родственники тоже могли поехать за ссылаемым – но только с разрешения помещика. На деле крепостные отправлялись в Сибирь без жен, так что ссыльные вынуждены были на новом месте становиться двоеженцами, ибо без помощницы хозяйство вести было невозможно.
Надо сказать, ссылаемым давались подъемные деньги, одежда, лошадь, соха и топор, и на три года они освобождались от всех податей и повинностей, поэтому те, кто там все-таки выживал и приспосабливался, потом жили намного лучше, чем раньше.
Путешествовавший в 1722 году по Сибири академик Паллас нашел только в одной Тобольской губернии около двадцати тысяч крестьян, сосланных туда на поселение помещиками.
Рекрутчина
Особо тягостной и пугающей для крепостных была рекрутская повинность: из молодых крестьян набирали регулярную армию.
Барон Николай Егорович Врангель писал: «Тогда солдат служил тридцать пять лет[10], уходил из деревни почти юношей и возвращался дряхлым стариком. Служба была не службою, а хуже всякой каторги; от солдат требовали больше, чем нормальный человек может дать. «Забей трех, но поставь одного настоящего солдата» – таков был руководящий принцип начальства. И народ на отдачу в солдаты смотрел с ужасом, видел в назначенном в рекруты приговоренного к смерти и провожал его, как покойника».
Большинство крестьян испытывали настоящий ужас перед солдатской службой. Порой новобранцы пытались совершить самоубийство или бежать. Дабы избежать этого, их связывали, забивали в колодки, сажали под караул. А чтобы хоть немного утешить, давали напиваться допьяна.
Те, кто все же «удирал в беги», скрывались в лесах, канавах и в полуразвалившихся заброшенных постройках, а случалось – и лишали себя жизни. «На того, кому предназначалось быть рекрутом, немедленно надевали ручные и ножные кандалы и сажали в особую избу. Это делали для того, чтобы помешать ему наложить на себя руки или бежать», – вспоминала мемуаристка Елизавета Николаевна Водовозова.
До восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны крестьянин мог уйти в солдаты добровольно, но после 1742 года – только по распоряжению помещика. Таким образом военная служба превратилась в род наказания.
Дворянка Елизавета Водовозова, урожденная Цевловская, писала, что многие помещики отдавали в рекруты крестьян, чем-нибудь провинившихся перед ними. Она вспоминала, какие горестные сцены разыгрывались в усадьбе ее матери, когда объявляли новый набор и помещики должны были доставить в рекрутское присутствие известное количество рекрутов. «Тот из крестьян, на кого падал жребий, отбывал солдатчину в продолжение 25 лет, а в случае какой-либо провинности и всю жизнь, – следовательно, его надолго, а то и навсегда, отрывали от своего гнезда и хозяйства, от своей деревни, от жены, матери и детей, от всех привычек, с которыми он сроднился, и бросали в среду еще более жестокую, чем была даже крепостническая среда того времени», – писала Водовозова.
Александр Иванович Герцен выражался более образно: «У русского солдата одна воля – неволя, одна прогулка – побег, один ответ – спина и одно убеждение, что жизнь его, как медная пуговица, не имеющая срока, принадлежит казне».
Но все же рекрутская повинность работала и как социальный лифт: отслужив срок, солдат становился лично свободным, а мог и получить чин в случае отличной службы или за героизм на поле боя. Находились крестьяне, которые были доведены до крайней степени отчаяния произволом помещиков и с радостью шли на военную службу. Писатель А.Н. Радищев приводит слова крепостного крестьянина о рекрутчине: «Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, приплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертью, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?»
Рекрутский набор поставлял государству «не одних только строевых солдат, но также тысячи мастеровых и рабочих всякого рода, – писал Константин Дмитриевич Кавелин, – даже простых сторожей на крепостном праве, т. е. с правом заставлять их работать, без всякого или почти без всякого вознаграждения, за черствый кусок хлеба, за самое скудное содержание. Ежегодно тысячи людей отрываются от промыслов, от занятий, от сколько-нибудь независимой жизни, чтобы потерять, почти навсегда, всякую тень гражданских прав и гражданской свободы». По словам Кавелина, «тысячи людей распределялись в денщики, в мастеровые на заводах и фабриках, в рабочие баталионы и роты, в писаря, в казенные типографии, в служительские команды, в множество рабочих должностей, которые не представляют и тени военного назначения. Они тоже остаются казенными крепостными наследственно».
Кто такие кантонисты
Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин писал:
«Кантонисты, то есть новобранцы, это малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, сами принадлежавшие к военному званию, то есть к военному ведомству, и в силу своего происхождения обязанные к военной службе.
Трикраты счастливы они, если им доведется остаться до 17-ти или 20-ти лет где-нибудь в деревне и поступить на службу или в распоряжение начальства не с первой юности: по крайней мере они успеют сложиться физически. Но горе кантонистам, с детства поступающим в кантонистские школы и в разные выучки! Отданные в руки чиновников, они умирают толпами, а те из них, которые выдержат школу лишений и дурного обращения, созданную корыстолюбием, равнодушием или невежеством их начальства, возрастают без всякого нравственного образования, большею частью без всякого понятия о семействе и собственности, и выходят в жизнь безнравственными людьми, закаленными на всякое зло и достаточно обученными только для того, чтобы быть величайшими плутами и негодяями. После выучки (которую ни под каким видом нельзя назвать воспитанием) они распределяются в разные должности, мастерства, в технические заведения, в военные писаря, получая казенный паек, одежду и квартиру и самое ничтожное жалованье, и завися вполне, безотчетно, от своего начальства, которое нередко вгоняет их в гроб и работой, и неумеренными наказаниями. Дать военному писарю 300–400 розог – дело самое обыкновенное! Таким образом кантонист, поступивший на службу в какую бы то ни было нестроевую должность, есть вещь пишущая или работающая. Положение его безвыходно, безотрадно. Довольно сказать, что на капсюльное заведение, где постоянное обращение с ртутью убивает человека в 5, а по большей части в 8 лет, рабочие не нанимаются, а берутся из кантонистов! Нанимающийся, по крайней мере, идет на смерть добровольно, может хоть своему семейству выговорить какие-нибудь выгоды, а тут правительство осуждает людей на смерть – даром! Что мудреного, после всего сказанного, если из кантонистов почти всегда выходят самые отъявленные и бессовестные негодяи? Те из них, кои выдержат чистилище, т. е. лет 12 или 20 чуть-чуть не каторжной службы, становятся классными чиновниками[11] и поступают в разные мелкие должности, иные из них дослуживаются и до чинов покрупнее. Нетрудно себе представить, какие понятия и какую нравственность они приносят с собою в государственную службу».
Я.С. Башилов. Кантонист. 1892
Именно из кантонистов происходил революционер-народник Ипполит Никитич Мышкин (1848–1885). Это, без сомнения, был человек с надорванной психикой. Он родился в семье унтер-офицера и крепостной крестьянки в тот же год, когда умер его отец. В возрасте семи лет мальчика отдали в школу кантонистов. Принцип таких школ был жесток: девятерых забить – десятого выучить. Конечно, это до предела озлобило мальчика.
После окончания обучения Мышкин стал работать в Академии Генерального Штаба, затем стал стенографом при окружном суде в Москве. В 1873 году Ипполит Мышкин приобрел типографию, в которой стал выпускать антиправительственную литературу. Типографию разгромила полиция. Мышкин уехал в Швейцарию, потом вернулся и отправился в Сибирь, лелея безумный план освободить Чернышевского. Его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Он постоянно скандалил с надзирателями, подвергался физическим наказаниям, потом бежал, но был схвачен… Несколько раз ему добавляли срок за участие во внутритюремных беспорядках. В конце 1884 года он бросил тарелкой в смотрителя тюрьмы, за что был предан военному суду и приговорен к смертной казни. Расстрелян 7 февраля 1885 года.
Лаврентий Авксентьевич Серяков
Именно из среды кантонистов происходил выдающийся русский гравер Лаврентий Авксентьевич Серяков, мастер ксилографии – гравюры на дереве. Его судьба – это пример того, как человек может выжить и остаться человеком, несмотря на самые тяжелые условия.
Серяков кардинально изменил взгляд на старинную гравировальную технику, считавшуюся лубочной, низкопробной. Благодаря его труду искусство гравюры на дереве заняло достойное место в ряду других видов искусства. За виртуозное мастерство Лаврентию Авксентьевичу Серякову было присуждено звание академика.
Серяков был рожден в одном из военных поселений, созданных по приказу графа Аракчеева. Военные поселения стали уродливым и неокупившимся проектом. Целью его было создание регулярной и малостоящей армии, но проект этот провалился, вызвав попутно целый ряд народных волнений.
Идея состояла в том, чтобы солдаты жили не в казармах, а в деревнях, подчиняющихся военному распорядку. По сигналу все должны были вставать, по сигналу принимать пищу, по сигналу заниматься теми или иными работами… Историк и правовед Кавелин писал об этом: «Нельзя без содрогания вспомнить, как образовались наши военные поселения: простых мужиков в один прекрасный день вдруг обстригли, обрили, одели по-военному и во всех подробностях домашнего и общественного быта подчинили военной дисциплине, военному начальству и военному суду! Страшный формализм, тупое, мелочное, несносное фельдфебельское педантство и казарменный наружный порядок и чистота, в применении к хозяйственным и административным делам, были бы смешны, если бы не были так притеснительны. Военные поселяне – это крепостные, военного ведомства. Вдобавок, их положение; бедственное и в материальном, и в нравственном отношении, никому, кроме чиновников и начальников, не приносит пользы: войско от него не выигрывает, а правительство положительно теряет, потому что обязано содержать многосложное и многочисленное управление, издержки на которое ничем не окупаются».
Крепостной мемуарист Александр Михайлович Никитенко видел такие военные поселения лишь со стороны, и они произвели на него жуткое впечатления. Он писал о волнениях, произошедших в селении Чугуево, где жили в основном казаки: «Когда до них дошла весть о намерении обратить их в военных поселенцев, между ними произошли смуты. Аракчеев, как известно, шутить не любил: в данном случае он явился настоящим палачом. Насчитывали более двадцати человек, насмерть загнанных сквозь строй. Других, забитых до полусмерти, было не счесть. Ужас как кошмар сдавил в своих когтях несчастных чугуевцев».
По приказу начальства поселенцев могли обязать сняться с места и отправиться в поход. В одном из таких походов, в дороге между Тульской и Калужской губерниями, и родился Лаврентий Серяков. Его мать на последнем месяце беременности следовала в обозе за полком в санях-розвальнях. Спускаясь в овраг, сани резко увеличили ход и потащили за собой лошаденку. Женщина испугалась, упала с саней и тут же в снегу родила. В ближайшем селе священник окрестил младенца.
Из Калужской губернии солдатская доля привела семью Серяковых в Новгородскую губернию, в село Перегино, откуда в конце 1830-го отца семейства отправили в польскую кампанию. Впрочем, жена и сын его мало сокрушались об этом. «Невеселые воспоминания остались у меня об отце, – писал Серяков. – Он был большой кутила и при том буйного характера. Бывало, придет пьяный, выгонит нас с матушкой из избы, и если не приютимся у кого-либо из соседей, то мокнем на дожде, мерзнем на холоде. Вообще мы перенесли от него много горя».
На седьмом году Лаврентий начал учиться. Учителем его стал унтер-офицер Остроумов, преподававший своим питомцам чтение, письмо, счет и начатки Закона Божьего.
В Перегино семилетний Лаврентий стал свидетелем жестокого холерного бунта 1831 года, когда невежественные крестьяне избивали и зверски убивали офицеров, священников, да и вообще всех, кто был им неугоден. Могло не поздоровиться и семье Серяковых, так как мать Лаврентия не любила сарафаны, предпочитая им юбки и кофты, а они считались барской одеждой. Но женщину вовремя предупредили, чтобы переоделась.
Многих офицеров избивали до смерти или до полусмерти. Учителя Лаврентия – унтер-офицера Остроухова тоже избили и полуживого привязали к столбу. «Ночью бунтовщики, по большой части пьяные, расхаживали по селу, пели песни и вообще были как бы в чаду от совершенных ими безумств. Закусывали они громадными обломками сахара, забрызганными человеческою кровью…», – вспоминал Серяков.
Конечно, бунт был подавлен, почти два года шло следствие, а потом Лаврентию пришлось быть свидетелем публичных казней и телесных наказаний: «одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами».
Что такое наказание кнутом и шпицрутенами
Серяков оставил нам жуткие воспоминания о том, как солдат наказывали кнутом и шпицрутенами. В настоящей книге часто будут упоминаться подобные наказания, применявшиеся к крепостным крестьянам, поэтому имеет смысл привести слова Серякова достаточно полно, чтобы читатель представлял себе, что ждало крестьянина или рекрута в случае неповиновения. Серяков описал всё очень подробно, без лишних эмоций, но достаточно натуралистично.
Наказываемого привязывали к «кобыле». «Кобыла – это доска, длиннее человеческого роста, дюйма в три толщины и в поларшина ширины; на одном конце доски вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что, когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем; шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом. Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, длиною аршина полутора, а на кончик кнута навязывался 6-ти или 8-мивершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень», – пишет Серяков.
Н.В. Орлов. Недавнее прошлое. (Перед поркой). 1904
Близ «кобылы» «прохаживались два палача, парни лет 25-ти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных. Около 9-ти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101-му удару кнутом, другие – к 70-ти или 50-ти, третьи – к 25-ти ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому; кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукою кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д».
Серяков пишет: «Наивно – детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и взглядывал на спину казнимых: первые удары делались крест на крест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левою рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро; затем уже их рубили как мясо…
Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать».
Серяков объясняет и что такое шпицрутены: это палка, в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень; это гибкий, гладкий лозовый прут. В описанном Серяковым эпизоде подавления холерного бунта таких прутьев нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов. Чтобы чиновники точно знали, какой толщины рубить прутья, им присылали образцы. Серяков вспоминал: «Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы… в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красною печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется».
В те годы никому и в голову не приходило, что детей следует оградить от подобного зрелища, и юный Серяков вместе с другими мальчишками бегал смотреть на жуткую расправу. Тем более что по месту казни целый день бил барабан и играла флейта: «На… плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой – шпицрутен. Начальство находилось посредине и по списку выкликало – кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса; голову оставляли открытою. Затем каждого ставили один за другим – гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было уже невозможно; нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом… слышны были только крики несчастных: «братцы! помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!» Если кто при обходе кругов падал и далее не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты; клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренг; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог. В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт. Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало. При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца…»
Рабьи рынки
При императрице Елизавете развилась торговля крепостными крестьянами: их могли продавать с землей или без, целыми семьями или каждого по отдельности.
«Не только дворяне торговали людьми, но и мещане и зажиточные мужики, записывая крепостных на имя какого-нибудь чиновника или барина, своего патрона. Своих людей не позволялось только убивать; зато слова: «Я купил на днях девку или продал мальчика, кучера, лакея», – произносились так равнодушно, как будто дело шло о корове, лошади, поросенке», – вспоминал цензор Александр Васильевич Никитенко, в юности – крепостной крестьянин графа Шереметева.
Действовали даже специальные невольничьи рынки, где людей продавали, словно скот, нацепив им на лбы ярлыки с указанием цены и профессиональных навыков. В пушкинские времена один такой рынок находился против Владимирского собора, другой – рядом с Поцелуевым мостом через Мойку. Рынки для продажи людей имелись также на Лиговском канале, у Кокушкина моста и в Коломне. На Сенной площади существовал специальный «пятачок» для торговли людьми, он назывался «рабий рынок».
Радищев, неоднократно бывший свидетелем продажи крепостных, описал это гнусное торжище. В его повести продавали с молотка имущество промотавшегося помещика: дом и целую семью крепостных. Писатель приводит и примерный текст объявлений, которые публиковались в газетах по таким случаям: «Сего… дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г… недвижимое имение, дом, состоящий в… части, под №…, и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».
Далее Радищев продолжает: «На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.
Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером. Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своей ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием.
Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном.
Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков… Детина лет в 25, венчанный ее муж…»
Дабы еще более подчеркнуть несправедливость происходящего, писатель делает молодую крестьянку жертвой насилия со стороны барина. На ее руках – младенец – «плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца».
Всех этих людей продают с молотка. Все они совершенно бесправны, не исключая младенца – потомка, быть может, знатного рода. «Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, – слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты…» – пишет Радищев.
Радищев сравнивал торговлю крепостными в России и чужестранный обычай продажи черных невольников – и не находил различий. За свое безоговорочное осуждение крепостничества писатель был назван императрицей «бунтовщиком хуже Пугачева», арестован и отправлен в ссылку.
На ярмарках порой устраивали аукционы, где крепостных продавали с молотка. Лишь в 1771 г. Екатерина II запретила продажу крестьян на ярмарках. Наверное, это решение было принято потому, что ярмарки часто посещали иностранцы и воспринимали подобные аукционы как свидетельство «русской дикости». Хотя, справедливости ради, надо указать, что даже в кичившейся своей прогрессивностью Британской империи работорговля была запрещена лишь в 1806 году, а полностью рабство в колониях было отменено в 1838-м.
Но вернемся к российским «рабьим рынкам»! Молодых привлекательных девиц продавцы старались принарядить перед продажей: часто их покупали для постельных утех. Некоторые помещики даже делали из торговли людьми нечто вроде бизнеса: отбирая самых красивых девочек десяти – двенадцати лет, они обучали их музыке, танцам, шитью, причесыванию и прочим вещам, а в пятнадцать лет перепродавали – в горничные или в любовницы. Аналогичной «дрессировке» подвергались и мальчики – только учили их разным ремеслам. Обучение крепостного ремеслу стоило гроши, но зато цена на него возрастала втрое.
К.В. Лебедев. Продажа крепостных с аукциона. 1910
Крестьяне и крестьянки до такой степени свыкались со своим угнетенным положением, что нисколько не противились своей участи. Устав стоять на солнцепеке, они даже могли сами себя рекламировать, крича: «Купи нас, купи!» Им было все равно, кому служить.
Ни продавцы, ни покупатели не стеснялись происходящего.
Объявлениями о таких продажах пестрела газета «Ведомости»: «Продается девка и поезженная карета», «В приходе церкви св. Николая Чудотворца, в школе продается собою видная и к исправлению горничной работы способная девка и хорошо выезженная лошадь».
За молодую девушку обычно просили 25 рублей, за хорошего работника – 40 рублей, старики шли совсем дешево – по 30–50 копеек, а дети и того дешевле – по гривеннику. К сравнению: породистый борзой щенок стоил около трех тысяч рублей. Порой продавали мужа от жены, жену от мужа.
Помещики часто продавали своих крепостных крестьян «на вывоз». Например, при заселении Крыма. Даже сам Суворов, «отец солдатам», деловито писал своему знакомому: «Многие дворовые ребята у меня так подросли, что их женить пора. Девок здесь нет, и купить их гораздо дороже, нежели в вашей стороне; купи для них четыре девки от четырнадцати до восемнадцати лет, лиц не очень разбирай, лишь бы были здоровы».
Годы шли, а в отношении продаж крепостных почти ничего не менялось. Продажа людей «на своз» в другие губернии была самым рядовым явлением.
Грамотный крепостной Фёдор Бобков, оставивший нам записки о своей жизни, цитирует объявление из газеты «Полицейский листок»: «Продаются муж повар 40 лет, жена прачка и дочь, 16 лет, красивая, умеющая гладить и ходить за барыней». Бобков добавляет: «Я догадался, что это девушка Аполлинария, знакомых господ. Барин раньше ни за что не соглашался ее продать, а теперь, вероятно, уже надоела, или он нашел новую и продает».
Но бывало и хуже. Так, в архиве Пензенской области есть сведения о помещике Барышникове. На него жаловались две крестьянки – Анна и Авдотья Купряшины. У каждой он продал по четыре сына, оставив матерей без всякой опоры в старости. Но Барышникова это мало беспокоило: старым и больным крестьянам он давал вольные, чтобы о них не заботиться, и тем самым обрекал этих людей на нищенство.
Впрочем, продажа – это еще не самое худшее, что могло случиться с крепостным. Его могли поставить на кон в азартной игре и проиграть. Так случилось с Авдотьей Григорьевой, уроженкой Калужской губернии, родившейся в 1786 году.
Лет до десяти она жила в деревне, в крестьянской семье «счастливая, беззаботная, бегала по улице босая, в одной рубашонке». И вот однажды в их дом вошел староста и сказал:
– Ну, дядя Григорий, недобрую весть я принес тебе. Сейчас получен мною от барина приказ: немедленно привезти к нему твою Дуняшку. Там, слышь, бают, что он проиграл ее в карты другому барину.
Уже в пожилом возрасте Авдотья вспоминала: «Одно мгновение все смотрят на него, разинув рты. Потом подымается горький плач, сбегается вся деревня, и начинают причитать надо мной как над покойницей. Судьба сразу дала мне понять, что я не батюшкина и не матушкина, но барская, и что наш барин, живя от нас за сотни верст, помнит всех своих крепостных, не исключая и ребятишек. Но барской воле противиться нельзя, от господ некуда убежать и спрятаться, и потому, снарядив меня бедную, отдали старосте. Оторвали меня малую от родителей и насильно повезли в неволю. Дорогою я плакала, а встречные с нами сильно негодовали на господ».
К счастью, барыня, госпожа Шестакова, к которой она поступила в услужение, была добрая и девочку не обижала. Некоторое время спустя во двор барской усадьбы пришла мать Авдотьи, сердце которой не выдержало разлуки с дочерью. Растроганная госпожа Шестакова хотела выкупить у помещика и мать, чтобы воссоединить семью, но барин запросил такую огромную цену, что ей пришлось отказаться от этой идеи.
Распространение крепостного права на новые территории
По мнению большинства историков, период правления Екатерины II – это худшее время по отношению к крестьянам, но в то же время и пик расцвета дворянства. Своим фаворитам Екатерина II активно дарила земли вместе с прикрепленными к ним крестьянами. Историки подсчитали, что за время своего правления Екатерина раздарила более 850 тысяч государственных крестьян.
Она распространила крепостное право на новые территории – туда, где его никогда не было. Конечно, это вызывало протесты. В конце 1780-х годов только на Левобережной Украине произошло около полусотни массовых крестьянских волнений. Самым мощным, наверное, было Турбаевское восстание, длившееся несколько лет – с 1789-го по 1793-й. Центром восстания стало село Турбаи Градижского уезда Екатеринославского наместничества.
В начале XVIII века жители этого села считались вольными казаками, но затем по указу Екатерины в 1776 году их превратили в крепостных крестьян и отдали во владение помещикам Базилевским.
Поначалу турбаевцы пытались добиться правды законными способами, но Сенат признал казацкие права лишь за 76 селянами из двух тысяч. Это вызвало возмущение. В январе 1789 года они отказались идти на барщину и платить оброк.
В мае в село прибыли чиновники с войсковой командой под предлогом рассмотрения «дела о казачестве турбаевцев». Турбаевцы заявили: «…мы хотим, чтоб нас суд сделал всех казаками по нашему показанию, иначе ж сколько суд ни жить в селе и чего ни требовать от нас будет – мы не послушаем, хоть все пропадем, а не поддадимся никому и никакой команде, разве всем царством придут нас брать».
Чиновники попытались арестовать главарей, но наткнулись на вооруженное сопротивление.
В одном из донесений киевского наместника Корбе малороссийскому генерал-губернатору так сообщалось о начале восстания: «Но вдруг стала наполнена вся улица народом с разными орудиями, к убийству приготовленными, как то: пиками, косами, ружьями и тому подобными, и число их умножалось бабами и обоего пола малолетними, и сколь скоро сделан крик напасть на суд, столь отважно и поспешно поступили на то: в избе, где суд помещался, выбив окошки и войдя в оную, всех канцелярских служителей и всех, кто при суде ни случился, били нещадным смертным огнем. И в то же самое время, другою толпою отделясь в двор помещиков Базилевских и обхватя покои, и выбив окошки, в оные и в двери войдя, его, Корбе чувствительно палками били и, под свой караул взяв, из дому повели. Обеих же помещиков Базилевских и сестру их, девицу, до смерти убили».
Действительно, помещики Иван, Степан и Мария Базилевские были забиты до смерти. Под угрозой такой же расправы турбаевцы добились от судейских чиновников и советника Корбе расписки, что все они «добровольно переведены в казаки».
Об этих событиях в народе было сложено несколько песен. «Малороссияне, как известно, народ поэтический и любят перекладывать на песнь всякое мало-мальски интересующее их событие или происшествие», – говорил о своем народе бывший крепостной А.В. Никитенко. Вот одна из тех песен, в которой говорится именно о расправе над помещиками:
- Ой, хотели Базилевцы весь свет пережити,
- Да не дали турбаевцы им веку дожити.
- Изобрали Базилевцы велику громаду
- Кличут сестру Марьянушу к себе на параду:
- «Порад, сестра Марьянуша, як ридная мати,
- Як бы нам турбаевцев под себя подобрати?!»
- – «Браты мои риднесеньки, не велю займати».
- Ох и пришли турбаевцам из Сенату листы
- Шоб выбыли Базилевцы, шоб ни було и висты.
- У той Марьянуши весь двор на помосте,
- Приехали тураевцы к Марьянуше в гости.
- «Одсунь нам, Марьянуша, викно и оболоне!»
- Ударилась Марьянуша об полы руками:
- «Браты мои риднесеньки, пропала я с вами!»
- Оступили турбаевцы весь двор с колами
- Ой на гори посеяно, а в долине жато.
- Не померли Базилевцы, а лебонь[12] их побито.
- У Киеве огонь горит, а в Полтаве дымно.
- Як выбыли Базилевцы всем панам завидно.
- В Киеве на Подоле рассыпаны орешки.
- Думали Базилевцы, то козацкие смишки[13].
Самоуправление в селе Турбаи продержалось целых четыре года: русское правительство было занято войнами с Турцией. Лишь в июне 1793-го в село вступили карательные войска с двумя пушками. Расправа была жестокой. Руководителей повстанцев – Степана и Леонтия Рогачки, Мусия и Манойло Пархоменко, Павла Олеференко, Василия Назаренко и Григория Величко – суд приговорил к смертной казни, которую затем заменили 100 ударами плетью каждому и пожизненными каторжными работами в Тобольске.
Всего к различным мерам наказания суд приговорил около двухсот человек, в том числе 14 женщин.
Стремясь уничтожить даже память о восстании, Екатерина приказала переименовать село Турбаи в Скорбное, а крестьян переселила в степи Херсонской и Таврической губерний.
Идеальный помещик
«Лучшей судьбы, чем у наших крестьян у хорошего помещика, нет во всей вселенной», – утверждала Екатерина II.
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский[14], родившийся в 1827 году, описывал своего деда как пример идеального помещика екатерининского времени. При этом он ничуть не скрывал достаточно неприятных отрицательных черт, свойственных каждому крепостнику. Вот что он писал: «Дед мой вставал летом с зарею и на своих беговых дрожках бывал уже в поле при выходе крестьян на работы. Управителей имениями он не держал. Ближайшими помощниками его были сельские старосты, но кроме того при нем обыкновенно состоял какой-нибудь смышленый юноша, которого он посылал со своими приказаниями. Это был тот тип объездчика или полевого приказчика, из которого впоследствии вырабатывались хорошие управляющие.
Чуждый всякому лицеприятию и фаворитизму, дед мой строго преследовал неисполнение крестьянами наложенных на них законом обязанностей. Барщина под его личным неустанным наблюдением исполнялась безукоризненно. Но при ежедневном наряде на работы дед мой соблюдал строгую справедливость в распределении дней между барщиною и крестьянскими рабочими днями, неусыпно заботясь о том, чтобы в страдную пору крестьяне успевали вовремя справиться одинаково и с барщиною, и с уборкою своего хлеба, и вообще со своими полевыми работами. К неизбежным, по тогдашним понятиям, телесным наказаниям дед мой прибегал редко, да и не имел к тому повода, так как крестьяне, при постоянном его наблюдении за полевыми работами, привыкли исполнять их исправно. Но в особенности ценили крестьяне отношение к ним моего деда во время случайных и стихийных бедствий. Падала ли у крестьянина единственная лошадь или корова, разваливалась ли у него изба или печь, весь ущерб пополнялся им непосредственно и немедленно. Всего же более проявлялась его заботливость в годы полных неурожаев, случавшихся неминуемо средним числом раз в семь лет. Дед хорошо знал всех домохозяев, у которых были хлебные запасы прошлых годов, хранившиеся на их гумнах, а для тех, у кого их не было, у деда были всегда достаточные запасы хлеба, и он не допускал, чтобы его крестьяне, как у других, ходили с женами и детьми целыми толпами нищенствовать по тем деревням и селам, где случайно урожай был достаточный. Все те крестьяне, которые не сохранили на своем гумне скирдов с хлебом от лучших урожаев, получали муку от деда, не допускавшего употребление того ужасного, черного, плотного, землистого на вид хлеба, который приготовлялся из лебеды с примесью желудей, дубовой коры, мякины и даже чернозема и разных других суррогатов и который вообще был очень распространен в нашей местности в голодные годы.
Во внутреннюю жизнь своих крестьян дед мой мало вмешивался, не позволял себе, как многие соседние помещики, принудительных браков, производимых ими по необузданному произволу, а иногда даже в виде насмешки, глумления или забавы.
Разверстка земель, выбор причитающихся домохозяевам на каждое тягло полос в каждом поле (при трехпольной системе) предоставлялись дедом миру, т. е. сельскому сходу, так же, как распределение долей в покосах. Что же касается до мелких споров и в особенности ссор между крестьянами, по которым приносились помещику жалобы, то дед мой обращал их всегда к суду стариков, причем в важнейших случаях они решались в присутствии самого деда».
«Такой тип хозяйства как нельзя более соответствовал как потребностям лучших из дворян-помещиков, так и понятиям и интересам крепких земле крестьян», – заключает Семёнов-Тян-Шанский, но в то же время добавляет: «…несмотря на то, что крестьяне в имениях деда никогда не нуждались в насущном хлебе и имели достаточное количество лошадей и скота, а часто даже и запасы собственного хлеба в скирдах, они жили тесно и грязно к своих курных избах, не имевших дымовых труб».
А вот Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский – русский государственный деятель, статистик и экономист, член Государственного совета – описывал жизнь крепостного крестьянства куда более мрачно: «…В голодные зимы положение крестьянина и его семьи ужасно. Он ест всякую гадость. Желуди, древесная кора, болотная трава, солома, всё идет в пищу. Притом ему не на что купить соли. Он почти отравляется; у него делается понос, он пухнет или сохнет; являются страшные болезни. Еще могло бы пособить молоко, но он продал последнюю корову, и умирающему часто, как говорится, нечем душу отвести. У женщин пропадает молоко в груди, и грудные младенцы гибнут как мухи. Никто и не знает этого потому, что никто не посмеет писать или громко толковать об этом; да и многие ли заглядывают в лачуги крестьянина? А ведь то не секрет, что голодные годы не суть явления редкие; они, напротив, появляются периодически».
Он считал, что «все попечения помещика о своем крестьянине ограничиваются только сохранением его физической силы, нужной для обрабатывания земель. До обогащения крестьянина, составления у него капитала, никому нет дела».
Дело Дарьи Салтыковой
К сожалению, «идеальных» помещиков было немного. «О! горе нам, холопем, за господами жить! И не знаем как их свирепству служить!» – дошли до нас строки «Плача холопов» XVIII века. И даже императрица Екатерина в записках, написанных ею для самой себя, отмечала: «Предрасположение к деспотизму… прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями; чего я только не выстрадала от этого безрассудного и жестокого общества… Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди… Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства».
Не подозревала об этом и Дарья Николаевна Салтыкова, в девичестве Иванова (1730–1801) – богатейшая русская помещица, вошедшая в историю как мучительница и убийца нескольких десятков крепостных крестьян.
Юность и молодость Дарьи Ивановой были типичны для женщины ее сословия: получила домашнее воспитание, была выдана замуж, родила двух сыновей. А в возрасте всего лишь 25 лет она овдовела.
Первое время всё шло чин чином: барыня ездила на богомолье, подавала нищим, втихомолку завела любовника – Николая Андреевича Тютчева. А вот потом Тютчев ее бросил. И после этого Дарья Николаевна словно помешалась и принялась немилосердно мучить своих крепостных. Это не было редкостью для того времени: сечь крепостных по любому поводу было в обычае у русских помещиков, однако свирепость Дарьи Салтыковой превзошла все пределы, она стала убийцей.
Следствие установило, что Салтыкова, в продолжение лет 10 или 11, погубила своих людей «с лишком сто душ» и преимущественно женского пола; в том числе были девочки лет 11 и 12. Гнев Салтыковой каждый раз происходил только от одной причины – за нечистое мытье платья или полов.
Обычно побои Салтыкова наносила собственноручно скалкой, вальком, палкой или поленом. Часто, по ее приказу, конюхи и гайдуки наказывали крестьян розгами, батогами, кнутом и плетьми. Побои эти были столь жестоки, что обычно заканчивались смертью несчастных жертв.
С.А. Виноградов. Нищие. 1899
Иные наказания производились с особенным тиранством. Так, у одной женщины Салтыкова опалила на голове все волосы; другого человека била об стену головой, обливала ему голову кипятком из чайника и брала за уши раскаленными щипцами для завивки волос. Одну девку приказала в октябре месяце загнать кнутом в воду по горло, где она пробыла четверть часа, а другую девку сама скинула с крыльца. Все эти люди вскоре после истязаний померли.
Описанные убийства происходили или в московском доме Салтыковой, или в подмосковном ее селе Троицком, Подольского уезда. В Москве же она имела собственный дом в Кузнецкой улице, в приходе церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, что на Сретенке.
Кроме собственных людей Салтыковой, служивших ей в качестве палачей, тиранства ее покрывали священники, как московский, так и сельский – погребая убитых как умерших от болезней.
Впрочем, случалось, что священники не соглашались погребать некоторых жертв: тогда Салтыкова приказывала хоронить их ночью в лесу, близ своей подмосковной усадьбы, а управляющий ее в таких случаях подавал явочное прошение, что те люди будто бежали.
В 1762 году двум крестьянам – Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину – удалось подать на нее жалобу самой императрице Екатерине II, которая только что взошла на престол. Это была уже 22-я жалоба, поданная крепостными на помещицу. Однако все ранее поданные местным властям жалобы перенаправлялись самой помещице-садистке, которая вершила над жалобщиками расправу.
Полицейские власти благоволили Салтыковой. Вытребованные юстиц-коллегией из полиции прежние дела, начавшиеся по жалобам на жестокости Салтыковой, все оказались решенными в ее пользу или оставлены вовсе без решения. Жалобщиков же наказывали кнутом, а некоторых сослали в Сибирь или отдали самой Салтыковой на расправу. Местные власти угождали Салтыковой, с одной стороны, из уважения к знатности ее рода, а с другой – из-за подарков, на которые она не имела причины скупиться, обладая значительным по тогдашнему времени состоянием. За Салтыковой числилось более 600 душ крестьян в губерниях: Вологодской, Костромской и Московской.
Но Екатерина II решила использовать дело в качестве показательного процесса. Она назначила действительно независимое расследование, которое продлилось целых шесть лет. Подозрительных смертей и таинственных исчезновений крепостных в поместье Салтычихи насчитали вдоволь – 138 случаев. Доказать точно удалось 38 (36 женщин и два мужчины), а еще 26 посчитали доказанными не вполне.
Приговор Дарье Салтыковой вынесла сама Екатерина, отказавшаяся признать злобную убийцу женщиной и назвавшая ее «уродом рода человеческого».
Указ ее императорского величества гласил: «Вдова Дарья Николаева, которая по следствию в юстиц-коллегии оказалась, что немалое число людей своих мужского и женского полу, бесчеловечно, мучительски убивала до смерти, за что по силе всех законов приговорено казнить ее смертию, о чем от сената ее императорскому величеству поднесен был доклад. Но ее императорское величество, взирая с крайним прискорбием на учиненные ее бесчеловечные смертные убийства, и что она по законам смертной казни подлежала, от той приговоренной смерти ее Дарью освободить, а вместо смерти повелеть соизволила:
1-е. Лишить ее дворянского названия, и запретить во всей Российской империи, чтоб она ни от кого, никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа.