Читать онлайн Портрет дамы с жемчугами бесплатно
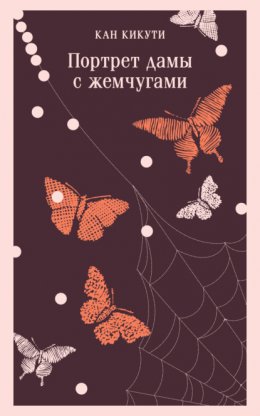
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
Часть первая
Несчастный случай
Когда проехали Офуну, нетерпение и досада, охватившие Синъитиро, достигли своего предела. До Кодзу оставалось всего несколько маленьких станций, но на каждой поезд останавливался. А Синъитиро так хотелось поскорее увидеть и приласкать свою молодую жену.
Наступил июнь. Зелень гор и лесов, мелькавших за окном вагона, уже утратила юную свежесть и теперь не радовала глаз. Только колеблемые легким ветерком молодые побеги сохранили нежно-зеленый цвет.
Весною поезда обычно набиты курортниками, едущими на горячие источники в Хаконэ и на полуостров Идзу. Но весна кончилась, кроме того, уже с неделю стояла дождливая погода. Поэтому в вагоне, кроме Синъитиро, были только пожилые супруги-французы с сыном-подростком, два конторщика в европейских костюмах и какая-то девушка, с виду провинциалка, с матерью. С самого начала внимание Синъитиро привлекли французы, особенно сын, стройный и изящный, как олень, и Синъитиро, любуясь юношей, невольно прислушивался к его разговору с родителями. На сей раз попутчики ничуть не стесняли Синъитиро, не то что курортники, поражавшие своими нарядами из осима[1] и драгоценностями; они всегда раздражали Синъитиро своей бесцеремонно громкой болтовней, непрерывным чавканьем и неряшливостью.
Солнце клонилось к западу, застывшее в неподвижности море, то появляясь, то исчезая, холодно поблескивало, словно черненое серебро. Гора Амаги утонула в сером сумраке. Вдали, у моря Сагами, плыли на горизонте черные тучи. Был пятый час.
Стоило Синъитиро подумать о том, с каким нетерпением ждет его жена, как ему начинало казаться, что поезд замедляет ход. Он старался подавить в себе беспокойство и в то же время не мог не думать о дожидающейся его сейчас в гостинице в Югаваре любимой Сидзуко с ямочками на румяных щеках, крохотным ртом и маленьким милым носиком. Когда же Синъитиро вспомнил выражение девичьей стыдливости на ее лице, он не мог сдержать улыбки умиления. В этот момент юноша-француз обратился к своей матери, но Синъитиро расслышал только слово «maman». Остальные пассажиры, видимо погруженные в свои мысли, не обращали на окружающих никакого внимания.
Поезд с грохотом мчался по сосновому парку, расположенному на берегу моря.
Под мерный стук колес Синъитиро мечтал о любимой. Он вновь и вновь представлял себе, как его юная жена стоит на балконе и ждет его. О чем бы он ни думал – о свадьбе ли, отпразднованной три месяца назад в деревне, о свадебном ли путешествии в Нара и Киото, совершенном ими по дороге в Токио, – ощущение счастья от сознания, что у него есть Сидзуко, ни на минуту его не покидало. В голове с лихорадочной быстротой проносились мысли о девичьей стыдливости Сидзуко во время венчанья, о ее безграничной доверчивости, о новых достоинствах, которые Синъитиро каждый день обнаруживал в ней, будто в случайно найденном драгоценном камне, и он уже не мог совладать с охватившим его нетерпением как можно скорее погладить нежную, почти прозрачную шею Сидзуко.
«Неужели я не смог вынести и недели в разлуке?» – спрашивал себя Синъитиро, испытывая легкий стыд от того, что уподобился капризному ребенку. Но ничего удивительного в этом не было: после свадьбы прошло совсем мало времени, и неделя показалась Синъитиро вечностью. Дело в том, что Сидзуко перенесла тяжелое воспаление легких, и врачи рекомендовали отвезти ее на горячие источники. Синъитиро очень не хотелось расставаться с женой. Поехать с ней он не мог, так как перед свадьбой уже брал отпуск чуть ли не на месяц. Он отвез Сидзуко в Югавару со служанкой и вечером вернулся в Токио.
Как раз в тот день, когда он собрался ее навестить, пришло письмо, в котором Сидзуко сообщала, что чувствует себя хорошо.
Может быть, Сидзуко попросит взять ее на воскресенье домой? Хорошо бы она вышла встретить его на станцию! Нет, ничего подобного ей и в голову не придет. Единственное, на что она способна, – это терпеливо ждать. Стоит сейчас на балконе, смотрит на мост, перекинутый через Фудзики, и с замиранием сердца прислушивается к грохоту колес каждой проезжающей мимо повозки, к шуму каждого автомобиля. Мысли Синъитиро были прерваны пронзительным свистком паровоза, словно прорвавшимся сквозь нависшие над самым поездом тяжелые тучи. Между соснами видно было, как отражается в обычном для Кодзу хмуром, неприветливом море блеск вечернего неба. Не только море, но и земля была окрашена в тусклые, блеклые тона, будто поздней осенью. Услыхав, что это Кодзу, Синъитиро вне себя от радости вскочил с места.
Поезд дальше не шел, и пассажиров из него будто вымело; Синъитиро вышел последним. Толкотни на станции не было, только у выхода в город толпился народ.
На привокзальной площади Синъитиро увидел трамвай, который шел в Юмото. В нем еще оставались свободные места, не то что в прошлое воскресенье, когда там была настоящая давка. Трамвай тогда еле тащился, со скрежетом останавливаясь на каждой остановке. От Одавары, где надо было делать пересадку на Югавару, узкоколейка, извиваясь, как тысяченожка, проходила в горах по самому краю пропасти над морем. До Югавары как-никак три часа езды. А потом надо ехать дилижансом еще полчаса по проселочной дороге. Лишь в девять Синъитиро будет на месте.
Подумав об этом, Синъитиро вспомнил испытанные им в поезде нетерпение и досаду и остановился в унынии, не решаясь сесть в трамвай. В эту самую минуту к нему подошел какой-то человек высокого роста в форменной фуражке и европейском костюме.
– Не угодно ли машину? – спросил он.
Синъитиро обрадовался, как радуются люди, которым в трудный момент вдруг приходят на помощь, но, вспомнив о плате за проезд, ответил весьма сдержанно:
– Пожалуй, я поеду, если это не очень дорого.
– Куда прикажете вас отвезти?
– В Югавару.
– Пятнадцать иен, хотя обычно я беру больше.
Синъитиро не был беден, однако названная сумма отбила у него всякую охоту ехать на машине.
После окончания юридического факультета два года назад Синъитиро поступил на службу в фирму «Мицубиси» и получал вполне приличное жалование, не считая дохода, который приносило имение. Так что общая сумма составляла примерно пятьсот иен в месяц. Но заплатить столько за машину – нет, на это он не пойдет даже ради любимой жены.
Синъитиро под каким-то предлогом отказался от машины и уже хотел сесть в трамвай, но человек в фуражке никак не отставал:
– Прошу вас, подождите минутку! Дело в том, что у меня есть пассажир до Атами. Может, поедете вместе? Тогда это будет стоить вам всего семь иен.
Синъитиро заколебался:
– А что там у вас за пассажир?
Человек в форменной фуражке пошел за пассажиром, которому предстояло стать попутчиком Синъитиро.
Глядя ему вслед, Синъитиро размышлял: езды на машине всего тридцать или сорок минут, так что он может не обращать внимания на своего случайного попутчика, и все же ему хотелось, чтобы им оказался человек приятный, а не какой-нибудь надутый, чванливый курортник. «Может быть, это будет толстяк с массивным золотым кольцом, украшенным печаткой, – продолжал гадать Синъитиро, – или, против ожиданий, красивая женщина. Впрочем, вряд ли порядочная женщина поедет одна с незнакомым мужчиной».
Размышляя так, Синъитиро не без любопытства ждал попутчика. Через несколько минут он увидел шофера, за которым шел человек в студенческой фуражке. То, что попутчиком оказался студент, обрадовало Синъитиро, однако он не испытал того неповторимого чувства, которое возникает при встрече с однокашником.
– Простите за задержку, – сказал шофер. – Вот господин, с которым вы будете ехать.
– Я не стесню вас? – весело поздоровавшись, спросил Синъитиро.
Студент ничего не ответил, только вежливо поклонился. От Синъитиро не ускользнуло благородство, сквозившее в каждой черте его лица, – юноша, видимо, происходил из аристократической семьи. О его высоком происхождении прежде всего говорил удивительно тонкий нос и особая мягкость во взгляде, сразу вызывавшая симпатию и расположение. Одетый в дорогое пальто, с маленьким саквояжем в руках, он буквально поражал своим изяществом.
– Итак, я отвезу вас в Югавару, а затем мы повернем на Атами, – сказал шофер. – Господин был настолько любезен, что согласился.
– Вот и прекрасно, – сказал Синъитиро и вежливости ради обратился к попутчику: – Если, конечно, это вас не затруднит.
Когда они сели в машину, шофер, взявшись за руль, сказал:
– До Атами езды пятьдесят минут, всего на десять минут больше, чем до Югавары.
Он резко засигналил, и машина помчалась по городу, догоняя трамвай.
При мысли о скорой встрече с женой досада и раздражение, охватившие Синъитиро в поезде, бесследно исчезли. При каждом толчке сердце его сладко замирало от ожидания близкого счастья. Студент забился в угол и, хмуря тонкие брови, ни разу даже не взглянул в окно, поглощенный какими-то своими думами.
Так, не проронив ни слова, они доехали до Одавары. Синъитиро очень хотелось заговорить с юношей, к которому он уже успел проникнуться симпатией, но он не решался – такой печальный был у юноши вид.
Сейчас, когда юноша сидел совсем близко, бледное лицо его показалось Синъитиро еще более благородным. В подернутых влагой глазах застыло горе. И хотя молчание становилось тягостным, Синъитиро не осмеливался его нарушить.
Наконец он все же решился и, чтобы начать разговор, задал банальный вопрос:
– Простите, вы тоже приехали с последним поездом?
– Нет, с предыдущим.
Ответ был для Синъитиро несколько неожиданным, и он снова спросил:
– Значит, вы приехали из Токио?
– Да, я жил в Михо. – Тон юноши был скорее деловым, чем взволнованным.
– Вы говорите о сосновом парке Михо?
– Да. Я пробыл там неделю, и мне надоело.
– Вы лечились?
– Не то чтобы лечился… У меня плохо с головой. – Тень пробежала по лицу юноши.
– Неврастения?
– Не совсем. – Уголки губ у юноши устало опустились. Он, видимо, был удручен горем, которое не выразишь словами.
– Вы давно оставили учебу?
– Около месяца.
– Впрочем, на словесном факультете посещение лекций, кажется, необязательно? – сказал Синъитиро, вспомнив замеченный им на воротнике у юноши значок. Синъитиро видел, что юноша совсем не расположен вести беседу, но ему очень хотелось потолковать о литературе, которую он любил с детства, хотя сам окончил юридический факультет. И после короткой паузы он снова заговорил: – Простите, вы из какого котогакко[2]?
– Из токийского, – даже не повернувшись к Синъитиро, ответил юноша.
– Так ведь и я там учился, но вас что-то не помню. Когда вы кончили?
После этих слов в сердце юноши возникло то особое чувство, которое возникает у людей, проживших вместе лучшие годы в одном пансионе и потом неожиданно встретившихся.
– Простите меня, ради бога! – воскликнул юноша. – Я кончил в позапрошлом году. А вы?
Впервые за всю поездку юноша улыбнулся. Улыбнулся грустно, но искренне.
– Я кончил как раз в том году, когда вы поступили, – ответил Синъитиро, – потому и не помню вас.
Синъитиро вынул из бумажника визитную карточку и протянул юноше. На ней значилось: «Синъитиро Ацуми».
– К сожалению, я не взял с собой карточки, – сказал юноша. – Мое имя Аоки Дзюн.
После состоявшегося знакомства оба почувствовали друг к другу расположение, и со стороны могло показаться, что в машине едут давнишние друзья.
Мягкий, наивный и очень застенчивый, юноша в то же время обладал способностью быстро привязываться к людям. Так случилось и на сей раз. Стоило ему узнать, что они с Синъитиро окончили одно учебное заведение, как он сразу проникся к нему доверием и как старшему оказывал всяческое внимание.
– Я покинул Токио десятого мая, – стал жаловаться юноша, – чуть ли не месяц скитаюсь по гостиницам, но нигде не могу обрести покоя.
Слушая его, Синъитиро думал о том, что в юношестве часто испытывают тоску, то ли от сложностей жизни, то ли от несчастной любви.
– Я советовал бы вам возвратиться в Токио, – сказал Синъитиро, – ибо на собственном опыте убедился, что только шум и суета большого города могут восстановить душевное равновесие. Поверьте, и в горах, и у моря с особой остротой ощущаешь одиночество и тоску.
– Обстоятельства не позволяют мне вернуться в Токио, – ответил юноша. – Жизнь там превратилась для меня в настоящую пытку.
Юноша снова умолк. Глядя на него, Синъитиро испытывал острую жалость: он понял, как глубока рана в сердце этого молодого человека.
Посмотрев в окно, они обнаружили, что Одавара осталась далеко позади, и теперь машина мчалась вдоль узкоколейки по самому краю пропасти.
Внизу пенились, разбиваясь о берег, волны Тихого океана.
Там, где берег был более пологим, террасами располагались сады с мандариновыми деревьями. Дурманящий аромат их цветов ощущался даже в машине.
– Хорошо бы приехать в Атами засветло, – сказал через некоторое время Синъитиро.
– Мне безразлично. Можно остановиться и в Югаваре, если не поспеем в Атами.
– Тогда остановимся в Югаваре. Я рад нашему знакомству и охотно побеседую с вами.
– Вы надолго в Югавару?
– Нет, еду за женой.
– За женой? – Тень пробежала по лицу юноши.
Дорога была опасной, но шофер, совершавший в день несколько поездок по этому маршруту, смело вел машину, радуясь, что здесь нет препятствий, которые на каждом шагу встречаются в Токио. Он так резко поворачивал руль, что у путников дух захватывало. Вдруг в горах эхом прокатился грохот, заглушивший шум мотора. «Уж не поезд ли это?» – подумал юноша.
Грохот все приближался и приближался. На очередном повороте путники увидели совсем близко поезд. Изрыгая дым и пыхтя, он походил на извивающееся чудовище. Считая поезд анахронизмом, шофер до такой степени презирал его, что не счел даже нужным убавить скорость и решил проскочить вперед, не сразу сообразив, что узкоколейка здесь вплотную подходит к горному озеру и дорога чересчур узка. Когда же он это понял, было поздно.
– Дурак! Что ты делаешь?! – донеслось до шофера.
Шофер растерялся и резко повернул руль, чудом избежав столкновения с поездом. Синъитиро перевел было дух, но в тот же момент, потеряв управление, машина понеслась к обрыву высотой около ста футов, по краю которого рос бамбук. На сей раз шофер перепугался и стал что-то бессвязно бормотать, заметавшись на своем сиденье. Тем не менее он сделал последнее отчаянное усилие и не дал машине свалиться вниз. Он снова резко повернул, машина врезалась в скалу, и Синъитиро услыхал страшный скрежет. В следующий момент его стало бросать из стороны в сторону. У Синъитиро потемнело в глазах, мысли путались. Когда же наконец он пришел в себя, то с трудом разогнулся, пощупал голову, грудь и убедился, что цел и невредим, только голова все еще кружилась. Он огляделся и увидел, что его попутчик наполовину вывалился наружу сквозь приоткрытую дверцу машины.
– Что с вами, что с вами? – Синъитиро хотел втащить юношу в машину, но тот застонал так, что Синъитиро похолодел. – Послушайте! Послушайте! – громко крикнул Синъитиро.
Никакого ответа, только стоны, едва слышные, терзающие душу. Напрягши все силы, Синъитиро все же втащил юношу в машину и заметил, что лицо его приобрело какой-то неприятный синеватый оттенок. Из уголка рта по подбородку стекала струйка крови темного цвета, что особенно испугало Синъитиро, поскольку цвет крови свидетельствовал о серьезном повреждении внутренностей.
Таинственные часы
Тем временем шофер, которого выбросило из машины, с трудом поднялся с земли. Смертельная бледность покрыла его лицо, лоб был сильно поцарапан. С опаской заглянув в машину, он спросил:
– Вас не ранило?
– Дурак! – крикнул Синъитиро, уверенный в полной виновности шофера. – Если бы только ранило! Случилось несчастье!
Державшийся дрожащими руками за дверцу машины, шофер был до того подавлен, что не мог ничего сказать, лишь издавал какие-то нечленораздельные звуки.
Как ни старался Синъитиро, ему не удалось привести юношу в сознание. Струйка крови, стекавшая по подбородку, становилась все шире, увеличивалась отечность правой щеки.
– Гони что есть духу в Одавару! – обратился Синъитиро к растерянному шоферу. – Ему нужна срочная медицинская помощь, иначе он погибнет.
Словно очнувшись от сна, шофер быстро сел за руль, но отказал мотор, передние колеса были погнуты.
– Машина испортилась… – срывающимся от волнения голосом виновато сказал шофер.
– Тогда необходимо где-нибудь поблизости найти врача. Отсюда недалеко до Манадзуру. К тому же надо заявить в полицию и, если это возможно, позвонить по телефону в Одавару, чтобы немедленно прислали машину.
Повинуясь Синъитиро, шофер побежал выполнять его поручения. Юноша между тем продолжал агонизировать. Глаза его закатились. Синъитиро, приподняв юношу, напряженно всматривался в его лицо, но ничем не мог помочь: смерть подступала все ближе и ближе. Исполненный жалости, Синъитиро в то же время радовался своему спасению и размышлял о том, каким образом произошла катастрофа. Видимо, опасаясь, что машина упадет в пропасть, юноша открыл дверцу, чтобы выскочить, но машина врезалась в гору, и он вывалился наружу, сильно повредив себе грудь. Случись по-другому, уцелел бы юноша, а Синъитиро и шофер погибли бы. Таким образом, в создавшейся ситуации юноша и его случайный попутчик оказались на разных полюсах: счастья и несчастья. При мысли об этом Синъитиро проникся еще большей жалостью к пострадавшему, который невольно ценой собственной жизни спас Синъитиро.
Вдруг Синъитиро вспомнил про бутылку виски у него в чемодане и, хотя понятия не имел о том, какое действие виски окажет на умирающего, достал ее. Это было единственное, что он мог сделать. Он вытащил виски и осторожно положил голову юноши на сиденье.
Синъитиро влил юноше в рот несколько капель, и во взгляде умирающего – быть может, под влиянием виски или по какой-либо другой причине – появились признаки жизни. Из уст вместе со стонами вырвалось несколько слов.
– Вы слышите меня, Аоки-кун[3]? – не переставал громко повторять Синъитиро. – Крепитесь!
Силясь удержать сознание, в любую минуту готовое его покинуть – так нестерпима была боль, – юноша остановил неподвижный взгляд на Синъитиро. Он, видимо, только сейчас понял, что с ним произошло.
– Ну что, Аоки-кун, слышите вы меня? Крепитесь. Сейчас приедет врач.
– Спа… сибо, – с трудом произнес юноша, исполненный глубокой признательности к своему попутчику. Он попытался улыбнуться, но помешала боль, снова исторгнувшая из его груди раздирающие душу стоны.
– Потерпите, скоро будет доктор, – растерянно повторял Синъитиро.
Коноша приподнялся, видимо желая что-то сказать, но задохнулся от кашля. Изо рта у него хлынула кровь, лицо побелело. Смерть уже витала над ним. Это понял даже Синъитиро, ничего не смысливший в медицине, но ему ничего не оставалось, как смотреть на своего несчастного попутчика, который умирал у него на глазах. Сам Синъитиро, пожалуй, был так же бледен, как умирающий.
Солнце, прятавшееся в облаках, грозно надвигавшихся с Тихого океана, скрылось за горизонтом. Стемнело. На дороге не было ни души. Сидя возле умирающего, Синъитиро все острей и острей ощущал одиночество. Стоны юноши перемежались с тихими всплесками разбивавшихся о скалы волн.
Вдруг юноша выплюнул кровь и поднял голову.
– Вам что-нибудь нужно? – быстро спросил Синъитиро.
– Мой… саквояж, – едва слышно ответил юноша.
Синъитиро огляделся и вытащил из-под сиденья небольшой саквояж. Юноша хотел взять его, но силы ему изменили.
– Что с ним делать, с этим саквояжем? – спросил Синъитиро.
В ответ юноша лишь пошевелил губами.
– Открыть?
Юноша не в силах был даже кивнуть головой. Синъитиро стал открывать саквояж, но тот оказался запертым. Не спрашивать же умирающего о ключе, это было бы просто нелепо, и Синъитиро так рванул замок, что кожа вокруг него лопнула.
– Что вы хотели достать из саквояжа? – спросил Синъитиро, полагая, что там лежит какое-то лекарство. Но против его ожидания юноша ответил:
– Записную книжку.
Синъитиро удивился, однако стал искать и на дне саквояжа нашел толстую тетрадь. Юноша взглядом дал понять, что именно ее ему и нужно, взял тетрадь, хотел порвать, но рука лишь бессильно скользнула по обложке, не повредив ни единого листа.
– Пожалуйста… бросьте ее в море, – тихо произнес юноша, умоляюще глядя на Синъитиро.
Синъитиро наклонился к самому уху юноши и с горячностью ответил:
– Может быть, у вас есть еще какая-нибудь просьба. Я сделаю все, что вы пожелаете. – Синъитиро понимал, что юноша умирает и надо спросить, какова будет его последняя воля, но воздержался, сочтя такой вопрос чересчур жестоким.
Слова Синъитиро, видимо, дошли до сознания юноши. Он чуть-чуть приподнял правую руку. Синъитиро коснулся ее и ощутил какой-то холодный твердый предмет. Это оказались часы.
– Часы… Что с ними делать?
На искаженном болью лице юноши появилось выражение муки душевной, так же терзавшей его, как и мука телесная.
– Часы… Верните их, пожалуйста…
– Кому вернуть? Кому? – громко спросил Синъитиро.
– Прошу вас… верните… пожалуйста… – прохрипел юноша в предсмертной агонии, напрягая последние силы.
– Кому же, кому? – спрашивал Синъитиро, приблизившись к его лицу.
Но юноша снова впал в забытье и лишь стонал. Опасаясь, что юноша сейчас умрет, Синъитиро не переставал повторять:
– Скажите же, кому вернуть часы?
Юноша стал корчиться в судорогах. Он доживал последние минуты.
– Имя! Назовите имя! – кричал Синъитиро.
– Рурико… Рурико… – прошептал юноша.
То ли к нему на секунду вернулось сознание, то ли это был бред. Предсмертные судороги были самыми сильными, и вскоре юноша застыл в неподвижности.
Синъитиро вытирал платком кровь, стекавшую с подбородка на шею юноши, и, глядя на его лицо, постепенно становившееся прозрачным, как воск, испытывал острую жалость. Он даже заплакал, словно на его руках скончался старый друг.
«Поистине странная вещь судьба, – размышлял Синъитиро. – Близким людям посылает смерть, когда они вдали от нас, чужих в смертный час сводит с нами, вынуждая спасать их и выслушивать последнюю волю». Но каково было этому несчастному перед смертью, какое отчаяние он должен был испытать! Стать жертвой слепого случая, неожиданно погибнуть в дороге, на глухом неведомом берегу холодного моря, когда впереди блестящая будущность. Сознавать, что вместо воды[4] ему вливают в рот виски. Как жаждал он, должно быть, в последние минуты утешения и ласки матери, сестры или возлюбленной. Рурико! Нет сомнений, что это имя любимой им женщины. Но почему он попросил вернуть часы совсем чужого человека, а не кого-нибудь из близких? Видимо, не хотел, чтобы они узнали об этом, прочли то, что написано в тетради. К тому же рядом был лишь Синъитиро, к нему-то и мог обратиться юноша с последней просьбой. Доверчивость – одно из самых лучших качеств человека. Умирая, юноша проникся к Синъитиро искренним доверием, и это глубоко его тронуло. Оправдать оказанное ему доверие было делом чести Синъитиро, ибо, судя по всему, просьба юноши имела для него такое же значение, как предсмертная исповедь для верующего католика.
Синъитиро осторожно снял часы с руки покойного, Стекло было разбито, браслет глубоко врезался в кожу, сильно повредив руку. Часы и браслет были не то из серебра, не то из никеля. На задней крышке даже в темноте можно было разглядеть алые капли. Заметив их, Синъитиро невольно вздрогнул, словно только сейчас осознал всю трагичность судьбы молодого человека.
«Кому же вернуть часы? – спрашивал себя Синъитиро. – Рурико?» Но, может быть, она не имеет к этим часам никакого отношения? Может быть, это имя юноша произнес в бреду? Несомненно одно: имя Рурико врезалось в сердце юноши так же глубоко, как врезался в его руку браслет от часов.
Часы были совсем маленькие и имели особый блеск. Синъитиро взглянул на них, потрогал и понял, что сделаны они не из серебра или никеля, как он вначале подумал, а из самой настоящей платины. На крышке был узор в виде кинжала с ручкой, оправленной в золото и усыпанной ярко сверкавшими драгоценными каменьями. По форме кинжал очень походил на греческий и вызвал в памяти Синъитиро мысль о богине мести Немезиде, занесшей над жертвой кинжал.
Снедаемый любопытством, Синъитиро продолжал смотреть на часы, владелицей которых была женщина, хотя узор на крышке скорей годился для мужских часов.
Стало совсем темно. Только море излучало тусклый, призрачный свет.
Шофер все не возвращался. Сидеть рядом с покойником в этом глухом, безлюдном месте было жутко. Но Синъитиро, глубоко взволнованный всем происшедшим, не испытывал страха, он даже был растроган выпавшим на его долю испытанием.
Вдруг его охватило сомнение: имеет ли он право унести часы, никого не поставив об этом в известность? Ведь полиция непременно будет его допрашивать. Что он скажет? Юноша мертв и подтвердить свою просьбу не сможет. Чего доброго, его обвинят в воровстве, и у него не будет никаких оправданий. Ему не поверят, что покойный просил передать кому-то часы. Не лучше ли остаться в стороне от этого дела и не вмешиваться в личную жизнь постороннего человека только потому, что он оказался случайным свидетелем его смерти?
Зачем наживать себе неприятности? Но стоило Синъитиро так подумать, как в ушах у него зазвучали последние слова юноши: «Часы… Верните их, пожалуйста…»
И словно в ответ на свои мысли Синъитиро услышал голос совести, который тихо, но очень отчетливо произнес: «Ты трус».
Да, он трус. Но он не будет трусом. Он во что бы то ни стало разыщет женщину по имени Рурико. Пусть не она владелица часов, но она знает, кому их вернуть, раз юноша назвал ее имя: перед смертью обычно вспоминают самых близких людей. И она, эта женщина, защитит Синъитиро, если его заподозрят в бесчестном поступке.
Придя к такому выводу, Синъитиро бережно спрятал часы в карман и в этот момент услышал шаги. Словно застигнутый на месте преступления, он испуганно оглянулся и увидел, что к нему быстрым шагом приближаются какие-то люди. Один из них нес фонарь с надписью «Полиция».
Их было четверо: шофер, молодой полицейский, доктор в хакама[5] и старик – сторож из полиции. Синъитиро вышел из машины им навстречу. Полицейский посветил фонарем и спросил:
– Как раненый?
– Только что скончался. Видимо, сильно повредило грудь, – ответил Синъитиро.
Наступило молчание. Шофера била дрожь.
– Прошу вас, – обратился полицейский к врачу, – произведите осмотр тела.
Шофер дрожащей рукой включил свет в кабине.
– Это ваш приятель? – спросил полицейский Синъитиро, следя за тем, как врач производит осмотр.
– Нет, случайный попутчик. Правда, мы успели познакомиться и я знаю, как его зовут.
– Как? – спросил полицейский, открывая записную книжку.
– Аоки Дзюн. Он студент словесного факультета. Адреса я не спросил, но думаю, что погибший – сын Аоки Дзюндзо, члена Верхней палаты. Они очень похожи. Не исключено, разумеется, что я ошибаюсь. Надо осмотреть его вещи, тогда все выяснится.
Полицейский слушал Синъитиро и кивал головой, потом сказал:
– От шофера мы вкратце узнали про обстоятельства дела, но не можем полностью полагаться на его слова, поэтому мне хотелось бы выслушать вас.
Синъитиро взглянул на шофера, который весь превратился в слух, словно ожидая приговора, и слова обвинения застряли у него в горле: ведь все равно не вернешь юношу к жизни. И Синъитиро сказал:
– Шофер, конечно, виноват. Но я должен вам сообщить, что юноша на ходу открыл дверцу машины. Не сделай он этого, возможно, не произошло бы несчастья.
– Ах, вот оно что…
Полицейский сделал запись в книжке и сказал:
– Если впоследствии родные учинят иск, вам, возможно, придется быть свидетелем на суде. В связи с этим я хотел бы взять у вас визитную карточку.
Синъитиро вручил полицейскому визитную карточку как раз в тот момент, когда врач вышел из машины, вытирая выпачканные в крови руки.
– Он потерял много крови, – сказал врач и обратился к Синъитиро: – Смерть быстро наступила?
– Да… Минут через тридцать.
– При подобной травме выжить невозможно, – заявил доктор, махнув рукой.
– Представляю, как вам это неприятно! – заметил полицейский, обращаясь к Синъитиро. – Хорошо еще, что мы счастливо отделались. Вы, кажется, ехали в Югавару? Наш сторож вас проводит. До Манадзуру придется идти пешком. А погибшим мы сами займемся.
Синъитиро облегченно вздохнул, но тут вспомнил про часы и подумал, что пока еще не время радоваться, прежде надо исполнить последнюю просьбу своего юного спутника.
Синъитиро подошел к машине и, отдавая последний долг умершему, молча склонился перед ним.
Затем попрощался со всеми, но, пройдя несколько шагов, спохватился, что забыл взять дневник юноши и выбросить в море, как тот просил, и вернулся.
– Я тут забыл одну вещь… – растерянно произнес Синъитиро.
– Что именно? – спросил полицейский, производивший осмотр машины.
– Записную книжку, – с опаской ответил Синъитиро.
– Эту? – спросил полицейский, отдавая тетрадь Синъитиро.
На обложке стояло имя юноши, но полицейский, видимо, не заметил этого в темноте и не обнаружил ни малейшего подозрения. Синъитиро успокоился и положил тетрадь в карман.
И в поезде, который шел от Манадзуру до Югавары, и в деревенском дилижансе от станции до гостиницы – словом, всю дорогу Синъитиро никак не мог привести в порядок свои мысли. Вдобавок от сильного ушиба болела голова.
В ушах все еще звучали стоны юноши, перед глазами стояли неотступным призраком его окровавленный рот, иссиня-бледное лицо. Радостное ожидание встречи с любимой женой бесследно исчезло, и всякий раз, как Синъитиро пытался вызвать в памяти ее образ, перед ним неизменно появлялось залитое кровью лицо юноши, а имя Сидзуко звучало как Рурико.
Дилижанс уже свернул с дороги, проходившей по рисовому полю, впереди замелькали едва заметные огоньки домов, расположенных у горячих источников, а Синъитиро все никак не мог успокоиться. Его расстроенный вид наверняка испугает жену. Нет, он и словом не обмолвится о печальном происшествии, чтобы не ранить ее нежного сердца.
Дилижанс проехал по мосту и остановился возле гостиницы. Навстречу Синъитиро вышли служанка Сидзуко и горничная гостиницы.
– Ваша жена, – сказала служанка, – давно ждет вас.
Тут Синъитиро увидел Сидзуко. Она ждала его на лестнице, ведущей на второй этаж, ибо сочла нескромным стоять внизу. Сидзуко кокетливо улыбнулась мужу и, едва сдерживая бурную радость, спустилась по лестнице.
– Почему так поздно? – с легким упреком спросила она.
– Прости, – ласково ответил Синъитиро.
Только они вошли в комнату, как Синъитиро вспомнил, что тетрадь юноши так и лежит у него в кармане пальто. Он не мог ее выбросить, потому что шел в Манадзуру с провожатым, и сейчас при мысли об этом помрачнел.
– Что с вами? Вам нездоровится? Надевайте скорее халат или теплое кимоно! – Говоря это, Сидзуко с веселым видом стала помогать Синъитиро раздеваться.
Она повесила его пиджак на ширму и вдруг вскрикнула.
– Что с тобой? – испуганно спросил Синъитиро.
– Это кровь? Кровь? – побледнев, воскликнула женщина и поднесла рукав пиджака к лампочке. Кровь, глубоко впитавшись, расплылась большим пятном.
– Неужели кровь попала на пиджак? – с дрожью в голосе произнес Синъитиро.
– Скажите же, что с вами случилось? – взволнованно спросила Сидзуко.
Чтобы успокоить жену, Синъитиро ответил:
– Со мной ничего. Моего попутчика-студента ранило, когда машина врезалась в гору.
– Может быть, вы тоже ранены?
– Нет, к счастью, даже не поцарапало.
– А что с этим студентом?
– Он сильно пострадал. Наверное, не выживет. Так жаль его!
Но Сидзуко в этот момент с ужасом думала об опасности, которой чудом избежал ее муж, и не сводила с него испуганного взгляда.
Беспокойство жены передалось Синъитиро. Ему стало казаться, что случившееся с юношей несчастье касается и его самого, и жены, что с той самой минуты, как он взял часы и записную книжку, злой рок, тяготевший над погибшим, будет преследовать его и Сидзуко. И Синъитиро, так страстно мечтавший о встрече с женой, сейчас не мог найти для нее ни одного нежного слова.
Супруги, оба бледные, молча сидели друг против друга. Лежавшие в кармане у Синъитиро часы представлялись ему чем-то зловещим.
Похороны
Токийские газеты подробно писали о трагической гибели юноши. Синъитиро не ошибся: его случайный попутчик и в самом деле оказался старшим сыном барона Аоки. Имя Синъитиро, к его удивлению, нигде не упоминалось, и он почувствовал некоторое облегчение.
На другой день – это как раз был день похорон – Синъитиро привез жену в Токио. Хоронить юношу должны были на кладбище Аояма. Синъитиро не собирался никому рассказывать о том, что провел с погибшим последние минуты его жизни, но на похороны он решил пойти во что бы то ни стало. Юноша скончался у Синъитиро на руках и теперь казался ему самым близким другом. Он не мог без слез вспоминать об Аоки. Таинственные узы, казалось, связывали Синъитиро с несчастным, хотя никого из его родных он не знал.
Была еще одна причина, заставившая Синъитиро пойти на похороны. Там, конечно, будут близкие юноше люди: сестры, женщина по имени Рурико, владелец или владелица часов и, наконец, возлюбленная (разумеется, если она была у него). Кто-нибудь из близких непременно укажет Синъитиро владельца часов.
Погода стояла ясная, такая, как обычно бывает в начале лета. В небе, пронизанном ярким светом, медленно плыли по-летнему пышные облака. Все вокруг так и дышало свежестью. Только грустная процессия на кладбище омрачала этот ясный, исполненный радости день.
Узнав о безвременной кончине юноши, многие пришли проститься с ним. Синъитиро приехал на похороны ровно в три часа, как и было назначено, но у кладбища уже стояла целая вереница машин и рикш с колясками. Собралось человек пятьсот, а машины и коляски все прибывали и прибывали.
Отец погибшего – председатель одной из фракций Верхней палаты – был человеком влиятельным, и на похороны приехали почти все видные политические деятели. Синъитиро сразу узнал графа Т. и начальника морского штаба адмирала С., министра связи, засунувшего в рот чуть ли не полсигары и чему-то громко смеявшегося. Он беседовал с бароном Г., объездившим всю послевоенную Европу и теперь дожидавшимся случая, чтобы начать политические интриги. Присутствовал здесь и премьер, министр внутренних дел и военный министр, крупные финансисты. Однако никого из знакомых Синъитиро здесь не было.
Синъитиро положил на специальный столик свою визитную карточку и, став в стороне, ждал начала церемонии. Никто не заговаривал с ним. Распорядители вежливо кланялись вновь прибывающим видным лицам, благодарили за внимание, а Синъитиро лишь небрежно кивали головой.
И все же Синъитиро не покидала уверенность. Ни один из собравшихся здесь людей не был свидетелем смерти юноши, только он, Синъитиро. Только ему высказал юноша свою последнюю волю. Проснись он сейчас, он порадовался бы Синъитиро куда больше, чем всем этим министрам, финансистам и высокопоставленным особам, приехавшим на похороны приличия ради. Тронутый пришедшей ему в голову мыслью, Синъитиро стал рассеянно оглядывать толпу.
Вдруг наступила тишина, нарушаемая лишь мерным стуком копыт: это приближался катафалк, сопровождаемый родственниками в колясках.
Синъитиро пробрался сквозь толпу поближе к катафалку, чтобы увидеть родственников покойного. Из первой коляски вышел юноша в форме лицеиста, очень похожий на умершего, только немного выше ростом, видимо, его брат. Он был главным лицом церемонии.
Из второй – две девушки, которых Синъитиро стал внимательно разглядывать, полагая, что одной из них может оказаться Рурико. Однако вскоре выяснилось, что это сестры покойного. Как и погибший брат, они отличались красотой и благородством. Старшей было не более двадцати. Они шли медленно, в белых траурных платьях[6], низко опустив головы, с заплаканными глазами, являя собой трогательную и в то же время прекрасную картину.
Вслед за ними вышли из колясок еще несколько женщин, видимо тоже родственницы, поскольку они были одеты в траур.
«Одна из них наверняка Рурико», – подумал Синъитиро, переводя взгляд с одного лица на другое. Он сильно волновался, ибо не представлял себе, как распознать, которая же из женщин Рурико. Как только гроб поставили на возвышение, отведенное для церемонии место заполнили люди.
Наступила тишина. Лица приняли скорбное выражение, глаза были устремлены на священников, одетых в пурпурные и лиловые ризы. С минуты на минуту будут произнесены первые слова молитвы.
Вдруг послышался шум приближавшегося автомобиля. Стоявшие подле гроба даже не оглянулись, остальные же бросили негодующий взгляд на дерзнувшего нарушить торжественную тишину. Это была совсем молодая, бойкая женщина в очень красивом платье с белым воротником, подчеркивавшем ее благородную грацию. Она вышла из изящного итальянского лимузина и, не обращая ни малейшего внимания на укоризненные взгляды присутствующих, сняла черную вуаль, небрежно бросила ее на сиденье и с видом, полным достоинства, проследовала туда, где у гроба сидели женщины. С этого момента внимание всех без исключения было приковано к ней. Что же касается Синъитиро, то она поразила его своей красотой и молодостью. Ей было от силы лет двадцать. В то же время она держалась с таким достоинством, что невольно внушала уважение.
И Синъитиро не отрываясь смотрел на красавицу, словно сошедшую с картины знаменитого художника.
Постепенно звучные голоса священников отвлекли внимание окружающих от неожиданно появившейся молодой женщины, и лица их снова приняли скорбное выражение.
Только Синъитиро все еще испытывал сильное беспокойство. Он инстинктивно чувствовал, что существует какая-то связь между этой женщиной и погибшим юношей. Ее ослепительная красота и независимый вид почему-то напомнили Синъитиро о странном кинжале, вырезанном на крышке часов покойного. Он не слышал молитв и думал только об этой женщине, завороженный ее красотой. Не все ли равно, кто она: Рурико или владелица таинственных часов. На японку она была мало похожа и уж совсем не похожа на безжизненных красавиц эпохи Мэйдзи, настоящих кукол. Нет, она была типичной представительницей современной цивилизации. В глазах ее светились энергия и ум. Совсем еще юная, она держалась с достоинством светской женщины.
Между тем погребальные обряды следовали один за другим. Когда же был совершен обряд последнего поклонения, женщина, завладевшая воображением Синъитиро, скромно поднялась с места, поклонилась, как и все остальные родственники, перед телом умершего и бросила в курильницу несколько кусочков ладана.
Церемония вскоре кончилась, родственники поблагодарили прибывших на похороны, и все заторопились домой. Возле кладбища образовалось целое скопище автомобилей и рикш.
Не обращая внимания на толкотню, Синъитиро нарочно шел медленно, стараясь приблизиться к интересовавшей его женщине. Как только она очутилась за оградой, отделявшей место церемонии, к ней подошли четыре студента – видимо, друзья умершего. Она обменялась с ними несколькими словами, взялась за ручку лимузина и с очаровательной улыбкой, грациозно изогнувшись, села в автомобиль. Потом приоткрыла дверцу и сказалa:
– Не поймите меня превратно, не то я попаду в неловкое положение!
Она захлопнула дверцу, и машина тронулась, медленно пробираясь сквозь толпу.
Проводив ее взглядом, молодые люди тоже стали пробираться сквозь толпу по направлению к выходу. Синъитиро пошел за ними, надеясь разузнать что-нибудь о Рурико или владелице часов. Это была, по его мнению, единственная возможность.
Судя по всему, студенты собирались сесть в трамвай, ибо шли в сторону трамвайной остановки на Аояма-сантё-мэ. Синъитиро следовал за ними на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным, и, поскольку молодые люди говорили довольно громко, слышал отдельные фразы.
– Предположим, что гибель Аоки – случайность. Но ведь не исключено и самоубийство, – сказал один из них, толстяк.
– Разумеется, – ответил второй, высокого роста. – Ну и натворил он дел.
– Я сразу понял, что с ним творится неладное, когда получил от него письмо из Михо, – вступил в разговор студент в летнем пальто.
Синъитиро подошел ближе.
– Несомненно одно, – говорил толстяк, – в последнее время он пребывал в глубоком унынии. Возможно, от несчастной любви. Но он был скрытен и ни с кем не беседовал о своих сердечных делах. Поэтому трудно даже предположить, кто была его избранница.
При этих словах Синъитиро живо представил себе юношу, с печальным видом сидевшего в машине.
– Неужели предметом его любви была госпожа Сёда? – сказал один из студентов, и все рассмеялись.
Студенты подошли к трамвайной остановке. Трое с трудом протиснулись в вагон, а один, в очках, который все время молчал, попрощался и направился в сторону Аояма-иттёмэ. Синъитиро последовал за ним, решив про себя, что теперь, когда студент остался один, с ним легче будет завести разговор.
Но он прошел уже целый квартал, а заговорить все не решался, боясь показаться глупым и невоспитанным. Он уже готов был отказаться от своего намерения, но подумал, что может потерять единственную возможность напасть на след владельца часов. И Синъитиро наконец отважился. В это время студент как раз обернулся. Синъитиро подошел к нему и спросил:
– Простите, вы сейчас с похорон Аоки-сан[7]?
– Да, – с удивлением, но в то же время приветливо ответил юноша.
– Вы были его другом? – продолжал расспрашивать Синъитиро, ободренный ответом студента.
– Да. С самого детства. Мы вместе учились в начальной школе.
– Вот как! Сочувствую вашему горю! – Синъитиро умолк, не решаясь расспрашивать дальше, потом снова заговорил: – Простите за нескромность, госпожа, с которой вы разговаривали…
Не дав Синъитиро договорить, юноша спросил:
– Вы имеете в виду женщину, уехавшую на машине? С ней что-нибудь случилось?
– Нет, ничего, – в замешательстве ответил Синъитиро. – Я просто хотел узнать ее имя.
Студент улыбнулся с таким видом, словно жалел Синъитиро, не знавшего общеизвестных вещей.
– Это знаменитая госпожа Сёда. Вы о ней не слыхали? Она дочь бывшего министра, барона Карасавы. Он принадлежит к той же фракции Верхней палаты, что и отец Аоки. Поэтому-то госпожа Сёда и была дружна с покойным.
Тут Синъитиро вспомнил, что женские журналы часто помещают фотографии этой госпожи, а в газетах появляются о ней заметки. Но поскольку до сих пор это мало интересовало Синъитиро, он никак не мог припомнить имени этой женщины.
Робея, он обратился к студенту:
– Кажется, ее зовут…
– Рурико. Мы прозвали ее «Госпожа Рурико – Небесная Красавица». – И студент рассмеялся.
Предчувствия Синъитиро сбылись – это оказалась Рурико, – и ему захотелось узнать о ней как можно подробнее.
– Значит, отношения госпожи Рурико с Аоки-кун не выходили за рамки дружбы?
– Как бы вам сказать, – ответил студент, – они особенно сблизились в последние полгода. У госпожи Рурико вообще много друзей. Я, например, тоже пользуюсь ее благосклонностью. – Последние слова студент произнес хвастливым тоном: видимо, знакомство со знатной и красивой женщиной очень льстило его самолюбию.
– Значит, она не из патриархальной семьи?
– Разумеется, нет. После смерти мужа, господина Сёхэя, она живет совершенно свободно.
– Разве госпожа Рурико вдова?
– Да. Не прошло и шести месяцев после свадьбы, как муж ее скончался. Сын его от первой жены ненормальный. С госпожой живет его дочь, девятнадцатилетняя Минако. А госпожа Рурико на правах опекунши распоряжается всем домом.
– Вон оно что… Такая молодая, такая красавица, и вышла замуж за вдовца, – пробормотал Синъитиро, все больше и больше удивляясь.
В это время они подошли к остановке на Аояма-иттёмэ, и студент, собиравшийся еще что-то сказать, направился к трамваю, идущему в Сиомати. Тогда Синъитиро поспешно сказал:
– Простите за неожиданную просьбу. Не посоветуете ли, как встретиться мне с этой женщиной? У меня к ней дело.
Студент, видимо, счел просьбу Синъитиро непристойной, усматривая в ней желание волокиты завязать знакомство с красивой женщиной, и чуть заметно усмехнулся, но тотчас же, согнав с лица улыбку, ответил:
– Видите ли, я не знаю, кто вы такой, мне также неизвестны ваши намерения, как же я могу вот так сразу представить вас госпоже Сёде? Впрочем, она не похожа на других женщин и примет вас без всяких рекомендаций. Она живет на Гобантё Кодзимати.
Сказав это, студент легко вскочил в уже тронувшийся трамвай. Синъитиро же продолжал стоять на месте. От этого разговора у него остался неприятный осадок, к тому же ему было стыдно, что он с бесцеремонностью репортера обратился к совершенно незнакомому человеку. Разумеется, ему было необходимо узнать, кто эта женщина, но ведь он мог поступить и иначе, более достойным образом. Однако неприятное чувство мало-помалу сменилось радостным: ведь ему удалось наконец узнать, кто такая Рурико. Возможно также, что именно она – владелица часов, бережно завернутых в платок и до сих пор все еще лежавших у него в кармане. Эти драгоценные часы из платины великолепно гармонировали с обликом блистательной госпожи Рурико. «Она, видимо, сейчас оплакивает погибшего и очень обрадуется, когда увидит эти часы. И, уж конечно, она будет тронута моим приходом, ибо судьбе было угодно сделать меня единственным свидетелем смерти юноши».
Размышляя так, Синъитиро живо представлял себе грациозную фигуру госпожи Сёды.
Тут как раз подошел трамвай, шедший в Кудан и Рёгоку, как бы торопя Синъитиро привести свое намерение в исполнение. На этом трамвае можно было без пересадки доехать до Гобантё Кодзимати.
Когда трамвай, пробежав Акасакамицукэ и Миякэдзака, приближался к Гобантё Кодзимати, в памяти Синъитиро снова всплыл образ прелестной женщины, и Синъитиро, устыдившись, поймал себя на том, что больше думает о красавице, нежели о часах, которые следует вернуть. «Часы лишь предлог, чтобы встретиться с очаровательной женщиной», – упрекнул себя Синъитиро.
Рурико произвела на Синъитиро неотразимое впечатление и заронила в его сердце смутную тревогу. Как ни уговаривал себя Синъитиро, что единственный его долг – вернуть часы их настоящему владельцу, что до госпожи Сёды ему нет никакого дела, все было тщетно. Напротив, чем больше он старался не думать о ней, тем сильнее завладевала она его воображением.
Трамвай прошел мимо английского посольства, сверкавшего в лучах летнего солнца яркой зеленью вишневых деревьев, и теперь из окна виден был густо поросший травой, очень красивый вал императорского дворца.
Доехав до места, Синъитиро торопливо вышел из вагона и увидел длинную и широкую улицу. Это и была Гобантё Кодзимати. Освещенная ярким полуденным солнцем мостовая так блестела, что больно было глазам. У Синъитиро сердце учащенно забилось, и он остановился. Как человек воспитанный, он понимал, что не совсем прилично являться так неожиданно с визитом. Прежде следовало хотя бы испросить позволения прийти в письме. Ну а если бы он получил отказ? Нет, лучше идти прямо сейчас, тогда, по крайней мере, есть надежда ее увидеть. Ведь она только что вернулась с похорон и все ее мысли о покойном. А он, Синъитиро, пришел исполнить его последнюю волю, и госпожа не может его не принять. Синъитиро прошел всю улицу, все прилегающие переулки, но дома с дощечкой, где была бы написана фамилия «Сёда», не нашел.
Проискав добрых полчаса, он вдруг заметил вышедшего из магазина мальчика и спросил, где находится дом Сёды.
– Видите вон тот белый каменный дом? Это и есть дом Сёды-сан, – ответил мальчик.
Кстати, Синъитиро давно обратил внимание на этот дом, еще когда сошел с трамвая, и через несколько минут уже стоял у гранитных ворот, за которыми виднелась обсаженная деревьями аллея, круто вздымавшаяся вверх. В конце аллеи высилось великолепное здание европейского типа, выделявшееся даже среди множества богатых особняков.
Синъитиро никогда не пришло бы в голову, что госпожа Сёда владеет таким роскошным домом, и он, оробев, стоял, смущенный этой роскошью и великолепием. Аллея описывала полукруг, поэтому подъезд, к которому она вела, был скрыт наполовину. Зато хорошо был виден сам дом, выстроенный в готическом стиле, весьма элегантно, но в то же время и монументально. На балконе стояло плетеное кресло. На кресле – подушка огненного цвета, в настежь открытых окнах слегка колыхались от ветра голубые шторы.
«Входить или не входить? – раздумывал Синъитиро. – Лучше, пожалуй, отправить письмо». И он хотел было повернуть обратно. Но в этот момент до него донеслись тихие звуки рояля, и он весь обратился в слух. Это был ноктюрн Шопена, хорошо знакомый Синъитиро, и Синъитиро слушал его, затаив дыхание. Томительно-грустная мелодия проникала в самое сердце. Рояль, казалось, плакал, и звуки лились то медленно и робко, похожие на шепот майского ветра в молодой листве, то звонко и бурно, как ключ, вдруг забивший при голубом лунном сиянии. Капризный, все время меняющийся ритм тонкой паутиной обволакивал сердце Синъитиро. В его воображении возникли порхающие по клавишам белые пальчики, прекрасное гордое лицо, неожиданно открывшееся взорам, когда красавица сбросила черную вуаль. Синъитиро совсем забыл про часы. Сейчас им владело одно-единственное желание: еще раз увидеть эту прекрасную женщину. И он вошел в ворота. Сердце его взволнованно билось. У входа с белыми гранитными колоннами он на минуту остановился. Но в следующий миг палец его уже коснулся кнопки звонка. Звуки рояля здесь слышались гораздо отчетливее. Исполнение было блестящим, и это еще сильнее взволновало Синъитиро. Когда он позвонил, его охватило смутное беспокойство. В этот момент раздались легкие детские шаги, и дверь медленно отворилась. Перед Синъитиро, склонившись в поклоне и улыбаясь, стоял красивый мальчик с серебряным подносом для визитных карточек.
– Я хотел бы видеть госпожу, – обратился к нему Синъитиро, вручая свою визитную карточку.
– Подождите, пожалуйста, – вежливо ответил мальчик и с быстротой белки помчался вверх по лестнице.
Синъитиро проводил его взглядом и, решив про себя: «Жребий брошен», напряженно слушал, как замирают шаги на втором этаже. Музыка прекратилась. Синъитиро с волнением думал о том, что вот сейчас она узнала его имя. Не раздадутся ли снова звуки рояля? Нет, не раздались. Зато снова послышались легкие шаги, и мальчик с милой улыбкой быстро сбежал с лестницы.
– Госпожа спрашивает, по какому вы делу.
При этих словах все сомнения Синъитиро рассеялись, и теперь он был уверен, что непременно увидит ее.
– Я хочу кое-что сообщить госпоже об Аоки Дзюне, – ответил Синъитиро.
Мальчик снова взбежал вверх по лестнице. Но на этот раз долго не возвращался. Синъитиро отчетливо представил себе, как она колеблется, не зная, принять его или не принять.
Прошло несколько минут. Наконец мальчик вернулся и сказал:
– Госпожа просила передать, что принимает только по рекомендациям. Но для вас сделает исключение, поскольку вы явились по делу, касающемуся Аоки-сан. Так что пожалуйте сюда! – и мальчик жестом указал Синъитиро, куда идти.
Чтобы попасть в гостиную, надо было пройти прихожую и зал, где висела большая картина – прекрасная копия с известных «Танцовщиц» Гони.
Паутина любви
Гостиная, очень просторная, выходила окнами в сад и была залита солнцем. На полу – ковер с вытканными по зеленому полю цветами, стол красного дерева, диван и несколько кресел, обитых голубой тканью. Шторы тоже голубые. В сочетании с ослепительно-белыми стенами это создавало впечатление приятной свежести.
Синъитиро сел в кресло спиной к двери и, несколько успокоившись, стал разглядывать убранство гостиной. Здесь было множество картин современных художников, среди них купальщица, стоявшая в прозрачной воде. Эта картина, принадлежавшая перу художника, недавно вернувшегося из Европы, наделала много шума на прошлогодней выставке «Ника». Поместить у себя в доме такую картину могла только женщина передовых взглядов, совершенно независимая. Все, что находилось в комнате: и пепельница, и часы на камине, и ваза с цветами, – свидетельствовало об изысканном вкусе их владелицы.
Звуки рояля больше не доносились до Синъитиро. Но хозяйка все не появлялась. Вообще никто не выходил к Синъитиро, только мальчик-слуга принес ему чашечку чая. Так прошло минут десять. Синъитиро уже стал волноваться. Неожиданно взгляд его упал на висевшее над камином зеркало, в котором он увидел собственное отражение, и в этот самый момент Синъитиро услышал легкий шелест платья. Дверь открылась бесшумно, так что Синъитиро даже не успел подняться с кресла, как в зеркале появилось прекрасное лицо с очаровательной улыбкой.
– Я заставила вас ждать, – сказала женщина Синъитиро просто, будто старому знакомому, – но мне надо было переодеться после похорон.
В ее звонком голосе звучали ласковые нотки, проникавшие в самую душу. Столь дружеское обхождение совсем смутило Синъитиро.
– Прошу простить за неожиданное вторжение, – вставая, взволнованно произнес Синъитиро и покраснел, как мальчик.
Госпожа Сёда была в темно-синем шелковом платье, перехваченном на талии широким поясом с изображением черных и зеленых ласточек. Она медленно опустилась в кресло и сказала:
– Пышные были похороны! Но как ужасно столь неожиданно умереть. Все это кажется сном.
Женщина не произнесла ни одной любезной фразы, как это принято в беседе с незнакомым человеком, а сразу же заговорила дружеским тоном, легко и свободно, не давая Синъитиро вымолвить и слова, не замечая, казалось, его смущения.
– Если я не ошибаюсь, Дзюну-сан было всего двадцать четыре года. Кажется, он родился в год обезьяны[8]. Он, как и я, очень интересовался астрологией! – Женщина рассмеялась.
Постепенно опутываемый тонкой, но цепкой паутиной ее чар, Синъитиро находился в каком-то странном забытьи.
Госпожа Сёда жалела погибшего юношу, но о любви тут не могло быть и речи. Об этом говорили и ее подчеркнуто изящные жесты, и кокетливое выражение лица. Неудивительно поэтому, что Синъитиро был несколько разочарован. По его мнению, эта женщина должна была занимать в жизни юноши какое-то особое место, иначе он не стал бы произносить перед смертью ее имени.
И сейчас, одолеваемый сомнениями, Синъитиро ощущал стыд за то, что принял предсмертный бред юноши за изъявление его последней воли и так легкомысленно явился с визитом к незнакомой женщине. Все приготовленные заранее слова застряли в горле, и Синъитиро пребывал в полном замешательстве.
– Сегодня почему-то я совсем потеряла представление о времени. Когда вспомнила о похоронах, было уже больше трех часов. Я сразу помчалась на кладбище, но все равно опоздала, и мне было очень неловко.
Синъитиро представил себе ее лицо, когда она появилась на похоронах: на нем не было и тени смущения, точь-в-точь как сейчас, когда она вспоминала об этом. И Синъитиро уже в который раз удивился самообладанию и выдержке этой хрупкой на вид, совсем юной женщины.
Синъитиро не знал, как заговорить о деле, с которым он явился, ибо, судя по всему, оно совершенно не интересовало хозяйку.
Наконец, набравшись духу, он робко произнес:
– Я пришел к вам поговорить об Аоки-кун.
Сказав это, Синъитиро взглянул на хозяйку и сразу понял, что его слова не произвели на нее особого впечатления.
– Да-да, – небрежно бросила она, – слуга мне что-то говорил об этом. Что же вы хотели сказать?
С таким же спокойствием она могла бы говорить о спектакле в Императорском театре.
– Я просто не знаю, имеет ли это к вам какое-либо отношение, если нет, заранее прошу извинить.
Синъитиро обращался к госпоже Сёде с почтительностью, достойной королевы. Она же, обмахиваясь веером, со смехом проговорила:
– Я пока не знаю, о чем пойдет речь, но это становится забавным. Говорите, пожалуйста, я вас слушаю! Пусть ваш рассказ не имеет ко мне прямого отношения, я постараюсь извлечь из него какую-нибудь пользу. – И она улыбнулась.
Слушая ее, трудно было понять, шутит она или говорит серьезно.
– Видите ли, – нерешительно произнес Синъитиро, – я не принадлежу к числу друзей Аоки-кун. Мы случайно оказались попутчиками, и я невольно стал свидетелем его гибели.
– А-а… Вы были… – Лицо ее на какой-то миг приняло испуганное выражение, которое тотчас же сменилось равнодушием. – Вот оно что! Какая странная игра судьбы!
Глядя на Синъитиро широко раскрытыми глазами, она старалась произнести эти слова спокойно, но все же не могла скрыть легкого волнения. Это несколько приободрило Синъитиро. Он посмотрел на нее испытующе и сказал:
– Таким образом, совершенно неожиданно я оказался его душеприказчиком.
– Вы слышали его последние слова! Вы! – воскликнула госпожа Сёда на сей раз с нескрываемой тревогой.
Ее тревога обрадовала Синъитиро. Значит, он не ошибся в своих предположениях. И Синъитиро стал рассказывать:
– Газеты подробно писали о происшедшей катастрофе, но некоторые обстоятельства, разумеется, опущены. Тяжело раненый, Аоки-кун жил еще с полчаса. Шофер побежал за доктором, и я остался с умирающим один. В последние минуты своей жизни он вдруг заговорил о часах, которые были у него на руке.
Упоминание о часах госпожа Сёда восприняла с плохо скрываемым волнением и, слегка покраснев, воскликнула:
– Что же он хотел сделать с этими часами?!
– Он просил вернуть их владелице, вернуть во что бы то ни стало, – ответил тоже взволнованный Синъитиро.
– Кому же именно, скажите! – Она снова побледнела. Лицо ее приняло холодное выражение, а красивые глаза были устремлены на Синъитиро в ожидании ответа.
– Этого я уже не узнал, – ответил Синъитиро, избегая ее испытующего взгляда.
Госпожа Сёда сразу успокоилась, и на губах ее заиграла улыбка.
– Значит, он не назвал владельца часов? – с облегчением спросила женщина, теперь уже уверенно и спокойно.
– Я пытался выяснить это, но тщетно, он, должно быть, потерял сознание. Только в последние свои минуты, точно в бреду, он повторял ваше имя. Вот почему я и посетил вас, полагая, что, быть может, вам что-нибудь известно об этих часах.
У Синъитиро словно камень с души свалился, когда он сказал о главной цели своего визита.
– Какой он милый, Дзюн-сан, – с веселой улыбкой произнесла женщина. – Вспомнил обо мне даже в последние минуты жизни. Разрешите, я взгляну на эти часы, разумеется, если они у вас с собой.
От пережитого только что волнения у госпожи Сёды не осталось и следа. Синъитиро вынул из кармана завернутые в платок таинственные часы.
– Часы с виду дамские, – сказал Синъитиро, – только изображение на крышке скорее годится для мужских.
– Может быть, это часы его сестры? – беря у Синъитиро часы, равнодушно спросила госпожа Сёда.
– На них кровь, – сказал Синъитиро. – Но я нарочно не стал ее стирать. При ударе браслет глубоко врезался в руку и поранил ее.
Тонкие брови госпожи Сёды нахмурились. Белая, как слоновая кость, рука, державшая часы, дрожала…
Бледная от волнения, она молча смотрела на часы. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, напустила на себя беззаботный вид.
– Все ясно! – воскликнула она. – Теперь я вспомнила. Я знаю, кто владелица часов, но пока не могу назвать еe имени. Это дочь одного виконта. Никак не думала, что они с Аоки-сан обменялись часами. Должно быть, держали это в секрете. Видно, Аоки-сан не хотел, чтобы его родные узнали об этом даже после его смерти. Вот почему он доверил свою тайну вам, совсем незнакомому человеку. Не исключено, что он хотел вернуть часы девушке, которая дала их ему в знак вечной любви. – Голос госпожи Сёды звучал слабо и неуверенно. Но у Синъитиро не было никаких оснований не доверять ей.
– Я так и думал, что за этими часами кроется какая-то тайна. Тем более мне хотелось бы вернуть их по назначению. Не могли бы вы сообщить мне имя владелицы часов?
– Нет… – задумчиво произнесла она, опустив голову, и обратилась к Синъитиро: – Я сама это сделаю. От женщины ей будет не так стыдно принять эти часы, как от мужчины, тем более незнакомого. Согласны? – И она подкупающе улыбнулась.
Синъитиро ничего не оставалось, как согласиться. Впрочем, он даже был рад, что все так просто решилось.
– Сделайте любезность, верните, – сказал Синъитиро. – Только сообщите, пожалуйста, ее имя. И не думайте, – робко добавил он, – что моя просьба вызвана недоверием к вам.
– А вы, оказывается, тоже охотник до чужих тайн, – со смехом произнесла госпожа Сёда, желая, видимо, избежать дальнейших расспросов. – Вы должны посочувствовать той, которая так неожиданно потеряла любимого человека, и довериться мне, ни о чем не спрашивая. Я принимаю всю ответственность на себя и постараюсь, чтобы душа Аоки-сан обрела мир.
После этого Синъитиро уже ни о чем больше не спрашивал. Но вдруг его одолели сомнения: «А существует ли вообще девушка, о которой она говорит?» Несомненно одно: госпожа Сёда наверняка знает, кому принадлежат часы.
– В таком случае, – сказал Синъитиро, – я оставлю вам часы. Поступайте, как вы сочтете необходимым.
– Отлично! Можете на меня положиться. Я обо всем расскажу ей. Думаю, что она будет вам признательна.
С этими словами госпожа Сёда завернула часы в белый шелковый платок.
Синъитиро испытывал какое-то странное чувство – не то разочарования, не то радости оттого, что наконец избавился от часов.
Когда мальчик принес чашку чая, Синъитиро встал, чтобы попрощаться.
Госпожа Сёда не задерживала его, даже не шевельнулась. Но когда Синъитиро уже был в прихожей, окликнула его. Синъитиро с удивлением обернулся.
– Быть может, вам будет неинтересно, но, пожалуйста, возьмите это! – И она протянула Синъитиро лист бумаги, похожий на концертную программу.
Синъитиро даже не заметил, откуда этот лист вдруг появился у нее в руках. На листе действительно была напечатана программа. К программе прилагался билет на концерт, устраиваемый знатными особами, в том числе и хозяйкой дома.
– Примите в знак нашего знакомства, – с обворожительной улыбкой произнесла госпожа Сёда, – а за внимание я отблагодарю вас особо.
– Спасибо за приглашение, – ответил Синъитиро, пряча билет и программу в карман. – Вы очень любезны.
– Быть может, у вас нет большого желания слушать концерт, но я очень прошу вас прийти! Итак, до встречи на концерте.
Пока Синъитиро шел по дорожке к воротам, он все время чувствовал на себе ее взгляд. Стоя у дверей, она смотрела ему вслед.
Всю дорогу в трамвае Синъитиро находился под властью ее обаяния. Он был, как во сне, плененный ее живостью и ясностью мысли, ее ласковым и в то же время властным тоном. Им овладело неодолимое желание всецело отдаться очарованию этой женщины, так независимо державшей себя с ним.
Но когда над опьянением верх взял рассудок, Синъитиро стало казаться, что в ее поведении проскальзывает фальшь. Почему вдруг она, вначале совершенно равнодушная, вдруг заволновалась, как только речь зашла о часах и о последней воле умирающего? А ее слова о владелице часов, сказанные не сразу, а после некоторого раздумья, да и остальные мелкие подробности? Разве не было в них какого-то обмана? Синъитиро даже пришло в голову, что она просто-напросто выманила у него часы под благовидным предлогом и не собирается их отдавать владельцу.
И Синъитиро будто снова услышал последние слова юноши: «Верните часы!» Тон его был резким, из чего следовало, что речь шла не о возлюбленной.
«Верните часы!» – в устах юноши скорее звучало как: «Швырните их в лицо владельцу». Видимо, всю эту историю про дочь виконта, которую якобы любил погибший, госпожа Сёда просто выдумала.
«Быть может, она вернула себе свои собственные часы?» – мелькнула мысль. Но где найти доказательства? Вторая встреча, если она состоится, не принесет никаких результатов, так же как и первая, потому что Синъитиро не сможет выйти из-под власти ее красоты и обаяния. Он, как мотылек, попал в сотканную ею паутину, она делала все, что ей было угодно, и даже выманила у него часы. Как досадовал Синъитиро на себя за свою слабость! Он решил во что бы то ни стало проникнуть в тайну часов.
И тут в голову ему пришла мысль о записной книжке, которую юноша просил бросить в море.
Книжка все еще лежала в чемодане. Синъитиро не удалось бросить ее в море, и он решил сжечь ее или изорвать. Но до сих пор так ничего и не предпринял. Прочесть – значило нарушить последнюю волю покойного. Но Синъитиро не знал другого способа раскрыть тайну часов.
«Раз он доверил мне часы, – размышлял Синъитиро, – то наверняка позволил бы заглянуть и в эту книжку».
Таким образом желание узнать тайну часов и госпожи Рурико заглушило угрызения совести, и Синъитиро открыл чемодан, к которому еще не прикасался с того самого дня, как возвратился в Токио. Он с опаской взял записную книжку, испытывая при этом возбуждение, как кладоискатель, напавший на след заповедного сокровища, робко открыл ее и стал листать. Каково же было его разочарование, когда он обнаружил, что никаких записей там нет. Синъитиро почувствовал себя обманутым, но продолжал листать и только на последней странице увидел совсем еще свежую запись: казалось, даже чернила не успели высохнуть. С сильно бьющимся сердцем Синъитиро жадно пробегал глазами строку за строкой, написанные неровным почерком, с ошибками.
Чувствовалось, что писал их юноша в глубоком волнении.
«Она паук, но паук очаровательный. Я мучился от своей любви и безграничной страсти, словно мотылек, попавший в раскинутую ею паутину, но это лишь забавляло ее. Она взирала на свою жертву с жестокой радостью. В феврале этого года в знак своей любви она подарила мне часы. Сняв их со своей мраморной руки, она сама надела их на мою руку. Она сказала, что эти часы – самое дорогое для нее. Безгранично веривший в чистоту ее сердца, я был счастлив и носил эти часы тайком, ибо полагал, что я ее единственный избранник. Я был уверен, что завладел еe сердцем. Но она разбила и мою уверенность, и мое сердце, и с какой жестокостью, с каким дьявольским сарказмом!
Вчера я ожидал ее возвращения в саду ее дома вместе с капитаном первого ранга Мураками. Вдруг я заметил, как капитан, приподняв рукав, посмотрел на часы. Они были как две капли воды похожи на мои. Я попросил показать их мне. Каково же было мое удивление, когда я внимательно разглядел их! Только присутствие капитана помешало мне вскрикнуть от неожиданности. Моя рука, державшая его часы, задрожала.
– Где вы их купили? – спросил я.
– Я их не покупал. Это подарок одной особы, – невозмутимо, с самодовольным видом ответил капитан, чем вызвал у меня прилив жгучей ненависти.
Эти часы нисколько не отличались от моих ни своим рисунком, ни величиной врезанных в крышку бриллиантов: неужели у нее много таких?!
В бешенстве я готов был разбить часы капитана о камень. Но капитан, как бы не замечая моего волнения, сказал:
– Ну, как? Не правда ли, удивительный рисунок? По-моему, это вещь редкостная!
На мужественном лице моряка продолжала играть самодовольная улыбка. Чтобы сбить с него спесь, мне захотелось поднести к его носу свои часы, но я тут же подумал, что капитан ни в чем не виноват. По ее милости мы разыграли глупую и в то же время жестокую комедию.
Я решил швырнуть ей свои часы в лицо, как только она вернется. Но на мои упреки в вероломстве она ответила мне оскорблением, унизила меня. Она играла мною как игрушкой! И я молча стоял не в силах произнести ни слова, дрожал от обиды и ненависти. Если бы у меня хватило решимости одним ударом разбить ей сердце! Увы! Чтобы забыть ее, я покинул столицу. Но все мои старания оказались тщетными, ее образ преследует и мутит меня…»
Здесь запись обрывалась, а немного отступя была продолжена. Только почерк стал еще неразборчивее.
«Не в силах ее забыть! Воспоминания как змея жалят сердце. Я ненавижу ее, но мысль о ней не покидает меня ни на минуту. Я испытываю муки ада, стоит мне представить, как она дарит обольстительные улыбки своим многочисленным поклонникам. Чтобы забыть, надо уничтожить ее или себя».
Немного дальше шла еще одна запись:
«Да! Я покончу с собой и покажу, как опасно играть с любовью! Собственной кровью я окрашу ее лицемерный подарок! Пусть проснется в ней совесть, если она еще не потеряла ее!»
Все это Синъитиро прочел с глубоким волнением. Юноша как будто бы погиб случайно, и в то же время его гибель можно было считать настоящим самоубийством. Из города в город метался он в поисках смерти и своей трагической гибелью отомстил легкомысленной красавице.
Но пробудит ли в ней совесть его кровь? «Верните часы!» следовало понимать, как «Швырните их ей в лицо!». Но кто эта таинственная «она»? Мадам Рурико или другая женщина? Юноша хотел, чтобы ей не просто возвратили часы, а, возвращая их, отомстили за него, чтобы швырнули эти часы ей в лицо.
Но кто же все-таки она?
Случай на празднике
– Ах, осторожнее! – то и дело восклицали одетые служанками гейши в красных передниках, окружавшие Сёду Сёхэя. От выпитого шампанского Сёда нетвердо держался на ногах. Компания поднималась на холм в середине громадного сада. На холме пышно цвели махровые вишни, напоминая о близком конце весны.
С холма можно было окинуть взором залитый горячим солнцем сад с горками и лужайками, небольшим прудом с чистой, прозрачной водой и множеством изящных беседок. Публика здесь была самая изысканная: мужчины в элегантных визитках и фраках, женщины в нарядных кимоно. По аллеям разносились звуки флейт и японских бубнов. Под молодыми соснами расположился юношеский оркестр Мицукоси, игравший веселые и бодрые мотивы. Хёсиги[9] возвестили начало балетного номера, который должны были исполнить юные артисты из труппы Итимура, и женщины живописными группами направились к устроенной в саду открытой сцене.
При виде этого великолепного зрелища на губах Сёхэя заиграла самодовольная улыбка.
«На мое приглашение откликнулось избранное столичное общество, все видные представители финансового мира и аристократии – банкиры, графы и князья, почти все именитые люди столицы. И все это благодаря моему общественному положению и имени».
Сёда мысленно оглянулся на три прошедших года, принесшие ему такое богатство, какое может только присниться.
Перед Великой войной Сёхэй был скромным экспортером в Кобэ. Начало его коммерческим успехам положило приобретение парохода. С большим риском и беря в долг где только можно, Сёда покупал один пароход за другим. И эти пароходы, словно сказочные лебеди, которые несут золотые яйца, стали приносить ему огромные прибыли. За три года Сёхэй превратился в богача с десятимиллионным состоянием. Это позволило ему расширить круг знакомств и связи. Те, кто прежде не замечал Сёду, теперь заискивали перед ним. Государственные деятели, финансисты и крупные промышленники, некогда казавшиеся ему неприступными, сейчас сидели с ним за одним столом. На каждом шагу он чувствовал могущество денег. Даже в обществе гейш, за чашкой сакэ, Сёда видел, как велика власть золота.
Имея деньги, можно получить все, чего ни пожелаешь. Этот роскошный сад, один из красивейших в столице, куплен им за пятьсот тысяч иен. По случаю переезда в новый особняк и был устроен сегодняшний праздник. На его устройство Сёда затратил огромную сумму из расчета сто с лишним иен на каждого приглашенного. В звуках флейт и бубнов, в веселом смехе гостей, распивающих пиво, – словом, во всем Сёхэй чувствовал преклонение перед собственным богатством. Да, все это сделали деньги! Их могущество безгранично.
– Какое великолепие! – произнес подошедший к нему гость, слегка пошатываясь и высоко держа бокал с пивом. Это был Савада, его земляк, депутат Нижней палаты. Все его расходы по выборам, как и расходы некоторых других депутатов, оплачивал Сёхэй.
– Спасибо! – надменно ответил Сёхэй, а про себя подумал: «Вот еще один, которого можно купить за деньги».
– Как много гостей! И все люди в высшей степени интересные. Даже старый маркиз Мацуда здесь! Позавчера я был на приеме в английском посольстве, но их раут не идет ни в какое сравнение с вашим праздником. Один сад чего стоит! – Савада льстил без всякого стеснения.
– И день, слава богу, выдался прекрасный! – Сёхэй ответил небрежно, но в каждой нотке его голоса звучала радость.
– Этот сад поразителен! Старые кедры на берегу пруда придают ему величественный и даже несколько таинственный вид. Другого такого сада в Токио нет. Так что пятьсот тысяч иен за него совсем недорого. – Сказав это, Савада допил пиво, и его полное белое лицо покраснело до самых ушей. Он подошел к Сёхэю и взял его за локоть. – Пойдемте же к гостям! Хозяин не должен прятаться! Кстати, вас искал лидер нашей партии, хотел засвидетельствовать вам свое почтение.
Савада попытался было увлечь за собой Сёхэя, но тот отказался:
– Нет, погодите. Я на ногах с часу дня, все время встречаю гостей и очень устал. Да к тому же еще выпил шампанского… Чуть-чуть отдохну и приду.
С этими словами Сёхэй быстро высвободил руку. От неожиданности депутат покачнулся и сделал несколько неверных шагов.
– В таком случае мы еще увидимся! – сказал он и стал спускаться вниз, пошатываясь и размахивая рукой с пустым бокалом.
У подножия холма стоял киоск с закусками и прохладительными напитками для гостей. К нему-то и направился Савада.
Все гости устремились к местам увеселений, и на холме, где стоял Сёхэй, осталось всего несколько человек. Гейши тоже ушли, едва услышав звуки хёсиги.
Оставшись один, Сёхэй почувствовал облегчение и, сидя на белой фарфоровой тумбочке, наслаждался отдыхом. Сердце его было преисполнено самодовольства и гордости. Он бездумно смотрел сквозь ветви расцветших вишен на голубое прозрачное небо, когда вдруг до него донесся молодой голос:
– Здесь нет никого. Идите скорее!
Оглянувшись, Сёхэй заметил стройного юношу в студенческой форме, который, глядя вниз, делал кому-то знаки рукой. Видимо, это был сын одного из гостей. Сёхэй видел его впервые. Юноша, конечно, не предполагал, что хозяин дома мог оказаться в таком уединенном месте. Он вынул носовой платок и стал смахивать пыль с одной из фарфоровых тумбочек.
– Ах, как мне надоела эта толкотня! – послышался снизу девичий голос.
– На таких праздниках иначе не бывает. А как вам нравится эта давка у киосков? Смотреть противно! – отозвался юноша.
В это время кто-то стал подниматься по холму.
Сёхэй, обиженный словами юноши, сердито взглянул на него. Но тут он заметил головку с ровным пробором, потом овальное, белое как мрамор личико и, наконец, стройную фигурку.
Девушке было на вид лет восемнадцать-девятнадцать. Ее тонкую, изысканную красоту оттеняли цветущие вишни, под которыми она стояла.
Кимоно сиреневого цвета было вышито разноцветными полосами, яркими на груди и постепенно бледневшими книзу. Ближе к краю кимоно было искусно заткано цветами буковицы. На шелковом поясе с тиснеными павлинами блестела застежка из крупного жемчуга.
– Вы устали? Садитесь! – предложил юноша, указывая на фарфоровую тумбочку, с которой он только что смахнул пыль.
Девушка села и, поглядывая снизу вверх на продолжавшего стоять юношу, сказала:
– Нечего было сюда приходить! Но отец так просил…
– Я тоже пришел ради сестры. Эта толкотня действует мне на нервы. К тому же в саду, который считается одним из красивейших в столице, я не нахожу ничего особенного или оригинального. Все так безвкусно! Взгляните, к примеру, на эту беседку! С какой претензией она сделана!
Молодым людям и в голову не могло прийти, что устроитель сегодняшнего праздника и хозяин этого сада находится совсем рядом. Поэтому они как ни в чем не бывало продолжали начатый разговор.
– Он думает, что главное – истратить побольше денег, и тогда все будет прекрасно, – говорила девушка с едкой иронией, так не вязавшейся с ее нежной красотой.
– Вот именно! Так называемые нувориши лишены какого бы то ни было вкуса. Для них главное – деньги. Чем дороже вещь, тем она лучше, думают они. Говорят, что хозяин затратил на каждого приглашенного не то пятьдесят, не то сто иен. Но посмотрите, сколько во всем вульгарности! – с презрением продолжал юноша.
Сёхэй так и кипел от злости. Первым его побуждением было выгнать вон дерзкого мальчишку, и Сёхэй невольно пощупал мускулы на руках, ставшие крепкими еще в те времена, когда он молодым приехал в Токио и занялся тяжелой физической работой. Лишь мысль о том, как высоко вознесся он по общественной лестнице, доставившая ему сегодня столько приятных минут, удержала его от этого намерения. С трудом подавляя в себе раздражение, Сёхэй продолжал слушать.
– Газеты с восхищением описывают роскошную жизнь нуворишей. Но как скучна эта жизнь, которая зиждется только на деньгах. Они развлекаются с женщинами, приобретают автомобили, особняки, строят дома, собирают редкостные коллекции, в которых ровно ничего не смыслят, – вот и все! Редко случается, чтобы кто-нибудь из них пожертвовал толику своего богатства в благотворительных целях. Одни материальные блага не могут принести счастья. Как только им не надоели эти продажные гейши!
Юноша с таким жаром ругал нуворишей, словно это были его личные враги.
– Вряд ли им когда-нибудь надоедят гейши. Для этого они должны были бы чувствовать так же тонко, как вы. Они же слишком тупы и, пожалуй, не очень-то нуждаются в разнообразии развлечений, – сказала она, презрительно улыбнувшись.
– Ваши слова более метко попадают в цель, чем мои! – И оба они, переглянувшись, рассмеялись.
Лицо молча слушавшего их Сёхэя потемнело от гнева.
Молодые люди же, не подозревая о том, какое сильное впечатление произвел их разговор на Сёхэя, продолжали непринужденно беседовать.
– И все же не очень-то благородно с нашей стороны пользоваться его гостеприимством и его же осуждать, – мягко заметила девушка, играя маленьким веером из слоновой кости и поглядывая на юношу.
– То, что мы говорили, сущий пустяк, о них можно сказать куда больше, – нахмурив брови, ответил юноша со смуглым мужественным лицом. – Да и наши аристократы хороши! То кичатся древностью своего рода, то своим титулом, что, в сущности, не прибавляет им ни на йоту достоинства. Они необычайно высокомерны. В любом человеке не своего круга видят либо торговца, либо простолюдина. В то же время заискивают перед всякими разбогатевшими выскочками. Взять, к примеру, моего отца. Я и не заметил, когда он успел подружиться с некоторыми из этих типов. На днях отцу предложили вступить в какое-то их общество, и предложение показалось ему столь лестным, что он пришел в восторг. Я же, разумеется, наговорил ему дерзостей.
– Ну вот, вы уже добрались до собственного отца.
– Ваш отец в этом отношении безупречен, – сказал юноша. – Он может служить примером для остальных – честен и не стыдится бедности.
– У него это превратилось просто в болезнь, – с легкой грустью отвечала девушка, потупившись. – Лет ему много, но он ни разу не изменил своим привычкам.
– Разве это привычки, – как бы утешая девушку, сказал юноша, – целых тридцать лет отстаивать свои убеждения в Верхней палате и защищать страну от крайностей узкопартийных правительств?
Сейчас в голосе юноши уже не было той горячности, с которой он говорил о нуворишах. Разговор незаметно перешел на философские темы, а потом оба они умолкли. Юноша пододвинул тумбочку и сел рядом с девушкой.
Налетел теплый ветерок, и с махровых вишен дождем посыпались нежно-розовые лепестки.
Сёхэй хотел незаметно уйти, но счел это для себя унизительным и, подавляя негодование, слушал резкие слова юноши. Еще несколько минут назад он думал, что все гости преклоняются перед его богатством, может быть, завидуют и, уж во всяком случае, трепещут перед могуществом его золота. Ведь все эти сановники и аристократы, во главе с маркизом М., адмиралы, генералы, сам премьер-министр и банкиры, представители различных фирм, ученые, священники, боксеры, артисты – все они явились сюда только потому, что признают силу его денег. А эти зеленые юнцы, до которых ему нет, в сущности, никакого дела, пусть даже они отпрыски высокопоставленных родителей, не зная его лично, в его же саду осмеливаются не только критиковать его жизнь, но еще и презирать его деньги, которые он, не видя перед собой иной цели, с таким трудом скопил. Но им, видно, мало осуждать его образ жизни, они еще посягают и на его достоинство.
В этот момент Сёхэй походил на раненого зверя. С перекошенным от злобы лицом он смотрел на молодых людей, потом процедил сквозь зубы:
– Еще одно слово, и я вам покажу.
Но юноша и девушка перешли на шепот, опасаясь, как бы кто-нибудь их не услышал.
Тут Сёхэй, который совсем уже было собрался подойти к ним, несколько поостыл, но уйти ему по-прежнему мешала гордость, и он стоял, не двигаясь с места и гневно наблюдая за ними.
Прислушиваясь к разговору молодых людей, Сёхэй не разглядел как следует их лиц и сейчас стал внимательно к ним присматриваться. И чем больше он смотрел, тем сильнее поражался. В лице юноши сквозили энергия и ум; девушка была сама женственность и благородство. Такой целомудренной красоты Сёхэй даже во сне не видел.
Ни одна из гейш, чью любовь он покупал за деньги, не шла с этой девушкой ни в какое сравнение, как искусственный цветок с живым, как поддельный жемчуг с настоящим. Но все искусственное способно прельстить только раз, а потом приедается. Эта же девушка была свежа и чиста, словно полевой цветок, сверкающий серебристой росой, словно редкостная жемчужина, созданная самой природой и добытая из морских глубин, от которой невозможно оторвать глаз.
И возможно, именно поэтому ее слова показались Сёхэю особенно обидными, тем более что улыбки и взгляды, которыми обменивались молодые люди, полны были неизбывной нежности и любви.
И теперь к гневу Сёхэя прибавилось чувство острой ревности.
Его уверенность в могуществе денег поколебалась.
Разве мог он с их помощью обрести счастье, выпавшее на долю этим двоим? Купить улыбку, нежную и чистую, вот как у этой девушки, а не кокетливую и фальшивую.
Неудивительно, что юноша так поносил Сёхэя и его богатство. Ведь он счастливее Сёхэя, и свое счастье он обрел, а не приобрел за деньги. Да, в словах юноши Сёхэю открылась горькая правда, и от этого он разъярился еще сильнее, словно доведенный до исступления бык на арене. Забыв о своем высоком положении, он потерял над собой контроль и, сжимая огромные кулаки, готов был броситься на юношу.
– Возьмите что-нибудь в киоске! Вы ведь в гостях!
– Принимая угощение от людей подобного сорта, можно запятнать свою совесть.
Это была шутка, но для разъяренного Сёхэя она явилась искрой, попавшей в бочку с порохом, и он в бешенстве поднялся со своего места.
Как раз в этот момент молодые люди собирались спуститься с холма, когда вдруг услыхали, что кто-то их окликнул:
– Погодите! – Голос у Сёхэя дрожал.
Юноша оглянулся и, увидев незнакомого ему человека, равнодушно спросил:
– Что вам угодно?
Девушка тоже оглянулась и слегка нахмурила тонкие брови, как бы упрекая Сёхэя за то, что он нарушил их уединение.
– Простите, – прерывающимся от возбуждения голосом ответил Сёхэй, переводя дух, – я просто хотел поздороваться с вами.
Молодые люди смотрели на него с нескрываемым удивлением.
– Я уже всех поприветствовал, а вас не успел, вы, очевидно, пожаловали позже. Благодарю вас за честь, которую вы оказали мне своим посещением. Разрешите представиться: я хозяин этого дома Сёда Сёхэй. – И, сказав это, Сёхэй вежливо поклонился, хоть руки у него сильно дрожали.
Юноша и девушка побледнели, но нисколько не растерялись.
– Ах, вот оно что! – сказал юноша. – Я должен поблагодарить вас за любезное приглашение и тоже представиться. Я сын хорошо вам известного Сугино Тадаси, а эта девушка – дочь барона Карасавы.
Юноша хоть и был бледен, но говорил очень спокойно, с холодной вежливостью. Девушка тоже без тени смущения, скромно поклонилась Сёхэю.
– Мне посчастливилось случайно услышать ваш разговор, – сказал Сёхэй. – О, нам, людям состоятельным, он мог бы пойти на пользу. – Сёхэй хотел расхохотаться, чтобы показать свое превосходство, но из горла у него вылетели какие-то хриплые звуки.
Узнав, что Сёхэй все слышал, юноша сильно смутился, но тут же взял себя в руки и спокойно ответил:
– Простите мне мою невольную невежливость. Я имел неосторожность высказать здесь свои взгляды, о чем весьма сожалею и приношу вам свои извинения, хотя убеждений своих менять не собираюсь.
Юноша холодно усмехнулся.
Сёхэй полагал, что, увидев его, юноша растеряется и станет каяться, но ошибся в своих предположениях. Напротив, он сам спасовал, почувствовал в юноше превосходство и от этого пришел в еще большую ярость.
– В молодости, – сказал Сёхэй, – я тоже презирал деньги, как и многие. Только потом вы поймете, какую огромную роль играют они в нашей жизни.
Слова эти Сёхэй произнес нарочито высокомерным тоном, однако на юношу они не произвели ни малейшего впечатления.
– Я думаю совсем иначе, – сказал он. – Не потому ли стремятся люди к наживе, что неспособны к интеллектуальному труду? Увлеченного своей деятельностью человека еще можно понять, но какой смысл копить деньги ради самих денег и после кичиться ими?
И юноша, и Сёда Сёхэй, позабыв о правилах хорошего тона, вступили в настоящий словесный поединок, и оба побледнели от волнения.
– Вы можете думать, как вам угодно, – говорил Сёхэй, – но теории обычно далеки от жизни и от тех представлений, которые создали себе о ней многие молодые люди. Наступит время, и вы поймете, как грозна сила денег, непременно поймете!
Сёхэй умолк, плотно сжав свои толстые губы, зло блестя глазами. Но когда он перевел взгляд на девушку, неподвижно стоявшую рядом с юношей, сердце у него неприятно заныло, такое он прочел на ее прекрасном лице отвращение.
Не дав своему спутнику продолжать разговор, девушка сказала:
– Хватит спорить. Мы напрасно пришли сюда. У нас свои взгляды, у этого господина – свои. Каждый судит о жизни на основании собственного опыта. Поэтому нам лучше уйти, хотя, может быть, это и не очень вежливо.
Решительный тон, которым все это было сказано, еще сильнее оскорбил Сёхэя. Видимо, девушка вообще не считала нужным объясняться с людьми подобного рода.
Юноша же, устыдившись, что ведет себя, как ребенок, обратился к Сёхэю:
– Прошу извинения за излишнюю резкость! – и, даже не простившись, стал вместе с девушкой торопливо спускаться с холма.
Оставшись неотомщенным, Сёхэй испытывал сильную досаду и, глядя вслед молодым людям, думал о том, с какой легкостью юноша одержал над ним победу. Да, Сёхэй был очень недоволен собой, ибо потерпел полное поражение и чувствовал себя опозоренным.
И тут все показалось ему нелепостью: и нынешнее торжество, на которое ушло свыше пятидесяти тысяч иен, и восторг, вызванный обилием высокопоставленных гостей. Какие-то желторотые птенцы вконец испортили ему настроение! В сердце Сёхэя кипела бессильная злоба и росло стремление отомстить за поруганную честь.
«Я проучу этого наглеца, пусть на собственной шкуре испытает силу презираемых им денег. Да и девчонка, дерзнувшая вступиться за него, будет меня помнить».
Приняв такое решение, Сёхэй ощутил прилив сил. Отец юноши, виконт Сугино Тадаси, и отец девушки, барон Карасава, принадлежали к обедневшим аристократическим фамилиям и не могли бы тягаться с ним, Сёдой Сёхэем, поэтому унизить их не представляло никакого груда. Но как отомстить этим юнцам, в сущности, еще школьникам? В этот момент он живо представил себе нежно беседовавших влюбленных, робко улыбавшихся друг другу, и в голове его молнией мелькнула дьявольская мысль, постепенно овладевшая всем его существом.
Солнце еще высоко стояло в небе. Гости разбрелись по саду, наслаждаясь прекрасной погодой и разнообразными увеселениями. Лишь сам хозяин пребывал в мрачном состоянии духа. Он обдумывал свой коварный план, когда вдруг послышались веселые женские голоса:
– Ах, вы все еще здесь? А мы везде вас искали. – Это вернулись гейши. – Ну, пойдемте к гостям! Они давно ждут вас! – И гейши увлекли Сёхэя за собой.
– Ладно, пошли выпьем!
И Сёхэй послушно последовал за гейшами к своим важным гостям, сейчас уже утратившим для него всякий интерес.
Отцы и дети
«Опять отец с братом поспорили», – подумала Рурико, закрывая английский перевод «Отцов и детей» Тургенева и прислушиваясь к повышенному голосу отца.
Извечный спор между отцами и детьми, иными словами, борьба нового со старым, словно проклятие, тяготела не только над Россией и Западной Европой второй половины XIX века, но, как чума, незаметно проникла и в Японию, поражая и низшие, и высшие сословия.
Между человеком за пятьдесят и двадцатилетним юношей лежит целая пропасть. Одного тянет на север, другого – на юг. Один говорит «да», другой «нет». Тем не менее отцы, пользуясь своей властью и возрастом, обычно стараются подчинить себе молодых. На этой почве и разыгрываются семейные драмы.
Рурико не осуждала ни отца, ни брата.
Брат легко сошелся бы с отцом во взглядах и перенял бы его образ мыслей, если бы родился и воспитывался в одно время с ним. Но брат родился в другое время, поэтому и взгляды у него другие, созвучные эпохе, как и у остальных его сверстников.
И отец и брат правы каждый по-своему, поэтому спорам их не будет конца. Их рассуждения и доводы идут по параллельным, никогда не пересекающимся линиям.
После смерти матери в прошлом году члены семьи, казалось бы, должны стать дружнее, чтобы легче переносить тяжелую утрату. Но все получилось как раз наоборот.
Мать, когда была жива, всегда мирила отца с братом, теперь же мирить их было некому, и они ссорились все чаще и чаще…
– Что за вздор ты несешь! – хриплым и резким голосом кричал отец, швыряя в раздражении все, что попадалось под руку.
В подобных случаях сердце Рурико сжималось от боли. Так было и на этот раз. «Наверное, отец опять нашел у брата краски, – думала девушка, – и в сердцах разбрасывает их по комнате».
Тут, словно в подтверждение ее мысли, до нее донесся звук разрываемого полотна. Рурико не выдержала и, дрожа, закрыла руками лицо.
Ей было больно, что отец так пренебрежительно относится к искусству, не делая никакого различия между художником и ремесленником, рисующим вывески, и презирая живопись как занятие низкое. Он строго-настрого запретил сыну даже прикасаться к краскам, угрожая в случае непослушания выгнать его из дому. Но сын тайно посещал курсы живописи и ходил в окрестности рисовать с натуры, считая искусство единственно достойным занятием. Было поистине трагично, что отец с сыном, самые близкие, казалось бы, люди, совершенно не понимали друг друга.
Между тем в кабинете брата, где происходил спор, вдруг стало тихо. Рурико заволновалась: не случился ли с отцом удар, и пошла взглянуть.
Неслышно ступая, с сильно бьющимся сердцем Рурико подошла к дверям кабинета и, затаив дыхание, заглянула в окно, выходившее в коридор. Тут глазам ее представилась уже знакомая картина: высокий, худощавый отец, откинув назад голову, гневно смотрит на брата. Продолговатое лицо его бледно. Руки, которыми он уперся в бока, дрожат. Брат стоит напротив отца. От возмущения он бледнее обычного.
Не только по своим взглядам, но и по темпераменту отец с сыном были совершенно разными и только собственные убеждения отстаивали с одинаковым упорством, отчего споры их становились еще бесплоднее.
По всей комнате были разбросаны тюбики с красками. У ног отца лежал большой подрамник. Полотно было разрезано ножом, так что нарисованная на нем женская головка выглядела изуродованной.
От этого зрелища у Рурико на глаза навернулись слезы, и она стала горячо молиться о том, чтобы отец с братом помирились.
Но увы! Их молчание было как затишье перед еще более грозной бурей. Брат, художник по призванию, задетый за живое деспотичностью отца, не собирался упрямо молчать, как это он делал обычно, поскольку отец довел его до крайности.
– Подумай, болван, что из тебя получится, если ты вечно будешь возиться со своими красками, – с горечью произнес отец, слегка изменив позу.
– Нечего мне об этом думать, – парировал сын. – Живопись – занятие, вполне достойное порядочного человека.
– Что за вздор! – с яростью воскликнул отец. – Посвятить свою жизнь дурацкой мазне? Скуки ради этим еще можно заняться, и то от нечего делать. Не будь ты наследником дома Карасавы, поступал бы, как тебе вздумается. Но ты мой наследник и не вправе распоряжаться своей судьбой. Не к лицу Карасаве быть каким-то там рисовальщиком.
Отец снова перешел на крик и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
Рурико невольно вспомнила, как жестикулировал отец, произнося свои обличительные речи в Верхней палате, и ей стало жаль его, ибо эту свою речь ему пришлось адресовать собственному сыну.
– Подумай о том, что целых тридцать лет твой отец боролся в парламенте за свои идеи! И тебе следовало бы считать для себя честью продолжать дело всей моей жизни. Или, может быть, ты забыл прошлое нашей семьи и оскорбление, нанесенное твоему деду?
Все это отец обычно говорил в минуты сильного гнева. Говорил горячо и убежденно. Но сын оставался равнодушен к его словам.
Предки барона Карасавы были мелкими феодалами с доходом в тридцать тысяч коку[10].
Однако род их был известен еще во времена всесильного феодала Асикаги. Их дед, живший в эпоху реформ Мэйдзи, принадлежал к числу сторонников Микадо, но был оклеветан людьми из Сацумы и Тёсю, заклеймен позором как изменник и, не снеся позора, вскоре умер. Перед смертью он завещал сыну отомстить за него. Барон Карасава свято чтил последнюю волю отца и в течение тридцати лет неустанно боролся с правительством, образованным из бывших самураев Сацумы и Тёсю, видя в этом цель всей своей жизни.
Сын же барона нимало этим не интересовался. Куда больше его трогала девственная прелесть полевого цветка или причудливый изгиб морского берега. Менялось время, менялись люди. И теперь представителей разных поколений связывали только кровные узы.
– Что же ты молчишь? – настойчиво обратился к сыну барон, этот возродившийся в Японии эпохи Тайсё король Лир.
– Что бы вы ни говорили, отец, – брат медленно поднял голову, – политикой я интересоваться не стану. Тем более что презираю современный парламентский строй. Поэтому кончать юридический факультет, как вы мне это постоянно советуете, у меня нет ни малейшего желания. – Брат говорил спокойным и решительным тоном. – Со временем вы поймете, что живопись занятие вполне достойное, уверен, что докажу вам это. А сейчас прошу об одном: наберитесь терпения и подождите немного.
– Перестань! – с досадой произнес отец. – Я слушать тебя не желаю! Разве можно считать живопись… – От гнева он не мог подобрать нужного слова и умолк.
– Вы никак не хотите меня понять, отец! – тоже с досадой ответил брат.
– Да тебя просто невозможно понять! – Руки отца еще сильнее задрожали.
Две-три минуты прошли в молчании, когда оба они, подобно врагам, стояли друг против друга, после чего отец снова обратился к сыну:
– Коити!
– В чем дело?
– Надеюсь, ты не забыл нашего разговора в день Нового года?
– Я очень хорошо его помню.
– Почему же в таком случае ты до сих пор не покинул моего дома?
Брат вспыхнул, и тотчас же мертвенная бледность покрыла его лицо.
– Вам угодно, чтобы я ушел? – Юношу била дрожь.
– Я ведь ясно сказал, что не позволю тебе оставаться в моем доме, если ты еще хоть раз прикоснешься к краскам. Раз ты не хочешь, чтобы я вмешивался в твои дела, тебе остается лишь уйти отсюда.
По тону, каким были сказаны эти слова, чувствовалось, что отец не изменит своего решения.
Сердце Рурико разрывалось от боли. Она понимала, что о примирении не могло быть и речи. Случилось то, чего Рурико больше всего боялась.
– Хорошо, – сказал брат. – Будет так, как вы хотите, я покину ваш дом. – И он стал лихорадочно подбирать разбросанные по комнате краски. Затем, порывшись в ящиках своего письменного стола, взял записные книжки, молча поклонился отцу и бросился к двери.
Но в эту минуту, вне себя от ужаса, в комнату вбежала Рурико и, прежде чем отец успел опомниться, схватила брата за руку, стараясь удержать его:
– Ний-сан[11]! Подождите!
– Пусти, Рурико! – Брат вырвался и сбежал с лестницы так быстро, что ступеньки под ногами у него заскрипели.
– Ний-сан! Подождите!
Рурико побежала за братом, чтобы вернуть его, но успела лишь заметить, как он, с непокрытой головой, скрылся за воротами.
Рурико не выдержала и зарыдала. Слезы градом катились по щекам.
После смерти матери их осталось трое: отец, брат и Рурико. Семья быстро беднела, и число слуг сокращалось. Теперь в доме жила всего одна старая преданная служанка со своим мужем. А тут еще брат ушел!
С отцом он не ладил, как не ладят огонь с водой, зато с Рурико они были друзьями. Смерть матери сблизила их еще больше, потому что Рурико была единственной, кто понимал Коити. Сестра тоже у него одного могла найти сочувствие и поддержку.
Рурико было жаль и отца, и брата. Но о брате она беспокоилась больше: ведь он покинул дом, не взяв с собой ни единой вещи. Рурико тешила себя мыслью, что он рассудителен и вряд ли с ним может случиться что-то ужасное, но заработать себе на жизнь брат не мог. Он вырос хоть и в обедневшей, но старой аристократической семье и не сумел бы дня просуществовать самостоятельно.
«Он вернется, – продолжала успокаивать себя Рурико, утирая слезы. – Поостынет и вернется. А сейчас он, должно быть, у тетки в Адзабу».
Тут Рурико вспомнила об отце и с тревогой поспешила к нему.
Отец все еще оставался в комнате брата. Он устало опустился на стул и сидел с жалким видом, понурив голову. Глядя на него, Рурико не могла сдержать слез. Она вдруг заметила, как сильно поседел за последнее время отец, как глубоко ввалились у него щеки, и сердце ее сжалось от боли. Ему трудно было теперь говорить из-за недостающих зубов, и он часто жаловался на это. И, конечно, для него было настоящей трагедией, что родной сын равнодушен к тем идеалам, которым он посвятил всю свою жизнь. Не в силах произнести хоть слово, Рурико, словно подкошенная, упала на пол и, закрыв руками лицо, зарыдала.
Это, видимо, подействовало на старика, и со щеки его скатилась скупая слеза.
– Рурико! – едва слышно позвал он ее.
– Что, отец? – сквозь слезы откликнулась Рурико.
– Он… ушел? – В голосе отца звучала глубокая любовь к сыну.
– Да, отец, – ответила Рурико.
– Ну и пусть! Не хочет считаться со мной – не надо. Отныне он мне больше не сын. Он чужой мне, как любой прохожий на улице, хотя в нас течет одна кровь. Вот ты, Рурико, поняла бы отца, не изменила бы моим идеалам, не разбила бы моих надежд. Жаль, что не ты родилась сыном. – Отец старался говорить спокойно, но ему трудно было скрыть горечь и волнение.
Рурико ничего не ответила.
Отец не напрасно жалел, что Рурико не родилась мужчиной, ибо волей и темпераментом она не уступала ни брату, ни отцу. К тому же от всего ее облика веяло таким благородством, что каждый невольно проникался к ней уважением. Отец собирался еще что-то сказать, но ему помешал шум автомобиля, который, посигналив, въехал в ворота их дома.
Тягостное молчание было внезапно нарушено. Рурико очень хотелось поговорить с отцом, узнать о его намерениях, чтобы решить, как ей самой действовать дальше. Поэтому она досадовала на непрошеного гостя, который, не подозревая о происшедшей здесь драме, шумно ворвался к ним в дом.
Старушка-служанка почему-то долго не шла открывать, и Рурико сама направилась к двери.
– Если не по важному делу, скажи, что я сегодня не принимаю.
Лицо отца было по-прежнему бледно и слегка подергивалось. Открыв дверь, Рурико на какой-то миг застыла от удивления. Перед ней стоял виконт Сугино, отец ее возлюбленного.
– Ах… Милости просим! – приветствовала она виконта, не зная, как поступить.
Виконт Сугино, отец дорогого ей человека, был не в очень-то хороших отношениях с ее отцом. Оба они принадлежали к одной политической партии, но отец Рурико презирал виконта за то, что тот в погоне за наживой водил знакомство со всякого рода авантюристами и проходимцами. Рурико даже слышала, что раз или два между ними происходили стычки. Поэтому сейчас она и стояла в нерешительности. Заметив это, виконт с недоумением спросил:
– Разве барона нет дома?
Рурико не решилась солгать и ответила:
– Он дома.
– Я Сугино. Прошу вас доложить обо мне.
Тут уж Рурико ничего не оставалось, как исполнить его просьбу. Но когда она поднималась по лестнице, ею вдруг овладело волнение от внезапно мелькнувшей мысли. «Не может этого быть…» – говорила себе Рурико, стараясь отогнать от себя непрошеную мысль, но чем больше она старалась, тем учащеннее билось сердце.
Наоя, старший сын виконта Сугино, в отличие от своего отца, был юношей во всех отношениях безупречным. Рурико случайно познакомилась с ним в концерте и, подружившись, не заметила, как увлеклась им. Все в юноше нравилось Рурико: и мужественное умное лицо, и пылкость.
Они полюбили друг друга чистой и пламенной любовью и поклялись никогда не разлучаться.
– Когда я закончу образование, буду просить вашей руки, – часто повторял юноша.
Этой весной он окончил лицей.
«Если “закончить образование” означало “окончить лицей”… – При этой мысли Рурико почувствовала в душе необычайную легкость. – Виконт никогда раньше не бывал у нас, – думала она, и сердце замирало и билось, как птица в клетке. – Но почему же в таком случае он ничего не сказал, когда мы были у Сёды, – продолжала лихорадочно размышлять девушка. – Хочет, наверное, сделать сюрприз…»
Тут она взглянула на отца, сидевшего с удрученным видом, и радость ее мгновенно улетучилась. Если предположения ее оправдаются, согласится ли на это замужество отец? Выдаст ли он горячо любимую дочь за сына презираемого им человека? Хотя личная неприязнь отца, казалось бы, не должна отражаться на счастье дочери. И не такой человек отец, чтобы не понять этого… Но хватит ли у него сил теперь, когда он так бесконечно одинок, расстаться навсегда с дочерью? Это соображение подрезало крылья ее разыгравшейся фантазии. А вдруг согласится?
– Отец, к вам пожаловал виконт Сугино! – задыхаясь от волнения, сказала Рурико.
Отец не знал сердца дочери, и Рурико прочла на его лице сильное раздражение, когда он услыхал об этом неожиданном визите.
– Сугино! Хм…
Отец и не подумал пойти навстречу гостю. Рурико была в отчаянии. Ссора с сыном, да и без того натянутые отношения отца с виконтом не сулили девушке ничего хорошего, и мечтам ее, пожалуй, не суждено было осуществиться.
– Ничего не поделаешь! – сказал отец. – Проси его в гостиную.
И отец спустился вниз надеть хаори[12].
В смятении Рурико вернулась в переднюю.
– Простите, что заставила вас ждать! Пожалуйста, входите!
– Напротив, это я должен извиниться перед вами за столь неожиданное вторжение, – любезно ответил виконт и прошел в гостиную.
Построенный по-европейски еще в век Мэйдзи, дом Карасавы был старомоден и по стилю, и по размещению комнат. И всякий раз, вводя гостей в эту комнату, Рурико ощущала неловкость из-за чересчур скромного ее убранства и стоявших здесь старинных потертых кресел.
Отец не заставил себя долго ждать и, хотя недолюбливал виконта, приветливо с ним поздоровался, как того требовало гостеприимство.
Рурико стала хлопотать по хозяйству. Принесла чай, сладости и незаметно для себя все время прислушивалась к разговору отца с виконтом. Они начали с погоды, затем перешли на политику. Но о том главном, что волновало Рурико, речь не заходила, и, удалившись к себе в комнату, девушка испытывала томительное беспокойство. Образ любимого неотступно стоял у нее перед глазами. Она перебирала в памяти встречу за встречей, испытывая при этом светлое, невыразимое счастье, не омраченное даже различием в характерах их и взглядах. К этим очень незначительным различиям оба они относились с глубоким уважением. Рурико вспомнилась осенняя ночь: после концерта в парке Уэно они проходили по едва освещенной бледным светом газовых фонарей аллее, восторженно беседуя о «Лунной сонате» Бетховена, которую только что слушали. Потом на память пришло одно из воскресений раннего лета, когда они, сидя в лесу Тоямагахара, среди источавшей аромат молодой зелени, обменивались впечатлениями о романе Толстого «Воскресение». Молодой Сугино был для Рурико не только любимым и единственным другом, он был для нее наставником и учителем, человеком поистине достойным, которым Рурико постоянно гордилась и восхищалась.
Может быть, виконт и в самом деле хочет, чтобы Рурико вышла замуж за его сына, и поэтому пришел? Нет, все это детские мечты. Но как ни гнала от себя Рурико эту мысль, бледные, как жемчуг, щеки слегка порозовели, хотя никто не мог ее сейчас увидеть.
Гость пробыл недолго. Рурико слышала, как дверь гостиной с шумом отворилась, неожиданно нарушив сладкие грезы девушки. Когда же она выбежала в переднюю проводить виконта, то заметила, что отец сильно возбужден и лицо его бледнее прежнего. Сугино, мрачный, без тени улыбки, даже не попрощавшись как следует, словно его выгнали вон, поспешно вышел из дома, сел в автомобиль и, торопя шофера, быстро уехал.
Отец проводил его взглядом, полным злобы и презрения.
– Что случилось, отец? – робко спросила Рурико.
– Этот болван позорит наше общество! – Услыхав это, Рурико смутилась, будто отец адресовал свои слова ей. Итак, ее заветная мечта грубо растоптана. Рурико почувствовала, как почва уходит из-под ног. Разлад между отцами и прежде проплывал над влюбленными легким облаком, но сегодня это облако превратилось в мрачную грозовую тучу.
– Что же все-таки случилось? Чем вы расстроены? – снова обратилась к отцу Рурико. Но отец молчал, видимо, не желая вспоминать о неприятном для него разговоре. Потом наконец сказал:
– Не спрашивай об этом негодяе! Он оскорбил не только меня, но и тебя.
Отец скрипнул зубами, едва сдерживая гнев.
Узнав, что разговор коснулся и ее, Рурико еще сильнее забеспокоилась. Что, собственно, мог сказать о ней виконт? Неужели он оскорбил ее? Отцу не хотелось продолжать этот разговор, однако, терзаемая тревогой, Рурико не могла удержаться от вопроса:
– Скажите же, о чем вы говорили, что сказал обо мне виконт?
– Не спрашивай! Лучше тебе этого не знать! Только напрасно расстроишься. Стоит ли обращать внимание на болтовню какого-то мерзавца!
Видимо, стараясь утешить Рурико, отец сказал это более мягко и стал подниматься по лестнице.
Отец, разумеется, мог не обращать внимания на виконта, вообще мог не вспоминать о нем, другое дело Рурико: ей важно было знать, что сказал о ней виконт, пусть даже он поступил низко, потому что виконт был отцом ее возлюбленного. И Рурико, идя вслед за отцом, капризно спросила:
– Что он сказал обо мне, я непременно должна это знать!
Отец не умел противиться просьбам дочери, не знавшей материнской ласки, и никогда ей ни в чем не отказывал. Он, пожалуй, открыл бы Рурико даже важную тайну, попроси она его об этом.
– Ничего плохого виконт про тебя не сказал, – ответил отец, и, хотя голос его был ласков, в глазах горели недобрые огоньки.
– Каким же образом он мог оскорбить меня? Ведь я не сделала ничего дурного!
– В том-то и дело! – ответил отец, сжимая кулаки, словно снова увидел виконта. – Он хотел тебя оскорбить без всякого повода с твоей стороны.
– Отец, – все больше и больше волнуясь, молила Рурико, – скажите, что случилось, по какому делу приходил виконт?
– Этот тип приходил, как он говорит, сватать тебя.
Слова отца будто громом поразили Рурико.
– Сватать, – повторила она, не в силах больше произнести ни слова и неподвижно застыв у дверей отцовского кабинета.
Отцу же и в голову не приходило, что испытала при его сообщении Рурико, и он устало опустился на диван.
Купля
Детское воображение не обмануло Рурико. Виконт и в самом деле приходил сватать ее, но чем-то не угодил своенравному отцу: не то опрометчивым словом, не то чрезмерной надменностью.
Из-за упрямства отца, из-за его вспыльчивости она может потерять свое счастье. И Рурико с досадой спросила отца:
– Чем же он меня оскорбил? Если речь действительно шла о предложении, вы спросили бы сначала у меня. Ведь отказать никогда не поздно.
Рурико умела настоять на своем. Она смело высказывала свои взгляды и отцу, и брату, и даже своему возлюбленному.
Но сейчас протест Рурико почему-то вызвал у отца горькую улыбку.
– Предложение? Ха-ха. Да если б это было предложение, конечно, я сначала посоветовался бы с Рури-сан. Но то, о чем говорил этот субъект, не предложение, а купля. Он пришел купить тебя за деньги и даже назвал цену. Какая низость!
Глаза отца гневно сверкнули, и Рурико замолчала. Ей нечего было больше сказать.
«За кого же он хотел меня посватать?» – недоумевала про себя Рурико.
Отец между тем продолжал:
– Он спросил, не выдам ли я тебя замуж. Я вообще его недолюбливаю, но подумал, что было бы невежливо не ответить на вопрос виконта, тем более что он мой гость. И я ответил, что отчего же, мол, не выдать, если найдется подходящий жених. Тогда он сказал, что есть достойный жених, и стал на все лады его расхваливать. Но что за бесстыдство! Он сообщил, что жениху сорок пять лет и что у него двое детей от первой жены. Тут я не выдержал и грубо оборвал его. Oн струхнул, но тем не менее сказал еще одну пакость, что жених щедр и выделил на свадебные расходы и подарки триста тысяч иен! Когда он это сказал, я схватил его за шиворот и вытолкал из гостиной. Я дожил до седых волос, – голос отца дрожал от негодования, – но подобное оскорбление получил впервые. Я беден, это правда. Тридцатилетняя политическая борьба отняла все: и дом, и землю. Но дочери своей я не продам ни за какие миллиарды!
На отца жаль было смотреть, казалось, он не переживет такого позора.
Глаза Рурико наполнились слезами, но она не могла найти слов утешения.
Внезапно гнев охватил девушку: как смел виконт оскорбить отца?
Но стоило ей вспомнить, что это сделал отец ее возлюбленного, как гнев сменился отчаянием.
– Страсть к наживе довела его до такой низости! – опять заговорил барон. – Он водит дружбу со всякими проходимцами, и деньги заслонили от него весь мир. Прими я нынче его предложение, он заработал бы на этом кругленькую сумму. – И барон презрительно расхохотался. – Тебя хочет взять в жены тот самый Сёда, у которого ты недавно была на празднике, – продолжал отец, не подозревая, какое впечатление произвели эти слова на дочь.
При имени Сёды Рурико вспомнила злобный, горящий, как у зверя, взгляд оскорбленного хозяина дома, и ее покинули сила воли и обычное хладнокровие, по телу пробежал холодок, словно от прикосновения ядовитой змеи.
После того злополучного случая в саду образ Сёды, вдруг появившегося словно в страшном сне, преследовал Рурико и днем и ночью. Его исполненное самодовольства лицо с густыми, мохнатыми бровями, с сильно вдавленным у переносицы носом и толстыми губами было отталкивающим. Вызвать его злобу – все равно что раздразнить змею, и Рурико с того дня не находила себе покоя. И вдруг этот Сёда просит ее руки. По спине Рурико снова побежали мурашки.
Рурико с трудом верила случившемуся и терялась в догадках, зачем понадобилось этому человеку делать ей предложение.
– Неужели это правда, отец? Неужели Сугино приезжал по просьбе Сёды?!
– Прямо он об этом не сказал, – отвечал отец, – но, судя по словам виконта, его прислал именно Сёда. Прежде чем сказать о цели своего визита, Сугино как бы вскользь похвалил Сёду. А этот Сёда, разбогатев, вообразил, что может позволить себе все что угодно, даже взять в жены девушку из высшего общества. Какая наглость! Он просто рехнулся.
Однако, негодуя, отец и не подозревал, какова истинная подоплека этого предложения.
Зато Рурико догадывалась, в чем тут дело. Предложение ей он сделал неспроста, не под влиянием минутного порыва, не из тщеславного стремления жениться на девушке из высшего общества. Что же до виконта Сугино, то он являлся лишь послушной марионеткой в руках грозного мстителя. Рурико снова вспомнила злобный взгляд Сёды, устремленный на нее и ее возлюбленного, когда они стояли под цветущей сакурой. Это он заставил Сугино явиться к ним в дом и сделать ей оскорбительное предложение. Раненая змея выпустила жало, чтобы отомстить! И Рурико приготовилась к защите.
«Пусть только попробует приблизиться ко мне», – думала Рурико.
– Этот Сугино так струсил, что теперь будет обходить меня стороной, – спокойно произнес отец таким тоном, словно решил раз и навсегда покончить с этим вопросом.
Но Рурико боялась, что Сёда так легко не откажется от своих притязаний, и это ущемляло ее гордость.
– Возмутительно! – воскликнула Рурико, разразившись слезами. – Мало того, что этот господин осмелился сделать мне предложение, так он еще выбрал посредником Сугино-сан!
– Поэтому я и не хотел тебе говорить, – сказал отец. – Да, Сугино настоящий негодяй! С его стороны было подлостью явиться ко мне с таким предложением. Но не стоит обращать на него внимания. Я пока не собираюсь выдавать тебя замуж. Мне вообще не хотелось бы разлучаться с Рури-сан, особенно сейчас, когда Коити нас покинул. Даже угроза снять мне голову с плеч не заставила бы меня расстаться с тобой, что же говорить о каких-то миллионах! – И отец весело рассмеялся, как бы утешая Рурико.
Сердце Рурико переполнилось любовью к отцу, и она решила навсегда остаться с ним, окружить его заботой и лаской.
– Да я и сама не хочу покидать вас, – сказала Рурико, радостно улыбнувшись.
Буря прошла стороной, и оба – отец и дочь – почувствовали себя умиротворенными.
Однако после всех этих печальных событий жизнь в доме Карасавы стала еще однообразное и скучнее. От брата не было никаких вестей. Отец тревожился, но не хотел ничего узнавать о нем или заявлять в полицию. Он считал для себя оскорбительным даже пальцем пошевелить ради сына, который дерзнул покинуть отчий дом.
Рурико места себе не находила от беспокойства и тайком от отца разыскивала брата. Она побывала в ателье в Коисигава, где обычно укрывался брат от отцовских глаз, справлялась о Коити у художника Н., игравшего видную роль в художественном обществе «Ника»: брат был почитателем его таланта. Но никто ничего не знал. Друзья брата, которым Рурико написала, ответили, что давно его не видели. И Рурико в душе упрекала брата. Пусть он поссорился с отцом, но ведь ей-то мог прислать весточку.
Было у Рурико еще одно горе. Отец порвал всякие отношения с виконтом Сугино. Да оно и понятно. После того памятного разговора разрыв их был неизбежен.
Таким образом, мечтам Рурико не суждено было осуществиться. Пытаться же добиться своего – значило, подобно брату, изменить отцу. От всех этих мыслей Рурико впала в глубокое отчаяние.
Между тем отказ на сделанное Сёдой предложение как будто не повлек за собой никаких последствий. Прошло десять дней, прошло двадцать. Казалось, отец совсем забыл об этом событии. Но Рурико никак не могла успокоиться. Случившееся мучило ее, как кошмар, от которого она вдруг пробудилась. Но поскольку никаких событий больше не произошло, Рурико мало-помалу стало казаться, что все ее страхи – просто игра воображения.
Прошел май, наступил июнь, а с ним и парламентские каникулы. Отец никуда не ходил и целыми днями сидел в своем кабинете. Рурико так хотелось утешить отца, сказать ему что-нибудь ласковое, но стоило ей заглянуть в его печальные глаза, увидеть впалые щеки, как слова застревали в горле, а сердце сжималось от боли.
Брат вносил какое-то оживление в их скучную жизнь, несмотря на его частые споры с отцом. Теперь же, после его ухода, в доме стало совсем пусто и уныло, как в монастыре.
Но вот в один из ясных июньских дней Рурико, которая уже успела немного оправиться после перенесенного ею горя, совершив утренний туалет, стала разбирать почту и увидела заказное письмо на имя отца от ростовщика Каваками Манкити.
«Опять напоминание о долгах…» – подумала Рурико. Всякий раз, глядя на письма такого рода, она все острее и острее ощущала одолевавшую их бедность. Однако это, последнее, письмо отличалось от всех предыдущих, ибо написано было строго официально. Рурико удивилась и стала быстро читать. Уже само начало не предвещало ничего хорошего: «Уведомление о передаче деловых обязательств».
Барону Карасаве Мицунори
15 июня 6-го года Тайсё
Уведомление о передаче долговых обязательств.
Настоящим имею честь уведомить Вас, что я, нижеподписавшийся Каваками Манкити, передаю господину Сёде Сёхэю права на ваши долговые обязательства на сумму в двадцать пять тысяч иен, каковую вы обязались мне уплатить.
С совершенным почтением,
Каваками Манкити
Сёда Сёхэй! У Рурико потемнело в глазах. Руки, державшие лист бумаги, похолодели.
Змея снова выпустила жало, и Рурико поняла, что рано обрадовалась. Предложение Сёды Сёхэя не было случайностью. А Рурико еще думала, что в нем сохранились остатки порядочности. Но откуда возьмется порядочность у человека с такими страшными глазами?
Какая все-таки нелепость! Чего, интересно, он добивается, скупая обязательства отца и становясь его кредитором? Неужели он хочет опозорить отца, прибегнуть к подобной низости? О, как ненавидела Рурико это чудовище!
Отец наделал много долгов. Как только начиналась антиправительственная кампания, он из своих скудных средств щедрой рукой раздавал деньги всем, кто причислял себя к его сторонникам, с готовностью подписывал векселя, никому не отказывал в помощи, выступал поручителем, стоило лишь попросить его об этом, или просто давал взаймы, зная наперед, что долг не будет возвращен. Неудивительно поэтому, что вскоре он разорился. Однако продолжал быть щедрым, а поскольку денег у него не осталось, брал сначала взаймы у родственников, а когда родственники отказали, стал прибегать к услугам ростовщиков. Рурико знала, что их обветшавший дом и участок земли давно заложены и перезаложены. Так что Сёде, продавшему душу дьяволу, легко будет поставить отца в безвыходное положение, потребовав немедленной уплаты долгов.
Рурико готова была возненавидеть и проклясть весь этот мир, в котором любой богатый негодяй мог делать все, что ему заблагорассудится.
Девушка представляла себе, как огорчится и разгневается отец, узнав об этой новой низости Сёды, и ей очень не хотелось показывать ему письмо. Однако скрыть от отца столь важное известие она не решилась и с тяжелым сердцем заглянула в отцовскую спальню. Отец еще не проснулся. Глядя, как ровно он дышит, словно наслаждаясь последними минутами покоя и отдыха, Рурико не стала его будить, тихонько положила проклятое письмо в кассу, стоявшую на столике у изголовья, горячо молясь в душе, чтобы оно никогда не попалось отцу на глаза.
Ни за завтраком, ни за обедом, ни за ужином отец и словом не обмолвился о полученном известии. Часов около восьми вечера она отнесла ему чай. Отец разбирал по книге партию игры в японские шашки, расставляя их на доске. Он обменялся с Рурико несколькими словами, но о письме опять ничего не сказал.
«Хоть бы отец никогда не увидел этого письма, – все время думала Рурико. – Если ему суждено его увидеть, пусть это случится позднее, а не раньше».
Проснувшись на другой день, девушка вспомнила о неприятном письме, перевела взгляд на стол, на котором уже лежала утренняя почта, и невольно вскрикнула, увидев одно заказное письмо, потом второе, потом третье.
Она взяла их дрожащими руками, но не собиралась прятать, а побежала прямо к отцу, как бы ища у него защиты.
Отец проснулся, но еще лежал в постели.
– Отец, заказные письма! – Рурико задыхалась от волнения.
– Такие же, наверно, как вчерашнее, – спокойно ответил отец, судя по его словам, уже успевший прочесть то злополучное письмо. – Не бойся, Рурико, – продолжал он. – Все будет хорошо.
Впервые Рурико почувствовала в отце надежную опору.
И на другой, и на третий день равнодушный почтальон приносил заказные письма. Они обрушивались на дом Карасавы, словно неотвратимое проклятье.
Рурико с отцом как будто стали привыкать к ним, но с каждым днем их все сильнее и сильнее одолевало глухое беспокойство.
– Ничего, – говорил отец. – Это даже лучше, что все мои обязательства попадут в одни руки. Мне будет проще платить по ним, а ему – посылать напоминания!
Отец старался сохранять спокойствие, но это плохо ему удавалось. Он никак не мог понять, отчего с такой настойчивостью Сёда преследует его.
Зато Рурико все понимала и с ужасом думала о том, чем все это кончится. Каждое новое письмо удваивало ее ненависть к нему. Пусть бы он мстил ей и ее возлюбленному, но почему должен страдать ее несчастный, ни в чем не повинный отец?
Итак, многочисленные обязательства, по которым отец должен был уплатить около двухсот тысяч иен, сосредоточились в одних безжалостных и жестоких руках.
Однажды утром Рурико, как обычно, разбирала почту. Прежде это было ее любимым занятием, потому что среди вороха писем она первым делом старалась отыскать письма от возлюбленного, от близких друзей. Теперь же Рурико тяготилась этой своей обязанностью.
Рурико с опаской подошла к столу, просмотрела всю корреспонденцию и взяла последнее, еще не вскрытое письмо в конверте из дорогой бумаги.
На обратной стороне, где значилась фамилия отправителя, Рурико с ужасом прочла: «Седа Сёхэй». Ей показалось, будто она держит в руках послание бандита с требованием денег и гнусными угрозами.
Осторожно, словно гадюку, Рурико взяла конверт и понесла отцу.
Узнав, кто отправитель, отец презрительно вскинул брови и не торопился вскрывать письмо.
– Что он там пишет? – с нетерпением спросила Рурико.
Отец сердито вскрыл конверт.
– Сейчас посмотрим… – В голосе отца слышалась тревога. – «По делу о скупленных мною Ваших долговых расписках, а также для выяснения печального недоразумения, происшедшего по вине виконта Сугино, который приходил к Вам по моему поручению, я хотел бы иметь честь на днях лично переговорить с вами…» Какой наглец! Настоящая толстокожая скотина! Пусть только явится, я укажу ему его место. – С этими словами отец разорвал письмо на мелкие кусочки.