Читать онлайн Александр II, или История трех одиночеств бесплатно
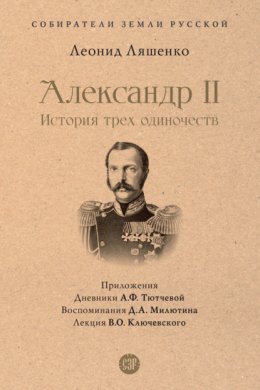
© Ляшенко Л.М., 2002
© Ляшенко О.Л., 2023, с изменениями
© Российское военно-историческое общество, 2023
© Оформление. ООО «Проспект», 2023
Предисловие к серии
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это – Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства – великие князья, цари и императоры – будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России – это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам – выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград – символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
Л.М. Ляшенко
Александр II
История трех одиночеств
Власть и одиночество
(Несколько слов для начала разговора)
Одиночество, как пророчество, – каждому – свое.
(То ли подслушанное, то ли придуманное автором этой книги)
В так называемое Новое время мировой истории начало каждого века заставало Россию на том или ином перепутье. В начале XVII столетия – Смута, в начале XVIII – реформы Петра I, подозрительно напоминавшие революцию многими ее атрибутами, в начале XIX – нашествие Наполеона и искренние обещания Александра I преобразовать страну, в начале XX столетия – революционные события 1905 и 1917 годов. По выражению, популярному в недавнем прошлом, есть мнение, что начало каждого из последних веков является неким мистическим порогом для нашей страны, так что впереди нас, хотим мы того или нет, ждет еще много неожиданного. С этим заключением можно было бы согласиться, тем более что с утверждениями мистиков дискутировать очень сложно, а главное – бесполезно, однако стоит напомнить, что один из важнейших переломов в истории России произошел не в начале, а в середине XIX века. Это несколько портит загадочность картины развития страны, связанного с началом столетий, но из песни слова не выкинешь. О событиях именно этого периода мы и намерены начать разговор. Вернее, не только и не столько о событиях, сколько о людях, которые силой обстоятельств или волей Судьбы оказались в 1850–1880-х годах во главе Российской империи.
То, что человек сам по себе интересен и даже, можно сказать, является высшей ценностью, давно стало общим местом для философов, писателей, историков и вообще всех, кто интересуется изучением роли людей в совершившихся или совершающихся событиях и процессах. Может быть, это и справедливо, но на бытовом уровне это прежде всего так, когда дело касается родных, друзей, соседей, сослуживцев или героев сугубо литературных, то есть выдуманных авторами произведений. Однако, когда речь заходит о документальных биографиях властителей, полководцев, ученых, деятелей искусства или лидеров общественных движений, выясняется одно немаловажное обстоятельство. Оказывается, что человек сам по себе (то есть переживания и движения его души, раздумья, семейная жизнь и т. п.) не так уж и интересны читателям. Он значим для них тем, что открыл, преобразовал, завоевал, написал и, может быть, самое главное тем, чем он расплатился с Судьбой за свои великие дела или чем Судьба наградила его за них. Говоря иначе, он интересен, с одной стороны, благодаря конкретным обстоятельствам места и времени, в которых жил, при условии, что эти обстоятельства важны и значимы для других поколений, с другой стороны, он вызывает интерес у читателя своими личными потерями или приобретениями, являющимися обязательными спутницами человека, отмеченного Историей.
С этой точки зрения короли, императоры, султаны и президенты находятся вне конкуренции: что может быть интереснее, значимее судьбы человека, вознесенного волей Провидения или выбором сограждан на вершину власти? От его действий зависит благополучие миллионов подданных, к его голосу прислушиваются на международной арене, помня о прошлом, он работает в настоящем, зная, что его деяния с тем или иным знаком, будут позже занесены в анналы истории. Если же правитель является еще и неординарной личностью, то долгая память поколений ему безусловно обеспечена. Только как различить – перед нами ординарная или неординарная личность, каковы критерии ее обычности или исключительности? А коли существуют сомнения и неясности в определении основного положения, то все ли полностью справедливо в тщательно охраняемых традицией и ее защитниками анналах истории?
Пьедестал власти высок, а потому успешно скрывает многое из того, что могло бы разочаровать подданных во властителе. Однако именно высота этого пьедестала зачастую помогает увидеть то, что делает властителей обычными людьми, порой безутешно несчастными, порой неимоверно счастливыми, а оттого еще более интересными для современников и потомков. Конечно, когда речь заходит о главах государств, мы невольно обращаемся не только к их личностным качествам, но и к конкретным обстоятельствам их правлений. Реформы и войны, отношения с обществом и ближайшим окружением, народная молва и литературные анекдоты характеризуют властителя не меньше, чем добрые и бесчеловечные поступки, совершенные им в качестве обычного частного лица. Магия власти, вознесенность над людьми и обстоятельствами, изначальная, автоматическая принадлежность истории… Есть, между тем, еще одна характеристика, резко отличающая руководителей государств, особенногосударств монархических, от иных смертных.
В разговоре о жизни самодержцев Запада или Востока, далеких или недавних времен, мотив одиночества звучит с упрямым постоянством и особой силой. Сама исключительность, единичность монаршего поста делает, видимо, неизбежным обращение к этой теме. Говоря о конкретных фигурах на тронах и их конкретных судьбах, мы не найдем, что совершенно естественно, ни одной полностью одинаковой личности, сходной с другими. Но, тем не менее, от заунывного мотива одиночества монарха уйти вряд ли удастся. Если попытаться дать определение этому одиночеству, то получится, что это состояние человека, в силу обстоятельств давшего суровый обет постоянно заниматься важнейшими проблемами, стоящими перед государством, и в рамках этой несвободы свободного, насколько это вообще возможно, в своих действиях.
Упомянутым обетом является монарший долг, жестко диктующий правила поведения властелина; ответственность за принятие решений, лежащая на царе, постоянно оставляет его один на один с важнейшими вопросами жизни страны; наконец, истинная свобода возможна только как одиночество (именно поэтому многие и многие люди опасаются свободы, лишающей их не столько подсказки со стороны, сколько коллективной ответственности за принятие решения).
Вам никогда не приходилось задумываться о том, почему в сказках (причем всех народов мира без исключения) счастливыми победителями гораздо чаще становятся не монархи, а царевичи, королевичи, принцы, то есть наследники престолов, а не коронованные носители власти? Именно они, будущие правители, жизнерадостны, исполнены жажды приключений, именно с ними, бурлящими энергией, происходят волшебные превращения, ведущие, в конце концов, к победе. Когда же они восходят на престол, сказка заканчивается, обрывается. Бывшие наследники престола, с удовольствием или без оного, взваливают на свои плечи тяжелую ношу ответственности за судьбу страны, династии, и приходят долгие тягучие будни правления. Их жизнь наполняется постоянной борьбой с массой внешних и внутренних обстоятельств, связанных с существованием государства, всегда весьма важных и требующих срочного решения, отнюдь не волшебных, хотя часто и превышающих человеческие возможности. Теперь бы и появиться всемогущему магу, Коньку-Горбунку или доброй фее, но возврата к сказке, к поэзии ее приключений почему-то не происходит…
Несмотря на сказанное выше, можно, конечно, задаться целью и попытаться найти среди реальных королей, императоров, султанов и других венценосных особ тех, кто наиболее пострадал от «надмирности» своего положения, от семейных неурядиц или политического противостояния одного – всему остальному свету. В этом невеселом соревновании трудно найти единственного абсолютного чемпиона – слишком много претендентов на звание наиболее вознесенного над подданными, совершенно непонятого, неоцененного по заслугам и сверходинокого монарха. Однако в ряду самых несчастных самодержцев для россиян одним из реальнейших претендентов на это звание будет император Александр II. Когда автор известной триады «православие – самодержавие – народность», давшей начало теории «официальной народности», или «казенного патриотизма», С. С. Уваров писал: «Трудно родиться на троне и быть оного достойным», – он отнюдь не имел в виду, что достойные трона люди должны рождаться не в царских семьях. Умный консерватор подразумевал, что рождение «на троне» ставит ребенка в тяжелейшие условия, вызванные исключительностью положения наследника, званием будущего вождя нации, традиционным обожанием окружающих, ролью непогрешимого судьи, которая свойственна Провидению, но непереносима для нормального человека. Ожидания подданных настолько велики, что соответствовать им простому смертному вряд ли дано даже в теории. Впрочем, это касается всех монархов без исключения, что же до нашего будущего героя, Александра II…
Скажем, его дед, Павел I, прослыл не только странным, но и очень одиноким императором. Но его семейные неурядицы были во многом выдуманы самим монархом, который безо всяких на то оснований не доверял всецело преданной ему жене и старшим сыновьям. В итоге он пытался всеми силами оградить себя от несуществующей угрозы, не заметив подлинной беды. Кроме того, Павел Петрович искренне наслаждался ролью всемогущего властелина, имевшего возможность по собственному разумению исправлять «оплошности», допущенные матерью, бесконтрольно распоряжаться судьбами подданных, непредсказуемо заключать и внезапно разрывать договоры с ведущими державами Европы. У его венценосного внука все было совершенно иначе…
Император Александр II в коронационном одеянии.
Литография по рисунку В. Ф. Тимма. 1856
Загадкой, сфинксом российской истории называют императора Александра I, но и его отдаленность от окружающих выглядит не столь непроницаемой, как у нашего героя. Загадка Александра I является, скорее, совпадением появления на престоле незаурядной личности и складывания уникальных обстоятельств ее правления, а потому одиночество этого монарха не ощущается как всеобъемлющее или необъяснимое. Тяжесть положения самодержца, по поводу которой Александр Павлович не раз сокрушался, в то же время давала ему приятное чувство причастности к истории, возносила на вершину европейской славы. К тому же его общественно-политическая позиция во многом разделялась дворянским авангардом. Будущие декабристы, при всей своей радикальности, не только внимательно прислушивались к словам, доносившимся из Зимнего дворца, но и временами надеялись на поддержку императором своих замыслов.
Знаменитая формула Александра I «Не мне их судить», произнесенная в ответ на донесение полиции о существовании тайных обществ, свидетельствует не только о боязни императора спровоцировать очередной дворцовый переворот, не только о понимании им того, что декабризм во многом был вызван его, монарха, либеральными посулами и начинаниями. Она говорит и о понимании Александром Павловичем того, что он не был одинок в желании избавить Россию от крепостного права и дать ей конституцию. Пусть его возможные союзники были крайне немногочисленны и не слишком влиятельны, но они были. У его венценосного племянника все происходило иначе…
Что говорить, даже смерть Александра II оказалась явлением уникальным. Он был не первым и не последним российским самодержцем, умерщвленным своими подданными. Однако в 1881 году монарх впервые стал жертвой не дворцового переворота, не династических интриг. Причем жертвой сделался не самодур на престоле, а император, заслуживший от своих политических противников высокий титул Освободителя, император, пытавшийся, так или иначе, вывести свою страну на дорогу более быстрого прогресса, разрушивший варварскую крепостническую систему и нарушивший безгласие общества.
Впрочем, может быть, поэтому (следуя загадочной логике российской истории) его и убили. Может быть, поэтому (как бывает достаточно часто) он и был так безнадежно одинок. Позвольте! А о каком, собственно, одиночестве монархов идет речь? Они ведь всегда окружены родней, придворными, высшими чинами государства, восторженными толпами обожающего их народа, наконец. Так-то оно так, но не является ли от этого положение монарха самым тяжелым видом одиночества – одиночеством в многолюдстве? Недаром же императоры Китая, гордо и несколько претенциозно именовавшиеся в официальных документах Единственными, сами себя предпочитали называть довольно грустно – Гуцзя («Осиротелый господин»). По-своему это ведь синоним слова «единственный», в смысле не только неповторимый, но и одинокий. Можно вспомнить и о том, что слова «монарх» (греч. monos – «один», arhos – «правитель») и «монах» (греч. monahos – «уединенный», «одинокий») не только являются этимологическими близнецами, но и выразительно близки по смыслу. Оба слова подразумевают некое служение, следование долгу, нарочитое одиночество. Правда, нарушение уставов и правил заканчивалось для монаха и монарха различно: монах, пожелавший уйти из монастыря, то есть нарушивший обет, становился расстригой, монарх, ломающий привычные для венценосца правила поведения, делался… Впрочем, о том, кем он становился, и пойдет наш разговор.
И, пожалуй, последнее здесь. Каким предстает наш герой на страницах исследований и учебников по русской истории? Сказать, что Александру II не повезло с оценками историков, – значит, сказать слишком мало. Он оказался совершенно заслоненным реформами, проводимыми в период его царствования. Но и это еще не все. В работах дореволюционных ученых преобразования указанного периода, пусть нечасто и как-то «сквозь зубы», но все же назывались реформами Александра II. Однако начиная с 1920-х годов исследователи напрочь отказались от этого определения, почему и возник безликий термин «реформы 1860–1870-х годов». Вот так безлико – неизвестно кем вдохновляемые и все равно в чье правление проведенные.
Более того, в научной литературе можно встретить мнение, будто бы реформы, особенно отмена крепостного права, шли не столько благодаря, сколько вопреки воле императора, вдохновляемые и подгоняемые спасительным «духом времени» [1]. Можно подумать, что, скажем, Петр I или Екатерина II в периоды своих царствований творили нечто такое, что до них не витало в воздухе, что они на многие десятилетия опередили ход исторического развития России, указав своими деяниями само направление этого развития. Во всяком случае, при произнесении имен великого императора и чуть менее великой, если следовать общепринятой историками табели о рангах, императрицы, «дух времени» исследователями упоминается редко. Видимо, и Петр, и Екатерина сумели подружиться с этим полумистическим понятием или сделать его послушным себе.
Что же касается Александра II, то создается впечатление, что до поры до времени этот дух счастливо водил его на помочах, а затем почему-то отпустил их, предоставив слабому, ограниченному и неготовому к миссии реформатора монарху набивать шишки и себе лично, и стране в целом. Впрочем, даже такое нелестное для нашего героя представление говорит о нестандартности, уникальности его судьбы. С другими монархами «дух времени» вел себя куда более определенно – они в главных своих деяниях или соответствовали ему, или упорно действовали вопреки «зову прогресса». В случае же с Александром II какая-либо определенность отсутствует полностью [2]. О чем же говорит непохожесть нашего героя на своих предшественников и наследников?
Нет, не будем пытаться «объять необъятное» и стараться ответить на все вопросы во введении к беседе, ведь речь шла лишь о нескольких словах для завязки разговора. Дабы завязь беседы не стала ее основным содержанием, что выглядело бы странно и слишком противоречило всем законам жанра, давайте остановимся на этом, чтобы в течение следующих бесед, не торопясь, поговорить о судьбе нашего героя. Именно она (эта судьба), может быть, станет лучшим и наиболее беспристрастным арбитром в тех спорах, которые до сих пор вызывает личность Александра II.
Часть I
Одиночество первое. Путь
Где начало того конца,
которым оканчивается начало?
Козьма Прутков
Ощущение времени
(конец 1810-х годов)
Итак, ощущение времени… А что это, собственно, такое? Наверное, это одна из тех счастливых тем, которые дают автору возможность отправиться в свободное плавание и напрямую пообщаться не только с героями своей книги, но и с гораздо более широким кругом заинтересованных и заинтересовавших его лиц. Узнать их мнение, пережить их понимание того или иного периода истории нашей страны. Важно и то, что в данном случае автор имеет полное право не прятаться за полупрозрачными ширмами или в суфлерской будке, стремясь придать своему тексту хотя бы видимость полной объективности. Нет, здесь он равноправный участник общего разговора. Ведь ощущение времени – вещь многозначная, это чувства людей той эпохи, но и наши тоже. Через них, через событие, через документ, но – наше! И какая, в сущности, разница, что они жили в XIX веке, а мы – на рубеже XX и XXI столетий? Мы можем ошибаться, что-то преувеличивать или недооценивать, но вряд ли будем настолько наивны и самоуверенны, чтобы читать нотации предкам с высоты прошедших полутора-двух веков.
Александр Николаевич Романов, главный герой нашей книги, родился в очень непростое для России время – славное и переломное одновременно. Его появлению на свет предшествовали таинственная деятельность Негласного комитета (многие называли его кружком молодых друзей), на заседаниях которого велись довольно сумбурные, но искренние разговоры об освобождении крепостных крестьян и ограничении самодержавия; планы государственных преобразований М. М. Сперанского, вызвавшие такую панику в придворных и чиновных кругах, такую злобу столичного и провинциального дворянства, что привели их автора в ссылку по глупейшему обвинению в государственной измене; Отечественная война 1812 года, заставившая россиян, победивших самого Наполеона, по-новому взглянуть и на себя, и на западноевропейские идеи и порядки, желание императора Александра I умиротворить Европу созданием Священного союза монархических государств и преобразовать Россию, проведя в ней кардинальные изменения.
К 1818 году реформаторские намерения монарха приобретали все большую и все более сенсационную известность. Циркулировавшие в столицах и в провинции слухи о том или ином его высказывании с жадностью ловились внимательными слушателями и быстро разносились от великосветских салонов до самых глухих уголков страны. Молва о «несчастном» или «счастливом» (это уж кому как казалось) «предубеждении» императора против крепостного права и политического бесправия общества находила все новые и новые подтверждения. Чтобы не быть голословными, давайте просто перечислим те основные события, которые имели место в 1818–1820 годах. Речь Александра I на открытии польского сейма (парламента) в Варшаве в марте 1818 года, проект отмены крепостного права, подготовленный в канцелярии нового любимца царя А. А. Аракчеева, подготовка проекта Конституционной хартии Российской империи, грозившего превратиться в настоящую конституцию страны, проект министра финансов Д. А. Гурьева о прекращении крепостного состояния, первые разговоры Александра I с великим князем Николаем Павловичем (отцом нашего героя) о желании императора отказаться от престола и передать его именно Николаю, образование декабристского Союза благоденствия…
С. С. Щукин. Портрет Александра I. XIX в.
Обществу было от чего потерять голову, было от чего разбиться на несогласные и яростно спорившие друг с другом группировки, было от чего возликовать или, наоборот, опечалиться. Печалей и ожиданий катастрофы оказалось явно больше, чем ликования и веры в светлое будущее. Мнение многих и многих дворян того времени выразил сенатор Н. Г. Вяземский, заявивший: «Для благоденствия крестьян наших не нужно мыслить о химерическом новом положении, но токмо стараться поддержать во всей силе истинно доброе старое, приложить попечение о повсеместном его наблюдении и утверждении в пользу крестьян». Сенатора поддерживал некий швейцарец Ф. Криспин, проживавший в ту пору в Москве: «Разговоры по сему предмету (об освобождении крестьян. – Л. Л.) заставляют содрогаться. Надеюсь, что в Петербурге известно общее настроение умов». Почему швейцарец, не имевший ни поместий, ни крепостных, «содрогался», сказать очень трудно (если только за компанию с русским дворянством).
Насчет «общего настроения умов» Криспин, пожалуй, погорячился, но то, что подавляющее большинство дворян не разделяло намерений Александра I, сомнению не подлежит. М. М. Сперанский, возвращенный императором в столицы, но не участвовавший более в реформаторских замыслах Зимнего дворца, сообщал в письме приятелю, что речь монарха в Варшаве в марте 1818 года, которую поняли как свидетельство близящегося освобождения крестьян, вызвала в Москве «припадки страха и уныния». «Опасность, – продолжал он, – состоит именно в сем страхе, который теперь везде разливается». Проще говоря, крестьяне, услышав о том, что император хочет их освободить, легко поймут, что именно помещики не дают ему это сделать. К чему могла привести подобная ситуация, действительно страшно себе представить. Страшно, но не трудно, если припомнить недавнюю для начала XIX века пугачевщину.
И все же русское образованное общество состояло далеко не из одних сторонников сохранения крепостного права. Упирая на нравственную сторону проблемы, военный губернатор Малороссии Н. Г. Репнин гордо провозгласил: «Всяк… жертвующий собственным спокойствием и личными выгодами для пользы общей может гордиться сею мыслею». Заявление Репнина особенно ценно, если учесть, что ему было что терять. Как, впрочем, и графу М. С. Воронцову, владельцу тысяч крепостных душ, человеку, принадлежавшему к элите дворянского общества. Однако и он в 1817–1818 годах всерьез намеревался приступить к освобождению своих крестьян. Видимо, граф хорошо понимал, что, говоря словами П. А. Вяземского, «рабство – одна революционная стихия, которую имеем в России, уничтожив его, уничтожим всякие пребудущие замыслы». Иными словами, сохранение крепостного права – и бунт, а то и революция, отмена его – и установление более или менее прочного гражданского мира. Друг А. С. Пушкина и многих декабристов Петр Андреевич Вяземский знал, что говорил, когда упоминал о «пребудущих замыслах».
Дворяне-радикалы внимательно прислушивались к скупо доносившимся из Зимнего дворца слухам об облегчении участи крепостных крестьян. По свидетельствам многих декабристов, они с сочувствием относились к намерению Александра I отменить позорящее Россию рабство и были готовы всеми силами содействовать императору в столь благородном деле. Кто знает, как бы развернулись события дальше, прими монарх руку помощи, протянутую ему передовым дворянством. Однако Александр Павлович давно привык полагаться только на себя и протянутых ему рук старался не замечать. Когда один из «отцов-основателей» декабристского Союза спасения А. Н. Муравьев подал императору собственный проект освобождения крестьян, тот лишь досадливо буркнул: «Дурак. Не в свое дело вмешался». Может быть, и действительно не в свое, но ведь искренне хотел помочь монарху, поддержать его…
А тот, как вспоминал декабрист С. П. Трубецкой, шел напролом, вроде бы не страшась никакого противодействия. «Пред самым отъездом своим из Петербурга (в Варшаву. – Л. Л.), – вспоминал Сергей Петрович, – государь объявил… что он непременно желает освободить и освободит крестьян от зависимости помещиков, и на представление князя (П. П. Лопухина. – Л. Л.) о трудностях и сопротивлении, которое будет оказано дворянством, сказал: “Если дворяне будут сопротивляться, я уеду со всей фамилией в Варшаву и оттуда пришлю указ”». И ведь действительно мог уехать и прислать. Александр I временами умел быть твердым, точнее, упрямым, так как твердость от упрямства отличается тем, что заставляет человека стоять до последнего, защищая свои принципы. Как бы то ни было, казалось, что дни крепостного права в России сочтены…
Н. А. Бестужев. Портрет С. П. Трубецкого. 1828–1830
И если б только крепостного права! Как мы уже говорили, в марте 1818 года, выступая на открытии польского сейма, самодержец всероссийский заявил: «…вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовил и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Тут уж головы российских дворян совершенно пошли кругом! Оказывается, их монарх с давних пор «приуготовил» России конституцию и парламент! Кто бы мог подумать? Одни, например В. Н. Каразин, возопили: «Теперь с той же дерзостью, почти с тем же унынием, наполняющим мою душу, предсказываю я великие беспокойства в отечестве нашем и весьма не в отдаленном будущем… Дух развратной вольности более и более заражает все сословия».
Другие сетовали на то, что власть слишком рано и чересчур откровенно высказала свои намерения, чем разоружила себя перед оппонентами. Так, заслуженный генерал А. А. Закревский в письме своему давнему другу П. Д. Киселеву неодобрительно заметил: «Речь государя, на сейме говоренная, прекрасная, но последствия для России могут быть ужаснейшие, что из смысла оной легко усмотришь». Ему вторил недавний московский градоначальник Ф. В. Растопчин: «Из Петербурга пишут конфиденциально, что речь императора в Варшаве, предпочтение, оказанное полякам, и дерзость тех вскружили головы; молодые люди просят конституции». О том же поэту и сановнику И. И. Дмитриеву сообщал писатель и историк Н. М. Карамзин: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах, спят и видят конституцию; судят, рядят… И смешно, и жалко». Но тут хоть речь идет о преимуществах и недостатках неограниченной и конституционной монархии. А ведь было и совсем другое.
Многие русские дворяне, среди них и декабристы, обиделись на Александра I за то, что первой конституцию и парламент получила Польша, а не вся Российская империя целиком или, по крайней мере, ее великорусские губернии. Недовольство подогревалось слухами, будто император собирается вернуть полякам земли, отошедшие к России в результате разделов Польши в конце XVIII века. Дело дошло до того, что в среде декабристов созрел так называемый «московский заговор», целью которого стало убийство монарха. Парадокс чисто нашенский, российский: революционеры собираются убить императора, который намерен уничтожить крепостное право и дать стране конституцию, – но что поделаешь, у нас от власти или ждут всего и сразу, или, если у нее все и сразу не получается, начинают неистово с ней бороться… А ведь разговоры о конституции в 1818 году не были простым сотрясением воздуха.
В Варшаве, в канцелярии наместника в обстановке строжайшей секретности был подготовлен проект Конституционной хартии Российской империи, который мог стать поворотным пунктом в истории нашей страны. Не стал. Как не было отменено в первой четверти девятнадцатого столетия и крепостное право. Александр I, в конце концов, не решился на столь радикальные перемены. Упрямство все-таки мало чем напоминает твердость, да и… Впрочем, о том, что из себя представляет это «да и…», речь еще впереди. А пока – прав оказался мудрый военачальник А. П. Ермолов, который в 1818 году писал: «Я думаю, судьба не доведет нас до унижения иметь поляков за образец и все остается при одних обещаниях всеобъемлющей перемены». П. А. Вяземский, один из активнейших участников работы над Конституционной хартией, также понял тщетность своих надежд, хотя и случилось это несколько позднее. В 1820 году он писал Н. И. Тургеневу: «Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Грустно и гадко!».
Действительно, картина получалась грустная. Как заметил знаток александровской эпохи С. В. Мироненко: «Вместо освобождения крестьян… последовал ряд указов, резко ухудшивших положение крестьян… Вместо конституции – фактическая передача всей полноты государственной власти и руки всесильного временщика… А. А. Аракчеева. Вместо развития наук и просвещения – изгнание наиболее прогрессивных и талантливых профессоров из университетов». В общем, хотели… но не получилось.
Энтузиазм и замешательство пополам со страхом, планы реформ и поворот к ретроградству, надежды и разочарования, пробуждение национального самосознания и рабство, тайные революционные организации и создание тайной полиции… Не случайно, ох, не случайно наш герой появился ни свет в эти беспокойные и так много обещавшие России годы…
Образован поэтом, воспитан дворцом
Великий князь Александр Николаевич родился 17 апреля 1818 года в Москве, в доме митрополита Платона при Чудовом монастыре в Кремле. Чудов монастырь был основан в 1385 году, а в XVIII веке здесь располагалось греко-латинское училище. Отцом Александра был третий сын императора Павла I великий князь Николай Павлович, матерью – дочь прусского короля Фридриха III принцесса Шарлотта, ставшая после православного крещения, необходимого для свадьбы с Николаем Павловичем, Александрой Федоровной. Она доводилась племянницей и крестной дочерью английской королеве Шарлотте, супруге короля Георга III, а значит, являлась родственницей будущей главы Великобритании королевы Виктории [1]. Забегая вперед, скажем, что это никак не повлияло на улучшение отношений между Англией и Россией, которые (имеются в виду страны) на протяжении всего XIX века враждовали друг с другом в различных концах Европы и Азии. Нашему герою тоже не раз придется столкнуться с королевой Викторией, и эти столкновения за редким исключением не доставят ему большого удовольствия.
Семья Николая Павловича с 1817 года переехала на временное жительство в Москву, чтобы своим присутствием морально поддержать обитателей древней столицы, пострадавших от нашествия Наполеона и страшного пожара 1812 года. Рождение первенца принесло Николаю и Александре огромную радость, и это чувство разделялось не только ими, так как имело важное государственное значение. Спустя год они узнали о намерении императора Александра I объявить наследником престола Николая Павловича, и дело было не только в том, что его брат великий князь Константин Павлович наотрез отказался от российского трона [2]; свою роль сыграло рождение именно Александра Николаевича, поскольку на протяжении двадцати лет в царствующей фамилии рождались только девочки. Таким образом, наш герой, не подозревая об этом, укрепил положение Романовых на престоле. Император Александр I получил радостное известие о рождении племянника на пути из Варшавы в Одессу и назначил маленького родственника шефом лейб-гвардии гусарского полка. Со временем Александр Николаевич станет шефом 30 российских и зарубежных воинских частей, да еще будет числиться офицером более чем в 20 подразделениях.
Однако к радости родителей Саши примешивалась изрядная доля грусти, объясняемая предчувствием неизбежно трудной участи сына «В 11 часов (утра. – Л. Л.), – вспоминала Александра Федоровна, – я услыхала первый крик моего первого ребенка. Никс (Николай Павлович. – Л. Л.) целовал меня… не зная еще, даровал нам Бог сына или дочь, когда матушка (вдовствующая императрица Мария Федоровна. – Л. Л.), подойдя к нам, сказала: “Это сын”. Счастье наше удвоилось, однако я помню, что почувствовала что-то внушительное и грустное при мысли, что это маленькое существо будет со временем императором». Эти слова, хотя они и написаны задним числом, можно считать первым предостережением нашему герою. Материнское сердце, как говорят, вещун.
П. Ф. Соколов. Портрет цесаревича Александра Николаевича. 1828
201 орудийный залп и плошки повсеместной иллюминации возвестили москвичам о рождении будущего наследника престола, положив начало соответствующим торжествам по городам и весям Российской империи. Крещение новорожденного произошло в церкви Чудова монастыря, где в свое время крестили детей Ивана Грозного и Алексея Михайловича (в том числе и преобразователя России Петра Великого). В первые годы своей жизни Саша попал в ласковые руки женщин: его воспитательницами стали Ю. Ф. Баранова и Н. А. Тауберг, а боннами (то есть нянями) – М. В. Коссовская и А. А. Кристи (тезка знаменитого автора детективных романов действительно была англичанкой, что не удивительно, поскольку именно англичанки считались в то время лучшими няньками в мире). До шестилетнего возраста жизнь великого князя не была обременена чрезмерными заботами. Зимой он жил с родителями в Аничковом дворце, а летом выезжал в Павловск к бабушке Марии Федоровне, которая успешно командовала маленьким внуком. Впрочем, эта властная и решительная дама считала себя главой клана Романовых и стремилась, с большим или меньшим успехом, руководить ими всеми. Жены Александра и Николая Павловичей перед ней трепетали, можно представить себе, как воспринимал ее команды маленький Николаевич.
С шестилетнего возраста компания воспитателей великого князя становится, как это было принято, чисто мужской. Ее главой был назначен Карл Карлович Мердер, ротный командир школы гвардейских подпрапорщиков, ветеран войн с Наполеоном [3]. В. А. Жуковский, близко знавший заслуженного офицера и работавший вместе с ним над образованием наследника, отмечал: «Отменно здравый ум, редкое добродушие и живая чувствительность, соединенные с холодной твердостью воли и неизменным спокойствием души, – таковы отличительные черты его характера». Сестра нашего героя, Ольга Николаевна писала о Мердере в своих воспоминаниях: «Он не признавал никакой дрессировки, не подлаживался под отца, не докучал матери, он просто принадлежал Семье: действительно драгоценный человек!».
Я. К. Каневский. Портрет К. К. Мердера. 1833
Главной задачей, поставленной перед ним родителями Саши, являлось военно-физическое воспитание великого князя, включавшее обучение верховой езде, знакомство с военными уставами, «фрунтом» (строевой подготовкой и приемами с оружием), гимнастические упражнения. Вскоре Александр увлеченно гарцевал на парадах и разводах, отдавая звонким голосом команды гвардейским гусарам. Однако только военными занятиями воспитатель великого князя ограничиться, к счастью, не захотел. В своем дневнике, к которому мы будем еще не раз обращаться, Мердер писал: «Государь дал мне то, что для него и для целой России всего драгоценнее. Да поможет мне Бог исполнить свое великое дело. Буду считать себя несчастным, если не достигну того, что он (наследник. – Л. Л.) будет считать единственным наслаждением – помогать несчастным».
В своем желании пробудить в наследнике сострадание, человеколюбие Карл Карлович не был ни оригинален, ни одинок. Лучшие люди России, в том числе один из ее крупнейших поэтов В. А. Жуковский, желали видеть в Александре Николаевиче образец нравственного совершенства. Василий Андреевич, в частности, выразил свое желание в следующих строках, обращенных к великому князю:
- Жить для веков в величии народном,
- Для блага всех – свое позабывать,
- Лишь в голосе отечества свободном
- С смирением дела свои читать…
Ему вторил еще один поэт и будущий декабрист К. Ф. Рылеев:
- Люби глас истины свободной,
- Для пользы собственной люби,
- И рабства дух неблагородный,
- Неправосудье истреби…
- Старайся дух постигнуть века,
- Узнать потребность русских стран,
- Будь человек для человека,
- Будь гражданин для сограждан.
Проникновенные, хотя и несколько тяжеловатые строки обоих поэтов позволяют подчеркнуть одно весьма важное для нашей беседы обстоятельство. С самого раннего возраста на Александра Николаевича обрушились огромные и, честно говоря, маловыполнимые ожидания современников. Помимо всего прочего, они хотели, чтобы, совершая на ниве служения отечеству поистине геркулесовы подвиги, будущий император оставался скромным гражданином и человеком. Видимо, от каждого венценосного ребенка современники требовали или, по крайней мере, ожидали того, чего они не нашли у предшествующих монархов, и от царствования к царствованию требования росли как снежный ком, а ожидания делались все нетерпеливее. Наследники же престола, прислушиваясь к подобным пожеланиям, пытались сопоставить их со своими реальными возможностями, и трудно сказать, что они при этом испытывали – то ли гордость от своего положения, то ли ужас от невозможности исполнить пожелания подданных.
Как бы то ни было, благие намерения Мердера получили конкретное воплощение, особенно после воцарения Николая I в декабре 1825 года. О событиях на Сенатской площади у Александра, которому в ту пору не исполнилось и восьми лет, не могло остаться ярких и отчетливых воспоминаний. День восстания декабристов он провел в Зимнем Дворце вместе с матерью и бабушкой под охраной гвардейского саперного полка, шефом которого был его отец. Однако нервный тик Александры Федоровны, начавший мучить ее после восстания, и частые упоминания отцом «друзей 14-го» не давали ему забыть об этом страшном для Романовых событии [4].
К. Кольман. Восстание на Сенатской площади. 1825–1826
Регулярное обучение наследника престола началось с 1826 года, когда Александру исполнилось восемь лет. План обучения, рассчитанный, как бы мы сейчас сказали, на десять классов, поручили составить все тому же Василию Андреевичу Жуковскому. Причем литературные заслуги Василия Андреевича вряд ли принимались Зимним дворцом в расчет. На решение родителей наследника повлияло то, что поэт состоял чтецом при вдовствующей императрице Марии Федоровне и успешно преподавал русский язык Александре Федоровне. Данное назначение еще раз убеждает нас в том, что иногда совершенно случайные решения необычайно точно попадают в цель.
Жуковский отнесся к почетному и ответственному заданию весьма серьезно. Он отпросился с придворной службы для лечения за границей, но использовал отпуск вовсе не для хождения по докторам, а для ознакомления с новейшими педагогическими системами и приемами. В результате его шестимесячных занятий педагогикой появился план обучения наследника российского престола. В основу своего плана Жуковский положил идеи швейцарского педагога Песталоцци, который считал, что в воспитании человека участвуют три фактора: личность воспитателя, то есть его влияние на питомца своем примером и убеждениями; сама жизнь, то есть условия, в борьбе с которыми вырабатывается самостоятельность и закаляется характер; наконец, чувство человеколюбия, сознание долга перед людьми, деятельная любовь к ним.
Главную идею своего плана Василий Андреевич ясно изложил в письме к императрице Александре Федоровне: «Его величеству, – отмечал он, – нужно быть не ученым и просвещенным. Просвещение должно ознакомить его со всем тем, что в его время необходимо для общего блага… Просвещение в истинном смысле есть многообъемлющее знание, соединенное с нравственностью». Иными словами, основной идеей плана стало образование для добродетели, развитие добрых природных качеств наследника престола и искоренение его дурных наклонностей.
К. П. Брюллов. Портрет В. А. Жуковского. 1837
История России и до Жуковского знала интересных воспитателей великих князей, достаточно вспомнить имена Порошина при Павле I или Лагарпа при Александре I. Однако все они, помимо обучения наследника, ставили перед собой определенные политические цели (правда, эти цели так и не получили реального воплощения) [5].
Александр II воспитывался, не испытывая прямого политического давления со стороны педагогов. Основой его образования, как уже говорилось, стало нравственное начало, этические принципы и ценности. Именно этим целям были подчинены все три этапа плана Жуковского. Первый из них назывался «Приготовление к путешествию» (эпоха романтизма давала себя знать даже в названиях разделов педагогических сочинений) и охватывал период жизни ребенка с 8 до 13 лет. Он включил в себя краткие сведения о мире, человеке, понятие о религии, знакомство с иностранными языками. Второй период плана, собственно «Путешествие» (13–18 лет) предполагал занятия науками в полном смысле этого слова. Жуковский разбил науки, как это было принято в его время, на «антропологические» (история, политическая география, политика и философия) и «онтологические» (математика, физическая география, физика и т. п.). Третий этап – «Окончание путешествия» – рассчитан на возраст от 18 до 20 лет. Он сопровождался чтением «немногих истинно классических книг», завершая образование «совершенного человека».
Николай I в целом одобрил этот план, сделав лишь одно замечание. Он потребовал, чтобы из него было выброшено изучение древних языков и чтение в оригинале латинских авторов. Осведомленные люди утверждали, что на решение императора повлияло то обстоятельство, что он сам был слишком измучен в детстве латынью и древнегреческим. Травма, нанесенная ему учителями в юные годы, не забылась и в зрелом возрасте, что уберегло его сына от многотрудного знакомства с классической латынью. Поскольку речь шла не только об изучении школьных предметов, но и о высоких нравственных целях, которых должно было достичь воспитание наследника, то по часам оказались расписанными не только учебные, но и неучебные (выходные, праздничные, каникулярные и т. п.) дни. Воспитание нравственно-идеальной личности не должно было знать ни перерывов, ни каникул.
Путеводной нитью образования, главным его предметом Жуковский не без оснований считал историю, на примере которой должны были вырабатываться правила поведения, нормы жизни будущего монарха. Если попытаться воспроизвести их вкратце, то они гласили следующее: верь, что власть царя происходит от Бога, но не делай эту власть насмешкой над Богом и человеком… Уважай закон, если законом пренебрегает царь, он не будет храним и народом… Люби и распространяй просвещение. Народ без просвещения есть народ без достоинства. Им, кажется, легко управлять, но из слепых рабов легко сделать свирепых мятежников… Свобода и порядок – одно и то же… Окружай себя достойными помощниками… Уважай народ свой…
Отметим, что эти правила, во всяком случае некоторые из них, наследник усвоил так прочно, что позднее старался, насколько это ему казалось возможным, действовать в соответствии с ними. Когда мы говорим о плане обучения, разработанном поэтом, то речь идет не только о наборе предметов и общих установках. Жуковским тщательно была продумана обстановка классной комнаты, зала для гимнастических упражнений, мастерской ручного труда. Он вообще старался превратить обучение наследника в своего рода священнодействие. «Дверь учебной горницы, – писал Василий Андреевич, – в продолжение лекций должна быть неприкосновенна… из этого правила не должно быть ни для кого исключения». Исключения не было действительно ни для кого, включая императора.
Жуковский не побоялся вторгнуться даже не в свою «епархию» – в военное обучение Александра, которым ведали Мердер и сам Николай I. Василий Андреевич опасался, что его воспитанник, чрезмерно увлеченный красотой балетной шагистики рот и батальонов, яркостью их мундиров, «…привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве – казарму». Мужественный и оправданный демарш поэта-учителя значительных последствий не имел. Николай Павлович согласился с тем, что любовь Александра к внешней стороне военных дел может быть опасна, но настоял на том, чтобы соответствующие науки изучались наследником более серьезно. По мнению Николая I, из него должен был выйти «военный в душе», без этого наследник рисковал быть «потерян в нашем веке» [6].
К выбору учителей для своего первенца император, надо отдать ему должное, подошел очень серьезно. Кроме Жуковского, читавшего русскую историю и новейшую отечественную словесность, великого князя обучали такие знатоки своего дела, как К. И. Арсеньев – историк, географ, статистик. Незадолго до своего назначения учителем наследника он, по доносу П. Рунича, был уволен из Петербургского университета «за безбожие и революционные идеи». Эта аттестация профессора вряд ли соответствовала действительности, во всяком случае не помешала ему попасть в Зимний дворец. К тому же ряду относился и П. А. Плетнев – профессор русской словесности того же Петербургского университета, приятель А. С. Пушкина, издатель журнала «Современник».
Чтобы Александру не было скучно в одиночку «грызть гранит науки», в соученики ему определили двух его сверстников – Иосифа Виельгорского и Александра Паткуля. Выбор сделан далеко не случайный, содержавший, как оказалось, двойное дно. Иосиф Михайлович Виельгорский происходил из семьи польского некогда мятежного графа М. Ю. Виельгорского. Последний был не только прощен Николаем I, но и сделался другом императорской семьи, во всяком случае был приглашаем к царскому столу, сопровождал императорскую чету в театр, развлекал ее музыкальными пьесами собственного сочинения. Иосиф же остался в памяти окружавших наследника людей примерным мальчиком, благородного поведения, всегда умным, бодрым, веселым, то есть служившим неким ориентиром для своего венценосного товарища, подхлестывавшим его честолюбие. Позже он стал офицером лейб-гвардии Павловского полка, обещал вырасти в крупного военачальника, но умер от туберкулеза, не дожив и до 24 лет.
Александр Владимирович Паткуль как по способностям, так и по прилежанию заметно отставал от своих товарищей, а потому под рукой всегда был человек, которого наследник легко опережал в учебе, никогда не оставаясь последним среди «одноклассников». Паткуль и позже не сделал той карьеры, которую можно было бы ожидать от человека, имевшего высочайшие связи при дворе. Он стал генералом свиты, петербургским обер-полицмейстером, затем генерал-адъютантом, но на всех этих постах не высказал никаких талантов. Жизнь трех товарищей оказалась четко расписанной на многие годы вперед. Изо дня в день их ожидал подъем в 6.00, с 7 до 12 – занятия с одночасовым перерывом, с 12 до 14 – прогулка, с 14 до 15 – обед и вновь занятия до 17, с 19 до 20 часов – гимнастика и подвижные игры, в 22 – отход ко сну. Даже во время прогулок по Петербургу их обучение не прекращалось, так как, по замыслу Жуковского, они должны были «обозревать» общественные здания, учебные и научные учреждения, промышленные заведения и прочие достопримечательности.
Еженедельно у двух Александров и Иосифа набиралось по 46 часов уроков, а зимой и летом их ожидали еще и экзамены, продолжавшиеся по четыре дня. Эти экзамены имели для них достаточно неожиданное значение. Мердер и Жуковский настояли на том, что право делать добро является величайшей наградой, и предложили создать особую кассу благотворительности, взносы в которую составлялись из сумм, полученных тремя воспитанниками за высшие баллы на экзаменах. Так и шло из года в год: история, русский язык, математика, физика, философия, геология, французский, английский, немецкий и польский языки, рисование, музыка, гимнастика, плавание, фехтование, танцы, военные науки, токарное дело, а два раза в год серьезное подведение итогов, на котором обязательно председательствовал строгий Папа, император Николай I, с особым пристрастием экзаменовавший старшего сына.
Ф. Крюгер. Портрет Николая I. 1835
Он любил повторять детям: «Всякий из вас должен всегда помнить, что только своей жизнью может искупить происхождение великого князя». Оказывается, факт случайного рождения в императорской семье надо было искупать то ли как грех, то ли как особую отметину судьбы. Мердер и Жуковский, внимательно следившие не только за успехами наследника в учебе, но и за становлением его характера, регулярно докладывали императору о проявлении тех или иных черт личности Александра. «Я теперь гораздо больше на него надеюсь, – писал в 1828 году Жуковский, – вижу, что имеет он здравый ум, что в этом уме все врезывается и сохраняется в ясном порядке, вижу, что он имеет много живости; вижу, что он способен к благородному честолюбию, которое может завести его далеко, если соединится с ним твердая воля; вижу, наконец, что он способен владеть собою, посему и имею право надеяться, что он, как скорее поймет всю важность слова “должность”, будет уметь владеть собою». Под словом «должность» надо понимать, конечно, долг – слово-символ, слово-ключ, которое отныне будет незримо сопровождать наследника как тень на протяжении всей его жизни.
Тогда же 10-летний Александр, получив задание от учителей нарисовать эскиз герба для своего флага, изобразил на полулисте ватмана скалу, омываемую водой, муравья и якорь, а вокруг рисунка шел девиз: постоянство, деятельность, надежда. Оставим в покое девиз – он, скорее всего, выражал то, что от мальчика хотели слышать наставники, а вот рисунок… Одинокий утес, неизвестно как занесенный на него, но без устали снующий муравей, и якорь – символ и надежности, и непомерной тяжести. Невеселые представления были у наследника о своем блестящем будущем. Вообще же, он рос резвым, физически крепким подростком, многое схватывал, что называется, на лету, умел нравиться людям, был добр и сентиментален, обожал своих родных, особенно мать и сестер. Доброта и сентиментальность быстро стали чертами его характера, а черты характера – это те инструменты, с помощью которых мы пытаемся приспособиться к окружающей нас действительности. Так что наш герой выбрал не самый плохой набор инструментов.
Однако наставники постоянно отмечали и те негативные черты характера великого князя, которые требовали, по их мнению, исправления и даже искоренения. Самым неприятным и непонятным и для них, и для родителей Александра была странная апатия, хандра, нападавшая на ребенка совершенно внезапно и погружавшая его в некое подобие транса. В такие минуты для него не существовало ни уроков, ни игр, ни соучеников или наставников, и он, разоткровенничавшись, начинал говорить, «что не хотел бы родиться великим князем». Это состояние особенно усиливалось, когда наследник сталкивался с задачей, которую ему не удавалось решить сразу, одним махом. И кто знает, были ли такие проблемы связаны только с учебными занятиями? Прежде чем порассуждать на эту тему, приведем еще одно свидетельство из «Записок воспитателя» Мердера.
«В великом князе, – растерянно свидетельствовал генерал, – совершенный недостаток энергии и постоянства; малейшая трудность или препятствие останавливает его и обессиливает. Не помню, чтобы когда-нибудь он чего-нибудь желал полно и настойчиво. Малейшая боль, обыкновенный насморк достаточен, чтобы сделать его малоспособным заняться чем бы то ни было… Ему случается провести час времени, в продолжение которого ни одна мысль не придет ему в голову; этот род совершенной апатии меня приводит в отчаяние…» Мердер, понятно, говорит здесь о не слишком частых минутах хандры, которая иногда нападала на наследника, потому что вообще-то, как отмечал во многих местах своего дневника генерал-воспитатель, его воспитанник рос энергичным и веселым мальчиком. Интересно, а откуда генерал знал, что ни одна мысль не приходила в голову Александру во время его «транса», если ребенок в такие минуты практически ни с кем не разговаривал?
Другой чертой характера наследника, волновавшей воспитателей, была его, как они это называли, «невыдержанность». Тот же Мердер вспоминал, как во время прогулки по реке Виельгорский, дурачась, неосторожно вел шлюпку и зачерпнул бортом воду. Великий князь так рассердился, что схватил Иосифа за шею и дал ему несколько пинков, прежде чем вмешались воспитатели, сделавшие выговор наследнику. Уже став императором, Александр Николаевич мог накричать на незадачливого собеседника, в сердцах плюнуть в него, но тут же обнять и попросить прощения. Подобные сцены не являлись, конечно, нормой поведения монарха, но они действительно случались. И кто знает, не были ли эти крики и плевки человека, родившегося наследником престола, подавленного контролем воспитателей, местью или протестом за отсутствие у него нормального детства. Тем более что вообще-то Александр Николаевич умел прекрасно владеть собой, что он не раз доказывал и на охотах (однажды спас егеря, попавшего в лапы к медведю), и во время покушений террористов, и во время тушения многочисленных пожаров, случавшихся в Петербурге.
Так откуда же это бралось: шармерство и равнодушие к людям, острота мысли и апатия? Чтобы нащупать один из возможных ответов, обратимся к очередному наставлению-нотации, которыми Жуковский постоянно потчевал царственного воспитанника. «На том месте, – говорил учитель, – которое вы со временем займете, вы должны будете представлять из себя образец всего, что может быть великого в человеке». Представляете, читатель, что происходило ежедневно, если не ежечасно? От наследника, сначала мальчика, потом юноши постоянно требовали не просто хорошей учебы и приличного поведения, а образцовости, эталонности во всем. Для ребенка, да и для взрослого, такой груз неподъемен, психологически травмоопасен. Александр должен был всегда быть настороже, в полной готовности захватить пальму первенства в учебе, танцах, гимнастических упражнениях, светской беседе, и ни в чем не ошибиться, не «засбоить». В юношестве стимулом для него была не столько внутренняя потребность к лидерству, сколько тщеславие учителей и родителей, а также благоприобретенное желание угодить взрослым, избежать выговора или, еще хуже, разноса.
И дело здесь, конечно, не в природных качествах Александра, а в тех установках, которыми руководствовались его воспитатели и ближайшее окружение. Самые простые вещи – раздумья наедине с собой, желание разобраться попросту, по-мальчишечьи с Виельгорским или Паткулем – трактовались учителями и родителями как «апатия» или «гнусное чувство мести». Понятно, что внешнее «ничегонеделание» отнюдь не означает внутреннего бездействия. Может быть, именно в такие минуты и происходит взросление человека, его осознание себя в мире. Да и мальчишечьи драки – это не только «варварство» и выплеск злобы, но и необходимая разрядка, проявление детского умения постоять за себя, детское понимание лидерства.
Жуковский же старался наставлять в том же духе не только наследника престола, но и его родителей. «Смею думать, – писал он Николаю I, – что государь император не должен никогда хвалить великого князя за прилежание, а просто оказывать свое удовольствие ласковым обращением… Чем будет оно реже, тем более будет иметь цены, тем сильнее будет действие… Его высочество должен приучиться действовать без награды: мысль об отце должна быть его тайной совестью… Его высочество должен трепетать при мысли об упреке отца». Отец как тайная совесть, устрашение, страх упрека – весьма распространенные методы обучения и воспитания; настолько же распространенные, насколько и бессильные…
Неуемное усердие учителей, как ни странно, подстегивало любовь Александра прежде всего к военным занятиям. Дело в том, что за удачные действия на разводе или параде легче было заслужить похвалу отца, а особенного умственного напряжения плац-парадные экзерциции не требовали. Видимо, и чрезмерная чувствительность наследника («слезливость», по определению близких) проистекала от того непосильного гнета, под которым с ранних лет находилась психика царственного ребенка. Еще раз повторим, что плаксой, в обычном понимании этого слова, он отнюдь не был. Скажем, в 1831 году, катаясь на любимом коне Малек-Адели, Александр не удержался в седле, упал и сильно ударился о мостовую. Врачи констатировали «сильное помятие мускула правого плеча», сам же ребенок ни на что не жаловался, продолжая улыбаться, несмотря на жгучую боль, которая отпустила только через несколько дней.
Впрочем, особенности психики наследника по-настоящему скажутся позднее, в детстве наш характер достаточно пластичен, то есть легче компенсирует те тяготы, которые выпадают на долю каждого из нас. Пока же Александр рос достаточно обычным ребенком из образованной дворянской семьи. К четырнадцати годам он прочитал «Илиаду» Гомера, «Дон Кихота» Сервантеса, «Недоросль» Фонвизина, «Полтаву» Пушкина, «Путешествие Гулливера» Свифта, басни Крылова. Николай I подарил детям остров на одном из прудов Царского Села, названный Детским, и Саша с товарищами соорудили на нем дом из четырех комнат с салоном, проделали дорожки через кустарник, где до того жили одни кролики. Небольшое возвышение на острове дети называли «Мысом доброго Саши», в чем позже видели доброе предзнаменование. Здесь же позже (в 1854–1855 годах) были установлены бюсты Жуковского и Мердера как символ беззаботного детства. На другом конце острова дети выстроили некое подобие крепости и часто играли с гостями, штурмуя и защищая ее.
По воскресеньям и в праздничные дни, кроме соучеников, в Зимний дворец приглашались сверстники из аристократических семейств, молодые Адлерберги, Барановы, Нессельроде, Шуваловы, Фредериксы. Самым любимым их развлечением была военная игра. Перед ее началом императрица Александра Федоровна бросала жребий, определявший, у кого из юных полководцев начальником штаба будет государь, охотно принимавший участие в этой забаве. У молодежи в памяти навсегда осталось лихое развлечение, когда по сигналу Николая Павловича мальчики, стартовав от фонтана «Самсон», бросились вверх по каскаду работавших на полную мощь фонтанов, стремясь первыми достичь верхней площадки, где их ждала императрица с призами. Александр не был первым в этом штурме, но вошел в призовую тройку.
Да и в учебе дела у наследника складывались достаточно хорошо. После одной из экзаменационных сессий Николай I писал Жуковскому: «Мне приятно сказать вам, что я не ожидал найти в сыне моем таких успехов. Все у него идет ровно, все, что он знает, знает хорошо, благодаря вашей методе и ревности учителей». Чтобы еще больше развить творческий потенциал воспитанников, Василий Андреевич предложил им издавать журнал «Муравейник», в котором деятельное участие приняли и наследник престола, и его сестры Мария и Ольга, и Виельгорский с Паткулем.
Первое большое горе, а затем и по-настоящему радостное волнение пришли к цесаревичу в 1834 году. В начале этого года после долгой и продолжительной болезни умер Карл Карлович Мердер, и Александр, от которого долго скрывали роковую болезнь учителя, оплакал свою первую потерю (узнав о смерти Мердера, он зарыдал, повторяя: «Боже мой! Я все надеялся, что скоро увижу бесценного Карла Карловича!»). А 17 апреля великому князю исполнилось 16 лет, и в соответствии с законом и традицией он был объявлен совершеннолетним. Интересно, что в этот день финский геолог Норденшильд открыл на Урале неизвестный ранее драгоценный камень и назвал его в честь наследника александритом. При всем обилии предзнаменований и предсказаний, сопровождавших царствование Александра II, разговоры, связанные с этим камнем, запомнились современникам особо. Цвет александрита весьма изменчив и ассоциировался у очевидцев событий 1860–1880-х годов со светлым началом царствования Царя-Освободителя и его кровавым финалом.
Оставим на время в стороне предзнаменования Александру Николаевичу (пора называть его именно так, без фамильярного – Саша или юношеского – Александр) предстояло принести присягу на верность императору и России, а также, продолжая учебные занятия, включиться в работу государственных органов. Николай I повелел совершеннолетнему отныне сыну присутствовать на заседаниях Сената, а с 1835 года он стал членом Святейшего синода. Произошли изменения и в учебных занятиях наследника, что немедленно сказалось и на составе учителей, и на форме занятий.
Жуковский, как преподаватель, теперь отходит на второй план, а на роли главных педагогов выдвинулись государственные мужи, призванные подготовить Александра Николаевича к практической деятельности на благо Отечества. Знаменитый министр-реформатор времен Александра I и видный чиновник при Николае I Михаил Михайлович Сперанский читает ему курс лекций под названием «Беседы о законах» [7]. Начинался этот курс следующей сентенцией: «Слово “неограниченность власти” означает, что никакая другая власть на земле не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставленные, извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и должны быть для него непреложны и священны… Ни в коем случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во всех случаях подлежит… суду совести и суду Божию».
Кроме лекций Сперанского, пробудивших у наследника интерес к законотворческой деятельности, военный историк Жомини [8] читал ему военную стратегию и тактику (популярность бывшего французского генерала среди русского офицерства зафиксирована Д. Давыдовым в известных строках: «…Но что слышу от любого? Жомини да Жомини, а об водке ни полслова»). Финансовую ситуацию в России Александру Николаевичу освещал один из лучших министров финансов за всю историю страны Канкрин, а хитросплетения внешней политики – старший советник МИДа барон Бруннов. Лекционные курсы, читавшиеся высшими сановниками империи, не предполагали ни домашних заданий, ни полугодичных экзаменов. Школярство кончалось, вместо него начиналась серьезная теоретическая и практическая подготовка к реальной государственной деятельности.
Весной 1837 года 19-летний Александр Николаевич сдал комиссии, состоявшей из всех его преподавателей во главе с императором, последнюю, «выпускную» сессию по всем предметам. К этому времени он получил блестящее образование, равноценное, по мнению знающих иностранцев, подготовке к защите докторской диссертации в лучших европейских университетах. Воспитан же… Воспитан наследник был обстановкой тех дворцов, в которых жила или отдыхала царская семья. Иного влияния, кроме влияния наставников или семьи, он не знал, а это означало, что цесаревич ощущал себя одиноким именно потому, что был призван со временем занять престол. Как говорят психологи, ребенок, выросший в обстановке преклонения со стороны взрослых, в обстановке постоянного напоминания о том, что он выше остальных людей, чаще всего со временем превращается в необузданного деспота. Что ж, посмотрим, у нас впереди еще весь разговор.
В том же 1837 году Александр Николаевич предпринял семимесячное путешествие по России, которое в XIX веке стало обязательным элементом образования для наследников престола. Маршрут поездки великого князя оказался гораздо шире, нежели у его предшественников и преемников. Наследника сопровождала внушительная свита, состоявшая из его учителей и молодых офицеров гвардейских полков. Путешествие выдалось утомительным, поскольку железных дорог в российской глубинке еще не существовало и передвигаться пришлось на лошадях, целой кавалькадой колясок и экипажей всех цветов и фасонов.
Основную задачу этой поездки Жуковский в письме императрице Александре Федоровне сформулировал следующим образом: «Я не жду от нашего путешествия большой жатвы практических сведений о России… главная польза – вся нравственная, польза глубокого неизгладимого впечатления». Василий Андреевич остался верен себе, рассматривая поездку как шлифование нравственных качеств наследника, заложенных в результате 10-летнего обучения. Маршрут для Александра Николаевича был выбран сложный и для царственной особы не совсем обычный. Он включал в себя Новгород Великий, Вышний Волочек, Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пензу, Тамбов, Калугу, Москву. Этот долгий вояж по стране неисправимый романтик Жуковский назвал «всенародным венчанием с Россией». Под Россией, видимо, подразумевался наследник престола.
Восторженные подданные встречали великого князя повсюду настолько горячо, что иногда становилось тревожно за здоровье путешественников. Видимо, прав был великий англичанин Ч. Диккенс, который писал, что наши предки обладали особым «органом почитания» (не совсем, правда, понятно, почему он наделял этой особенностью только предков? Судя по всему, мы и сейчас сохранили «орган почитания» почти в неприкосновенности). Флигель-адъютант Александра Николаевича С. А. Юрьевич в письме к жене рассказывал о приеме их на улицах Костромы: «Нельзя описать того, можно сказать, ужаса, с которым народ толпился к великому князю. Беда отдалиться на полшага от него; уже более нельзя достигнуть до него, и бедные бока наши и ноги будут помнить русскую любовь, русскую привязанность к наследнику… Вчера при выходе из собора (в знаменитом Ипатьевском монастыре. – Л. Л.) толпа унесла… далеко от дверей архиерея; он долго не мог попасть назад в церковь».
Обаяние трона действительно имело силу то ли легендарную, то ли мистическую. В той же Костроме, как, впрочем, и в Ярославле, многие тысячи людей, собравшихся на берегу Волги, чтобы только увидеть наследника, часами стояли по пояс в воде: так лучше можно было рассмотреть его плывущего мимо в лодке. Крик «Ура!», постоянно сопровождавший путешественников, настолько навяз в ушах, что слышался великому князю и его свите даже в полной тишине, заставляя их просыпаться по ночам [9].
Цесаревич Александр Николаевич во время поездки по России в крестьянской избе. История царствования императора Александра II (в картинах).
Санкт-Петербург, 1882.
Во время своего путешествия Александр Николаевич виделся не только с официальными лицами и толпами народа. По просьбе или подсказке Жуковского, он побеседовал со ссыльными декабристами и А. И. Герценом и обещал им обратиться к отцу с прошением о смягчении участи политических ссыльных (в результате ходатайства наследника престола Герцену был разрешен переезд из Вятки во Владимир, к лучшему были изменены и условия жизни декабристов). Вообще же Александр Николаевич объехал 30 губерний России, первым из Романовых посетил таинственную Сибирь. Ему было подано 16 тысяч прошений (сам он, понятно, в большинстве случаев ничем не мог помочь просящим, но исправно обращался с ходатайствами к отцу). По приказу Николая I в ознаменование путешествия наследника каждая губерния, которую тот посетил, получила по восемь тысяч рублей для раздачи наиболее нуждающимся. А возвращение из путешествия у нашего героя вышло странным и, как говорили позже, символичным. Еще в Тосно, к которому кавалькада подъехала в сумерки, стало видно зарево над Петербургом. Горел Зимний дворец – так что возвращался наследник на пепелище. Вот и не верь после этого предзнаменованиям…
Спустя год после путешествия по России Александр Николаевич отправляется в большой заграничный вояж, который, по замыслу того же Жуковского, должен был официально подвести черту под годами ученичества великого князя. Каким увидел наследника российского престола Запад? Внимательный, желчный и не всегда объективный наблюдатель маркиз де Кюстин, столкнувшийся с цесаревичем в Германии, нарисовал следующий его портрет: «Выражение его взгляда – доброта. Это в прямом смысле слова – государь. Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека прекрасно воспитанного… Он прекраснейший образец государя из всех, когда-либо мною виденных». Добрый отзыв де Кюстина о будущем российском самодержце дорого стоит, ведь, скажем, его отца он отнюдь не жаловал.
Картины зарубежной жизни замелькали перед наследником, как в калейдоскопе, однако и не ослепили его, и не прискучили ему. В 1864 году, напутствуя своего старшего сына перед его первой поездкой в Европу, Александр II вспомнит о собственном путешествии за границу и впечатлениях от него. «Многое тебе польстит, – писал он, – но при ближайшем рассмотрении ты убедишься, что не все заслуживает подражания и что многое, достойное уважения там, где есть, к нам приложимо быть не может, – мы должны всегда сохранять свою национальность, наш отпечаток, и горе нам, если от него отстанем… Но чувство это не должно, отнюдь, тебя сделать равнодушным или еще более пренебрегающим к тому, что в каждом государстве или крае любопытного или оригинального есть… Напротив, вникая, знакомясь и потом сравнивая, ты многое узнаешь и увидишь полезного и часто драгоценного тебе в запас для возможного подражания…». Отношение к иностранным порядкам, как можно заметить, не совсем в духе времени. Скорее, это смесь настороженности к чужеземцам, свойственной жителям Московии XV–XVI веков, с практической любознательностью, энергично насаждавшейся в России Петром Великим.
Здесь, в данном месте нашей неспешной беседы, выделим лишь один эпизод поездки Александра Николаевича за границу, эпизод, достаточно мимолетный в обширной программе вояжа, – визит в Дармштадт в середине апреля 1839 года. Встреча с великим герцогом Дармштадтским Людвигом II в официальной программе не значилась, и наследник, утомленный постоянными переездами и официальными приемами, попытался ее избежать, дабы не скучать на очередном званом ужине. Однако генерал А. П. Кавелин, заменивший при нем покойного Мердера, и Жуковский уговорили цесаревича нанести визит герцогу, чтобы не обижать монарха, заранее подготовившегося к приему высокого гостя. За ужином Александр Николаевич познакомился с 15-летней принцессой Марией и некоторым образом увлекся ею. Во всяком случае, он отправил родителям письмо с просьбой посвататься к принцессе, а сам продолжил запланированную поездку по маршруту: Майнц – Голландия – Англия. Но о Дармштадте все-таки не забывал, тем более что, по дошедшим до него слухам, принц Вильгельм Прусский вскоре начал переговоры о браке русского наследника с родителями Марии.
В. И. Гау. Портрет цесаревны великой княгини Марии Александровны. 1841
Нетерпение великого князя усиливала не только юношеская влюбленность, но и то обстоятельство, что, по свидетельствам очевидцев, он не раз говорил, что вовсе не желает царствовать, а заветной его мечтой является женитьба на достойной особе и создание прочного семейного очага. В подобном намерении он отнюдь не был оригинален. Еще его дядя, император Александр I, выражал желание поселиться с женой на берегу Рейна в Германии и вести в приятном уединении жизнь частного человека. И если Александр I не пошел дальше мечтаний, то его племянник… Впрочем, обо всем в свое время.
Поскольку наследник престола завершает свое образование, попытаемся, хотя бы бегло, перечислить основные черты его характера при переходе от юности к зрелости, тем более что позже Александр Николаевич вряд ли имел возможность меняться кардинальным образом. Итак, он определенно сознавал важность и тяготы престолонаследия, и его слова о желании родиться простым смертным не надо воспринимать ни как кокетство, ни как стремление отречься от престола сию же минуту. Цесаревич постепенно привык находиться в центре внимания и принимать знаки поклонения от всех, включая родных и близких (а может быть, просто смирился с этим). Привычка первенствовать во всем и над всеми развила в нем обидчивость, ревность к чужим успехам, и в отличие от отца он не очень умел выслушивать справедливые упреки или здравое несогласие со своей точкой зрения даже в разговорах наедине.
Душа его оказалась по необходимости динамичной, в ней умещалась и сентиментальность, и желание охватить все и все перечувствовать, и равнодушие. Равнодушие рождалось не столько от нелюбви к людям и миру вообще, сколько как средство защиты от болей мира, которые он не мог уменьшить при всем желании. Постепенно в наследнике развилась подозрительность (особенно по поводу того, что им управляют), в ней, помимо естественной тяги к самостоятельности, чувствуется отголосок школьных времен, когда опека воспитателей оказывалась зачастую мелочной, а потому непереносимой. Отметим, что все эти годы наследник престола напряженно искал свое место в не слишком гармоничном мире взрослых, этот поиск был особенно труден для будущего монарха, человека, у которого на долгие глубокие раздумья всегда оказывалось недостаточно времени, а потому в его действиях часто преобладали первые впечатления, первые движения души.
Пока же в июне 1839 года наш герой вернулся в Россию, и Николай I счел необходимым более серьезно приобщить его к государственной деятельности. Александр Николаевич стал членом Государственного совета, а с 1840 года обязательно присутствует на заседаниях Комитета министров. В апреле этого же года состоялась его помолвка с принцессой Марией, их свадьба была сыграна через год в Большой церкви Зимнего дворца. У молодой четы появился свой двор, на первых порах заметно отличавшийся от «большого двора», в первую очередь, простотой, отсутствием сложного и обязательного церемониала. На ежедневных вечерах у «молодых» (зимой – в Зимнем дворце, летом – в Александровском Царскосельском) господствовали веселье и непринужденность: занимались чтением вслух, музицировали, играли в вист и другие карточные игры. Царственная чета жила счастливо, во всяком случае, до коронации у Александра Николаевича и Марии Александровны родилось две дочери и шесть сыновей [10]. Однако одной из самых раздражающих черт идиллий было и остается то, что они не могут длиться вечно, впрочем, в противном случае, их называли бы как-нибудь иначе.
С каждым годом досуг наследника сокращался как воспетая Бальзаком шагреневая кожа. Постепенно он становится членом Финляндского комитета, Комитета министров, Кавказского комитета, канцлером Александровского университета в Финляндии, членом Комитета по постройке моста через Неву и Петербургско-Московской железной дороги, председателем секретных Комитетов по крестьянскому делу в 1846–1848 годах. Кроме того, с 1842 года Александр Николаевич начал постоянно замещать отца во время отъезда того за границу или путешествий императора по России. Скажем, в 1846 году, отправляясь в Палермо на очередной съезд глав Священного союза, Николай I облек старшего сына такой властью, что за границу высылались только такие проекты указов, которые требовали исключительно высочайшей подписи да мемории Государственного совета. Цесаревич сделался вторым главой государства, но временная передача ему самодержавной власти была проведена столь секретным циркуляром, что оставляла в полном неведении даже членов Сената. Подобная секретность, столь свойственная «закрытым» государствам, зачастую приводила к неприятным накладкам, но постепенно высшая бюрократия привыкла к тому, что в стране существуют как бы два одинаково важных для нее хозяина. Кстати, именно за отправление высшей государственной должности в 1848 году наследник получил свой первый орден – Святого Владимира 1-й степени.
Его роль в управлении государством в эти годы становится настолько значительной, что ее не могли не заметить иностранные наблюдатели. Английский посол в Петербурге лорд Кланикард докладывал своему правительству о том, что «в России как будто правят два императора». В 1850 году наследник впервые принял живое участие в разрешении вопроса большой государственной важности. По инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева капитан Невельской заложил в заливе Счастья на Дальнем Востоке крепость Петровское зимовье, а в устье Амура основал укрепленный Николаевский пост (ныне город Николаевск), взяв под покровительство России местное население. На заседании Комитета министров, посвященном этому вопросу, государственный канцлер (глава внешнеполитического ведомства) Нессельроде, военный министр Чернышев, министр внутренних дел Перовский и министр финансов Вронченко высказались против присоединения к империи территории в устье Амура. Они мотивировали свое решение тем, что на эти земли претендует Китай и в случае возникновения военных столкновений с ним Россия окажется в затруднительном положении ввиду отдаленности спорных территорий. Муравьев же доказывал, что Китай присутствует в данном регионе только номинально и что Невельской упредил захват этих стратегически важных для России земель англичанами. Александр Николаевич, прочитав секретный доклад Муравьева и переговорив с ним лично, поддержал мнение генерал-губернатора, санкционировав тем самым присоединение к империи значительной части Приморского края.
Во многих исследованиях с непонятным удовлетворением отстаивается тезис о том, что до кончины Николая I наследник ничем не проявил себя как реформатор, полностью разделяя отцовскую систему взглядов. Даже в Секретных комитетах по аграрному вопросу он выступал с позиций противника перемен, сопротивляясь минимальным сдвигам в крепостной деревне – четкому определению размеров повинностей крестьян в пользу помещиков (эту меру одобрил даже император, которого трудно заподозрить в антидворянских настроениях). Все это верно, но любопытно, а как в условиях принципиально устойчивой политики Николая I цесаревич мог проявить свои преобразовательные устремления, если бы они у него и были? Скорее же всего, что в 1840-х годах Александр Николаевич вовсе не стремился к реформам, что опять-таки не удивительно, поскольку он не только вырос как государственный деятель в недрах николаевской системы, но и до поры искренне верил в ее жизнеспособность и необходимость для России. Похоже, что правота историков, о которых мы говорили чуть выше, является правотой чисто формальной.
Истинное лицо руководителя государства познается не по тому, готовит он или не готовит перевороты и пертурбации существующей системы, а по тому, умеет ли он извлекать уроки из функционирования этой системы, может ли он, используя сильные и отбрасывая слабые стороны системы, направить развитие страны в лучшее русло. Нет никаких оснований полагать, что великий князь на все смотрел глазами своего отца, был его слепым подражателем, не видел проблем, стоящих перед страной. Правильнее было бы предположить, что он не знал путей разрешения этих проблем, и пока лишь смутное чувство, что не все благополучно в отечестве, начинало тревожить наследника престола, становясь с годами все более отчетливым. Оно особенно усиливалось в годы войн, когда стране приходилось прикладывать сверхусилия, чтобы одержать победу над противником или хотя бы сохранить свое лицо.
Александр Николаевич, как уже отмечалось, любил армию и военные занятия, но отнюдь не жаловал войны. Не то чтобы он был пацифистом и отрицал вооруженные столкновения с высоких идейных позиций. Нет, но, по его мнению, войны стали стоить слишком дорого, ведут к неоправданным человеческим и материальным потерям, разрушают финансовую систему, а кроме того, портят саму армию, нарушая заведенный в ней порядок. Так уж получилось, что, несмотря на нерасположенность нашего героя к войнам, они сопровождали его всю жизнь, с юности до последних лет правления. Империя в XIX веке продолжала «округлять границы», и самодержец не находил в себе сил противостоять этому процессу. Впрочем, две первые свои войны Александр Николаевич встретил, будучи еще цесаревичем, причем оба этих вооруженных конфликта заканчивать пришлось именно ему (имеются в виду Кавказская и Крымская войны), хотя начинал их совсем не он.
В первой половине XIX столетия Кавказ являлся в этническом, культурном, языковом, религиозном и экономическом отношениях территорией весьма пестрой. Был он к тому же страной еще и неспокойной; из Осетии и Кабарды, Чечни и Дагестана совершались постоянные набеги на «старые» российские земли (земли, давно присоединенные к России). Гордое и воинственное население Северного Кавказа, говорившее почти на сорока языках и находившееся в соседстве с Россией, угрожало ее спокойствию, да к тому же являлось постоянным союзником Турции и Персии.
В 1828 году в ответ на попытки Петербурга подчинить себе горские народы мулла Мухаммед призвал правоверных объявить джихад (священную войну) России. Империю влекли на Кавказ чисто стратегические соображения (соединение с Закавказьем, уже принявшим русское подданство, возможность угрожать Турции и Персии, усиление влияния Англии в Малой Азии), никаких иных выгод она здесь найти не надеялась. В конце 1820-х годов Дагестан, Чечня и другие территории этого региона приняли некую разновидность ислама, получившую название «мюридизм». Смысл мюридизма состоял в соединении идеи духовного самосовершенствования с идеей священной войны против неверных. Иными словами, духовное совершенствование, приобщение к числу «избранных» легче и проще всего достигались в ходе военных действий за правое дело. Истинным путем спасения («тарикутом») могли следовать только люди, проникшиеся сознанием и верой в величие Бога, а также убежденные в ничтожестве земной жизни. Кровь, пролитая за Него, заслуживала большей награды, чем месяцы поста или молитв. Падшего на поле боя ждал истинный рай, удовлетворявший всем желаниям человека.
Наиболее напряженный и упорный характер война на Кавказе приняла, когда в 1834 году во главе горцев встал Шамиль. Именно при нем Дагестан и Чечня объединились в единое государство – имамат, в котором вся полнота светской и духовной власти принадлежала имаму Шамилю. Ему удалось создать единую государственную казну, куда все жители имамата были обязаны вносить 1/10 часть своих доходов. Шамиль уничтожил работорговлю, ввел единый арабский язык, признанный государственным, заменил традиционное право шариатом. Опираясь на помощь Турции и Англии, горцы получили современное вооружение, научились создавать укрепления по последнему слову военной науки.
Г. Деньер. Портрет Шамиля. 1859
Шамиль объявил мобилизацию в армию всех мужчин в возрасте от 15 до 50 лет, которые должны были ежедневно упражняться в ружейной стрельбе и верховой езде. Войска горцев были разбиты на десятки, сотни и тысячи, а главную силу в них составляла легкая конница. В некоторых кампаниях против русских войск число воинов Шамиля доходило до 30–40 тысяч человек. В течение четверти века имамат упорно сопротивлялся попыткам присоединить Северный Кавказ к империи. Подвижные, привычные к действиям в горах, его войска легко укреплялись в неприступных местах. Правда, в 1837 году, после ряда поражений Шамиль был вынужден признать российское подданство, но через год он снова поднял восстание. Клятва, данная «неверным», не имела ценности в глазах истинно верующих.
Трудное для России положение сложилось в этом регионе в годы Крымской войны. В 1853 году весь Восточный Кавказ представлял собой мину замедленного действия, но Шамиль упустил момент наивысшего воодушевления подданных имамата. Решившись приступить к активным действиям только в 1854 году, он, правда, доставил царским войскам массу неприятностей и в июле, и в октябре этого года. Однако пыл горцев постепенно, но заметно начал остывать, а Турция с Англией не смогли оказать им ожидаемой поддержки.
После подписания Парижского мирного договора Россия получила возможность сосредоточить на Кавказе 200-тысячную армию, и положение Шамиля стало безнадежным. Тем более что дух населения, религиозный фанатизм, вера в мудрость имама заметно сходили на нет.
Борьба горцев безусловно носила национально-освободительный характер. Эмиграция 493 тысяч адыгов, абхазов и представителей других национальностей в Турцию под давлением русских войск стала подлинной трагедией. Решать вопросы соседства разных национальностей силой оказалось опасно и ненадежно. С другой стороны, религиозный фанатизм, нетерпимость к «неверным», свойственные мюридизму, не несли в себе творческого начала и не помогали решению задач, стоявших перед народами Кавказа. Изоляция от соседей, воспитание ненависти к инаковерующим не являлись путем к созданию подлинно цивилизованных отношений между людьми.
Боевое крещение нашего героя произошло в годы Кавказской эпопеи и выразилось в случайной схватке с чеченцами в октябре 1850 года около крепости Ачхой. Вблизи воспетого Лермонтовым Валерика наследник заметил отряд неприятеля и тотчас поскакал к нему, увлекая за собой свиту казаков конвоя и приданную конвою артиллерию. Чеченцы, выстрелив по Александру Николаевичу, бросились бежать, но были окружены превосходящими их силами русских. Оружие командующего чеченским отрядом, убитого в коротком столкновении, преподнесли наследнику престола. Наместник Кавказа князь Воронцов, сопровождавший высокую персону в поездке по краю, ходатайствовал перед императором о награждении отличившегося наследника (поступок которого, по правде говоря, был достаточно безрассудным) крестом Святого Георгия 4-й степени. Александр Николаевич получил награду, будучи еще на Кавказе, из рук своего старого знакомца Паткуля, специально посланного Николаем I с этим приятным поручением.
Наш герой тогда и представить себе не мог, что кавказская бойня, начавшаяся в 1810-х годах, растянется до середины 1860-х, унесет десятки тысяч жизней, заставит сосредоточить на Кавказе целую армию, которую, правда, будут по-прежнему стыдливо называть Кавказским корпусом. Только в 1859 году удастся пленить руководителя и вдохновителя горцев имама Шамиля (но и это, как мы знаем, не стало окончательным решением вопроса. Вряд ли у подобных вопросов вообще существует чисто военное решение). По распоряжению ставшего к тому времени императором Александра II к пленному имаму относились как к главе иностранного государства (почетный конвой, осмотр достопримечательных мест России и т. п.). По пути к новому месту жительства, в Калугу, Шамиль встретился с Александром II в Чугуеве, близ Харькова, где в честь почетного пленника состоялся военный парад.
Хорошо понимая, как тяжела участь вождя горцев, император отнесся к поверженному противнику по-христиански доброжелательно и даже разрешил ему взять с собой в Калугу родных и слуг (всего 22 человека). Доброта – такое качество характера, которое обычно не тускнеет с годами. Стоит отметить, истины ради, что нашим героем руководила не только приверженность христианской морали, скорее всего, у него просто не оставалось иного выхода. Смерть Шамиля в бою или на эшафоте превращала имама в священный для горцев символ; прощение или высылка за границу делала бы его источником постоянной опасности для Империи; оставалось одно – Шамиль как заложник мира и спокойствия на Северное Кавказе. Его плен был достаточно комфортабелен и необременителен: содержание имама и его родных брало на себя правительство России. Позже ему даже разрешили совершить два хаджа в Мекку (во время второго из них Шамиль умер, похоронен в Медине). Его старший сын Кази-Магома со временем сделался турецким генералом, воевал против России в 1877–1878 годах и прославился своими зверствами во время боев на Кавказе. Средний сын Магомет-Шафи поступил в русскую кавалерию, стал примерным воином и достиг генерального чина, оставаясь в глазах однополчан добрым малым и умелым командиром. Как бы то ни было, после пленения Шамиля Александру II удавалось в течение следующих десятилетий удерживать мир на Северном Кавказе.
Крымскую войну 1853–1856 годов Александр Николаевич встретил в звании главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами. В продолжение всего 1854 года цесаревич был главным помощником императора в деле обороны российских рубежей, умножения ее боевых сил. Когда гвардия выступила в крымский поход, она была заменена в Петербурге резервистами и запасными частями, сформированными под непосредственным наблюдением Александра Николаевича. Он же отвечал за защиту балтийского побережья от Выборга до Нарвы. Многочисленные заботы и хлопоты наследника не могли скрыть от него того тяжелого положения, в которое попали русские армия и флот в Крыму. Высадка франко-английского экспедиционного корпуса на полуострове, поражение русских войск на реке Альма, осада крупнейшей на Черном море военно-морской базы – Севастополя, безуспешные попытки разблокировать его, гибель Черноморского флота – показали всем и каждому неприспособленность крепостнической России к ведению современных войн. В который уже раз война сыграла для нашей страны роль индикатора уровня развития империи в сопоставлении с Западом, послужила способом проверки собственной экономики, армии, устойчивости социально-экономического строя, финансовой системы и других сфер жизни государства.
Героизм защитников Севастополя, их многомесячная борьба с превосходящими силами противника лишь подчеркнули отставание николаевского государства от развитых стран Европы. Наследник понимал, что ситуация складывалась катастрофическая, но насколько она ужасна, он узнал из докладов товарища (заместителя) военного министра Д. А. Милютина. К этому человеку Александр Николаевич начал присматриваться в ходе Крымской войны и, судя по всему, примерял его к посту военного министра (то, что Долгорукова придется уволить с этого поста после окончания военных действии, наследнику было совершенно ясно).
Основные положения докладов Милютина говорили о следующем. Огромная держава, сражавшаяся с 70–90-тысячным экспедиционным корпусом двух европейских государств, к 1856 году исчерпала прежде всего… людские ресурсы. Нет, никакой демографической катастрофы в России не произошло. Просто ее армия и флот насчитывали тому времени 2 миллиона человек, что составляло примерно 3 % от общего количества жителей страны. Как показывают исследования специалистов, для крепостнической державы эта величина являлась предельно допустимой, поскольку дальнейший рост вооруженных сил грозил острым экономическим и социально-политическим кризисом. Понятно, что вся российская армия не могла быть использована в Крыму, значительная ее часть охраняла границы империи, а кроме того, воинские гарнизоны были расположены внутри страны, дабы охранять покой в городах и деревнях России.
И. М. Прянишников. Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе. 1914
В 1856 году империя исчерпала не только людской потенциал, но и запасы оружия. Из миллиона с лишним ружей, хранившихся в арсеналах, осталось только 30 тысяч, остальные вышли из строя во время боев или остались на полях сражений. То же самое произошло и с артиллерией: из 1656 полевых орудий крымская армия могла рассчитывать только на 263. В том же году в России было произведено 300 тысяч пудов пороха, но только оборона Севастополя требовала 250 тысяч пудов, и это при том, что на 8–10 выстрелов неприятельской артиллерии русские канониры отвечали одним-двумя. К этому следует добавить явную опасность финансовой катастрофы, рубль стремительно терял силу. В результате дефицит бюджета России, который в 1845 году составлял 14,5 миллиона рублей, вырос в 1856 году до 307 миллионов рублей – страна находилась на грани военного и финансового краха. Участвуя во всех совещаниях на высоком уровне, наследник собирался чуть позже подробнее обсудить с министрами экстренные меры для спасения Севастополя и выхода страны из кризиса, но эти консультации пришлось отложить из-за трагического для империи и царской семьи события.
18 февраля 1855 года неожиданно для всех скончался император Николай I. Внезапность его кончины породила устойчивую легенду о том, что он не выдержал позора крымского поражения и принял яд. По слухам, циркулировавшим в Петербурге, яд самодержцу, по его же требованию, дал лечивший Николая Павловича доктор Мандт. Опасаясь за свою жизнь, он позже был вынужден навсегда покинуть Россию, что еще более усугубило подозрения публики. На самом деле все, видимо, обстояло гораздо проще. Император, заразившись гриппом и понадеявшись на свое все еще крепкое здоровье, больным отправился прощаться с гвардейскими полками, отбывавшими на фронт. Простуда перешла в воспаление легких, от отека которых он, безусловно подтачиваемый мыслью о грустном завершении своего царствования, скончался.
Чего стоили наследнику болезнь и смерть отца, свидетельствует его речь в Государственном совете, произнесенная сразу же после вступления на престол. Обратив внимание членов Совета на самоотверженное служение Николая I России, Александр Николаевич сказал: «В постоянных и ежедневных трудах его со мною он говорил мне: “Хочу взять все неприятное и все тяжелое, только бы передать тебе Россию устроенною, счастливою и спокойною…”. Я отвечал ему: “Ты – мы всегда говорили друг другу “ты” – ты, верно, будешь и там молиться за твою Россию и за дарование мне помощи”. – “О, верно, буду”, – отвечал он. В этой надежде и уповании на помощь Божию, на которую я всегда надеялся и надеюсь, я вступаю на родительский престол…» Александр Николаевич не читал, а просто рассказывал это собравшимся со слезами на глазах, что называется, делился своим огромным горем. Плакали и все присутствующие…
Последние разговоры монарха со старшим сыном известны историкам в двух вариантах. Согласно первому из них, император сказал Александру Николаевичу: «Сдаю тебе команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот». В другой редакции слова Николая I звучат несколько иначе. «У меня было две мысли, два желания, – будто бы говорил он, – и ни одного из них я не смог исполнить… Первое – освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе – освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война и война тяжелая, об освобождении восточных христиан думать нечего, обещай мне освободить русских крепостных крестьян».
Второй вариант разговора отца и сына мог служить развитием первой беседы, но что-то мешает поверить в это. Может быть, излишняя литературность записанной речи, может быть, то, что в нем чересчур точно предугаданы главные деяния Александра II: отмена крепостного права и освобождение балканских народов из-под власти Османской империи. Создается впечатление, что Александр Николаевич всю оставшуюся жизнь трудился исключительно ради того, чтобы выполнить предсмертную волю покойного родителя. Вряд ли вообще последние слова Николая I, при всей их важности для его первенца, послужили ускорителем процессов, происходивших в России с конца 1850-х и до 1870-х годов. Скорее хорошо знакомое всем поколениям россиян настроение: «Так дальше жить нельзя!» – охватило в середине 1850-х годов широчайшие слои общества, что в совокупности с военно-экономическим и внешнеполитическим кризисами и решило дело.
Начиная с 1854 года в империи наступила эра «рукописного безумия» – на публику обрушилась лавина как подписанных, так и анонимных записок, авторы которых внимательно анализировали положение в стране и страстно критиковали правление Николая I. Одним из зачинателей рукописного жанра в публицистике 1850-х годов стал историк М. П. Погодин, пустивший по рукам свои «Письма о Крымской войне». «Медлить нечего, – говорилось, в частности, в них. – Надо приниматься и вдруг за все: за дороги… за оружейные, пушечные, пороховые заводы, за медицинские факультеты и госпитали, за кадетские корпуса и торговлю, за крестьян, чиновников, дворян, духовенство, за воспитание высшего сословия, да и прочие не лучше, за взятки, роскошь, пенсии, аренды, деньги, финансы, за все, за все».
С этими «Письмами…», появившимися в конце 1854 года, успел ознакомиться император Николай I, который нашел в себе мужество объявить их автору благодарность и признать, что снизу, оказывается, иногда видно лучше, чем сверху. С публицистическими записками Кошелева, Самарина, Валуева, Мельгунова, Кавелина, Чичерина и другими знакомился уже новый император – Александр II [11]. Он соглашался с их основными выводами, но, думается, ему было горько оттого, что он ничем не может защитить память отца. Действия в стиле небезызвестного полковника Скалозуба ему претили, а по существу возразить авторам записок было нечего.
«Наследство» нашему герою досталось действительно тяжелое: сбившаяся с ритма система управления государством, финансовый кризис, неразбериха на транспорте, брожение в обществе, разраставшиеся слухи о «воле» среди крестьянства, а главное – проигранная, но неоконченная война. К войскам Англии, Франции, Турции в любой момент могли присоединиться армии Австро-Венгрии, Швеции, Испании и даже Сардинии. Кроме папы римского, которому проявление миролюбия положено по статусу, только Неаполитанское королевство обнаружило дружеское расположение к России и то лишь потому, что боялось экспансии Франции и готово было поддерживать тесные контакты с любым ее противником. Международная изоляция страны, угроза низведения ее до уровня второстепенной державы – вот что являлось наибольшей угрозой для Петербурга, сильнее всего било по самолюбию властей и общества.
Однако поначалу и в этих грозных условиях Александр Николаевич не собирался складывать оружия. 28 августа 1855 года русские войска оставили южную часть Севастополя, взорвав пороховые склады и затопив последние корабли Черноморского флота. 349-дневная осада города закончилась, унеся более 100 тысяч жизней россиян. В ознаменование героизма защитников города была выбита специальная медаль, а военнослужащим – защитникам Севастополя – месяц осады был засчитан за год службы. По распоряжению нового самодержца в Николаев прибыли великие князья Константин и Николай Николаевичи, а 13 сентября 1855 года – и сам император вместе с братом Михаилом. В тот момент, когда англо-французский флот курсировал под Одессой, а десант союзников высадился под Очаковом, Александр II прибыл в Крым, чтобы ознакомиться с положением дел и принять окончательное решение о дальнейших шагах руководства России. Проще говоря, монарх размышлял о том, есть ли смысл продолжать Крымскую кампанию. Именно эта поездка убедила его в полной невозможности не только выиграть, но и просто продолжать войну.
В очень непростых условиях, сложившихся в начале его царствования [12], Александр Николаевич держался уверенно и внешне спокойно. Американский дипломат А. Уайт так характеризовал российского монарха: «Он был высок, как все Романовы, красив и держался с большим достоинством, но у него гораздо меньше величественности и полностью отсутствует неуместная суровость отца». Может быть, Александра II поддерживало предчувствие близких, пусть и трудных, но необходимых стране перемен? А может быть, он радовался тому, что лед безгласия и бесправия общества трещал и начинал ломаться? Чувствовал это не только монарх. Очевидец событий, происходивших в середине 1850-х годов, свидетельствовал: «…отъявленные крепостники готовы были согласиться на большие пожертвования и на всякое, самое для них убыточное прекращение крепостного состояния, лишь бы освободили их от страха, возбуждаемого в них возможностью провозглашения вольности при вторжении врагов в наши пределы». В скобках заметим, что подобные настроения быстро испарились у помещиков после заключения Парижского мирного договора между Россией и воевавшими с ней союзниками.
Передовая часть общества тем временем внимательно присматривалась к новому монарху, ожидая от него, как это обычно бывает при переменах на престоле, чего-то чудесного и сверхпрогрессивного. Кое-кому взошедшее «светило» виделось при этом совершенно без темных пятен. «На Александра Николаевича, – писал известный либерал-западник К. Д. Кавелин, – нельзя смотреть без участия и сожаления… Он исполнен лучших намерений (интересно, откуда Кавелин мог это знать? Или он просто на это надеялся? – Л. Л.) и держит себя очень хорошо… Любовь к царю растет видимо… Признаюсь… что доброта и чистосердечие царя и меня начинают побеждать и привязывать к нему лично». Кавелину вторил глава семейного клана славянофилов С. Т. Аксаков: «Мы на каждом шагу видим, что государь хочет правды, просвещения, честности и свободного слова… Едва веришь, что наступает время, в которое честному человеку можно будет говорить без страха».
Н. А. Лавров. Портрет Александра II. 1873
Наивно было бы предполагать, что грядущие перемены совершенно не страшили Александра II или что у него имелся готовый и подробный план глобальных преобразований. Проблема крепостного права была слишком сложной, чтобы к ее решению можно было относиться без опасений. Да и чисто политические вопросы, особенно установление диалога между властью и обществом, являлись для империи проблемами абсолютно новыми. Вообще-то этот вопрос был не менее назревшим, чем отмена крепостного права, но к его решению до Александра II никто из монархов так и не пытался приступить. Однако новый самодержец верил в себя и в Россию, в конце концов, он просто не имел возможности отступить, выбрать какие-то менее радикальные варианты решений. Его долг главы нации призывал действовать осмотрительно, но смело и быстро. Трудности, как известно, ломают слабых, сильных же заставляют с утроенной энергией бороться с ними. Россию же никто и никогда слабой не считал.
Монарх в России больше, чем монарх
Автор прекрасно сознает, насколько неуместны в историко-биографических книгах академические отступления, неизменно пугающие читателя специальной терминологией, суховатостью стиля и вообще ломающие своим многоумием ткань повествования или, если брать наш случай, рвущие нить разговора. Осознавая все это, автор тем не менее полагает, что порой отступления совершенно необходимы для лучшего понимания эпохи в целом и отдельных ее сюжетов в частности. Единственное, чем он может немного порадовать читателя, а заодно и успокоить свою совесть, заключается в том, что противники подобных отступлений спокойно могут пропустить их, следя за перипетиями судьбы нашего героя. Внимательные же, тем более дотошные читатели увидят, что отступлений в нашем разговоре встретится всего лишь три, и каждое из них будет, по возможности, небольшим.
Проблема «Монарх как психологическое и теологическое явление» – слабо разработана и в психологической, и в философской, и в исторической литературе, а потому нам ничего не остается, как погрузиться в мир «голой» эмпирики. Для читателя это может быть даже более интересным, поскольку историческая практика чрезвычайно богата, занимательна, поучительна, несмотря (а может быть, благодаря) своей дву-, а то и трехзначности. Человек, любящий и привыкший размышлять над историческими событиями, проводить временные параллели, искать замысловатые аналогии, всегда отыщет в историческом материале подтверждения своим раздумьям и построениям. Правда, его оппоненты с необыкновенной легкостью проделают то же самое, но ведь в споре рождается не только истина, но и происходит становление нас самих как людей мыслящих. Поэтому давайте думать и спорить…
Вряд ли для кого-то является большим откровением то, что одна из главных причин особенности исторического лица России заключается в своеобразии ее государственности. У российского самодержавия имеются глубокие и весьма разветвленные корни, многие из которых сходны с западноевропейскими аналогами, другие же относительно специфичны. Для лучшего понимания предмета разговора напомним о главных этапах становления этого института власти, а также об основных чертах его характера. Начнем с того, что Древняя Русь, как и многие другие государственные объединения того времени, была «государством силы». Создаваемый ее населением прибавочный продукт господствующему слою приходилось изымать насильно, да и война, вперемежку с регулярными грабежами ближних и дальних соседей, долгое время сохраняла статус своеобразного «средства производства».
В результате глава Древнерусского государства становился в первую очередь защитником и добытчиком, а потому вершителем судеб, средоточием полезной для населения власти. Экономическая значимость княжеского «стола» наряду с военной, полицейской, судебной и т. п. значимостью, умение князей удовлетворять нужды господствующего (и не только господствующего) слоя населения тормозили развитие системы самостоятельного крупного феодального землевладения, то есть образование российской аристократии – политического и экономического противовеса княжеской, а позже царской власти. Строй, сложившийся в Древней Руси, ученые называют «властью-собственностью», а если проще, то таким строем, при котором князь являлся не только главой государства, но и самим этим государством (его землями, казной и т. п.).
Позже, в Московском царстве, частное землевладение также никогда не было ведущей формой земельной собственности. Земельные угодья оставались во владении государства, а все население считалось «держателем» земли, обязанным платить за это налоги и выполнять определенные повинности. Социальный строй, таким образом, оказывался своеобразной иерархией «держателей». Долгие века крестьяне сел и деревень, принадлежавших боярам, монастырям или дворянам, видели в них не полноценных хозяев вотчин и имений, а лишь «высших арендаторов», которым они по воле царя обязаны платить оброк или исполнять барщину.
Политический вес главы Русского государства значительно вырос в период монголо-татарского ига. Роль «хранителя земли» и ее освободителя от чужеземного гнета помогла московским князьям стать собирателями огромного царства. В результате завоевания Руси монголами и господства в ней Золотой Орды изменились и отношения между великими князьями и боярством; умерло право подданных менять сюзерена, отошла в прошлое самостоятельность земель и княжеств, гордых и относительно независимых бояр стало теснить служилое, а потому более зависимое от князя дворянство – вассалитет успешно вытеснялся подданничеством. Особенно усилились элементы деспотизма власти в годы правления Ивана IV Грозного, когда проблема подконтрольности трона обществу или подчинения общества трону была окончательно решена в пользу последнего. Тогда же главной опорой монархии безоговорочно становится служилое дворянство, выполнявшее роль как военной силы, так и средневековой бюрократии.
В те же годы утверждается новый, чиновный принцип строения правящей группы служилого сословия. Из общей массы дворян выделяется ее московская верхушка. Лишенная связи с уездным дворянством, она жестко проводит политику самодержавия, вопреки сословным интересам самого же дворянства. Схожие процессы протекают и в среде купечества, где образуются свои привилегированные слои «гостей». Иными словами, развитие сословий в России шло не по линии их консолидации, а по линии все большего дробления на чины. Это приводило к утрате ими способности отстаивать перед верховной властью особые социально-политические интересы, а значит, ко все большему возвышению трона.
XVII и XVIII века привнесли в этот процесс новые краски, но не изменили его сути. Во времена Алексея Михайловича самодержавие и «вся земля» уже не находятся в состоянии, пусть и неустойчивого, но равновесия. Сословия продолжают дробиться на московское и уездное дворянство, детей боярских и дворянство, «лучших», «средних» и «худших» горожан, что продолжает усиливать власть царя. Окончательную форму эти процессы принимают в правление Петра I, реформы которого способствовали безвозвратному превращению государя в абсолютного монарха, а дворянства – не просто в служилое сословие, но в сословие, служащее именно императору. В политической системе России единственным действенным элементом остается монархическая государственность. По справедливому замечанию польского историка К. Валишевского, начинания теперь могут идти и не от монарха, но его содействие необходимо даже в мелочах.
С другой стороны, личные качества властителей, восходивших на престол после Петра Великого, увеличивали зависимость верховной власти от столичного дворянства, бюрократии и гвардии. Все большее влияние начинают оказывать правления фаворитов – А. Д. Меншикова, Э. Бирона. А. И. Остермана, Шуваловых, братьев Орловых, Г. Л. Потемкина, М. М. Сперанского, А. А. Аракчеева. В XIX веке царь фактически пребывал на вершине бюрократической пирамиды в одиночестве. По словам одного из историков, «учреждений, систематически помогавших ему в управлении страной и способных хоть в какой-то мере разделить с императором ответственность за результаты работы государственной машины, не существовало».
Позиции самодержавия чрезвычайно усиливала мощная поддержка его Православной церковью. Последняя часто представляла монарха чуть ли не живым божеством, приписывая ему особые качества и возможности. В данном случае конечно, имелась своя постепенность событий. До XVI века цари рассматривались подданными главным образом как земные судьи, чья власть над людскими судьбами уподобляла их Богу, иными словами, правитель был равен Богу по праву судить и решать. Полного тождества между ними еще не существовало. Важным шагом на пути дальнейшего обожествления монарха стало наименование его царем, так как царский титул на Руси имел не столько иерархический и политический, сколько религиозный характер. Ведь этим титулом в священных текстах именовался Бог.
Поступки царей отныне делаются, в принципе, неподотчетными людям и не нуждаются в оправдании перед ними. В отношениях с подданными монарх начинает выступать как божество, и лишь в отношениях с Богом еще проявляется его человеческая сущность (но эти отношения надежно спрятаны от посторонних глаз). Его коронование называется священным, так как сопровождается особым таинством – миропомазанием. В ходе него царь получал от Бога силу и мудрость для осуществления власти над государством. Обряд коронации имел настолько мистический и глубоко религиозный характер, что даже предметы, участвовавшие в нем (царские регалии) становились могучими символами. Корона знаменовала собой величие, венец, скипетр – справедливость, мудрость, милосердие, держава – владычество над землей, трон – возвышение над другими властями, порфира – покровительство подданным. Для сравнения скажем, что при всей «огромности» власти, которой обладал, к примеру, во Франции Людовик XIV, католическая церковь, а значит, и подданные, считала его «правой рукой Церкви», «старшим сыном Церкви» и не более того. Уподобление короля Богу было возможно только в поэтических метафорах или даже придворной лести, но никак не в официальных церковных или государственных документах.
Миропомазание на царство Александра II.
Литография по рисункам В. Ф. Тимма. 1856
В России же с XVIII столетия императоры в проповедях и церковных текстах начинают называться кем-то вроде Христа. Скажем, во времена Александра II покушавшихся на его жизнь террористов сравнивали с Иудой, предавшим, как известно, Сына Божия. Став с XVIII столетия главой Православной церкви, монарх к своему, и без того уникальному образу добавил еще и авторитет патриархов. После этого вряд ли стоит удивляться тому, что перед Екатериной II крестьяне, встречавшиеся ей во время поездки по Малороссии, норовили поставить свечи, как перед живой иконой, солдаты, отвечая на приветствие Николая I, крестились, как при звуках благовеста, железнодорожные сторожа, встречая поезд Александра II, крестились и клали земные поклоны, как будто имели дело не с привычным средством передвижения, а с чем-то сверхъестественным.
В XIX столетии события жизни царя не только продолжают пониматься и оцениваться по образу и подобию земной жизни Христа, но и начинают праздноваться в церквях, отмечающих эти события (рождения, совершеннолетия, женитьбы, рождения детей, дни ангела и прочее) торжественными молебнами и проповедями. Сакрализация монарха захватывала самые разнообразные сферы жизни страны: государственное управление, национальное самосознание, богослужение, культуру. По словам одного из исследователей, «…сферой приложения сил искусства и мысли был, в первую очередь, дворец, игравший роль и политического, и культурного центра… и храма монархии, и театра, на котором разыгрывалось великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, неземного характера земной власти…» Следует отметить, что монархов восхваляли не потому, что они были тщеславны, и не потому, что восхваляющие желали добиться для себя каких-то благ (вернее, не только поэтому). Как заметил французский историк Ф. Блюш: «Фимиам – средство национальной, а не только королевской пропаганды». Великолепие царского дворца, блеск царского двора являлись одним из непременных условий возвеличивания нации и государства.
Религиозный взгляд на власть коснулся, естественно, и военных событий первой половины XIX века. Отечественная война 1812 года пропагандировалась Церковью и воспринималась народными массами как продолжение извечной борьбы Христа и Антихриста. Разговор Александра II со знаменитым проповедником Иннокентием о Севастополе уподоблялся беседе Христа с Моисеем и Илией о Голгофе на Фаворской горе. Примеров подобного перенесения религиозных сюжетов на абсолютно мирские события можно привести достаточно много. Все они, однако, будут говорить об одном и том же – об укоренившейся привычке Церкви и россиян видеть в монархе Бога или, в крайнем случае, Сына Божия.
В создании и предощущении грядущего помазанничества воспитывались и наследники российского престола. Возможно, не богословские хитросплетения и не уроки закона Божьего, а беседы с глазу на глаз царя с наследником из века в век формировали некую идею монархии, идею особого русского царства. Мы вряд ли сможем восстановить во всей полноте такие доверительные беседы, но тезисной расшифровке они, на наш взгляд, вполне поддаются. Речь, видимо шла о том, что монарх смертен, но бессмертна идея монархии. Ради этой идеи, объединяющей нацию, люди готовы пойти на многие жертвы и подвиги, а потому монархия более абсолютна, нежели монарх. Самодержец царствует, то есть царит. Возможно, есть политические деятели более способные, но им не дано стать незаменимыми. Поэтому император и вынужден постоянно заботиться о славе, чести, репутации как своей, так и страны в целом, ведь эти понятия относятся не только к нему лично, но и к спасительной для государства идее монархии. И не только к ним, но и к единственно истинной христианской православной религии.
Он должен помнить, что любое проявление им чувств удесятеряется в глазах окружающих: вспыльчивость превращается в царский гнев, награда – в царскую милость, решение – в царскую правду. Искушение монарха гордостью, к счастью, смягчается христианством, ведь Божественное право налагает на него свои нелегкие обязанности. Император должен быть немногословен; он знает, насколько значительны его слова, и никогда не злоупотребляет речами. Современники сумеют понять каждое его слово, каждую интонацию, оценят короткие замечания монарха. В глазах же будущих поколений он останется своими деяниями и тем, как его изобразят современники событий, насколько поймут его и оценят.
Он обращается к прошлому не для того, чтобы избавиться от него, но чтобы отвести грядущие бедствия, сохранить память о династии и стране, выстроить преемственное будущее. Только для императора существует постоянная живая связь между прошлым и будущим и на этом строится его политика. Наверное, неправильно было бы после всего сказанного сомневаться в искренности слов Александра II, обращенных им в ноябре 1861 года знаменитому канцлеру Пруссии Бисмарку: «Во всей стране народ видит в монархе посланника Бога, отеческого и всевластного господина. Это чувство, которое имеет силу почти религиозного чувства, дает мне корона, если им поступиться, образуется брешь в нимбе, которым владеет вся нация». Понимание царя как Отца русского народа и помазанника Божьего, предполагало не только особый эффект, но и особую ответственность монарха перед подданными. Царь, получая власть от Бога, тем самым не только получал санкцию на ее безмерность, но и брал христианские обязательства перед ведомым им народом. Даже в загробной жизни он нес ответственность за все неурядицы во вверенном ему государстве, и именно поэтому имел право на принятие полностью самостоятельных решений.
Положению российских монархов соответствует несколько определений, но одно из них представляется наиболее емким и убедительным – всеобъемлющая патриархальность. Причины удивительной живучести патриархальности заключаются в многозначности самого этого понятия. Оно является и исторической категорией, заключенной в определенные хронологические рамки, то есть преходящей, смертной, и содержит в себе некий универсальный смысл, а потому готово к возрождению в любую эпоху. Именно патриархальность в XIX веке (да и только ли в девятнадцатом?), как в частном, так и в государственном отношениях, вызывала в России драматические диссонансы, но она же неизменно восстанавливала гармонию, позволяла власти и обществу совершать необходимое некое нравственное и волевое усилие для установления нового компромисса между ними. Ее естественная замкнутость была притягательна потому, что не оставалась неизменной, пропитываясь духом новой культуры. Иными словами, патриархальность, в глазах многих и многих, являлась именно той прогрессивной постепенностью, по которой так тоскует человек, подсознательно опасающийся безоглядной ломки старого, бега вперед «сломя и очертя голову».
Отметим, что после Петра I традиционные опоры монархии: провозглашение монарха Богом на земле, система дворянской службы – дополняются идеями «общественного договора», «естественного права». Последние говорили о заключении определенного договора между обществом и властью, о гражданском долге или обязанности монарха перед подданными. Однако в России эти теории звучали нарочито туманно, ведь четко определенные условия или обязанности монарха устанавливали бы границы священной власти государя. Тем не менее, начиная с царствования Екатерины II самодержавие утрачивало грубо-деспотические признаки. Российские монархи были озабочены тем, чтобы не давать повода для обвинения себя в «азиатчине», да и само время заставляло власть менять свое отношение к сословиям и вести поиски путей к установлению новых межсословных отношений. С необходимостью укрепления, обеспечения самодержавия более современной идеологией связано появление таких понятий, как «законная монархия», «народное самодержавие», «истинная монархия». Однако сознание земной вседозволенности и ответственности лишь перед Богом не покидало правителей России. Да и только ли в правителях, в их охранении своего всемогущества было дело?
Первый раздел первого тома Свода законов Российской империи начинается следующим определением: «Россия управляется на твердых основаниях положительных законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих… Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Государь был единственным законотворцем и автором законоподобных распоряжений. Согласно статье 51 Свода законов, «…никакое место или правительство не может иметь своего совершения без утверждения Самодержавной Власти». Иными словами, всемогущество монарха являлось одним из основных законов страны, и властители были обязаны строго его исполнять, если хотели считаться законопослушными гражданами.
Со второй половины XVIII века император, воплощая верховную власть внутри страны, одновременно превратился в одну из главных фигур на европейской арене. Расширение сферы его деятельности, с одной стороны, отвлекало его внимание от проблем внутренней жизни империи, а с другой – заставляло постоянно соотносить экономические системы и социальные структуры России и ведущих европейских государств и анализировать соотнесенное. Иными словами, новое положение империи в Европе заставляло их вновь и вновь возвращаться к мыслям о состоянии собственной страны. Ведь только от верховной власти зависело решение насущных проблем государства, она (эта власть) долго являлась единственной политической силой в империи, способной реально оценивать и регулировать ситуацию в нужном направлении. Признавая за самодержавием превалирующую (до определенного времени) силу, нельзя не отметить ощутимого противоречия: эта сильная и по большей части умная власть имела недоброе обыкновение делать неверные (или неуверенные) шаги в самые критические моменты. Главной причиной такого противоречия было то, что в такие моменты монархи начинали прислушиваться не к здравому смыслу и не к законам естественного развития страны, а к инстинкту самосохранения, к голосу династического интереса. Полное отождествление себя (как династии) и государства начинало играть с ними злую шутку, что печально сказывалось на состоянии империи.
Вообще же понятие монархической власти трудно определяемо. Видный русский юрист С. А. Котляревский писал: «Положение монарха часто имеет гораздо более глубокое историческое, чем юридическое обоснование. Правовые определения этой власти… только поверхностный слой, который накинут на веками отлагавшиеся плоды побед и поражений в борьбе с окружающими социальными силами, на отпечатлевшиеся привычки, верования, чествования». На языке юристов, всегда требующем пояснений, власть императора являлась крайней, чрезвычайной, последней и безответственной.
Первое означало право крайних решений в минуту особой опасности, которой подвергается страна. Такие крайние решения зачастую выглядели нарушением традиций, даже богохульством, но являлись необходимыми и, с точки зрения верховной власти, единственно возможными. Говоря словами одного из героев В. Гюго: «Да, я разорвал завесу алтаря, но я перевязал раны страдающего отечества». Государю принадлежало и право чрезвычайных, надправных решений там, где законы оказывались бессильны или несовершенны. По выражению одного из толкователей этого положения, «давая законы, Государь, очевидно, сам стоит выше законов, как его источник». Ему же принадлежало право последних решений в делах государства, что давало возможность устранить почву для внутригосударственных конфликтов, оставляя последнее слово за монархом. В действительности это право иногда, напротив, приводило к возникновению конфликтов, особенно в интересующем нас XIX веке. Наконец, государю зачастую приходится принимать безответственные решения (термин, как вы понимаете, не имеет ничего общего с легкомысленностью и самодурством), что не только не упрощало его деятельности, а усугубляло положение самодержца. Ведь безответственными эти решения были по отношению к обществу, но совесть самого монарха и его религиозные убеждения требовали строгого и нелицеприятного ответа.
Честно говоря, при всей видимой четкости юридических определений власти венценосца мне больше по душе слова короля российских адвокатов Ф. Н. Плевако, который, отчаявшись научно определить, что из себя представляет власть монарха, сказал: «Не прикасайтесь к помазаннику Божию… Бывают минуты, когда Цари действуют подобно пророкам под высшим наитием Божества». Или более прозаичное, но не менее точное замечание П. А. Столыпина: «Теория скоро перешла в верование, верование в догмат, догматы же трудно опровергать какими-либо рассудочными доказательствами». Не правда ли, эти слова более точно выражают и искреннее уважение к царской власти, и умную растерянность перед ее бескрайностью.
В XIX столетии одной из центральных идей, посвященных самодержавию, стала идея о его цивилизаторской, прогрессивной роли, которая возникла не на пустом месте. Ее разделяли не только ретрограды и консерваторы, но и люди либерального и даже радикального склада ума и образа действий. Прислушаемся, например, к А. С. Пушкину, который в свое время писал: «Не могу не заметить, что со времени восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образовательности и просвещения… правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависит стать во сто крат хуже».
Действительно, неограниченная монархия, как форма правления, имела много преимуществ для проведения преобразований: возможность быстрого принятия единоличных решений, непререкаемость обновлений или, наоборот, постоянства кадрового состава высшего чиновничества, подталкивание исполнительной власти в нужном самодержцу направлении, подчинение всех и вся поставленной задаче. Однако непричастность России к правовой государственности не означала, что проблема правовых действий автоматически снималась. Ее нерешенность усугубляла социальные противоречия, деформировала общественную жизнь, вызывала противодействие растущих политических сил. До поры до времени выручало то, что власть в России осознавала свои интересы прежде, чем общество спохватывалось о своих. Но вечно так продолжаться не могло.
Шапка Мономаха
Теперь пришла пора вернуться к нашему герою и посмотреть, что ему лично принесла «шапка Мономаха», а прежде – насколько он был готов к вступлению на престол и действительно ли оказался одиноким «по определению» в силу занимаемого им поста. Начнем с того, что Александр II искренне верил в преимущества неограниченного правления. Он вполне мог бы разделить взгляды одного из самых умных и пылких защитников монархической государственности Л. А. Тихомирова, если бы основные труды последнего вышли на несколько лет раньше, и монарх мог бы с ними ознакомиться. Тихомиров, в частности, писал: «Династическая идея делает личность царя живым воплощением того идеала, к которому стремится нация». Далее он вычленил основные принципы монархической власти, которые нам будет небесполезно припомнить: самообладание; следование долгу; справедливость; соблюдение законности; сознание своей безусловной необходимости нации; осуществление назревшего и недопущение нации до роковых ошибок.
Понятно, что каждому из нас трудно сегодня вообразить себя реальным самодержцем, но никто не мешает нам оценить не только тяжесть власти, сложность задач, стоявших перед Александром II, но и груз надежд, которые возлагались на него. Не по себе становится от одних только определений качеств личности: вершитель судеб; гений нации; защитник справедливости, законности и прогрессивной эволюции – ведь их надо понимать в самом что ни на есть прямом смысле. Никаких послаблений, никакого отдыха и непрерывный самоконтроль как необходимое дополнение к постоянному контролю со стороны окружающих. При том авторитете, которым обладал монарх, он должен был прежде, чем высказать свое мнение, обдумывать, кому какие слова можно или нельзя говорить. Он вообще всегда был должен. При всей своей независимости любой самодержец неизбежно попадал в полную зависимость от того положения, которое занял. Сказать, что ощущаешь себя при этом на сцене под лучами софитов, значит не сказать ничего. Это не сцена, не трибуна, не амвон – человека просто нет. Вместо него – образ, лик, на который истово молится вся страна, ожидая не реальных свершений, а чудес, возлагая не понятные надежды, а неразумные упования.
Фрейлина новой императрицы Марии Федоровны А. Ф. Тютчева (дочь знаменитого поэта Ф. И. Тютчева) [13] сочувственно и со знанием дела писала о положении самодержцев: «Жизнь государей так строго распределена, они до такой степени ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений, забот о здоровье, они до такой степени являются рабами традиций, что неизбежно теряют непосредственность. Все живое навсегда вычеркнуто из их жизни. Никогда они не имеют возможности с увлечением погрузиться в чтение, беседу или размышление. Им по часам надо быть на параде, в Сенате на прогулке, на приеме, не считаясь с тем, что у них на уме или на сердце…»
А. Ф. Тютчева.
Фотограф А. И. Деньер. 1867
Да, человек, вступающий на политическое поприще, перестает быть только самим собой и невольно пытается сделаться тем, чего от него требует характер занимаемой должности. В этом отношении ранг самодержца является одним из самых трудных и даже показательных в своей сложности. Сегодняшние политики во многом сами выстраивают ту стену, которая отгораживает их от всех, во всяком случае, они сами выбрали себе политическую стезю и, видимо, знали, на что идут. Да и стена-то эта зачастую выглядит чем-то игрушечным, искусственным, ненужным. У наследственных монархов положение было совсем другое. Им по укоренившейся традиции доставался тот образ правителя, который сложился в сознании народа веками, и вряд ли они могли что-то изменить в нем кардинальным образом. Тяжело и больно выдавливать из себя по капле раба, но каково выдавливать собственное «я»?! А ведь Александр Николаевич не принадлежал себе задолго до того, как вступил на престол. В подтверждение этому можно привести следующий случай. Однажды во время заграничного путешествия, о котором речь шла выше, он сильно простудился. Среди сопровождавшей его свиты поднялся переполох, но каким странным был это переполох! Генерал Кавелин вызвал к себе доктора Епихина и, грозя ему кулаком, кричал: «Чтобы завтра его величество был здоров! Если завтра его величество не выздоровеет совершенно, то я упеку тебя на гауптвахту здесь же в Копенгагене». Интересно, в столице Дании действительно существовала гауптвахта для иностранцев, да и чем могло помочь больному заключение на нее доктора? Если бы такое средство помогало при недомоганиях, то врачами были бы заполнены не больницы, а исправительные учреждения.
Но что поделаешь, протокольные мероприятия срывались, разве здесь до здоровья наследника престола? Впрочем, простого человеческого сочувствия и не разбавленной государственными соображениями заботы великий князь или монарх и не может ожидать. Как у него не могут возникнуть и простые человеческие отношения с кем бы то ни было из окружающих (о неокружающих речь вообще не идет: как они могут, в принципе, общаться с монархом?). Слишком высок, важен и единствен ранг самодержца, чтобы занимавший его человек имел возможность откровенничать с министрами, придворными, друзьями юности. Для них, как уже отмечалось, он был не столько реальной личностью, сколько символом нации и государства. Символ же не должен иметь человеческих слабостей и пристрастий, с ним не ищут дружбы, ему поклоняются, перед ним заискивают, его уважают и чтят.
Маркиз де Кюстин, не преминувший заметить данное обстоятельство, писал в 1839 году: «Мое путешествие по России началось как будто уже в Эмсе. Здесь я встретил наследника, великого князя Александра Николаевича, прибывшего в сопровождении многочисленного двора в 10 или 12 каретах. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев… было какое-то исключительное подобострастие и покорность. Они казались своего рода рабами, только из высшего сословия. Впечатление было таково, что в свите царского, наследника господствует дух лакейства, от которого знатные вельможи столь мало свободны, как их собственные слуги. Это не походило на обыкновенный дворцовый этикет, существующий при других дворах… Нет, здесь было худшее, рабское мышление, не лишенное в то же время барской заносчивости».
П. А. Кропоткин. 1864
Лакейство идет рука об руку с доносительством, желанием проникнуть в чужую жизнь и мысли, с головокружительными и жалкими интригами. Не удивительно, что ко времени восшествия на престол Александр II оказался под неусыпным ежеминутным контролем. Знаменитый анархист князь П. А. Кропоткин, учившийся в Пажеском корпусе и одно время близкий ко двору, вспоминал: «Система шпионства, практиковавшаяся во дворце, а особенно вокруг самого императора, покажется совершенно невероятной непосвященным… По свидетельству чиновника III отделения, “слова и мнения Его Величества должны быть известны нашему отделению. Разве иначе можно было бы вести такое важное учреждение, как государственная полиция? Могу вас уверить, что ни за кем так внимательно не следят в Петербурге, как за Его Величеством”. В данном случае, как вы понимаете, речь идет не о безопасности монарха, не о выслеживании “врагов отечества” и раскрытии их коварных замыслов, а о пошлой слежке за каждым шагом императора и вынюхиваний его отношения к окружающим, улавливании каждого его слова. Находиться “под колпаком” собственной тайной полиции – положение унизительное, но, видимо, привычное для власть имущих, неотъемлемое от той роли, которую они играют».
Привычно было и другое. По словам знакомой нам А. Ф. Тютчевой, «государи вообще любят быть объектами любви, любят поклонение, с чрезмерной важностью верят в культ, который внушают. Поэтому их доверие легче приобрести лестью, притворной привязанностью, чем привязанностью подлинной… Искреннее чувство может показаться им неудобным: оно внушает им недоверие, тогда как чувства неискренние и официальные легко идут на всякого рода уступки и снисхождения». Справедливо указав на слабости самодержцев, фрейлина не права лишь в одном. Слова «любят» или «не любят» предполагают выбор, который якобы существует у монарха. Но человеку, с детства воспитанному в определенном духе, не видевшему никаких других отношений, кроме почитания, угодничества, преклонения, трудно, если не невозможно представить себе, что общение между правителем и подданными может быть иным. Мир перевернутых человеческих отношений диктует свои правила игры, и хорошо, если носитель верховной власти смирился с этими правилами. В таком случае он, может быть, будет страдать, мучиться, но имеет возможность утешить себя тем, что «так надо», «не нами заведено» и к тому подобному замусоленными, но успокоительными сентенциями.
С каким же «багажом», с какими ощущениями вступал на престол наш герой? Большинство историков на редкость единодушно утверждают, что участие Александра Николаевича в бытность его наследником престола во всех отцовских учреждениях мало что дало ему как государственному деятелю. Подобные учреждения вряд ли можно принять безоговорочно. Если даже согласиться с тем, что у Николая I и его сановников нельзя было научиться ничему полезному, то не будем забывать о том, что существует учеба «от противного», о том, что негативный опыт – это тоже опыт. Но дело не только в такой негативной учебе, ведь и позитивные уроки в годы правления Николая Павловича, что называется, имели «место быть» (ведь министрами у него были не только клейнмихели и вронченки, но и Киселев или Канкрин). Начнем с того, что мысли и даже разговоры о необходимости реформ возникали в российских «верхах» достаточно часто, в том числе и в царствование отца нашего героя. Уместно предположить, что именно в 1840–1841 годах наследник впервые услышал о попытках своего дяди, императора Александра I, уничтожить крепостное право и изменить политическое устройство России. Напомним вкратце то, что могло быть известно Александру Николаевичу о проектах преобразования страны, составленных в первой четверти XIX века.
В 1818–1820 годах в канцелярии наместника императора в Польше Н. Н. Новосильцевым и его сотрудниками был подготовлен проект российской конституции. Он получил название «Конституционной хартии Российской империи», и претворение его в жизнь могло превратить Россию в конституционную монархию типа шведской или английской. Законодательная власть по этому проекту переходила к императору и двухпалатному законодательному органу, а исполнительная – к Государственному совету, состоявшему из Общего собрания и Комитета министров. В те же годы в нескольких ведомствах, по распоряжению Александра I, были созданы проекты отмены крепостного права, не получившие, как и «Конституционная хартия», высочайшего одобрения.
Для Александра Николаевича не составляло секрета то, почему его дядя не решился провести в жизнь подготовленные по его же приказу проекты преобразований. С одной стороны, он не нашел ни достаточного количества сторонников их вокруг себя, ни мощной социальной опоры для проведения в стране реформ. С другой стороны, Александру I явно не повезло с моментом начала преобразований. Общеевропейский экономический подъем, в частности, рост цен на русское зерно, явное оживление торговли и промышленности в стране создали видимость устойчивого благополучия империи. Победа в Отечественной войне 1812 года, освобождение Европы от наполеоновской экспансии убедительно подчеркивали мощь крепостнической системы и традиционного самодержавия. Начинать в таких условиях перестройку основ социально-экономического и политического быта было бы со стороны правительства неразумно, ведь оно рисковало остаться непонятым большинством населения. В результате важнейшие вопросы российской жизни оказались нерешенными и перешли в виде своеобразного наследства к Николаю I.
Тридцать пять лет, значительную часть своей жизни, Александр Николаевич рос и приобретал опыт государственного управления под руководством своего отца. Это обстоятельство заставляет нас обратить самое пристальное внимание на особенности системы управления Николая Павловича, а также на его личные пристрастия. Он далеко не был тупым солдафоном и бездушным манекеном, каким его зачастую изображали в недавнем прошлом. Отличительной чертой императора являлись не грубость и бездушие, а исключительное доктринерство, приверженность к чисто теоретическим и не слишком сложным схемам. Все остальное оказывалось лишь производным от зашоренности, увлеченности одной-единственной идеей, если можно так выразиться, однодумия монарха. Еще до своего восшествия на престол Николай I усвоил несколько абстрактных и не очень оригинальных идей о сущности самодержавия и роли государственного аппарата в жизни общества. С их помощью он пытался позже стабилизировать ситуацию, расшатанную, по его мнению, либеральными посулами старшего брата. При этом он всегда искал причины неудач не в несовершенстве своих формул, а в конкретных исполнителях высочайших повелений.
А. П. Швабе. Император Николай I с цесаревичем Александром Николаевичем. 1843
Современникам многое импонировало в Николае Павловиче, особенно в первые годы его правления. Им нравилось и то, что он провозгласил образцом для подражания Петра Великого, и то, что пообещал оживить работу государственного аппарата, и его приверженность к дисциплине, и его статная фигура и строгость контроля за принятием и исполнением решений. Император работал по 18 часов в сутки и вел весьма умеренный образ жизни. Ел Николай Павлович очень мало и большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, на ужин кушал всякий раз тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил и не любил, чтобы курили в его присутствии. Алкоголя практически не употреблял, позволяя себе лишь иногда выпить рюмку водки перед обедом. Два раза в день совершал обязательные пешие прогулки, утром и после обеда. Спал на тоненьком тюфячке, набитом сеном, укрываясь шалью или шинелью.
Однако многое для современников было неприемлемо как в самом Николае I, так и в его системе управления. Требовательность монарха легко переходила во вспыльчивость и грубость, и если он бывал чем-то недоволен, то строгость наказания виновных почти не знала границ. Защита царского достоинства зачастую принимала у него странные формы. Барон М. А. Корф вспоминал, как кто-то из министров отважился возражать императору по поводу одного из дел, обсуждавшихся в Комитете министров. Николай Павлович позже жаловался П. Д. Киселеву (слова которого и записал Корф): «Ты знаешь, что я терпелив в разговоре наедине и выслушиваю всякий спор, принимаю всякое возражение… Но чтобы называли меня дураком публично перед Комитетом или другою коллегией, этого, конечно, никогда не допущу». Дураком его, естественно, никто не называл, просто любое публичное возражение правителю расценивалось Николаем Павловичем как вызывающий подрыв авторитета монарха.
Ранее мы уже говорили о том, что на протяжении всего XVIII века российские самодержцы по-прежнему сосредоточивали в своих руках огромную власть. Однако значило ли это, что император лично был в курсе всего того, что происходило в государстве и что он мог квалифицированно решать любые вопросы, встававшие перед страной? Николай I в этом нисколько не сомневался и добросовестно пытался вникнуть во все проблемы, решаемые государственным аппаратом, считая это святой обязанностью самодержца. Давайте посмотрим, насколько эффективной оказалась такая система управления, тем более что наследник престола имел возможность и время для того, чтобы оценить усилия отца и сделать необходимые для себя выводы.
Николай I, взойдя на престол, прежде всего укрепил карательные органы, поставив во главе их знаменитое III отделение собственной императорской канцелярии [14]. Далее он позаботился о провозглашении непогрешимости государственных служащих, то есть непогрешимости их действий для общественности, а не для начальства. Иными словами, монарх объявил чиновников своими личными слугами, выведя их из-под критики журналистики, литературы, театра и т. п. Он счел, что для пользы дела и большей централизации власти его слуги (министры, дипломаты, генералы, священнослужители и прочие) должны прислушиваться к чему-то одному, а именно к его словам, а не к оценке общественного мнения. Чем-то иным трудно объяснить запрещение не только критиковать, но и одобрять работу правительства и его агентов в печати и на сцене. Даже дворянство теперь могло сопровождать лишь гулом одобрения действия власти в центре и на местах. Естественным следствием такого положения дел явилось не компетентное и справедливое правление самодержца, опиравшегося на тщательно подобранные кадры чиновников (именно такая картина рисовалась в воображении Николая Павловича), а появление на ответственных постах людей, которые не блистали никакими талантами, кроме личной преданности императору. Самое печальное заключалось в том, что теперь любой, даже самый недобросовестный и некомпетентный чиновник освящался авторитетом самодержавной власти. Подобное положение дел объясняет и появление при дворе Николая I «немецкой партии» – занятие важных должностей остзейскими немцами, выходцами из Прибалтики. По словам императора, они нравились ему больше российских дворян тем, что служили ему, а не какому-то абстрактному отечеству. Хотя в представлении Николая I слова «монарх» и «отечество» являлись синонимами, предпочтение отдавалось первому из них как реальному главе нации.
Заметно влияло на четкость управления страной и уже упоминавшееся желание Николая Павловича быть в курсе буквально всех дел, творившихся в государстве. В серьезных вопросах «всепроникаемость» самодержца часто приводила не к достижению поставленной цели, а к дезорганизации аппарата, не смевшего иметь своего мнения и шагу ступить без санкции сверху. Понятно, что чиновничество, и без того склонное к формализации своей деятельности, теперь еще больше пропитывалось не просто формализмом, но особым бюрократическим цинизмом и начинало сообщать Зимнему дворцу только то, что тому было приятно слышать. Особый вес в годы правления Николая I приобретали не квалифицированные специалисты, а люди, умевшие составить «красивый» отчет, наполненный приписками, «фанфарностью», тем, что желало видеть начальство. Стоит ли удивляться после этого тем странным назначениям на высшие посты государства, которые современники, не находя разумных объяснений действиям высшей власти, называли «метаморфозами».
Прославленный генерал и не менее известный острослов А. П. Ермолов по поводу очередного протеже Николая Павловича как-то воскликнул: «Вот если перед кем колени преклоню, то пред Незабвенным (титул, присвоенный Николаю I придворными. – Л. Л.): ведь можно же было когда-либо ошибиться, нет, он всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое-нибудь место». Впрочем, это ведь с точки зрения Ермолова, назначенцы императора были неспособными, монарх же считал иначе. Уникальный девиз императора: «Мне нужны не умники, а верноподданные!» – нашел замечательное воплощение в кадровой политике Николая I.
Не обремененный многознанием генерал В. И. Назимов становится попечителем Московского учебного округа; Ф. П. Вронченко, о котором злые языки говорили, что он осилил математику лишь до дробей, сделался министром финансов; гусара Н. А. Протасова – лучшего исполнителя мазурки в Петербурге и неутомимого гуляку – назначили обер-прокурором Святейшего синода. Когда бравый гусар узнал о своем назначении, то в сердцах сказал приятелю: «Министр, не министр, а черт знает что такое!» Услышавший его слова петербургский митрополит едко заметил: «Последнее совершенно справедливо». Но главное заключалось не в людях, в конце концов, как мы уже отмечали, на высших постах империи попадались и весьма квалифицированные работники. Главное заключалось в том, что кадры высшей бюрократии в массе своей являлись производным от того формального, замораживавшего живую жизнь порядка, который истово насаждал император во всех сферах государственного и общественного существования.
Николаевская система оказалась методом управления, доходившим порой до абсурда, отдававшим чем-то запредельным или, как сейчас принято говорить, виртуальным. В правилах для школ в Царстве Польском, например, содержался параграф, определявший длину и качество розог, которыми вбивали науку в головы нерадивых учеников. Интересно, а что случалось, если розги не соответствовали утвержденному начальством стандарту? Учеников прощали или в таком случае пороли лиц, ответственных за этот важнейший атрибут педагогики? Известный писатель В. А. Соллогуб вывел замечательную меткую и убийственно точную формулу любого уездного города империи: «застава – кабак – забор – храм – забор – кабак – застава». Это и было то место, откуда, согласно Н. В. Гоголю, «три года скачи, никуда не доскачешь». Угрожающих высот достигла, по свидетельству А. И. Герцена, официальная статистика. В качестве примера он приводил в «Былом и думах» один из разделов отчета о происшествиях за определенный период в некоем уездном городке. Так вот, пункт отчета, заполненный местными тружениками канцелярии, гласил: утонувших – 2, причины утопления неизвестны – 2. Итого – 4. Что означало это «4», никого не интересовало, главное заключалось в том, чтобы все графы казенной бумаги были аккуратно заполнены.
Впрочем, что статистика! В царствование Николая I она считалась наукой подозрительной, вмешивавшейся в прерогативы власти. Давайте поговорим об армии, о той части государственного организма, которая являлась предметом пристального внимания императора и объектом его особой гордости. Оказывается, во времена Николая Павловича и в армии, мягко говоря, далеко не все было в порядке. В 1836 году действующая армия в европейской части России насчитывала 231 088 человек. Из них 173 891 солдат и офицер были в той или иной степени нездоровы, что составляло более двух третей армии! Добавим, что 11 023 человека, или одна двадцатая часть больных, скончались в госпиталях и лазаретах. В конце XVIII столетия на 500 здоровых солдат приходился один больной, за полвека соотношение стало обратным: на одного здорового – 500 больных. Беспрестанная шагистика с полной выкладкой, издевательства над солдатами, постоянная угроза быть изуродованными шпицрутенами, плохое питание, полное равнодушие офицеров к нуждам рядовых быстро сделали свое дело.
Уникальных размеров достигло воровство офицерами казенных сумм, кстати, выделявшихся на питание солдат. Поражает уверенность военачальников в собственной безнаказанности. Дело дошло до того, что в 1855 году (шла Крымская война!) некий командир бригады (минимум – полковник, максимум – генерал) обещал дать в приданое за своей дочерью половину того, что он «экономит» из сумм, отпускаемых на его бригаду. Стоит ли говорить, что свадьба состоялась и была отпразднована пышно и весело [15]? После всего сказанного надо ли удивляться тому, что российские вооруженные силы оказались оснащенными устаревшими гладкоствольными ружьями вместо нарезных, а флот продолжал оставаться парусным, совершенно беспомощным перед паровыми броненосцами противника?
Убийственную, но верную по сути своей оценку дал николаевскому царствованию известный историк и очевидец событий С. М. Соловьев. «Лень, стремление делать все кое-как, на шерамыгу, – писал он, – начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством. Таким образом правительство испортило целое поколение, сделало из него не покорных слуг, но вздорную толпу ленивцев, неспособных к зиждительной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной, как самой легкой».
Отметив наиболее броские последствия утопии Николая I, присмотримся теперь повнимательнее к ней самой, ведь внутри именно этой утопии и вырастал наш герой. Первая из ее составляющих тесно связана с именем Петра Великого. Именно он, с одной стороны, всячески приветствовал инициативу, профессионализм своих подданных, а с другой – требовал от них беспрекословного подчинения трону. Попытку воспитать инициативных рабов вслед за своим предком предпринял Николай I, но и он потерпел неудачу. Следующая черта правительственной утопии второй четверти XIX века также имела корни в петровских временах. Николай Павлович попытался, по примеру Петра I, опираясь на немногочисленных помощников и свою канцелярию, управлять всеми отраслями жизни огромной державы, не забывая и о частной жизни подданных. Однако А. Орлов, Нессельроде, Клейнмихель, Бенкендорф ничем не напоминали Меншикова, Шафирова, Ягужинского, Остермана. Дело даже не в личностях, просто положение служивших за страх, но и за совесть «птенцов гнезда Петрова» резко отличалось от ситуации, в которой оказалась служившая за страх и за кусок пирога бюрократия николаевского времени.
Кроме того, император в начале XVIII столетия действительно являлся гарантом задуманных «верхами» перемен. Поэтому его появление во главе администрации, еще недостаточно развитой, не организованной в единое сословие, было исторически оправдано. Это был премьер-министр милостью Божией, с авторитетом и правами, не снившимися никакому реальному премьеру. Во времена Николая Павловича картина разительно изменилась: участие императора в решении всех проблем и проблемок лишь тормозило их снятие, мешало работе разветвленного государственного аппарата, приучала чиновников к безответственности.
Третья черта царской утопии 1830–1840-х годов представляла собой идею о возможности разрешить крупные государственные вопросы путем частичных «нечувствительных» изменений привычного порядка. Как следствие – у Николая I сохранялась надежда провести необходимые изменения при помощи тех органов, которые сами являлись звеньями традиционной системы. Это привело к тому, что всесильной в России становилась не только и не столько высшая бюрократия, сколько простые канцелярии и столоначальники. Именно последние знали о реальном положении дел в стране, а все, кто располагался выше по иерархической лестнице, «питались» отчетами и докладами, в той или иной степени искажавшими действительную картину. Безнаказанность и бесконтрольность чиновничества довольно быстро привели к тому, что некоторые учреждения приобрели характер разбойничьих притонов. В 1843 году в Московском уголовном суде сенатская ревизия обнаружила грубейшие нарушения законов. Соответствующие бумаги и улики было решено отправить в Петербург, чтобы затем примерно наказать виновных. По дороге в столицу сорок (!) подвод с лошадьми и возчиками, везшими бумаги, бесследно и навсегда исчезли.
Николаевское царствование, безусловно, могло дать и дало наследнику богатый опыт государственного управления. Но дело этим не ограничилось. Одна из особенностей внутренней политики Николая I заключалась не в недостатке попыток преобразований, а в той самонадеянности, с которой высшая бюрократия бралась за разработку коренных проблем. Мысль о необходимости решения сложнейших социально-экономических задач владела Николаем Павловичем буквально со дня его вступления на престол. Уже в 1826 году был создан первый Секретный комитет (впрочем, в те времена все комитеты, обсуждавшие крестьянский вопрос, объявлялись секретными) для составления закона о прекращении продажи крестьян без земли. Александр Николаевич слышал о том, что, несмотря на одобрение законопроекта отцом и большинством Комитета, законом он так и не стал. В последний момент Зимний дворец испугался непредсказуемой реакции помещиков на потерю ими пусть и мелкой, но все же привилегии.
Тем не менее крестьянский вопрос продолжал мучить главу государства. Во время встречи с депутацией дворян Смоленской губернии Николай I заявил: «Земли принадлежат нам, дворянам, потому что мы приобрели их нашей кровью, пролитой за государство, но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе как хитростью и обманом с одной стороны, и невежеством – с другой». В конце 1820-х годов в доверительной беседе с П. Д. Киселевым император говорил: «Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не стал отлучаться из деревни без спросу у барина или управляющего, дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно. Я начну с инвентарей: крестьянин должен работать на барина три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли и надобно выплатить в несколько лет, земля будет его. Я думаю, что надобно сохранить круговую поруку (общая взаимозависимость в крестьянской общине. – Л. Л.), а подати должны быть поменее». Без всякой иронии можно сказать, что благие замыслы были у главы государства, и трудно представить, чтобы рано или поздно он не поделился ими с наследником престола.
С 1835 по 1849 год поочередно заседали девять Секретных комитетов по аграрной проблеме, обсудившие ее, казалось бы, со всех сторон. Среди поднимавшихся вопросов были и такие, как улучшение быта помещичьих крестьян, меры против их обезземеливания. По приказу императора казна выделила 100 тысяч рублей для помощи дворовым крестьянам, обсуждалась и возможность разрешить крестьянам выкупаться на волю при продаже имений, к которым они приписаны, с аукциона. Однако большинство эти благих пожеланий осталось на стадии долгих, но безрезультатных разговоров, единственным же реальным делом оказалась новая система управления государственной деревней, установленная в конце 1830-х годов Киселевым. Нет ничего удивительного в столь скромных результатах деятельности комитетов. Поддержка начинаний императора и его немногочисленных единомышленников из среды дворянства оказалась весьма слабой. Еще в 1834 году Николай I признался: «Я говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном из них не нашел прямого сочувствия, даже в семействе моем некоторые были совершенно против». Говоря о царствующем семействе, император отнюдь не имел в виду наследника престола (да тот в это время был еще слишком мал), речь идет о братьях Николая Павловича.
К тому же императору не хватало не только единомышленников, но и просто профессионалов, знающих, как решить возникшую проблему с наименьшими потерями. В 1838 году барон Корф сетовал: «…при необходимой надобности подкрепить Совет (Государственный совет. – Л. Л.) еще несколькими членами… мы с графом Васильчиковым прошли весь Адрес-календарь (книга, содержавшая сведения о действующих чиновниках. – Л. Л.) и не нашли никого, кто мог бы настоящим образом годиться и быть полезным в этом звании. Бедность в людях ужасная и не только в таком высшем разряде, но и в должностях второстепенных». Может быть, и по этой причине крестьянское дело напомнило историку А. А. Кизеветтеру привычную пьесу в трех действиях. Действие первое – появление обширной записки, намечающей ряд мер для того, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки. Действие второе – полное одобрение Комитетом этих мер, соединенное с признанием несвоевременности их непосредственного исполнения. Действие третье – закрытие Комитета на том основании, что спокойнее оставить все по-старому.
При несомненной образности и справедливой едкости данного определения, оно страдает некоторой поверхностностью. Во-первых, настойчивое обращение императора к крестьянскому вопросу означало признание им целесообразности отмены крепостного права или смягчения этого права. Другое дело, что монарх сомневался в своевременности такой меры и откладывал ее претворение в жизнь на неопределенное будущее, но важно то, что он не отрицал необходимости ее решения в принципе. Во-вторых, преобразования следующего царствования были вызваны, конечно же, не желанием правительственных канцелярий и членов секретных комитетов и даже не требованиями передовых кругов российского общества. Они диктовались ходом объективного развития страны. Однако то, какими будут реформы и когда именно следует проводить их в жизнь, во многом зависело от расстановки общественных сил и от того опыта, который приобрели к тому времени «верхи». Опыт же приобретался ими на протяжении всей первой половины XIX века, в том числе и в царствование Николая I.
Важнейший Секретный комитет, в заседаниях которого наследник, правда, не принимал участия, работал в 1839–1842 годах. Несмотря на то, что его труды были окутаны еще большей, чем обычно, тайной, Александр Николаевич знал о них достаточно много. По сути, этот Комитет рассматривал общий план постепенной ликвидации крепостного права, и именно его заседания в полной мере отразили противоречия в «верхах» по поводу освобождения крестьян. Он обозначил и тот предел, до которого был готов идти Николай I в своем стремлении провести реформу.
Неизвестный художник. П. Д. Киселев. 1830-е
Комитет попытался, по мере возможности, упорядочить взаимоотношения помещиков с крестьянами и запрограммировать уменьшение повинностей крепостных. Автор обсуждаемого проекта, уже не раз упоминавшийся нами Павел Дмитриевич Киселев, помимо официального документа, подготовил и неофициальную записку, предназначавшуюся только для императора. В ней говорилось, что начиная с конца XVIII века верховная власть в России хотела ограничить, а затем и отменить крепостное право. И вот время для решительных действий наступило. Чтобы не испугать коллег по Комитету, Киселев называл предложенный им проект не самостоятельным законом, а лишь пояснением и развитием старого указа о «вольных хлебопашцах» (указ 1803 года, разрешавший помещикам отпускать своих крестьян на волю без согласования с вышестоящими органами). Далее, он предлагал устроить положение дворовых крестьян (крестьян, не имевших собственных наделов и выполнявших обязанности слуг в поместьях), ограничить барщинные работы тремя днями, усилить ответственность помещиков за злоупотребления своей властью и устроить, в том или ином виде, крестьянское самоуправление. «Сим способом, – писал Киселев, – нечувствительно мог бы совершиться переход крепостных крестьян к прежнему обязательному положению, к земле без личной зависимости от помещиков, а сии послания, сохранив при себе права вотчинничества на землю, получили бы за пользование ею от крестьян соразмерный доход».
Все эти меры содержала неофициальная записка. Проект же, предложенный Киселевым Комитету, был куда более скромным. Однако и он мог стать реальным шагом к постепенному освобождению крепостных крестьян с землей. Сам Павел Дмитриевич писал по этому поводу: «Я всегда полагал, что крестьянская земля должна остаться (с вознаграждением помещикам) в полной и неотъемлемой собственности крестьян». Он же высказал важную для грядущих преобразований мысль о зависимости пореформенных крестьянских повинностей от количества земли, которую они получат от помещика.
Проект Киселева (ближайший предшественник документа об отмене крепостного права в 1861 году) был реалистичен, по крайней мере, в том смысле, что его автор исходил из принципиального недоверия к способности большинства помещиков поставить государственные интересы выше сословных, а значит, ратовал за постепенную реформу, проводимую строго «сверху». Несмотря на два уровня секретности (создание Комитета оставалось тайной для страны, а об истинных целях царя не подозревали даже члены Комитета) и хитроумную тактику Киселева, который на каждом заседании открывал коллегам только часть правды, его план оказался отвергнут большинством членов Комитета. Спасение проекту не принесло даже принципиальное согласие с ним государя.
Последние Секретные комитеты в царствование Николая I заседали в 1846 и 1848 годах под председательством наследника престола, что, безусловно, свидетельствует о том, что Александр Николаевич был в курсе того, чего желал добиться в аграрном вопросе его отец. Обычно отмечается, что, работая в них, наследник не только не проявил никаких реформаторских наклонностей, но и был иногда более консервативен, чем Николай I. Вряд ли этим, однако, исчерпываются те уроки, которые наследник извлек из работы отцовских Секретных комитетов. Именно из их трудов он узнал о полутайном и давнем желании Зимнего дворца уничтожить или смягчить крепостное право. Более того, ему стала понятна настоятельная необходимость того или иного решения крестьянского вопроса. Постепенно для наследника начали проясняться и некоторые немаловажные детали будущего освобождения крестьян.
В частности, когда перед ним встала дилемма, заключавшаяся в безземельном освобождении крестьян или выделении им пахотного надела и усадьбы (дома с огородом), Александр Николаевич, пусть и не сразу, но все-таки пришел к наиболее безопасному решению вопроса. Видимо, тогда же цесаревич определил для себя ту силу, опираясь на которую можно было провести крестьянскую реформу. Такой силой стала умело подобранная и тщательно контролируемая монархом высшая бюрократия. Наконец, ему стали ясны и главные опасности, сопровождавшие отмену крепостного права: крестьянские беспорядки, с одной стороны, и недовольство помещиков – с другой. Ни дядя Александра Николаевича, ни его отец не осмелились задеть интересы дворянства, хотя и понимали, насколько беспощадным, в случае дальнейшего промедления правительства, может быть стихийный крестьянский протест. Организованное противостояние помещиков казалось им опаснее. Теперь этот важный выбор вставал перед нашим героем.
После всего сказанного, думается, понятно, что царствование Александра II никак не могло быть простым слепком с правления Николая I. Во второй четверти XIX столетия принцип личной неограниченной власти оказался доведенным до своего апогея. Дальше можно было или пытаться удержаться на вершине абсолютизма, или искать иные методы управления государством. Позже мы посмотрим, сумел ли Александр II сделать окончательный выбор. Но уже сейчас можно сказать, что как правитель он совершенно не был похож на своего отца, будучи гораздо терпимее, мягче, осторожнее. Он, если можно так выразиться, был менее абсолютен, самодержавен. Их отличали даже чисто внешние признаки, скажем, двор Александра Николаевича уступал двору Николая I в пышности, балы – в блеске, приемы – в парадности, представительности. Здесь, конечно, сказалось и веяние времени, но не в меньшей степени – личные вкусы и пристрастия нового монарха.
Да! Но мы ведь еще не побывали на коронации нашего героя – самом торжественном дне его жизни, это упущение необходимо исправить. Коронационные торжества проходили в Москве с 14 по 26 августа 1856 года. Для их проведения в старую столицу доставили Большую и Малую короны, скипетр, державу, порфиры, коронные знаки ордена Андрея Первозванного, Государственную печать, меч и знамя. Большая императорская корона, которую и возлагали на голову нового самодержца, была создана в 1762 году известными ювелирами Георгом-Фридрихом Экартом и Жереми Позье по специальному заказу Екатерины II. Знаменитым мастерам поставили только одно условие – корона должна была весить не более 5 фунтов (2 килограмма). Сделанная из чистого золота, она украшена множеством бриллиантов и других драгоценных камней. Самым известным из них был рубин на дуге, разделявшей две половины короны. Поверх него находился крест из пяти больших бриллиантов. К началу 1880-х годов ювелирная стоимость изделия Экарта и Позье превышала 1 миллион рублей.
Золотой скипетр, сделанный по заказу императора Павла I, имел в длину 81 сантиметр и был украшен уникальными камнями. В середине ручки и внизу его опоясывали два бриллиантовых обруча, а наверху вделан знаменитый бриллиант «Орлов» в 185 карат. Как ни противны в данном случае меркантильные соображения, но следует заметить, что стоимость скипетра оценивалась в 2,5 миллиона рублей, и он считался одним из самых дорогих ювелирных украшений своего времени.
Впервые в истории государства церемониальный въезд в Москву осуществился не торжественно-медленным кортежем, состоящим из карет, а достаточно скромно – по железной дороге. 17 августа 1856 года Александр Николаевич с семьей и блестящей свитой проехал по Тверской улице под звон многочисленных московских колоколов и грохот артиллерийского салюта. У часовни Иверской Божьей матери царь и вся свита сошли с коней (императрица с детьми вышла из экипажа) и приложились к чудотворной иконе, пройдя после этого пешком на территорию Кремля.
М. Зичи. Коронация царя Александра II в 1856 году в Успенском соборе Московского Кремля (на картине изображен момент коронации, во время которого царь коронует свою царицу). 1856
Церемониал коронации следовал утвержденным Петром I наметкам плана, разработанного для коронации его супруги Екатерины I. Шествие открывал взвод кавалергардов, который позже выстраивался по обе стороны паперти Успенского собора в Кремле. Следом за ним шли 24 пажа и столько же камер-пажей, проходивших через собор и ожидавших окончания церемонии в Синодальной Палате. Затем за верховным маршалом князем А. Ф. Голицыным следовал император под балдахином, который несли шестнадцать генерал-адъютантов. Во время коронации Александр Николаевич восседал на престоле Ивана III, а Мария Александровна – на троне Михаила Федоровича Романова. После окончания церковной службы, венчавшей всю церемонию, император с супругой прошли в Архангельский собор, чтобы поклониться могилам русских царей из рода Рюриковичей.
Возвращаясь к предзнаменованиям, которыми столь богато царствование нашего героя, отметим, что не обошлась без них и его коронация. Стоявший с «державой» старик П. Д. Горчаков внезапно потерял сознание и упал, выронив подушку с символом. Шарообразная «держава», зазвенев, покатилась по каменному полу. Все ахнули, и лишь монарх спокойно сказал, имея в виду Горчакова: «Не беда, что свалился. Главное, что стоял твердо на полях сражений».
Царь и корона
Итак, Александр Николаевич стал императором Александром II – апостолом и культовым героем, призванным действовать, сообразуясь не столько с собственной логикой, сколько с логикой своего нового поста. Может, он и имел определенные исторические пристрастия, но в отличие от предшественников никогда не ссылался на Петра Великого или Екатерину II как на некие ориентиры в своей деятельности. В начале царствования новый монарх робко попытался опереться на опыт государственного управления отца Николая Павловича, но время и обстоятельства заставили его действовать вопреки этому опыту. Он был призван помочь стране сделать резкий рывок и догнать ведущие державы мира, надеясь осчастливить этим своих подданных. К сожалению, как показала история, их могли осчастливить или чудеса, исходившие от верховной власти, или резкое ограничение и слом этой власти. Александр Николаевич собирался же заниматься всего-навсего проведением реформ.
Можно спокойно и с достоинством нести бремя власти, гордясь тем, как богатеет, становится все более могучей держава. А если не становится или это происходит слишком медленно, незаметно для глаза? Можно погрузиться в рутину каждодневных дел и монотонно исполнять роль директора огромного департамента, именуемого державой, империей. А если к подобному роду занятий не лежит душа, а то просто нет таланта к бюрократической работе? Можно попытаться рывком совершить почти невозможное, переменить вековой быт страны, подстегнуть ее неторопливое перемещение по пути прогресса. А если результаты подобных рывков сказываются далеко не сразу, да и не все из них однозначно благотворны?.. И возникает мысль облегчить монаршую ношу, оставить участок деятельности своим наследникам.
Впрочем, до подобных настроений, до усталости от власти Александру Николаевичу в 1856 году было еще очень далеко. Он полон сил и замыслов, он нравится окружающим его людям, да и российское общество присматривается к нему достаточно доброжелательно. Так был ли он готов к тому, чтобы не только занять престол, но и совершить, утвердясь на нем, те действия, которых ждала от него страна? По этому поводу в исторической литературе существуют самые разные точки зрения: от утверждения, что наш герой был бледным эпигоном своего отца, до мнения, будто на российский престол вступил прирожденный реформатор. Для того чтобы разобраться в этой разноголосице, попробуем не столько начать с начала, сколько подвести некоторые итоги первой части нашего разговора.
Во-первых, кто и чего ждал от нашего героя? Не секрет, что единодушия в российских ожиданиях не было и не могло быть, слишком пестрым оставалось общество, а значит, слишком противоречивыми оказывались интересы разных его слоев. Высшая бюрократия в лице старых николаевских служак жаждала наведения порядка в стране, то есть отлаживания работы государственного аппарата, «разболтанного» за годы Крымской войны. Ни о каких серьезных переменах, кроме разве что кадровых, эти люди не думали, поскольку николаевская система правления представлялась им единственно возможной, а Крымская война – досадным недоразумением.
За этими деятелями, как вскоре оказалось, располагался относительно широкий и достаточно влиятельный слой средне-высшей бюрократии, многие представители которого имели свое видение решения возникших перед Россией проблем. Оно включало в себя реформирование разных сфер жизни империи, вплоть до введения в будущем конституционного правления. С точки зрения чиновников-реформаторов, Александр II должен был встать во главе преобразований и своим авторитетом помочь им (чиновникам) вести Россию по пути прогресса, то есть дальнейшей европеизации страны. Этот слой средне-высшей бюрократии не верил в способность разобщенного, неорганизованного общества помочь Зимнему дворцу в деле преобразований, допуская участие отдельных членов этого общества в реформах в качестве экспертов или проводников перемен на местах.
Поместное дворянство, несмотря на свою неоднородность, ожидало от нового императора прежде всего наведения порядка в растревоженной войной деревне и финансах. Подавляющее большинство из этих дворян и не думало ни о каких серьезных переменах в социально-политической области, с трудом представляя себе некрепостническую Россию. Конечно, среди помещиков имелись люди, просчитывавшие варианты отмены крепостного права и даже приветствовавшие их, однако они составляли ничтожную часть провинциального дворянства. Что касается изменения системы управления страной, то большинство помещиков придерживалось убеждения своих дедов и прадедов, считавших, что абсолютная власть монарха справедливее и выгоднее для первого сословия, чем олигархическое правление нескольких аристократических фамилий. Конституционные мечты либералов упрямо ассоциировались в головах помещиков с хаосом Смутного времени или «затейкой верховников» в конце 1720-х годов.
Наконец, для городских слоев и крестьянства воцарение нового императора связывалось с надеждами на выравнивание правового положения российских сословий, вплоть до освобождения помещичьих крестьян и отмены ряда проявлений крепостного права. Ожидания широких народных масс весьма трудно точно классифицировать и потому, что эти ожидания слишком широки, и потому, что они чрезвычайно неопределенны. Можно сказать, что массы надеялись на улучшение своей жизни, подразумевая под этим прежде всего улучшение своего материального положения. Однако не будем и слишком упрощать народные требования. Шеф III отделения А. X. Бенкендорф еще в 1827 году отмечал: «Среди этого класса (крепостных крестьян. – Л. Л.) встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить с первого взгляда». О чем же рассуждали эти крепостные «головы» и что они противопоставляли существующему порядку вещей?
Первую половину XIX столетия недаром считают временем наибольшего распространения народной социальной утопии, отразившей представления крестьянства об идеальных формах человеческого общежития. Эти формы были облачены в религиозные одежды, обращены в далекое прошлое и включали в себя принципы всеобщего братства, совместного и посильного труда, организацию артелей-коммун, дающих каждому их члену равные права и возможности с другими. Описания идеального человеческого сосуществования в народных утопиях живо напоминают картины Царства Божия, обычно рисуемые людьми, искренне верующими, но не слишком сведущими в богословии.
Насколько соответствовал этому пестрому набору надежд и чаяний наш герой, какие из перечисленных выше слоев населения страны могло удовлетворить его воцарение, что он был в силах сделать, а против чего оказался бессилен? Александр Николаевич являлся одним из образованнейших монархов, когда бы то ни было вступавших на российский престол. Он обладал не только широкими теоретическими сведениями, но и достаточными практическими навыками управления государством. В последнем случае особенно важно знание принципов деятельности бюрократического аппарата, так как направление его деятельности во многом зависит от мнений монарха и его умения направлять эту деятельность в нужном ему направлении. С механизмом работы государственной машины наш герой был знаком очень неплохо.
Второе, о чем следует поговорить, анализируя его готовность к преобразованиям или, напротив, к защите традиционных устоев, является тот самый дух времени, на который так любят в трудных случаях ссылаться историки. Когда пишут о Крымской войне, то единодушно отмечают, что она стала рубежным моментом именно для России. Это утверждение совершенно справедливо, и у нас еще будет время в этом убедиться. Однако при этом как-то забывается, что Крымская война стала своеобразным водоразделом для всей Европы. В середине 1850-х годов происходят важнейшие престижные потери, заметно повлиявшие на дальнейшее развитие стран континента. Во-первых, был положен конец политическому и военному диктату России, которыми упивались не только императоры, но и большинство образованных русских людей.
Во-вторых, завершается духовный диктат французской революции конца XVIII века, финал которого был предрешен рядом революций 1830–1840-х годов. Закончился великий революционный кризис в Западной Европе и началась стабилизация ее политического и гражданского устройства. Абсолютизм сменяется конституционализмом, феодальное право – буржуазным, демократическим, отменяются сословные привилегии. В-третьих, с Крымской войной заканчивается «первый тур» европеизации России, «тур» политический, когда происходило становление имперских высших и местных органов, утрясалось взаимодействие церковных и светских властей, нарождалось общественное движение.
Иными словами, перед правительством Александра II вырисовывалась задача начать «второй тур» европеизации страны, прежде всего ее социальных отношений (отмена крепостного права, судебная и военная реформы, изменение финансовой и образовательной систем). Заметим в скобках, что этот «тур» обещал быть более трудным, чем предыдущий, так как надо было ограничить или уничтожить тот самый механизм, с помощью которого до Александра II европеизация производилась, то есть саму крепостническую систему.
Однако если качества личности нашего героя и дух времени благоприятствовали восшествию его на престол, то в чем, собственно, сущность разногласий по поводу того, был ли он именно тем императором, которого ждала Россия? Судя по всему, сложность заключается в идейной и, если хотите, психологической предрасположенности или нерасположенности Александра Николаевича к тем или иным шагам на новом посту. И здесь мы вступаем на зыбкую почву предположений и догадок, когда можем руководствоваться только тем, что знаем о его детстве и юности, а также о том, что будет совершено им позже. Тем не менее позволим себе задержаться на данной теме, поскольку она во многом определяет наше отношение к императору.
Если говорить об идеологии, то позицию Александра Николаевича вряд ли удастся определить однозначно как либеральную или, скажем, консервативную. И вовсе не потому, что наш герой был политически всеяден или, как выражаются политологи, являлся конформистом. Он искренне и убежденно был готов действовать по обстоятельствам, но эти действия определялись не столько его политическими симпатиями, сколько личным пожеланием главы государства, монарха. В силу исторических обстоятельств хозяин Зимнего дворца и его ближайшее окружение, как уже отмечалось, лучше кого бы то ни было в России ощущали дыхание времени и, если не «зашоривались», не пытались навязать времени свою точку зрения, то имели реальный шанс вести страну по пути постепенных, но необходимых изменений без ненужных потерь и потрясений.
Говоря иначе, Александр Николаевич являлся эволюционистом и ради постепенного, но непрерывного движения вперед был готов поддерживать либералов либо консерваторов, то есть тех, чьи позиции в данный конкретный момент жизни России наиболее соответствовали, с точки зрения монарха, историческим реалиям. Именно эти реалии задавали курс государственному кораблю, а задача капитана корабля заключалась в том, чтобы вверенное ему судно не получило критического крена ни на один борт и благополучно достигло промежуточной гавани. Ведь каждое царствование – это благополучное или не очень благополучное плавание от одного порта к другому.
Когда ближайшие соратники Александра II сетовали на невнятность позиции императора (а это случалось достаточно часто), они, при всей своей формальной правоте, не понимали главного. Определенность политической позиции важна и обязательна для члена партии или политической организации. Монарх же, даже самый жесткий, обречен на немыслимые компромиссы, внезапные и не всегда осознанные изменения курса. Он не может стать членом какой-то одной партии, потому что сам по себе является уникальной партией, в которую нет доступа посторонним и которая обречена на одинокое существование.
Если говорить о характере, о личности Александра Николаевича, то давайте в первую очередь вспомним, что он вступил на престол в возрасте 37 лет, то есть совершенно зрелым человеком. О каком-то психологическом взрослении, изменении черт характера и т. п. в такие годы говорить уже не приходится. Родившийся наследником престола и воспитанный Зимним дворцом, он усвоил традиционное отношение к положению монарха. Это положение требовало полнейшего самоотречения, растворения царствующего лица в том, что называется монаршим долгом, подчинения каждого дня жизни императора, всех сторон его существования выполнению этого долга.
Однако, когда речь заходит о нашем герое, во всех этих вроде бы бесспорных сентенциях начинает проклевываться некая особенность, привлекательная для любителей загадок хитрость, характерная не столько для Александра II, сколько для времени его правления. Абсолютная монархия, иными словами, все абсолютное, связанное с монархией, изживало себя, постепенно отмирало, в том числе и абсолютное одиночество монарха, абсолютное отличие его от других людей, вознесенность над ними. В силу черт своего характера наш герой был готов к такому развитию событий в большей степени, чем любой из его предшественников и преемников. Можно сказать, что он с детских лет мечтал об изменении имиджа российского самодержца.
Те исследователи, которые считают Александра II недостаточно подготовленным к миссии, выпавшей на его долю, по сути, укоряют его в том, что он не был новым Петром Великим. Но, во-первых, как он мог им стать, если ему предстояло разрушить как раз ту крепостническую систему, на которой Петр возвел здание новой России? А во-вторых, дело заключалось в том, что освобождение крестьян от безграничной власти помещиков, слова от цензуры, армии от рекрутчины и т. п. переплелось для Александра Николаевича с его собственным освобождением от абсолютизации положения монарха, отсутствия у него частной жизни. Он хотел быть на престоле человеком, а не символом. Стоит ли его за это осуждать или надо призывать восхищаться смелостью решения императора? Не будем спешить с выводами, посмотрим, к чему привели попытки нашего героя сделать монарха в глазах россиян обыкновенным человеком.
Е. Ботман. Портрет Александра II. XIX в.
Впрочем, почему только россиян? Уже упоминавшийся в ходе нашего разговора Бисмарк был неплохим психологом, но, всяком случае, он умел подмечать незаметные на первый взгляд, но «говорящие» черточки характеров своих собеседников. Так вот, прусский канцлер однажды записал в дневнике следующее: «Я всегда чувствовал симпатию к нему (Александру II. – Л. Л.) на обедах у нашего императора, где подают немецкое шампанское и по одной котлетке на человека, царь ел и пил с отвращением и не очень умело старался это скрыть. Он бывал мил за столом… Я более типичного русского не видел… А эта способность влюбляться… Он всегда был влюблен и потому почти всегда благожелателен к людям».
Можно вести долгие и достаточно интересные теоретические споры о человечности или бессердечии того или иного монарха – вряд ли подобные дискуссии прибавят что-то значимое к нашим знаниям об этих людях. Ясно лишь, что одиночество монархов, связанное с чином, который они приняли, – неотъемлемая часть их жизненного пути. И так же ясно, что полноценного разговора о конкретном правителе не получится до тех пор, пока мы не углубимся в изучение всех сфер его жизни, пока не попытаемся посмотреть на него не только как на самодержца, но и как на общественного деятеля, сына, брата, мужа, отца. Куда же нам теперь направить наш разговор, какую тему затронуть? Забавную фразу бросил Бисмарк, помните: «Он был всегда влюблен»?.. Вас она не заинтриговала? А вот меня, признаться, задела за живое…
Часть II
Одиночество второе. Бегство
Трудно привыкнуть к жизни, которая целиком проходит в приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах.
Жан де Лабрюйер
В кругу родных
Если бы наш разговор был посвящен только событиям и процессам, происходившим в России в 1850–1880-х годах, то сейчас, конечно, следовало бы побеседовать о реформах, проведенных в царствование Александра II, о непростых отношениях Зимнего дворца с общественно-политическими лагерями страны, о надеждах и разочарованиях, поочередно охватывавших как государственных или общественных деятелей, так и простых обывателей России, наконец, об обстоятельствах трагической гибели героя этой книги. Однако тема нашего разговора: Александр Николаевич – человек и монарх, а потому речь сейчас пойдет о его пребывании в семье родителей, создании им собственного домашнего очага, и в дальнейшем – о попытках найти счастье и успокоение за пределами семейного круга.
Хочется верить, что многое в судьбе и поступках Александра II станет понятнее, если мы обратимся именно к событиям его личной жизни. В конце концов, реформы и прочие деяния определили величие и особенности его царствования, но вряд ли сильно воздействовали на человеческую сущность Александра Николаевича, его симпатии и антипатии. Да и не из одних лишь величественных моментов состояло его правление, как и правление любого другого монарха. Все они были людьми, желавшими тепла, заботы, понимания, пытавшимися укрыться от жизненных невзгод за прочными стенами своего дома.
Наш герой всегда был окружен многочисленной родней: бабушка, отец, мать, братья, сестры, жена, шесть сыновей, две дочери. Казалось, что еще нужно, если не для полного счастья, то хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя одиноким как в семье родителей, так и в собственной семье? На первый взгляд все верно, но… Сколько таких «но» встречалось на жизненном пути Александра Николаевича! Однако прежде чем углубляться в обстоятельства личной жизни нашего героя, скажем несколько слов о воспитании дворянских детей в России первой половины XIX века. Это поможет нам оценить типичность или уникальность воспитания наследника престола в 1820–1830-х годах.
В России в указанный период существовали три типа отношений между родителями и детьми. Первым отметим так называемый английский, при котором детям разрешалось практически все. Считалось, что таким образом из детей вырабатываются подлинно свободные личности, не стесненные неуместными запретами, не искалеченные контролем со стороны взрослых. На самом деле родители, отстаивая абсолютную свободу ребенка, на деле потакали его прихотям и чаще всего растили отнюдь не идеальных английских джентльменов, а черствых эгоистов и самодуров.
Вторым типом внутрисемейных отношений было спартанское воспитание, при котором мир детей и взрослых оказывался разделенным непреодолимой стеной. Отношения старшего и младшего поколений в таких семьях напоминали отношения начальства и подчиненных в присутственных местах. Особой теплоты в подобной обстановке существовать не могло и не существовало, хотя жесткость домашнего воспитания зачастую давала неплохие результаты: дети росли физически здоровыми, у них вырабатывался твердый характер, готовый к суровым жизненным испытаниям. С другой стороны, людям, выросшим в такой обстановке и подчинившимся ей, порой не хватало душевной тонкости сопереживания ближнему.
Но имел место и третий тип отношений между родителями и детьми, окрашенный многообещающей гармонией. Привычная для России идиллическая патриархальность дополнялась в этом случае действенным интересом к мировой культуре, что образовывало духовное равновесие в семье, тщательно выстраиваемое и сохраняемое. Гармонично и высоко развитые дети вырастали чаще всего именно в таких семьях. Примеры подобной высокой педагогики не были в России правилом, но не являлись и столь уж редким исключением. Дворяне постепенно дорастали до понимания простой истины, заключавшейся в том, что в воспитании детей надо думать не о потребностях современного общества, не о будущем страны, а только и единственно о самом конкретном ребенке, развитии его личности, души. Готовить его нужно не для будущего (тем более не для такого будущего, каким его представляют себе воспитатели), а для него самого. А уж он потом решит, как и чем может оказаться полезным для страны, для мира, для отдельного человека, оказавшегося рядом с ним.
Какой же тип отношений между родителями и детьми господствовал в семье, где довелось родиться нашему герою? В его отце, императоре Николае I, воплотилось российское самодержавие в самом чистом виде и на самом высоком уровне. Николай Павлович чувствовал себя властелином и Богом миллионов людей, что нисколько не сковывало его, не пригибало плеч, наоборот, гордое чувство власти и силы естественно отражалось в облике и существе императора. Он был деспотом из принципа, в соответствии со своим пониманием требований момента, и чья-то независимость от монарха или превосходство над ним воспринимались Николаем Павловичем как оскорбление. Дело здесь не в обычной человеческой мелочности или пошлой зависти, а в попытках сохранить чистоту и недоступность для простых смертных того поста, который занимал император. Может быть, еще и поэтому армия была для Николая I не просто любимым государственным институтом, но эталоном для выстраивания образа жизни всех своих подданных, включая и членов собственной семьи. Объясняя свою симпатию к армейским установлениям, он еще в 1821 году писал: «Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одного из другого… никто без законного основания (то есть без команды сверху. – Л. Л.) не становится впереди другого, все подчиняются одной справедливой цели, все имеет свое назначение. Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит». Честно говоря, взгляд довольно-таки унылый, но что было, то было.
К концу 1840-х годов казалось, что императору удалось повсеместно привести свою мечту в исполнение и подчинить мысли и устремления подданных долгу непрерывного служения родине и трону. По отзыву одного из тогдашних литераторов, «…все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого зараньше предложено было не разыскивать. Впрочем, оставим в покое подданных, для нас сейчас важно, что названные идеи и чувства Николая Павловича в полной мере распространялись и на его семью, в которой он ощущал себя в какой-то степени восточным владыкой. Он требовал от детей полной покорности, корил их за малейшую провинность, то есть, желая того или нет, ежеминутно подавлял их личность.
Одна из фрейлин его жены вспоминала, как Николай строго следил «за стоянием своих детей в церкви, малолетние были выстроены перед ним и не смели пошевелиться». Он совершенно спокойно мог приказать дочерям, собравшимся на бал, снять драгоценности, обозвав их «мартышками». Понятно, что дети отвечали отцу восточным же чувством почитания с изрядной долей лицемерия. Вряд ли можно назвать это любовью, точнее будет обозначить как вынужденное уважение, основанное на укоренившейся привычке к безраздельному господству взрослых. Все это проистекало отнюдь не только из-за деспотических черт характера императора, но и потому, что он прекрасно понимал, что их ждет в будущем. Его дочь, великая княжна Ольга Николаевна вспоминала: «Папа требовал строгого послушания, но разрешал нам удовольствия, свойственные нашему детскому возрасту. Когда ему доносили о наших шалостях, он отвечал: “Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных”».
Все вышесказанное об отношениях отца и детей полностью и в первую очередь было характерно для первенца Николая Павловича. Иного и трудно было ожидать, ведь с наследника престола спрос особый и начинался этот спрос с раннего детства. Графиня М. М. Медем вспоминала: «В 1821 году после нашего выпуска из Екатерининского института отец повез меня… представить великой княгине Александре Федоровне. После нескольких приветствий великий князь Николай Павлович… объявил, что желает похвастаться своим сыном, и, несмотря на протест великой княгини, ввел всех… в спальню сына, отодвинул ширму, разбудил спящего ребенка и вынул его из кроватки, утверждая при этом, что солдат должен быть готов во всякое время. Потом, поставив сына на пол, стал рядом с ним на колени, взял огромный барабан и под звуки выбиваемого им марша заставил сына маршировать».
По свидетельству другого очевидца: «Государь бывал строг к своему наследнику, скажу даже, в некоторых случаях немилосерд… что могло остаться в памяти сына в виде болезненных ощущений, которые вызываемы были резкими замечаниями, запрещениями выражать мнение молокососу, как он его называл… Никогда не забуду горьких слез цесаревича после прочтения ему официальной бумаги… в которой ему было сообщено высочайшее повеление, чтобы он никогда не утруждал себя ходатайством по прошениям, на имя цесаревича поступающим» [1].
Любящий отец, общавшийся с сыном посредством официальных бумаг, – это сильно, хотя и несколько странно. Однако, повторим еще раз, законы николаевской системы одинаково распространялись на всех, в том числе и на наследника. Впрочем, Александру Николаевичу приходилось переживать и более неприятные мгновения, ведь в минуты гнева Николай I забывал о своем величии и вел себя с детьми самым оскорбительным образом. Он был законченным педантом, соблюдавшим распорядок дня (а может быть, просто установленный им для всех порядок) по минутам. Так вот, однажды за то, что цесаревна Мария Александровна опоздала явиться в назначенный час, император прилюдно обозвал Александра Николаевича «коровой» (правда, так и не пояснив, чем виновато это животное, а также чем виноват наследник в опоздании своей супруги). Наверное, монарх посчитал, что тот распустил свою жену и не сумел установить дома требуемую императором военную дисциплину. Конечно, перед таким отцом дети трепетали и старались скрывать истинные мысли и чувства.
Некоторые авторы утверждают, что Николай I не очень любил старшего сына и даже будто бы подумывал об устранении его от престола. Такие прецеденты в семье Романовых, как известно, случались, но тут было скорее другое. Действительно, однажды на параде Николай I вслух и непристойно обругал Александра Николаевича перед строем. В другой раз, заехав к сыну на дачу под Петергофом, государь увидел, что тот посреди дня играл с придворными в карты, и надавал ему пощечин, но все это было в порядке вещей, дело житейское. Слухи же об отлучении наследника от престола кажутся явным преувеличением, они не в духе, не в правилах Николая Павловича.
К. Пиратский. Николай I и цесаревич Александр Николаевич
среди офицеров лейб-гвардии Конного полка. 1847
К тому же не будем сгущать краски, иначе жизнь царской семьи представится одноцветно-черной. По-своему Николай I был внимательным отцом, но, тем не менее, отцом-императором, больше владыкой, нежели родителем. Он позаботился о прекрасном образовании сыновей и дочерей, тщательно следил за их успехами, карал за неудачи, мальчиков назначал шефами гвардейских и армейских полков, а наследника престола еще и активно приобщал к государственной деятельности. Однако трудно поверить, что Александр Николаевич ощущал неизбывное семейное тепло и постоянное родительское внимание. Вмешательство же Николая I в учебный процесс сыновей, общение его с ними носили характер набегов сеньора на владения вассалов, вассалы трепетали, но ближе сеньор им от этого не становился.
Николай I был суров не только к сыновьям, но и к дочерям. Скажем, великая княгиня Мария Николаевна была замужем, и весьма счастливо, за одним из Богарне, но ее отец считал этот брак мезальянсом и терпеть не мог мужа дочери. Во время визитов молодой четы в Россию Николай Павлович даже запрещал упоминать о новом титуле дочери, требуя, чтобы она по-прежнему звалась великой княгиней. Другая его дочь, Ольга Николаевна, страстно любила князя А. И. Барятинского, блестящего гусарского офицера. Император отправил его на Кавказ и всячески препятствовал продвижению по службе. Дочь же выдал за принца Вюртембергского, хотя о противоестественных наклонностях последнего шептались все европейские дворы.
Мать Александра Николаевича, Александра Федоровна, была женщиной приветливой и приятной во многих отношениях. Образованная и одаренная большим художественным вкусом, она всю жизнь была склонна к меланхолии и мечтательности, прерываемыми периодами бурной, но несколько непонятной активности. В молодости будущая императрица считалась «богиней красоты и грации». Именно ее Жуковский назвал «гением чистой красоты» (эта удачная строка прославилась благодаря Пушкину, который переадресовал ее А. П. Керн в широко известном стихотворении). Тот же Жуковский посвятил Александре Федоровне следующие строки:
- Все – и робкая стыдливость
- Под сиянием венца,
- И младенческая живость,
- И величие лица,
- И в чертах глубокость чувства
- С безмятежной тишиной, —
- Все в ней было без искусства
- Неописанной красой!
Александра Федоровна никогда не употребляла слов «приказание» и «приказывать», говоря, что произносить их имеет право только самодержец, а она – всего лишь его супруга. О скромности притязаний императрицы свидетельствует и ее дочь Ольга Николаевна: «Главным назначением Мама было быть любящей женой, довольной своей второстепенной ролью…». Улыбка и доброе слово были у императрицы всегда наготове, но все это как-то походя, свысока, мельком. К тому же доброта ее никогда не выходила за пределы достаточно ограниченного круга тех лиц, кого судьбе было угодно к ней приблизить. Всю жизнь Александра Федоровна, по словам Тютчевой, прожила в золотой клетке, сооруженной ей мужем, и относилась к числу тех правительниц, которые способны спросить, почему народ не ест пирожных, если у него не хватает хлеба. Может быть и так, но… Когда некоторые дамы жаловались Московскому митрополиту Филарету на то, что императрица танцует и гоняется за развлечениями вместо того, чтобы думать о спасении души, тот обычно отвечал: «Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы еще будете стучаться в двери».
К. Робертсон. Портрет императрицы Александры Федоровны. XIX в.
Как мы уже говорили, Александра Федоровна временами любила разнообразие, предпочитала, чтобы вокруг нее было оживленно, красиво, даже блестяще, отчего семье и придворным приходилось нелегко. Суматоха и бестолковщина перемещений двора, вызванных очередной причудой императрицы, достигала своего апогея летом: по дорогам между Царским Селом и Павловском, Петергофом и Гатчиной кочевали кареты и обозы, перемещая из одного пункта в другой придворных, мебель, прислугу, съестные припасы, гардеробы и т. п. Мало того, по распоряжению Николая I в нижней части Петергофа на берегу моря был разбит огромный парк, названный в честь любимой супруги Александрией. Здесь наскоро возвели несколько десятков построек, но все эти швейцарские шале, китайские пагоды, голландские мельницы и итальянские палаццо не были рассчитаны на долгую жизнь в суровых российских условиях. Они оказались настолько сырыми и холодными, что на стенах комнат императрицы росли грибы, а жаркая погода приносила другую беду: в помещениях становилось абсолютно нечем дышать. Зато со стороны этот городок выглядел не просто красиво, но и по-царски великолепно. В общем, хотели как лучше…
К сорока годам Александра Федоровна заметно изменилась внешне. По словам очевидца: «Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грации. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. Нервные конвульсии (память о 14 декабря 1825 года. – Л. Л.) безобразили черты лица, заставляя даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием…». Сильные страдания – это о постоянных мигренях и невралгических болях, мучивших Александру Федоровну.
Женщина слабая и болезненная, она, как это часто случается, пережила мужа на пять лет, хотя ей приходилось трудиться зачастую не меньше венценосного супруга. По свидетельству маркиза де Кюстина: «Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами (она обязана была в них участвовать вместе с мужем. – Л. Л.). Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже… По возвращении – опять приемы. Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-нибудь из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей (имеются в виду военные лагеря гвардии или армейского столичного гарнизона. – Л. Л.), откуда спешит на бал. Так проходит день за днем…».
Именно она, а не Николай Павлович, могла написать Жуковскому письмо, в котором содержались не педагогические сентенции и требования жестче и больше спрашивать с наследника, а простые рассказы о том, чем повседневно заняты дети, во что они играют, что их тревожит и радует. Кстати, Александра Федоровна в отличие от своего мужа не переставала думать о том, какая печальная участь уготована ее первенцу. В 1826 году она пишет Жуковскому, находившемуся за границей: «Саша горько плакал перед троном, на котором он когда-нибудь будет коронован, я молила Бога о том, чтобы Он не допустил меня дожить до того дня». Эти мольбы остались не услышанными.
Мать была для наследника престола безусловно понятнее и ближе, чем отец. Видимо, поэтому его память навсегда сохранила предрождественские праздники, устраиваемые в Зимнем дворце. Накануне Рождества в сочельник у императрицы обязательно ставилась елка (этот обычай был завезен в Россию из Пруссии именно Александрой Федоровной. Первая елка устроена ею в 1818 году, в год рождения наследника престола) [2]. Елочные праздники проводились для царских детей, но на это семейное торжество приглашалась вся свита. Каждый усаживался за отведенный ему стол, на котором стояли маленькие елки и лежали подарки (игрушки, книги, платье, серебро), а в гостиной возле большой елки проводились шуточные аукционы с ценными призами. Однако таких теплых воспоминаний у наследника сохранилось немного. Его мать, занимавшаяся по должности широкой благотворительностью, участвовавшая в обязательных официальных мероприятиях, также не могла уделять Александру Николаевичу достаточно много внимания. Его же доброе и влюбчивое сердце хотело гораздо большего.
Некоторое сближение Николая I с наследником началось слишком поздно, чуть ли не после женитьбы последнего. Может быть, этому сближению поспособствовало и то, что в конце 1830-х годов император стал жаловаться на ухудшение здоровья: его одолевали головокружения, колотье в боку, приливы крови к голове. Судя по симптомам, у монарха развилось какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы, что в общем-то не удивительно при столь напряженном образе жизни. Именно в те годы Александр Николаевич смог по достоинству оценить степень увлечения отца историей, особенно биографиями великих государей. Он начинал понимать, что ничто человеческое Николаю I не чуждо: тот свободно говорил на трех европейских языках, прилично рисовал, любил музицировать и играть в пьесах Мольера во время домашних спектаклей.
Николай Павлович и Александр стали совершать совместные прогулки, во время которых отец без утайки рассказывал сыну, как Екатерина II заставила Петра III отказаться от престола, как его убили в Ропше, о судьбе своего отца Павла I. Подобные откровения, понятно, были сугубо конфиденциальными и доверительными, думается, что они способствовали выработке у нашего героя определенного отношения к власти. Правда, к этому времени у него появилась собственная семья, да и вообще свободного времени оставалось все меньше и меньше. Иными словами, запоздавшее сближение отца и сына получилось для обоих приятным, но несколько формальным, скорее всего, император, наконец, заметил, что первенец вырос из коротких штанишек, стал помощником, на которого можно переложить часть государственных забот.
Различия же между монархом и его старшим сыном, хотя и проявлялись поначалу редко, выглядели довольно существенными; иначе и не могло быть, так как по уровню образования, по складу характера они оказались достаточно разными людьми. Свидетельством тому служат несколько случаев, замеченных и пересказанных окружавшими их придворными. Так, однажды, узнав, что Жуковский анализировал с наследником события 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, Николай Павлович, имея в виду декабристов, спросил сына: «Саша, как бы ты наказал их?». Мальчик подумал и ответил: «Я бы их простил». Николай I вздохнул и, ни слова не говоря, вышел из классной комнаты. Вряд ли его умилило мягкосердечие сына, скорее он подумал о том, как легко рассуждать о прощении, будучи наследником, и как трудно решиться простить врагов престола, став самодержцем [3].
Во всяком случае, после этого разговора Николай Павлович упорно пытался внушить первенцу мысль о необходимости твердой руки в деле управления государством. Как-то Александр Николаевич в ответ на его вопрос сказал отцу, что Россия держится самодержавием и законом (именно этому учили его Жуковский, Сперанский и другие учителя). «Законом – нет! – возразил Николай I. – Только самодержавием и вот чем, вот чем, вот чем!» – трижды махнул он крепко сжатым кулаком. Даже предсмертная его фраза, обращенная к сыну, была весьма характерна для их отношений: «Держи все, держи все», – сказал император и сопроводил свои слова энергичным жестом, показывая, как это все надо держать. Но подобные советы и наставления Николая Павловича пропадали втуне, Александр II не мог и не собирался им слепо следовать, хотя и отказываться от строгости и твердости действий не был намерен.
Из братьев и сестер ближе всех к наследнику престола и по возрасту, и по образу мыслей стоял великий князь Константин Николаевич. Его фигура для нас особенно интересна, так как роль великого князя в реформах 1860–1870-х годов была очень велика. Константин с детства готовился отцом к руководству Морским ведомством, недаром воспитателем его стал знаменитый полярный исследователь и моряк Ф. П. Литке. В семье, где отличались высоким ростом, крепкими мускулами, военной выправкой, великий князь рос ребенком относительно хилым, тщедушным. Его дядя, великий князь Михаил Павлович, душевной чуткостью отнюдь не отличавшийся, без обиняков называл племянника Эзопом. В семье, где предпочитали чтению физические упражнения, он рос любителем литературы и музыки (в зрелые годы профессионально играл на виолончели и фортепиано, чуть хуже – на органе). За это на него зачастую сыпались насмешки и упреки: «Костя с книжками, Костя скучен, Костя педант». А этот «педант», хотя и любил общество взрослых, мог при случае расшуметься и разрезвиться так, как все его братья и сестры вместе взятые.
Ф. К. Винтерхальтер. Портрет великого князя Константина Николаевича. 1859
С помощью постоянных упражнений Константин Николаевич избавился от физической немощи и сутуловатости, но блеск военной славы, в отличие от многих других Романовых, не слишком его прельщал. В юности он написал записку о возможности взятия Константинополя с моря, а в 1849 году получил из рук фельдмаршала И. Ф. Паскевича Георгиевский крест за боевые заслуги в Венгерском походе (честно говоря, никаких ратных подвигов в этом походе великий князь не совершил). Вот, пожалуй, и все его достижения на поле брани.
Морское же ведомство под руководством Константина Николаевича быстро набирало силу. Его руководитель пожертвовал 200 тысяч рублей личных средств на строительство новых паровых кораблей, в то время как правительство отказалось выделить деньги, ссылаясь на отсутствие их в казне [4]. Однако прославился великий князь не только этим. Он, видимо, хорошо усвоил слова Жуковского, наставлявшего его в юношеские годы: «Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно». Будучи моложе наследника на девять лет, Константин Николаевич, похоже, раньше брата понял, что реформы в России необходимы и неизбежны. Причем, как он считал, речь должна идти не только об отмене крепостного права. Иначе «Морской сборник» – сугубо официальный орган Морского ведомства – вряд ли бы стал одним из самых либеральных печатных изданий в стране, поднимавшим темы суда, отмены телесных наказаний, свободы слова. Кроме того, в недрах ведомства готовилось изменение флотского судопроизводства, во многом предвосхитившее аналогичную общероссийскую реформу 1864 года.
Константин Николаевич уже с середины 1850-х годов ясно представлял себе, что именно в государстве требует перемен. «Положение, – отмечал он, – становится тем важнее, что теперь явились с новою силою… важно жизненные вопросы… а именно: о крепостном праве, о раскольниках, о крайней необходимости устроить судопроизводство и полицию нашу так, чтобы народ находил где-нибудь суд и расправу, чтоб приказания правительства исполнялись и чтоб высшие правительственные лица не были вынуждены для достижения благих целей прибегать к незаконным средствам». Заслуга великого князя состояла и в том, что он вырастил в буквальном смысле этого слова целую плеяду деятелей будущих реформ. Один из них, П. П. Семенов, взял на себя труд подсчитать, что из пятидесяти человек, игравших достаточно важные роли в разработке крестьянской реформы, двадцать вышли из недр Русского Императорского Географического общества, которым долгие годы руководил Константин Николаевич и которое было своеобразным штабом реформ 1860-х годов.
Среди высшей петербургской бюрократии великий князь приживался с трудом и так никогда и не стал для нее «своим человеком». В конце 1850-х годов он первым принял на себя огонь, открытый реакционерами по деятелям, поддерживавшим планы реформирования страны. Противники преобразований, не осмеливаясь критиковать императора, дружно обрушились на его брата, называя того «якобинцем», «красным» и распуская о нем всяческие нелестные слухи. Будучи человеком высокообразованным, инициативным, реформатором по убеждениям, он одновременно имел несчастье быть заносчивым, высокомерным с министрами и сановниками. Как отмечали современники, внимательным и чутким Константин Николаевич оставался только с членами небольшого кружка, сплотившегося вокруг него (эти люди назывались «константиновцами»). Немудрено, что большая часть дворянства недолюбливала великого князя – одни из-за того, что считали его «отцом» крестьянской реформы, другие потому, что видели в нем символ бюрократического, верхушечного проведения реформ, отстранения от них представителей общества.
Однако у главы Морского ведомства непросто складывались отношения не только с дворянством и высшей бюрократией. Случались у него недоразумения и со старшим братом. В феврале 1855 года он, принося присягу на верность новому императору, заявил: «Я хочу, чтобы все знали, что я первый и самый верный из подданных императора». Почему Константину Николаевичу потребовалось специально подчеркивать свою верность брату-венценосцу? Видимо, это был не слишком завуалированный ответ на слухи (упорные, но совершенно неосновательные), согласно которым великий князь якобы во всеуслышание заявлял, что наследником престола должен считаться он, так как Александр родился тогда, когда их отец был еще только великим князем; первенцем же императора Николая I является именно он, Константин. Эти слухи, по словам очевидца, «…возбуждали недовольство императора и беспокоили его». Подобная реакция Александра II вполне естественна, впрочем, вряд ли дело было только в слухах. Константин Николаевич, решительно преобразовавший не только аппарат Московского ведомства, но и российский флот, горячо отстаивавший отмену крепостного права, судебную, земскую и другие реформы, многим современникам представлялся истинным инициатором и мотором преобразований. Императора же, стоявшего во главе реформаторских процессов и считавшего сделанное им в 1860-х годах украшением и смыслом своего царствования, громкая слава брата не могла не раздражать.
В результате отношения между ними были не всегда ровными и, что называется, братскими. На протяжении своего царствования Александр II, с одной стороны, использовал главу Морского ведомства на самых важных и «горячих» постах, а с другой – всячески пытался поставить великого князя на место, указывая на его подчиненное положение по отношению к венценосцу. В 1859 году, выговаривая Константину по поводу серьезной размолвки того с братом Николаем, император заявил: «Ты и брат Николай, вы оба служите мне, и ваше дело состоит в том, чтобы друг другу помогать, а не ссориться». Через три года, отправляя великого князя в Польшу, Александр Николаевич писал ему: «Не забывай, что, будучи моим наместником… служи мне верою и правдою в Польше…». По уже знакомой нам схеме Россия и монарх сливаются в этих словах в единое целое, подчеркивая тем самым, что великий князь является лишь первым подданным среди всех подданных императора. После трагической гибели Александра II Константин Николаевич оказался невостребованным новым главой государства (отношения с наследником престола Александром Александровичем, будущим Александром III, не сложились у него с давних пор). Он прожил остаток жизни в Крыму в окружении друзей и семьи.
С другими братьями и сестрами особо близких отношений у нашего героя не получилось. Они были гораздо моложе его, поэтому детские воспоминания связывали их мало, к тому же постоянное подчеркивание особого положения Александра отдаляло их от него. Для постоянного общения с братьями и сестрами позже у наследника, а затем монарха, не оставалось достаточно времени, да и политические их симпатии порою не совпадали. Великий князь Николай Николаевич не был ни одарен никакими особыми талантами, ни воспламенен какой-то высокой идеей, что он блестяще продемонстрировал во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, являясь не более, не менее как главнокомандующим русской армии. По замечанию злого на язык, но умного насмешника П. В. Долгорукого [5], великий князь «…имеет особую слабость, в которой он вряд ли найдет себе соперника. Он выводит и улучшает породы кур». Справедливости ради скажем, что Долгорукий ошибся, поскольку в выборе хобби Николай Николаевич не был так уж одинок. Римский император Диоклетиан в свое время тоже не без успеха занимался сельским хозяйством, даже оставив ради выращивания то ли спаржи, то ли капусты все государственные посты, чего великому князю, к сожалению, сделать не разрешили.
Другой брат Александра II великий князь Михаил Николаевич по своим способностям находился, как говорили знающие люди, «на полдороге» между Константином и Николаем. Он был чрезвычайно высокомерен и горд, что делало его непопулярным и среди высшей бюрократии, и в обществе. К преобразованиям старшего брата Михаил Николаевич относился подчеркнуто негативно, поскольку не переносил ни либеральных, ни, тем более, радикально-демократических идей и начинаний. Сестры же Александра II, как и положено великим княжнам, были достаточно рано выданы замуж, и их пути со старшим братом разошлись. Да и в детстве, как вспоминала Ольга Николаевна, им постоянно напоминали, что Александр – это особая статья, его ждет престол, а потому относиться к нему необходимо то ли с почтением, то ли просто не докучать ему своими детскими «глупостями».
Нельзя, наверное, безапелляционно утверждать, что в отцовской семье Александр Николаевич был постоянно одинок и несчастен. Он очень любил мать и сестер и с удовольствием проводил с ними свободные часы. Однако вряд ли приходится спорить с тем, что особое положение наследника престола, заметная разница в возрасте, а иногда и в уровне образования сказывались в его отношениях с родными. Может, он и не был одинок, но постоянно ощущал холодок одиночества (избранности), может, он и не был отчаянно несчастлив, но крайне редко чувствовал себя счастливым. Так неужели великому князю Александру Николаевичу, а позднее императору Александру II ни разу не довелось испытать теплоту истинной любви, ощущения человеческой заботы о себе, не затуманенного государственными соображениями? Ведь у него со временем выстроилась собственная семья: жена, сыновья, дочери… Впрочем, это слишком важная и деликатная тема, настоятельно требующая отдельного и серьезного разговора, к которому мы, не откладывая дела в долгий ящик, и перейдем.
От первой до последней любви Александра II
Повышенная чувственность, необходимость ощущения постоянной влюбленности были, видимо, одной из отличительных черт психологического облика всех Романовых. В качестве иллюстрации этого утверждения можно было бы сослаться на многочисленные любовные истории Петра Великого, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I… Однако, думается, у читателя эти сюжеты благодаря заботам литераторов и вообще людей, пишущих об истории, в последние годы и так, что называется, на слуху, поэтому подобные отсылки в нашем разговоре кажутся совершенно излишними. В то же время сказать несколько слов по этому поводу безусловно придется, хотя бы для разгона, то есть для того, чтобы начать разговор о личной жизни нашего героя с некой предыстории, а не брать быка за рога, ведь речь пойдет об очень тонкой материи.
Вспоминая о любовницах и любовниках тех Романовых, которым довелось взойти на престол, менее всего хочется размышлять о том, к чему приводит вседозволенность и, принимая вид сурового моралиста, грозить в прошлое пальцем. Конечно, без изрядной доли распущенности, без человеческой слабости здесь не обошлось, но, вообще-то, проблема видится гораздо серьезнее, чем обычно представляют ее ревнители нравственности или любители «клубнички». Не были ли любовные истории Романовых в XVIII–XIX столетиях поиском выхода из монаршего одиночества, попытками прорыва к искренней, простой человеческой любви? Ведь бегство «в женщин», в частную жизнь, даже в скандалы – это и есть бегство от трона, от официального «надо» или «нельзя», это бунт, протест против навязанных родителями и государственными соображениями семейных союзов, каждый из которых представлялся даже не лотереей (это характерно для любой семейной пары), а «русской рулеткой». Правда, убегая на поиски обычной, «земной» любви, властители, не подозревая об этом, из одиночества монаршего попадали в одиночество человеческое. Свободная смена любовников и любовниц – не то средство, которое делает людей счастливыми прочно и надолго.
Возвращаясь к нашей теме, отметим, что различия в проявлении чувственности у Романовых были достаточно существенны, индивидуальность каждого из них окрашивала влюбленности государей в особые краски, требовала различных нюансов в отношениях с женщинами. Кроме того, времена менялись, а вместе с ними менялись и отношения между полами, хотя перемены здесь были менее разительны, чем в экономике, общественной жизни или художественной культуре. Если вспомнить самодержцев, правивших в первой половине XIX века, то можно заметить, что Александр I предпочитал вызывать восхищение окружающих дам, ему нравилось их, как говорили любители смеси «французского с нижегородским», шармировать и он не слишком упорно настаивал на чем-то большем. Его отношения с фрейлинами жены трудно назвать исключительно платоническими, но в их основании лежал нарциссизм, самолюбование, желание нравиться и очаровывать [6].
Николай I, со свойственными ему прямотой и неумением тратить время попусту, старался покорить, завоевать взять приступом приглянувшихся ему фрейлин, актрис или светских дам. Если же это не удавалось, то он разыгрывал перед предметом своей страсти роль средневекового рыцаря или усталого воина (как говорил один из персонажей «Тетушки Чарлея»: «Я старый солдат и не знаю слов любви»). Впрочем, эти различия лишь подчеркивали главное – Романовы не могли, да и не считали нужным скрывать свою повышенную чувственность, неуемное желание находиться в состоянии перманентной влюбленности.
Заметим, что мемуаристы и мемуаристки, которые, уважая истину, не могли вообще закрыть глаза на подобные сюжеты великосветской хроники, в то же время далеко не всегда умели найти верный тон, впадая то в уродливое пуританство и нудное морализаторство, то в совершенно несвойственную им странную игривость. Так, к примеру, баронесса М. П. Фредерикс, рассказывая об альковных похождениях императора Николая Павловича, делала порой удивительно лихие замечания и выводы. «Известно, – писала баронесса, – что он (Николай I. – Л. Л.) имел любовные связи на стороне – какой мужчина их не имеет, во-первых (так их, мужчин! – Л. Л.), а во-вторых, при царствующих особах нередко возникает интрига для удаления законной супруги, посредством докторов стараются внушить мужу, что его жена слаба, больше, ее нужно беречь и т. п., а под этим предлогом приближают женщин, через которых постоянное влияние могло бы действовать. Хотя предмет его постоянной связи (фрейлина императрицы Александры Федоровны В. А. Нелидова. – Л. Л.) и жил во дворце, никому и в голову не приходило обращать на это внимание, все это делалось так скрытно, так порядочно…».
Неизвестный художник. Портрет В. А. Нелидовой. XIX в.
В последних замечаниях баронессы не грех и усомниться. И обращать внимание на Нелидову было кому (взять хотя бы императрицу и наследника престола), и благородство, порядочность этой ситуации вызывают законные сомнения. Однако не будем впадать в бесполезное морализаторство, тем более что до нас этим занимались десятки мемуаристов и исследователей, не согласных с игривой куртуазностью оценок баронессы Фредерикс и иже с ней. Важно другое: в отношениях с женщинами Александр II не был исключением из общепринятых правил. Но в отличие от дяди или отца он, похоже, не пытался лишь очаровывать дам или брать приступом их добродетель, он хотел просто любить и быть любимым, искал настоящую привязанность, покой, тепло… Впрочем, обо всем по порядку.
Э. Гау. Портрет Натальи Бороздиной. 1840-е
Из воспоминаний весьма осведомленной А. О. Смирновой-Россет, и не только из них одних, известно, что Александр Николаевич уже в пятнадцатилетнем возрасте увлеченно флиртовал с фрейлиной матери Натальей Бороздиной. Первая юношеская влюбленность наследника престола не осталась тайной для окружающих (что вообще могло остаться для них тайной?), да он и не считал нужным особенно скрывать ее, не видя в своих чувствах никакого криминала. Мы не знаем, что говорил Николай Павлович сыну (а страшно интересно, что он мог ему сказать, помня о Нелидовой, проживавшей в соседних покоях?), но реакция родителей на пока что невинное увлечение великого князя оказалась быстрой и решительной. Бороздина была немедленно удалена из дворца и вместе со спешно появившимся у нее мужем-дипломатом незамедлительно оказалась в Англии.
В восемнадцать лет Александр Николаевич стал предметом горячего обожания Софьи Давыдовой, дальней родственницы известного поэта гусара Дениса Давыдова. Одна из чувствительных современниц, посвященная в сердечную тайну девушки, писала в духе то ли вышедшего уже из моды сентиментализма, то ли модного еще романтизма: «Она любила наследника так же свято и бескорыстно, как любила Бога, и, когда он уезжал в свое путешествие по Европе (1836–1840 годы. – Л. Л.), будто предчувствовала, что эта разлука будет вечной. Она простилась с ним, как прощаются в предсмертной агонии, благословляя его на новую жизнь…» Чувство Давыдовой к цесаревичу было чисто платоническим. Не одна российская барышня испытывала нечто подобное к Александру Николаевичу, но только Софье Дмитриевне удалось попасть на станицы литературного произведения (о ее любви написана необычайно дамская повесть), а потому чувство именно этой девушки нашло заметный отклик в душах современников и осталось в истории.
Ж.-Д. Кур. Портрет Ольги Калиновской. XIX в.
В двадцать лет наследник престола впервые влюбился самым серьезным образом. Предметом его страсти стала опять-таки фрейлина (что делать, если именно они, фрейлины, были всегда перед глазами и под рукой!) императрицы Александры Федоровны некая Ольга Калиновская. Когда придворные заметили симпатию красивой девушки и Александра Николаевича друг к другу, то немедленно доложили об этом императрице. Любовь наследника к Калиновской оказалась для царской семьи еще более неприемлемой, чем флирт с Бороздиной. Ольга была не только «простой смертной», то есть в ней не текло ни капли королевской крови, но еще и являлась католичкой – сочетание для Зимнего дворца сколь знакомое (великий князь Константин Павлович, брат Николая I, был женат на польской графине Лович), столь и скандальное. Эта история заставила императорскую чету поволноваться и оставила след в переписке супругов. В одном из писем жене Николай I передает ей свой разговор с Х. А. Ливеном: «Мы говорили про Сашу. Надо ему иметь больше силы характера, иначе он погибнет… Слишком он влюбчивый и слабовольный и легко попадает под влияние. Надо его непременно удалить из Петербурга». Александра Федоровна, в свою очередь, записала в дневнике: «Что станет с Россией, если человек, который будет царствовать над ней, не способен владеть собой и позволяет своим страстям командовать собой и даже не может им сопротивляться?». И вновь из письма Николая I: «Саша недостаточно серьезен, он склонен к разным удовольствиям, не смотря на мои советы и укоры»
Скандал в благородном семействе набирал силу, пока, наконец, не было решено всерьез и надолго разлучить влюбленных и поспешить с поисками подходящей партии для наследника престола. С этой целью Александр Николаевич был отправлен за границу, тем более что такое путешествие соответствовало плану его обучения. Ему повезло в том, что Жуковский, сопровождавший ученика в его европейском турне, был крупным поэтом-романтиком, специалистом в выражении возвышенных романтических чувств, к тому же он прекрасно помнил о собственных горестях на любовном фронте [7]. Поэтому, как нам представляется, поэт оказался идеальным попутчиком для разочарованного в жизни и убитого горем юноши.
Жуковский чутко ощущал страдания будущего самодержца, разлученного с возлюбленной, и не раз восхищался его выдержкой и верностью долгу. Сам же Александр Николаевич, похожий в тот момент на кого-то вроде гетевского Вертера, только в письмах к отцу позволял своей боли выплескиваться наружу. «Ты, наверное, приметил, – писал он в одном из них, не подозревая, насколько отец “приметил” то, о чем он ему писал, – мои отношения с О. К… Мои чувства к ней – это чувства чистой и искренней любви, чувства привязанности и взаимного уважения». Отцу же нечем было утешить сына, кроме обещания позаботиться о достойном будущем его возлюбленной.
Как уже упоминалось, в Дармштадте наследник российского престола познакомился с пятнадцатилетней Марией, носившей, как и положено германской принцессе, пышный шлейф имен – Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария. Вряд ли между молодыми людьми тотчас вспыхнуло чувство шекспировского или шиллеровского накала. Страдающему от насильственной разлуки с Калиновской Александру Николаевичу казалось, как это часто бывает в юности, что все потеряно, единственная, настоящая любовь разбилась о непонимание окружающих, о подножие престола. Можно предположить, что именно с такими ощущениями он, помня о долге монарха, написал отцу письмо, в котором говорил о возможности своего брака с симпатичной дармштадтской принцессой.
Однако на пути этого, казалось бы, со всех сторон приемлемого союза возникло неожиданное препятствие. Дело в том, что по европейским дворам давно ходили глухие слухи о незаконном происхождении принцессы. Задолго до рождения Марии ее родители фактически разошлись, жили порознь и имели любовные связи на стороне. Поэтому настоящим отцом принцессы молва называла не герцога Людвига, а его шталмейстера, красавца барона де Граней. Эти слухи, дошедшие до Петербурга, чрезвычайно взволновали императрицу Александру Федоровну, которая яростно воспротивилась браку своего первенца с «незаконнорожденной» дармштадтской принцессой. Император Николай I, слава богу, оказался гораздо хладнокровнее и мудрее супруги. Понимая, что еще одна любовная неудача может всерьез надломить наследника и заставить его наделать глупостей, он решил изучить вопрос всесторонне. Прочитав отчеты Жуковского и Кавелина о событиях в Дармштадте и ознакомившись с циркулировавшими по Германии слухами, император решил проблему кардинальным образом. Он раз и навсегда запретил своим подданным (значит, и супруге), а заодно и германским дворам, обсуждать вопрос о происхождении Марии. Нарушать приказ монарха не осмелился никто ни в России, ни в Европе. Николаевское самодержавие с его грозной репутацией зачастую оказывалось весьма полезным институтом.
Тем временем продолжавший путешествие по Европе наследник престола умудрился завязать очередной роман, еще более бесперспективный, чем предыдущие. На этот раз дело происходило в Англии. В 1839 году королеве Великобритании Виктории исполнилось двадцать лет, и она, повинуясь долгу монарха, была озабочена выбором мужа, принца-консорта [8]. Напомним, что Россия не была для Виктории только далекой экзотической страной, как для большинства ее подданных. Ее крестным отцом являлся император Александр I, именно в честь него, победителя Наполеона, новорожденная получила имя Александры, о котором позже никто не вспоминал под впечатлением ухудшения англо-российских отношений. Иногда политические причины не давали монархам возможности сохранить даже данное при крещении имя.
Итоги первого же бала, устроенного английским двором в честь высокого русского гостя, оказались не совсем обычными. Первый адъютант Александра Николаевича полковник С. А. Юрьевич записал в дневнике: «На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве… и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе». Тон адъютантской записи, как видим, легкомысленный, даже несколько игривый, мол, знай наших! Юрьевич пока не видит опасности в легком царственном флирте. Однако через два-три дня тон записей в дневнике полковника меняется почти на панический. «Цесаревич, – пишет Юрьевич, – признался мне, что влюблен в королеву, и убежден, что и она вполне разделяет его чувства»
Дж. Хейтер. Портрет королевы Виктории. 1843
Перспектива превращений наследника российского престола в британского принца-консорта совершенно не входила в планы Зимнего дворца. Наследники – товар, если можно так выразиться, слишком штучный, чтобы ими можно было легко разбрасываться. Конечно, нам с вами было бы любопытно пофантазировать о том, как изменилась бы карта Европы и мира в результате подобного союза. Однако оставим описание того, «что было бы, если бы», историческим маньеристам, у нас еще появится возможность поговорить о вариативности исторического процесса.
Пока же английское правительство, запаниковавшее не меньше Зимнего дворца, удалило Викторию в Виндзорский замок, затруднив тем самым встречи молодых людей. Решение оказалось своевременным, так как Александр Николаевич не ошибался по поводу чувств, которые королева питала к нему. Во всяком случае, в своем дневнике Виктория, еще не выработавшая своего стиля, который так и назовут викторианским, в те дни писала: «Я совсем влюблена в Великого князя, он милый, прекрасный молодой человек» Сейчас трудно сказать, насколько чувства Виктории и Александра были сильны и долговременны. Во всяком случае, вскоре, как и следовало ожидать, государственные интересы двух стран возобладали над их то ли любовью, то ли увлечением друг другом. Молодые люди осознали неосуществимость своей мечты и сочли за благо принести ее в жертву долгу. Расставание их было печальной неизбежностью, и с этим они оба, скрепя сердце, смирились [9].
Таким образом, к началу 1840-х годов женщины, в которых влюблялся Александр Николаевич, оказались для него, по тем или иным причинам, недоступны. Вернувшись в Россию, он, правда, попытался вновь встретиться с Калиновской, но Николай I пресек продолжение этого романа со свойственной ему решительностью. Калиновская была выдана замуж за супруга ее покойной сестры, богатейшего польского магната Иринея Огинского. Позже старший сын этой четы будет утверждать, что он является сыном Александра II, но доказательств этому ни он, ни мы привести не можем. Впрочем, не можем мы привести и доказательств, свидетельствующих об обратном. Под влиянием обстоятельств и давлением родителей Александр Николаевич вернулся к «дармштадтскому варианту», и, честно говоря, этот вариант оказался совсем не плох.
Неизвестный художник. Портрет великой княгини Марии Александровны. 1847
Начнем с портрета великой княгини Марии Александровны, оставленного ее фрейлиной Тютчевой. «Прекрасны ее чудесные волосы, – пишет та, – ее нежный цвет лица, ее большие голубые, немного навыкат глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Профиль ее не был красив, так как нос не отличался правильностью, а подбородок немного отступал назад. Рот был тонкий, со сжатыми губами, без малейших признаков к воодушевлению и порывам, а едва заметная ироническая улыбка представляла странный контраст с выражением глаз».
Мария Александровна хорошо разбиралась в музыке, прекрасно знала новейшую европейскую литературу. Вообще широта ее интересов и душевные качества приводили в восторг многих из тех, с кем ей довелось встречаться. «Своим умом, – писал известный поэт и драматург А. К. Толстой, – она превосходит не только других женщин, но и большинство мужчин. Это небывалое сочетание ума с чисто женским обаянием и… прелестным характером». Другой поэт, Ф. И. Тютчев, посвятил великой княгине пусть и не самые лучшие, но возвышенные и искренние строки:
- Кто б ни был ты, но встретясь с ней,
- Душою чистой иль греховной,
- Ты вдруг почувствуешь живей,
- Что есть мир лучший, мир духовный…
В России Мария Александровна скоро стала известна широкой благотворительностью – мариинские больницы, гимназии и приюты были весьма распространены и заслужили высокую оценку современников. Всего она патронировала 5 больниц, 12 богаделен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 низших училищ и 5 частных благотворительных обществ – все они требовали от великой княгини неусыпного внимания. На них Мария Александровна тратила и государственные деньги, и часть своих средств, ведь ей выделялись на личные расходы 50 тысяч рублей серебром в год. Она оказалась человеком глубоко религиозным и, по свидетельству современников, ее легко можно было представить в монашеской одежде, безмолвную, изнуренную постом и молитвой. Впрочем, для будущей императрицы такую религиозность вряд ли можно было считать достоинством. Ведь ей приходилось выполнять многочисленные светские обязанности, а чрезмерная религиозность приходила с ними в противоречие.
Переезд в Россию стал для Марии Александровны не простым делом, явившись для нее подлинным потрясением. Блеск и роскошь двора, частью которого она должна была стать, угнетали ее до слез. Первые годы она боялась всего на свете: свекрови, свекра, фрейлин, придворных, своей неловкости, «недостаточного французского». По ее собственным словам, будучи цесаревной, она жила «как волонтер», готовый каждую минуту вскочить по тревоге, но еще не слишком хорошо знающий, куда бежать и что именно делать. Положение жены наследника престола, а затем императрицы требовало от Марии Александровны слишком многого. Она была нежно привязана к мужу и детям, пыталась добросовестно исполнять обязанности, налагавшиеся на нее, но, как это часто бывает, чрезмерные усилия лишь подчеркивали отсутствие у нее столь необходимой государственному деятелю естественности. Она по природе своей была «слишком не императрицей». «В моей голове, – говаривала Мария Александровна, – все вперемежку… смех и слезы, благоразумие и сумасбродство, сильные увлечения и мелочность, доброта и желание посмеяться над ближним, а при случае, быть может, даже героизм». Трудно сказать об остальном, но своеобразный героизм ей приходилось проявлять чуть ли не ежедневно.
Женщина далеко не безвольная, она направляла все свои усилия на выполнение долга, соответствие занимаемому посту. Может быть, поэтому супруга Александра Николаевича многим казалась осторожной до крайности, что делало ее в жизни слабой, нерешительной, а то и тягостной в общении. Мария Александровна, естественно, особо ценила уединение и малочисленное собрание знакомых лиц, что для императрицы являлось или считалось (а по отношению к царствующим особам это, по сути, одно и то же) пороком. Ее вскоре начали обвинять в чрезмерной гордости (чего на самом деле не было и в помине). Даже такой умный и внимательный наблюдатель, как Б. Н. Чичерин [10], признавая за императрицей ум, образованность, возвышенную душу, говорил о том, что впечатления от общения с ней «…подрывались непонятной апатией, которая делала ее неспособной к долгой работе». Почему Борис Николаевич не предположил, что императрице было тяжело или попросту неинтересно с ним беседовать?
К тому же до восшествия вместе с мужем на престол у Марии Александровны начала развиваться тяжелая болезнь (туберкулез), спровоцированная промозглым петербургским климатом и частыми родами. В 1860 году, когда она родила последнего ребенка, ей исполнилось 36 лет, и болезнь уже ни для кого не составляла секрета. Придворные шептались по углам, что императрица страшно похудела, превратилась почти в скелет, покрытый толстым слоем румян и пудры. Изменилась и обстановка вокруг нее. В. П. Мещерский вспоминал: «Так, например, гостиная императрицы была уже не та. Прежде, с начала царствования, в Петербурге говорили об этой гостиной, потому что в ней раз или два раза в неделю бывали небольшие вечера, где велись оживленные беседы о вопросах русской жизни. Но в 1864 году уже этих вечеров исчезли и следы. И все знали с грустью, что императрица старалась отстраниться от всякого прямого вмешательства в дела. Вечера бывали, но они имели характер светский и абсолютно не политический. Только по средам, когда император уезжал на охоту, императрица собирала у себя за обедом иногда людей для политической беседы…» Впрочем, виной тому, о чем рассказывает Мещерский, была не одна болезнь, но об этом чуть позже.
Александр II и Мария Александровна с детьми. 1864
И все же в конце 1850-х – начале 1860-х годов императрица и не помышляла о самоустранении от государственных забот, да и как она могла от них устраниться? В 1857 году известный либерал-западник К. Д. Кавелин, находясь за границей, был принят лечившейся на водах Марией Александровной и говорил с ней о проблемах воспитания наследника престола (великого князя Николая Александровича) и о необходимости освобождения крепостных крестьян. Императрица поведала ему, что отмена крепостного права всегда была заветной мечтой ее супруга (оставим на ее совести это «всегда», являющееся явным преувеличением, для нас важно, что Александр II твердо желал этого в конце 1850-х годов). Что же касается вопросов воспитания и образования, то, по словам Кавелина, «…эта женщина разбирается в них лучше педагога». Помимо педагогики, Мария Александровна живо интересовалась политикой и нередко присутствовала при чтении дипломатических депеш и военных донесений. Нет ничего удивительного в том, что Александр II охотно советовался с супругой, которая всегда была в курсе докладов его министров.
Впрочем, идиллия совместных трудов на благо отечества продолжалась недолго, иной поворот событий выглядел бы чересчур благостно и малоправдоподобно. Доверие императора к супруге вызвало ревность его ближайшего окружения (к тому же оно было слишком не похоже на отношения между Николаем Павловичем и Александрой Федоровной), и придворные начали нашептывать ему, что по Петербургу ходит слух, будто Мария Александровна им руководит, а значит, является соправителем государства. Этот шепоток упал на подготовленную почву, с детских лет предположение о том, что он может быть чьим-то «ведомым», было наиболее обидным для Александра Николаевича. Слух же о том, что он находится «под каблуком» у жены, оскорбителен не только для монарха, но и для всякого взрослого мужчины (совершенно не важно при этом, справедлив подобный слух или нет). Не удивительно, что государь вскоре перестал говорить с императрицей о делах и вообще начал обходиться с ней довольно холодно. Отныне, если она хотела за кого-нибудь похлопотать, то вынуждена была обращаться к министрам, у мужа ее просьбы вызывали лишь резкую отповедь.
Выше приводился портрет императрицы, нарисованный Тютчевой. Будет небезынтересно посмотреть глазами той же фрейлины на нашего героя. «Черты лица его, – пишет Анна Федоровна, – были правильны, но вялы и недостаточно четки, глаза большие, голубые, но взгляд мало воодушевленный; словом, лицо его было маловыразительно и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный или величественный вид… когда он позволял себе быть самим собой, все его лицо освещалось добротой, приветливой и нежной улыбкой, которая делала его на самом деле симпатичным».
Даже учитывая огромную привязанность Тютчевой к императрице, а также силу женской солидарности, крепнущей перед лицом мужской неверности (об этом подробная речь пойдет чуть позже), учитывая и то, что император часто вынужден был играть столь нелюбимую фрейлиной роль сурового, но справедливого владыки, держа в голове все это, отдадим должное проницательности Анны Федоровны. Она абсолютно права в том отношении, что Александр и Мария, видимо, представляли собой далеко не идеально совместимую пару. Императрица была в этом дуэте чересчур возвышенным началом, а ее муж представляется абсолютно земной, даже несколько приземленной личностью.
Им пришлось пережить вместе немало тяжелых минут, даже потрясений (так, в 1849 году умер первый ребенок Александра и Марии, дочь Александра), но испытания до поры только сближали великокняжескую чету. Переломным моментом, неким водоразделом в их отношениях стала, по мнению большинства современников и исследователей, болезнь и внезапная смерть наследника престола, великого князя Николая Александровича. Он заболел вследствие то ли падения с лошади, то ли от удара об угол мраморного стола во время шутливой борьбы с принцем Лейхтенбергским. Причем в первое время на ушиб позвоночника родные не обратили особого внимания, не замечая, что цесаревич бледнел, худел, иногда не мог выпрямить спину и ходил немного сгорбленным. На его долю доставались лишь упреки окружающих за то, что он специально «ходит стариком». Болезнь же тем временем прогрессировала.
Впрочем, недостаточно внимательными оказались не только родные великого князя, но и наблюдавшие его специалисты-медики. Они пользовали Николая Александровича от ревматизма или какой-то иной невралгической хвори, болезнь же начинала приковывать наследника к постели, сначала на недели, затем и на месяцы. Лишь после этого ему посоветовали отправиться на лечение в Ниццу, где французские врачи поставили роковой диагноз – туберкулез позвоночника. Весной 1865 года состояние наследника стало критическим, и на юг Франции прибыла царская чета с сыновьями Владимиром и Алексеем. Царский поезд пересек Европу с небывалой для тех лет скоростью, всего за 85 часов.
Трудно поверить, но и здесь во время смертельной болезни старшего сына, приличия диктовали Александру II и Марии Александровне свою волю. Императрица ежедневно навещала великого князя после обязательной прогулки в коляске. Но однажды Николай Александрович почувствовал себя хуже и стал отдыхать в часы обычного визита к нему матери. В результате они не виделись несколько дней и Мария Александровна поделилась с одной из фрейлин своей досадой на это обстоятельство. «Да отчего ж Вы не поедете в другой час?» – удивилась та. «Нет, это мне неудобно», – ответила императрица, будучи не в силах нарушить заведенный порядок даже тогда, когда речь шла о жизни ее любимого сына.
Неизвестный художник. Цесаревич Николай Александрович. 1860
Александру же Николаевичу не давало покоя сознание того, что, быть может, именно он стал невольной причиной болезни цесаревича. В детском возрасте наследник был хрупким, чересчур изнеженным ребенком, и, чтобы исправить этот недостаток, отец приказал ему усиленно заниматься физическими упражнениями, что привело, пусть и случайно, к печальному исходу. А ведь речь шла не только о жизни цесаревича. Император видел, как в результате разворачивающихся событий ухудшалось здоровье и Марии Александровны. Кроме того, как мы уже отмечали, наследник престола – это не просто царский сын, это человек, определенным образом подготовленный к занятию трона, в конце концов, человек, избранный на этот пост Богом. 11 апреля 1865 года Александра Николаевича разбудили в шесть часов утра и доложили, что «цесаревич слабеет». В тот же день Николай Александрович умер, а 16 апреля гроб с телом наследника был перенесен на фрегат «Александр Невский», который 28-го числа того же месяца прибыл в Петербург [11]. Наследником же престола был объявлен великий князь Александр Александрович.
Роковое для жизни императрицы впечатление произвели на нее и измена мужа (о которой речь, как мы и обещали, пойдет ниже), и многочисленные покушения народников-террористов на его жизнь. В своей сумме эти события не позволили ей ни оправиться от болезни, ни забыть о бедах и горестях, свалившихся на ее плечи. Ей ничего не оставалось, как только повторить что-то вроде: «Больше незачем жить, я чувствую, что это меня убивает… Знаете, сегодня убийца (А. К. Соловьев. – Л. Л.) травил его как зайца. Это чудо, что он спасся». К 1880 году Мария Александровна превратилась в собственную тень или, как предпочитали выражаться придворные, «стала воздушной». Она вставала только затем, чтобы совершить утренний туалет, и изредка поднималась к обеду в кругу семьи. 17 февраля 1880 года у нее случился очередной приступ болезни, который оказался настолько силен, что императрица впала в летаргическое состояние и даже не слышала взрыва, произведенного в Зимнем дворце Степаном Халтуриным. Иными словами, с середины 1860-х годов жена физически не могла в полной мере оставаться опорой, помощницей и утешительницей императора. 22 мая 1880 года Мария Александровна скончалась. Незадолго до этого она попросила, чтобы ей дали умереть в одиночестве. «Не люблю я этих пикников возле смертного одра», – так больная в последний раз выразила свою приверженность к уединению и покою, которых она была столь долго лишена.
Обожание Александром II супруги или, точнее, уважение к ней на протяжении всей ее жизни оставались неизменными, однако они все больше напоминали заученный раз и навсегда ритуал. Утром бесстрастный поцелуй, дежурные вопросы о здоровье, о поведении и учебных успехах детей, беседа на родственно-династические темы. Днем совместное участие в парадах и церемониях, позже – визиты к родственникам или выезд в театр, обязательный чай вдвоем или в обществе детей. Но ночи они проводили раздельно, чувственность давно ушла из их отношений. Сыновья и дочери приносили императору много радости, он любил проводить время в семейной обстановке, играть с детьми, но, к сожалению, располагать собой в полной мере он не мог. Первыми это почувствовали старшие сыновья. «Папа теперь так занят, – говорил маленький Николай Александрович, – что он совершенно болен от усталости. Когда дедушка был жив, он ему помогал, а Папа помогать некому». Брату вторил великий князь Александр Александрович (будущий император Александр III): «Папа мы очень любили и уважали, но он по роду своих занятий и заваленный работой не мог нами столько заниматься, как милая, дорогая Мама».
Подрастая, царственные дети приносили родителям, как водится, не только радости, но и неожиданные заботы. Весной 1864 года великий князь Александр Александрович влюбился во фрейлину матери Марию Мещерскую. Александр II гневался и ругал сына за «неразумие», но не мог не вспомнить о своем былом чувстве к Ольге Калиновской, уж слишком явственными оказались параллели в «неразумности» поведения сына и отца. Великий князь, уже тогда отличавшийся редким упрямством, заявил, что отказывается от возможных претензий на престол, поскольку не хочет расставаться с любимой. Император растерялся и, не сумев найти сколько-нибудь убедительных аргументов против чувства сына, воспользовался своим положением самодержавного владыки. «Что же ты думаешь, – заявил он, – я по доброй воле на своем месте? Разве так ты должен смотреть на свое призвание?.. Я тебе приказываю ехать в Данию… а княжну Мещерскую я отошлю».
Семейные неурядицы, хотя они и случались достаточно редко, мучили и изводили Александра Николаевича. Впрочем, будем беспристрастны, он и сам зачастую оказывался причиной этих неурядиц (если не сказать сильнее). Его последняя любовь, практически разрушившая законную семью, была, безусловно, чувством сильным, высоким, но для династии весьма неприятным и даже опасным… Когда все это началось? Может быть, в 1859 году, когда впервые после окончания Крымской войны Александр II решил провести крупные маневры на Украине? Определившись с датой и точным местом маневров, император принял приглашение князя и княгини Долгоруких посетить их имение Тепловку, расположенную в окрестностях Полтавы, где и должны были состояться учебные баталии.
Род Долгоруких вел свое начало от Рюриковичей, то есть был весьма знатным и состоял в отдаленном родстве с царской фамилией. Первой реальной исторической личностью в этом роду являлся князь Михаил Черниговский, замученный в Золотой Орде в 1248 году. Во времена более близкие и цивилизованные, скажем, в конце XVII – начале XVIII века, самым заметным представителем рода Долгоруких стал князь Алексей – один из любимцев Петра I. Отцом будущего предмета любви Александра II Екатерины оказался отставной капитан гвардии Михаил Долгорукий, а матерью – Вера Вишневская, богатейшая украинская помещица. Правда, к концу 1850-х годов богатство семейства Долгоруких было уже в прошлом. Тепловка, последнее их пристанище, оказалось заложенным и перезаложенным, заниматься хозяйством глава семьи не хотел, да и не знал, как за это взяться, а у Долгоруких подрастали четыре сына и две дочери, которых приличия требовали пристроить одних в гвардию, других в Смольный институт благородных девиц.
Здесь, в Тепловке, и состоялась первая встреча Александра II, которому к тому моменту исполнился 41 год, и тринадцатилетней княжны Долгорукой. Французский посол в России Морис Палеолог со слов очевидцев позже восстановил картину этой встречи. В один прекрасный день, отдыхая в Тепловке, император расположился на веранде, где к нему и подбежала девочка. «Кто вы, дитя мое?» – спросил ее Александр Николаевич. «Я – Екатерина Михайловна. Мне хочется видеть императора», – ответила та. Искреннее любопытство прелестной девочки растрогало монарха, он дружески побеседовал с ней, а затем серьезно поговорил со старшими Долгорукими, пообещав уладить финансовые проблемы семейства.
Действительно, Александр II посодействовал вступлению братьев Долгоруких в петербургские военные учебные заведения, а сестер – в Смольный институт, причем обучение переехавших в столицу шестерых Долгоруких велось за счет государя. Четыре года спустя князь Михаил умер и, чтобы оградить патронируемое семейство от кредиторов, Александр Николаевич взял Тепловку под императорскую опеку. Отметим, что и эта мера не помогла Долгоруким вернуть свое былое состояние. Их мать, княгиня Вера, переехала в Петербург, где купила весьма скромную квартирку на окраине города, это все, что она могла себе позволить.
Весной 1865 года император по традиции посетил Смольный институт, послав предварительно, как было заведено исстари, роскошный обед для всех воспитанниц и преподавателей института. Услышав от начальницы Смольного госпожи Леонтьевой имена Екатерины и Марии Долгоруких, Александр II вспомнил Тепловку и захотел увидеть девушек. Екатерине в ту пору исполнилось 18 лет, Марии – 16. Старшая сестра оказалась девушкой среднего роста, с изящной фигурой, изумительно нежной кожей и роскошными светло-каштановыми волосами. У нее были выразительные светлые глаза и красиво очерченный рот. Здесь самое время вспомнить об одной особенности характера императора. По словам Б. Н. Чичерина: «Не поддаваясь влиянию мужчин, Александр II имел необыкновенную слабость к женщинам… в присутствии женщин он делался совершенно другим человеком…» Не знаю, как насчет других дам, но Екатерина Михайловна сразила монарха, что называется, наповал.
Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова.
Фотограф С. Л. Левицкий. 1866
В это время при дворе подвизалась бывшая смолянка, некая Варвара Шебеко. Дама во всех отношениях приятная и услужливая, она уже до этого не раз выполняла достаточно деликатные поручения императора. Не будем скрывать, Александр Николаевич в начале 1860-х годов имел немало романтических приключений и в Зимнем дворце, и вне его. Его «донжуанский список» нельзя сравнить, скажем, с пушкинским, но с 1860 по 1865 год он, по слухам, переменил полдюжины любовниц: Долгорукую 1-ю, однофамилицу Екатерины Михайловны, Лабунскую, Макову, Макарову, Корацци и так далее… Даже приняв этот список на веру, можно смело сказать, что все это были лишь мимолетные увлечения, попытки бегства от дворцового одиночества, не принесшие нашему герою никакого облегчения, серьезным чувством здесь и не пахло. Оставим пуританство его ревностным защитникам, вспомним лучше слова Гамлета: «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?»
Один из хорошо осведомленных очевидцев событий обронил интересную фразу: «Александр II был женолюбом, а не юбочником». Различие достаточно тонкое, но в нем есть кое-какой смысл. Не знаю, что имел в виду автор этого афоризма, но, думается, нечто вроде того, что «случаи» и мимолетные романы, которые могли бы удовлетворить обычного юбочника, совершенно не затрагивали сердца императора и не давали никакого успокоения его душе. Он был не сладострастен, а влюбчив и искал не удовлетворения своих прихотей, а глубокого настоящего чувства. В этом чувстве его привлекали не столько высокий романтизм или острые ощущения, сколько желание обрести подлинный покой, тихий и прочный семейный очаг. Ведь брак с Марией Александровной был не просто семейным союзом, а скорее договором о сотрудничестве, заключенным сторонами для выполнения определенных государственных обязанностей.
Итак, самодержец вновь прибег к помощи Варвары Шебеко, именно через нее Кате посылались сласти и фрукты. Устроить это было нетрудно, поскольку услужливая Варвара приходилась родственницей начальнице Смольного института госпоже Леонтьевой, которая также оказалась втянутой в разворачивавшуюся интригу. Однажды Катя простудилась и попала в институтскую больницу, встревоженный император инкогнито посещал ее в палате, а устраивала эти визиты все та же Шебеко. Последняя подружилась и с княгиней Верой Долгорукой, одолжила ей деньги, выданные для этой цели Александром II, и расписала перед ней блестящие перспективы, открывающиеся перед ее дочерью. Обедневшей княгине эти перспективы показались действительно многообещающим выходом из финансового тупика для ее семьи.
Обе женщины, единственные близкие Кате в чужом Петербурге люди, усиленно внушали девушке мысль о покорности судьбе, о том, что любовь царя к ней – редкая, уникальная возможность устроить свою жизнь и жизнь своих близких. Однако Катя продолжала держаться от монарха на расстоянии, и ее сдержанность воспламеняла Александра Николаевича больше, чем изощренная опытность его прежних возлюбленных. Пребывание Долгорукой в Смольном стало мешать дальнейшему развитию романа, и Шебеко инсценировала ее уход из института «по семейным обстоятельствам». Княжна поселилась у матери, но это оказалось не лучшим выходом из положения. Посещения императором их квартиры выглядели бы явным вызовом приличиям, к чему страстно влюбленный монарх все же не был готов. Тогда находчивая Варвара предложила, в качестве временного выхода, «случайные» встречи Долгорукой и государя в Летнем саду.
В середине 1860-х годов Александр Николаевич оставался привлекательным мужчиной, находившимся в расцвете зрелости. Во всяком случае, французский писатель-романтик Теофиль Готье, побывавший в эти годы в России, оставил следующий портрет императора: «Александр II был одет в тот вечер в изящный восточный костюм, выделявший его высокую стройную фигуру. Он был одет в белую куртку, украшенную золотыми позументами, спускавшимися до бедер… Волосы государя коротко острижены и хорошо обрамляли высокий красивый лоб. Черты лица изумительно правильны и кажутся высеченными художником. Голубые глаза особенно выделяются благодаря коричневому цвету лица, обветренному во время долгих путешествий. Очертания рта так тонки и определенны, что напоминают греческую скульптуру. Выражение лица, величественно спокойное и мягкое, время от времени украшается милостивой улыбкой».
Однако для Долгорукой любовь к ней монарха продолжала оставаться чем-то не совсем реальным, хотя постепенно и заполнявшим всю ее жизнь. Это давало ей необычайное спокойствие, озадачивавшее Александра II. Он, будучи человеком порядочным и по-настоящему влюбленным, искавшим ответного чувства, не хотел прибегать к принуждению, настойчиво пытаясь убедить Катю в искренности и чистоте своей любви. Та же относилась к нему только как к государю, то есть владыке земному и почти небесному. Для нее слова «любовь императора» и «любовь к императору» наполнились совершенно не тем содержанием, каким хотелось бы окружающим. Она абсолютно не понимала, почему мать и тетя Вава (так младшие Долгорукие называли Шебеко) бранят ее за «неприличное поведение по отношению к императору» (формулировка действительно более чем странная). Она готова была почитать, да и почитала царя как образцовая подданная Российской империи. Слова же наставниц о том, что она может потерять тот уникальный шанс, который предоставляет ей слепой случай, проходили мимо ее сознания, поскольку меркантильные интересы не играли для нее пока никакой роли.
В 1865 году Екатерина Долгорукая заняла привычное место царских фавориток – стала фрейлиной императрицы Марии Александровны, хотя фрейлинских обязанностей почти не исполняла (императрице тяжело было видеть и девушку подле себя). Постепенно регулярные встречи влюбленного монарха и преклонявшейся перед ним княжны дали свое дело. Катя стала привыкать к императору, начала позволять себе видеть в нем не только владыку, но и приятного мужчину, встречала его улыбкой, перестала дичиться. Между тем свидания в Летнем саду, на глазах праздной публики становились все более неудобными. Встречая в саду Александра II с Долгорукой, петербуржцы шептались: «Государь прогуливает свою демуазель». В целях усиления конспирации встречи были перенесены на аллеи парков Каменного, Елагиного, Крестовского островов столицы. Конкретные места свиданий, как поля битв военачальниками, заранее выбирались Шебеко, остававшейся главным хранителем высочайших секретов. В мае 1866 года скончалась княгиня Вера Долгорукая, так и не сумевшая сделать свое полтавское имение прибыльным и обеспечить приличное приданое дочерям. Теперь Тепловкой распоряжался, и достаточно бестолково, старший сын Долгоруких Михаил, который мог посылать братьям и сестрам по 50 рублей в год, смешную сумму для столичных офицеров и барышень большого света. Катя и Маша продолжали получать стипендии из средств государя (хотя старшая из них уже не училась в Смольном). Братья, окончившие корпуса, перешли на службу в военное ведомство.
Влюбленные же продолжали скитаться в поисках укромных мест свиданий, в Петербурге таких мест оказалось на удивление мало. Одно время они встречались на квартире брата Кати Михаила, но тот, боясь общественного осуждения, отказал им в приюте, чем очень удивил императора. Нашему герою казалось, что никто в городе не замечает его отношений с Долгорукой, хотя петербургское общество уже начало судачить в предвкушении грандиозного скандала. Как говорили современники императора, Александру Николаевичу вообще была свойственна уникальная способность верить, что никто не видит того, чего он не хочет, чтобы видели. А может быть, все объяснялось тем, что монарх считал, что никому не должно быть дела до его личной жизни. В июне 1866 года в Петергофе праздновалась очередная годовщина свадьбы Николая I и Александры Федоровны. В трех верстах от главного Петергофского дворца находился замок Бельведер, покои которого предоставили гостям праздника. Сюда Варвара Шебеко и привезла ночевать Долгорукую, а сама устроилась в соседних апартаментах, чтобы создать впечатление, что девушка постоянно находилась под ее неусыпным наблюдением. В тот вечер Катя отдалась императору, и тогда же Александр Николаевич сказал ей: «Сегодня я, увы, не свободен, но при первой же возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю тебя своей женой перед Богом, и я никогда тебя не покину». Дальнейшие события показали, что слова императора в столь деликатных вопросах не расходились с делами.
Бельведер. Литография П. Ф. Бореля
по рисунку К. К. Циглера фон Шафгаузена. XIX в.
Расстаться, правда на непродолжительное время, им пришлось достаточно скоро. Петербургский «свет» узнал о происшедшем в Бельведере практически тотчас (бог весть, как это происходит, но ведь есть поговорка или чье-то удачное выражение: в России все тайна, но ничто не секрет). И Екатерина Михайловна была вынуждена уехать в Италию, чтобы дать время пересудам уняться. Слухи все равно поползли по столице, причем воображение представителей бомонда оказалось гораздо грязнее, чем у простолюдинов, которые видели в Долгорукой всего лишь императорскую «демуазель». В «верхах» же утверждали, что княжна невероятно развратна чуть ли не с пеленок, что она ведет себя нарочито вызывающе и, чтобы «разжечь страсть императора», танцует перед ним обнаженная на столе (вообще-то подобные предположения оскорбляли не только Долгорукую, но и самого Александра Николаевича. И вообще, кому какое было дело, чем и как они занимались?). Судачили и о том, что она в непристойном виде проводит целые дни и якобы даже принимает посетителей «почти не одетой», а за бриллианты «готова отдаться каждому». Вот уж воистину, мера испорченности и злости определяет оценку происшедшего.
После отъезда Долгорукой в Италию на первый план вновь выходит мадемуазель Шебеко, пытавшаяся затеять очередную головокружительную интригу. Считая, как многие другие «наблюдатели», что роман с Екатериной Михайловной является лишь минутной прихотью императора, она, чтобы не потерять своего влияния в Зимнем, решает заменить уехавшую Долгорукую ее младшей сестрой Марией. К удивлению Шебеко и иже с ней, фокус не удался, отношение монарха к старшей Долгорукой оказалось абсолютно серьезным. Александр II, придя на встречу с Марией, поговорил с ней около часа о ее житье и материальном положении, подарил кошелек, наполненный червонцами, и удалился. Для него с недавних пор не существовало других женщин, кроме Екатерины Михайловны.
Чтобы вновь увидеться с ней, монарх ухватился за первую подвернувшуюся под руку возможность. В 1867 году Наполеон III пригласил Александра Николаевича посетить Парижскую Всемирную выставку. Визит русского императора во Францию не планировался, к тому же он был опасен, поскольку в Париже осело много поляков, покинувших родину после неудачи восстания 1863 года. Однако уже в июне 1867 года царь прибыл в столицу Франции, куда из Италии спешно приехала и его возлюбленная. Французская полиция, бдительно следившая за безопасностью русского высокого гостя, аккуратно фиксировала ежедневные свидания Александра и Екатерины, ставя о них в известность своего монарха. По возвращении на родину влюбленные продолжали встречаться ежедневно, едва соблюдая правила конспирации, а точнее, установленные приличия. Тогда же, по свидетельству фрейлин императрицы Марии Александровны Тютчевой и Толстой, государь поведал жене о своей любви к Долгорукой. Мария Александровна ранее никогда ни с кем не обсуждала прежних увлечений мужа, она не допускала в своем присутствии никаких разоблачений или осуждений и этой его измены. Точно так же, вероятно, не без влияния матери, вели себя дети императора, не решаясь даже между собой обсуждать поведение отца. Императорская семья всячески пыталась соблюсти внешние приличия, а может быть, затаилась перед лицом надвигающихся потрясений.
Зато «свет» гудел, как растревоженный улей. Он особенно строго осуждал наследника престола, великого князя Александра Александровича за то, что тот не решился выступить против отца, чтобы защитить интересы династии. Но, во-первых, цесаревич, как и его супруга, пытался протестовать. Однажды, сорвавшись, он выпалил, что не хочет общаться с «новым обществом», что Долгорукая «плохо воспитана» и ведет себя возмутительно. Александр II пришел в неописуемую ярость, начал кричать на сына, топать ногами и даже пригрозил выслать его из столицы. Чуть позже жена наследника великая княгиня Мария Федоровна открыто заявила императору, что не хочет иметь дела с его пассией, на что тот возмущенно ответил: «Попрошу не забываться и помнить, что ты лишь первая из моих подданных!». Бунта в собственной семье государь потерпеть не мог и был готов подавить его любыми средствами. Кроме того, речь в данном случае шла не просто о приличиях, а о свободе и защищенности личной жизни монарха, что было для нашего героя очень важным.
Иными словами, и это во-вторых, положение великого князя Александра Александровича являлось настолько деликатным, что его вмешательство в сердечные дела отца могло повлечь за собой скандал, а то и раскол в императорской фамилии, грозящий непредсказуемыми последствиями. Позицию, занятую членами первой семьи Александра II, лучше всего, пожалуй, выразила императрица, заявившая: «Я прощаю оскорбления, нанесенные мне как монархине, но я не в силах простить тех мук, которые причиняют мне как супруге». Мария Александровна мудро сместила акценты: не затрагивая династических проблем, которые касались всей страны (права ее детей на престол были для императрицы несомненны), она сделала упор на проблемах чисто семейных, бытовых, которые, по правилам хорошего тона, не подлежат обсуждению с посторонними.
Если супруга императора и его дети вели себя достаточно осторожно и разумно, то высшее общество и бюрократия жаждали разоблачений, скандала, а потому перешли в решительное наступление. Чего только не говорили об Александре Николаевиче и в чем только его не обвиняли! Ходил упорный слух, что им управляет (это вообще излюбленная тема, когда речь заходит об обвинении самодержцев) «отвратительный триумвират», состоявший из Екатерины и Марии Долгоруких, а также Варвары Шебеко. В подтверждение этого рассказывали, как последняя однажды о чем-то настоятельно просила Александра II, а тот вяло отбивался, повторяя: «Нет, нет, я уже говорил вам, я не могу, я не должен этого делать, это невозможно». Кстати, вы можете, прочитав этот пассаж, сделать вывод о том, что императором управляли? Мне на ум приходит совершенно обратное [12].