Читать онлайн Александр Островский бесплатно
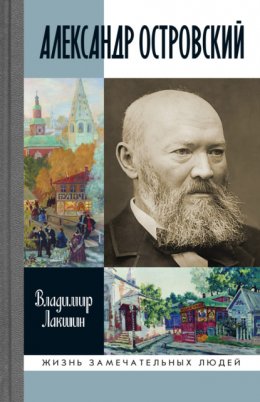
Перед занавесом
Александр Николаевич Островский родился в Москве 31 марта 1823 года…
Произнеся эту привычную фразу, биограф Островского должен перевести дух и задуматься. Сейчас взовьется занавес над его судьбой… Что рассказать о жизни великого драматурга, чем удовлетворить любопытство к нему читателя?
Всего полтора столетия прошло со дня его рождения и меньше ста лет со дня смерти[1], а многое, что связано с его жизнью, литературным трудом, личным обиходом, близкими и друзьями, безвозвратно утеряно в беге времени. Есть годы и даже десятилетия (таковы, например, годы детства и юности), о которых почти нечего сказать: факты отрывочны и недостоверны, сведения случайны, документы безлики.
Островского-драматурга так часто бранили в повременной печати 1870—1880-х годов, что современники с опозданием догадались, что он – классик. Большинству и в голову не приходило записывать что-либо о своих встречах и разговорах с ним, а спохватились, когда было поздно: стали напрягать память, присочинять, выдумывать. Физиономия Островского плохо уловима из мемуаров, черты его расплываются.
Белокурый, стройный, хорошо пел – рисует его один из воспоминателей. Смолоду грузный, рыжеватый, рано облысевший, никогда не слышали его поющим – настаивает другой… Надо сводить эти свидетельства на очную ставку, выверять, просеивать.
Сам Островский мало помог своему биографу. Мы знаем писателей, всю жизнь создававших душевный автопортрет. Таков, например, Лев Толстой. Мы можем представить себе его детство по детству Николеньки Иртеньева, участие в Крымской войне – по «Севастопольским рассказам», его жизнь на Кавказе – по «Казакам», его духовные поиски зрелых лет – по судьбе Пьера Безухова, Левина и Нехлюдова. Толстой всю жизнь заглядывал внутрь себя, приоткрывая в творчестве тайники собственной души, бесстрашно вынося их содержимое на свет божий. А кроме того – какое море воспоминаний, писем, дневников, запечатлевших день за днем его великую жизнь!
Островский – драматург, а значит как художник обручен с самой объективной и безличной формой литературы: его герои – это вовсе не он сам, хотя бы и в пересозданном искусством виде. Чужие волнения, страдания, страсти. Ни слова о себе, о своих близких, о личном. Такова вообще участь драматического писателя. Что можно сказать о судьбе Шекспира или Лопе де Вега на основании их пьес? Островский приоткрывается нам в своих комедиях и драмах ничуть не больше, чем Шекспир в «Отелло» или «Макбете», а великий англичанин не зря принадлежит к числу загадочных лиц литературной истории.
Конечно, и в драматической форме автор иной раз не вытерпит и ударится в лиризм и хоть тенью, хоть уголышком изобразит себя; так тот же Толстой воплотит свою душевную драму в Сарынцове («И свет во тьме светит»), свою мечту об «уходе» – в Феде Протасове из «Живого трупа». Но даже таких «окошек» в автобиографию мы не найдем в драматическом творчестве Островского. В его пьесах есть благородные резонеры, но нет лиц, в которых мы узнали бы автора.
Да и составит ли интерес для читателей личная судьба человека, который не воевал, не дрался на дуэли, не путешествовал вокруг света, не блистал при дворе, не проматывался на рулетке, не памятен любовными приключениями, не заточался в острог, не отбывал ссылку… Домоседом прожил всю жизнь в Москве и только однажды в зрелые годы переменил квартиру: перебрался из Яузской части на Волхонку. Жизнь ровная, лишенная громких событий и, по видимости, малоинтересная…
Но может ли быть малоинтересной жизнь человека, который населил русскую сцену толпой живых лиц? Который прошел свой путь как рыцарь театра, безраздельно преданный одной этой страсти и ради нее готовый на любые испытания, на подвижнический, лишенный скорого вознаграждения труд?
- Он имел одно виденье,
- Непостижное уму,
- И глубоко впечатленье
- В сердце врезалось ему…
Важно угадать в Островском этого пушкинского рыцаря, подвижника-терпеливца, всю жизнь самоотверженно работавшего для театра, боровшегося с рутинерами и чиновниками за великое русское искусство. Важно открыть внутреннее, духовное напряжение этой жизни, и тогда мы согласимся, что и эта судьба полна интереса и поучительна не менее иной судьбы, богатой круговоротом событий, страстей и перемен. Да и крутых поворотов в жизни Островского при внимательном взгляде окажется больше, чем поначалу думалось, и не таким уж домоседом он предстанет.
В его облике нет как будто ни капли возвышенного: спокойно сидит Островский в шубейке на беличьем меху, запечатленный точной кистью Перова, и только глаза его – голубые, умные и острые, отнюдь не самоуверенные, но выпытывающие, ненасытные, доверчивые и не дающие солгать, только эти детские глаза его – свидетели совершающейся в нем горячей внутренней жизни.
(Кабы не этот взгляд – можно б было, глядя на портрет, вообразить московский неподвижный быт, когда в деревянном домишке холодно и в теплой одежде сидят, чтобы руки-ноги не стыли, а где-то рядом кипит пузатый самовар и на беленой скатерти большие, в цветах, фарфоровые чайники, пироги, жамки и прочие соблазны Замоскворечья.)
Где же искать живого Островского? Дневники его хороши и живописны только ранние: это школа начинающего писателя. Но и там меньше всего о себе – больше о том, что видел, наблюдал в первых своих поездках за пределы родного дома: о природе, городах и реках, о нижегородском театре, о лицах костромских крестьян. О себе же ни полсловечка.
Драматурга упрекали в необъятном тщеславии – это ходячее мнение раздуто его недругами, разнесено молвой. Если судить по его писаниям, я не знаю человека скромнее, непритязательнее в отношении себя, чем Островский. В его поведении нет и намека на величавую историческую поступь. Он никогда не гляделся в литературное зеркало, не стремился себя запечатлеть и показаться с выгодной стороны в глазах потомства. Не писал дневников и писем в расчете на посторонние глаза, просто не надеялся, что они будут кому-нибудь интересны, кроме прямых адресатов. Большинство его писем малосодержательны – это простые извещения о событиях, жалобы на безденежье, волнения о распределении ролей в новых пьесах.
Он не любуется собой со стороны, в нем много доверчивости и открытости, великого простодушия. И при огромном самобытном уме какая-то ребяческая непосредственность. Так дети великолепно схватывают мир в ярких рисунках, но вовсе не заняты самоизучением, анализом своего «я» – это попросту чуждо их натуре. Более чем кто-либо Островский имел право сказать: вся моя биография – в моих пьесах.
В 1879 году издатель «Русский старины» Михаил Семевский усердно подстрекал Островского к писанию мемуаров для своего журнала. Драматург отвечал ему:
«Я сам уже давно мечтаю, что “вот я буду писать свои воспоминания”, как это будет мне приятно, как это будет живо и правдиво, сколько нового я скажу… Но я знаю в то же время, что мечты мои так мечтами и останутся. Чтобы привести в порядок свои воспоминания и хоть только начать их как следует, нужны покой и досуг; а ничего этого у меня нет, не будет и быть не может!.. Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю и обделываю сюжеты вперед, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, т. е. без хлеба, с огромной семьей, – так уж до воспоминаний ли тут!»[2]
Может быть, оттого, что сам Островский мало радел о сохранении следов своей личной судьбы, беспечно отнеслось к этому и его ближайшее потомство. Исчезли безвозвратно многие рукописи, письма. Лишь в небольшой части дошла до нас переписка с С. Максимовым, И. Горбуновым. Почти полностью пропали его письма за многие годы к брату – М. Н. Островскому[3]. Исчезла большая часть писем к Некрасову[4]. Все письма к Салтыкову-Щедрину. Сын драматурга С. А. Островский, уходя на Первую мировую войну, обещал биографу Аполлона Григорьева, В. Княжнину, передать ему по возвращении письма Григорьева к Островскому: от них тоже не осталось и следа[5]. Этот скорбный перечень легко было бы продолжить.
Когда перед юбилеем 1923 года журналист Михаил Сокольников посетил усадьбу Щелыково, он стал расспрашивать Н. Н. Любимова, сопровождавшего его в прогулке по парку, уцелели ли письма Островского, фотографии. «Письма? – отвечал Любимов. – Писем-то было много, да валялись они без внимания и, конечно, тоже погибли. На чердаке остался один мусор, вот у меня еще есть немного, это к моему отцу (он управлял усадьбой до меня)… Вот тоже лежали пачки и у работника, во флигеле; недавно кто-то приезжал из Кинешмы, спрашивал их у него, – тот ответил: “Было, – говорит, – правда много, да сожгли на самовары. Пораньше бы немного…”»[6].
Серьезное изучение биографии, собирание и издание неизвестных текстов Островского развернулось, в сущности, лишь с 20-х годов XX века, уже при Советской власти. Многое было сделано такими учеными, как Н. П. Кашин, Н. Н. Долгов, В. А. Филиппов, С. К. Шамбинаго, А. И. Ревякин, Л. М. Лотман, Е. Г. Холодов, и другими. Однако в биографии Островского до сих пор немало белых пятен, загадок, неясностей, сомнительных дат, предположительных построений.
Лишь в 1973 году разыскана записная книжка Островского 1854 года, лишь в 1976-м – дневник его поездки на юг с актером Мартыновым, только в 1979-м – дневник путешествия во Францию и Англию[7].
Любая биография – реконструкция погасшей жизни. Приходится соединять мостками воображения сохранившиеся свидетельства, уцелевшие факты, перепрыгивать догадкой через неизвестное. Запретно лишь выдавать гипотезу за несомненность.
В этой книге нет вымысла даже в мимолетных бытовых и исторических подробностях. Указания на основные источники любознательный или недоверчивый читатель найдет в примечаниях в конце книги. Но в случае нужды я мог бы едва ли не любую строку подтвердить отсылкой к мемуарам, публикациям, документам, исследованиям.
Считаю долгом уведомить, что, делая поправки и уточнения во втором издании, я воспользовался советами и замечаниями Н. В. Баранской, В. Н. Бочкова, Е. И. Гольденвейзер, Э. Л. Ефременко, В. В. Жданова, В. А. Каверина, М. И. Перпер, В. С. Попова, Е. Г. Холодова, И. Г. Ямпольского, к которым испытываю искреннюю благодарность.
Прямое дело биографа – понять связь событий и дат, великого и малого, литературного и человеческого в крупной судьбе. И тогда за ворохом фактов и пеленой гипотез встанет перед нами не иконописный лик – живое, умное, лукавое, страдающее лицо драматурга.
В костромской усадьбе Островского – Щелыкове – вас непременно поведут в Ярилину долину, к ключу, где, по местному преданию, растаяла Снегурочка. В полукружье кудрявых кустов и молодых деревьев, лишь на два венца подымаясь над землей, уходит вниз бревенчатый сруб шестигранного неглубокого колодца. Вода в нем небесно-голубая даже в пасмурный день, при солнце же – будто подкрашенная яркой синькой. До дна тут, кажется, достанешь рукой – каждый камешек, каждый прутик различим на песчаном донце, и видно, как выбивает в темном песке упругий жгутик ключа. Но попробуйте вымерить глубь колодца – двухметровая жердь уйдет вниз и не найдет дна.
Таков и Островский – и в своих пьесах, и в личной судьбе. Его прозрачная, незамутненная ясность обманчива. Его простота кажется всем доступной и малоглубокой, но стоит прикоснуться к ней, чтобы увидеть, как трудно вымерить или исчерпать ее…
Предуведомления окончены: третий звонок. Подымем же занавес над судьбой драматурга.
Часть первая
«Я знаю тебя, Замоскворечье»
Островский родился…
Итак, Александр Николаевич Островский родился в Москве 31 марта 1823 года, в доме диакона церкви Покрова, что в Голиках.
Пушкин в ту пору был в южной ссылке и только по ранним воспоминаниям детства представлял себе далекую
- …мирную Москву,
- Где наслажденьям знают цену,
- Беспечно дремлют наяву
- И в жизни любят перемену.
- Разнообразной и живой
- Москва пленяет пестротой,
- Старинной роскошью, пирами,
- Невестами, колоколами.
Островскому было два года, когда на Сенатской площади в Петербурге потерпело поражение восстание декабристов, а год спустя возок с фельдъегерем мчал Пушкина к царю, прибывшему на коронацию в древнюю столицу. Здесь, в Кремлевском дворце, состоялось это знаменитое свидание, пока маленький Островский гулял в высокой траве палисадника при церковном дворе в Замоскворечье.
Островскому было три года, когда в доме Веневитиновых в Кривоколенном переулке Пушкин прочел «Бориса Годунова» своим изумленным и восхищенным слушателям: юному поэту-любомудру Шевыреву, начинающему драматургу, поэту и философу Хомякову, молодому ученому Погодину. Шевыреву было в ту пору двадцать лет, Хомякову – двадцать два года, Погодину – двадцать шесть лет. Погодин задумал тогда издавать «Московский вестник», и Пушкин сделался его усердным сотрудником, хотя и досадовал на коммерческую хватку и скуповатость молодого издателя. (Двадцать с лишним лет спустя, по традиции, упроченной Пушкиным, Островский будет читать свою пьесу «Банкрот» в московских домах, и слушателями его будут те же Погодин, Шевырев, Хомяков, и также будет страдать он от прижимистого норова издателя «Москвитянина».)
В конце 20-х годов Пушкин стал наполовину москвичом, участвовал в московских журналах, дружил с «архивными юношами», которых потом увековечил в «Онегине». На московских балах в Благородном собрании блистали две красавицы – юная Алябьева и тонкая, темноволосая Гончарова: ее руки добивался поэт…
Островскому было четыре года, когда на Воробьевых горах, обнявшись «в виду всей Москвы», юные Герцен и Огарев дали друг другу свою аннибалову клятву.
Островскому было пять лет, когда в московском Благородном пансионе начал учиться Михаил Лермонтов, а в Москве последний раз побывал проездом в Персию, откуда он не вернется живым, автор «Горя от ума».
Островскому было восемь, когда на московской сцене впервые, хоть и в изуродованном цензурой виде, была представлена комедия Грибоедова с Мочаловым в роли Чацкого и Щепкиным – Фамусовым.
Островскому было тринадцать, когда в Москве прошла премьера «Ревизора», когда закрыли «Телескоп» и зашумело имя Чаадаева. Автор «Философических писем» жил одиноко и независимо во флигеле на Новой Басманной, являясь в свет безукоризненно одетым, с щегольскими холеными руками и развлекая дам в московских гостиных своим желчным остроумием.
Все эти события и лица принадлежали кругу образованного общества, дворянской культуры, которым замыкалось, как могло показаться, все, что жило, действовало, творило, оставляло свой след в истории России. Семья Островского не принадлежала к этому кругу. Все, о чем мы напомнили, происходило в Москве в то самое время, когда в ней рос и жадно впитывал первые впечатления бытия юный Островский. Но он жил как бы в другой Москве, в другом мире, и далеко-далеко брезжило время, когда эти два мира могли сойтись и перекреститься на своих розных путях.
Драматург родился и вырос в самобытном и обособленном уголке города – Замоскворечье. Здесь на каждой улице, в каждом закоулке гудели в праздник колокола церквей. Островский принадлежал по рождению к среде небогатого духовенства. Воспитанником Духовной академии, выбившимся в чиновники, был отец Островского, дочерью просвирни была его мать, священником был его дед по отцу, пономарем – дед по матери, с церковным причтом были связаны его многочисленные дядюшки и тетушки.
Низшее «белое» духовенство – несановное, небогатое, образом жизни и достатком мало отличавшееся от своих прихожан, сливалось со средой простолюдинов. Слов нет, в доме дьякона или приходского священника не редкость было встретиться с темнотой, нечистоплотностью, корыстью, но здесь же, в этих семьях, в поколениях «детей» рождались заглушенные до времени порывы к просвещению, широкой деятельности на благо народа. Из этой среды выйдут Добролюбов, Помяловский, Пыпин. Островский тоже предвестник и родня этой разночинной демократической среды.
Если заглянуть поглубже в родословную Островских, мы узнаем, что родом они из Костромской земли. В селе Остров Нерехтского уезда, по преданию, жили его предки, откуда и пошла фамилия Островских[8]. Род отнюдь не аристократический, уходящий корнями в сельщину, в земщину, и известный вглубь разве что на два-три колена. (Недавно открытый искусствоведами замечательный портретист XVIII века Григорий Островский – тоже костромич.)
Драматург всю жизнь оставался горячим патриотом Костромы и с одушевлением говорил о земле своих предков. Он любил рассказывать о мужестве и силе костромского мужика, «выходящего сам-один с рогатиной и ножом на бурого медведя». И добродушно посмеивался над своим другом Провом Садовским, рязанцем по происхождению, говоря, что у всех рязанцев прирожденная актерская жилка и что рязанцы таковы, что «без штуки и с лавки не свалятся». Рязанец Прокопий Ляпунов, воспетый в трагедии Кукольника, казался Островскому лицом излишне театральным – ему «понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды». Этому герою драматург противопоставлял своего земляка: «Ведь вот наш костромич Сусанин не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь; там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор еще историки не кончили спора о том, существовал ли еще он в самом деле на белом свете»[9]. Островского привлекала в его земляках суровая основательность, немногословное мужество.
Его всегда тянуло на землю отцов, и не зря, когда Николай Федорович Островский приобрел костромское имение Щелыково, сын полюбил ездить туда на лето, а после смерти отца выкупил имение у мачехи, сделал его своим постоянным летним домом и стал не по семейному преданию только, но по роду жизни костромичом.
Итак, Островские были из костромских мест. Дед нашего драматурга по отцу, Федор Иванович Островский, в 90-е годы XVIII века приехал в Кострому, чтобы учиться там в духовной семинарии.
Федор Иванович был, верно, человек способный и самобытный, «кряжевой», по слову Аполлона Григорьева[10]. По окончании семинарии он остался в Костроме и стал вскоре протоиереем костромской церкви Благовещения. Всего лишь через год после окончания им семинарии, в 1796 году, у него родился первый сын, Николай, – отец будущего драматурга. Рассказывают, что Федор Иванович был большой книгочей, держал дома библиотеку и заботился о воспитании четырех своих сыновей и двух дочек. Старших двух сыновей – Николая и Геннадия – он по своим стопам определил в Костромскую семинарию. Когда они успешно ее окончили, то поехали учиться в Москву, в Духовную академию.
К этому времени и сам Федор Иванович перебрался в Москву. В 1810 году, совсем еще молодой женщиной, умерла его жена – Ольга Александровна. Федор Иванович постригся в монахи под именем Феодота (по другим сведениям, Феодорита) и стал вести подвижническую жизнь в келье Донского монастыря. Он прожил до глубокой старости, внушая почтение посетителям монастыря и монастырской братии своей строгой сдержанностью, суровым немногословием. Человек истовой веры, на склоне лет он принял схиму. Можно не сомневаться, что Островского в его младенчестве и ранней юности не раз возили в Донской монастырь и подводили под благословение отца Феодота, своим обликом напоминавшего легендарный мир «Четьих-Миней». Умер он лишь в 1843 году, когда его внук уже служил в Совестном суде, и был с почетом погребен у стен Большого собора Донского монастыря.
Николай Федорович, однако, не стремился идти по стопам отца, хотя успешное учение в семинарии и затем в Духовной академии сулило ему верную церковную карьеру. В первой четверти XIX века русское духовенство, потерявшее после Петровских реформ свое былое просветительное и государственное значение и в массе своей невежественное, темное, обленившееся, переживало тяжкий кризис. Как раз в эту пору, как рассказывает историк С. М. Соловьев, почти однолеток Островского, тоже тесно связанный родовыми корнями с церковной средой, в некоторых священнических семействах возникло желание как-то поспевать за веком, «пообчиститься, поотряхнуться»[11]. В молодом же поколении рождалось стремление вырваться за границы своего сословия.
Еще в бытность свою в семинарии Николай Федорович сделал попытку поступить в недавно открывшийся в Петербурге Педагогический институт (там будет потом учиться семинарист Добролюбов), да не смог этого сделать, так как на вступительных экзаменах требовалось знание хотя бы одного из новых европейских языков, а он учил лишь латынь да греческий. В Московской духовной академии, где он живет и учится с 1814 года, Николай Федорович с особым усердием занимается дисциплинами светского цикла: курсом теории словесности, гражданской истории, эстетики, истории всеобщей литературы. И надо ли удивляться, что, окончив в июле 1818 года Духовную академию со званием кандидата, Николай Федорович спустя год устраивается на гражданскую службу. Ему дают чин губернского секретаря и определяют в общее собрание Московских департаментов сената[12].
Наверное, Николай Федорович был прилежным и исполнительным чиновником. Он воспитал в себе суровое чувство долга и к тому же обладал неукротимым желанием выбиться в люди во что бы то ни стало. Спустя два года после поступления на службу он уже коллежский секретарь, спустя еще три года – титулярный советник.
Через много лет после смерти отца, забыв о всех ссорах с ним и горьких унижениях, какие ему пришлось от него претерпеть, Островский с уважением отзовется о нем как о вечном труженике, считая в себе наследной эту его черту.
Еще учась в академии, Николай Федорович свел дружбу со своим однокашником Матвеем Саввиным. Саввин был коренной москвич и по праздничным дням приглашал провинциала Островского к себе в дом. Семья его была небогата, отец – пономарь церкви св. Николая близ Покровского моста – недавно умер. Мать – Наталия Ивановна – как то бывало по обычаю со вдовами лиц духовного звания, была пристроена в просвирни, то есть должна была печь просфорки, за что считалась причисленной к причту. При ней подрастала дочка Люба.
Была когда-то пословица: «Не просвирнино дитя, не видать сквозь тебя». Так говорили прихожане, когда кто-то в толпе застил им алтарь. Просвирнины дети обычно росли при церкви. Но судьба Любы сложилась так, что ее взяли воспитанницей в богатый дом генерала Васильчикова. Тема «воспитанницы» – важная в драматургии Островского, и не потому ли еще, что до него дошли отголоски рассказов о судьбе матери, которой он почти не знал?
Любовь Ивановна была, как рассказывают, недурна собой и, подрастая в девушках, приглянулась приятелю своего брата. Николай Федорович обвенчался с ней в той же церкви близ Покровского моста, при которой она выросла, 9 апреля 1820 года.
Пушкин, как известно, советовал молодым писателям учиться живой русской речи у московских просвирен. То, что бабушкой Островского по матери была московская просвирня, не забудет поэтому указать ни один из биографов драматурга.
Начало семейной жизни молодых Островских складывалось неудачно. Жить было негде, приходилось нанимать дешевые частные квартиры. Первый ребенок Любови Ивановны, Матвей, прожил всего несколько месяцев. Второго сына, Федора, она тоже вскоре похоронила. Понятно волнение молодой женщины, когда она ждала третьего ребенка.
Островский так передавал семейное предание о том, почему он был назван Александром: «Когда покойная матушка Любовь Ивановна написала брату своему, отцу Михаилу[13], кажется, в Смоленск, о смерти второго сына своего Федора и сетовала, что у нее дети не живут, он отвечал ей, чтобы она, если родится третий сын, назвала его Александром и что Александр (не знаю уж по каким соображениям) должен жить. Так и случилось. Это рассказывал мне отец, а также и о том, как возили меня в Смоленск к отцу Михаилу напоказ и за благословением»[14].
Странно, что Островский не догадался, чем был подсказан совет отца Михаила. Ведь Александр по-гречески – «защитник жизни», и смоленский священник надеялся, что покровительство святого убережет жизнь младенца. Для нас же это имя получает еще и то тайное оправдание и долговечный смысл, что, подобно Александру Пушкину, Александру Грибоедову и Александру Герцену, Островский станет защитником жизни в нашей литературе. Нет, не ошибся отец Михаил!
Как раз незадолго до рождения третьего сына Николай Федорович нанял новую квартиру в доме дьякона Никифора Максимова в Замоскворечье. Здесь, на Малой Ордынке, стояла небольшая пятиглавая церковь, красивый памятник архитектуры XVII века. Церковь славилась по Москве чудотворной иконой Божьей Матери Троеручицы, в ней было всегда изрядно прихожан, и дьякон ее был, видно, человек не бедный. Во всяком случае, ему принадлежал довольно солидный двухэтажный дом на каменном подклете с деревянным верхом, сдававшийся внаймы квартирантам.
В этом доме, расположившемся на сквозном участке между Малой Ордынкой и Голиковским переулком, с окнами в палисадник, в четыре часа пополуночи 31 марта (12 апреля по новому стилю) 1823 года родился Александр Николаевич Островский. Явившийся на свет в весенний предрассветный час, мальчик оказался крепче и жизнеспособнее своих рано умерших братьев. На пятый день его закутали в одеяло и понесли крестить – всего-то дороги перейти двор – в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что на Голиках, и нарекли, не мусоля святцы, заранее припасенным именем Александр. Тщеславный Николай Федорович пригласил восприемниками младенца знакомых из чиновного мира, принадлежностью к которому гордился: титулярного советника Борисоглебского и надворную советницу Прокудину[15].
О раннем детстве Островского нам нечего рассказать. Наверное, оно было точно таким, как детство других ребят в семьях того же достатка; он незаметно подрастал в маленьких комнатах, располагавшихся венчиком вокруг печи, в доме с узенькими окошками, со скрипучими половицами. Бегал играть во двор и на улицу – тихую, пустынную, немощеную Малую Ордынку – летом пыльную, весной и осенью грязную. Смотрел, как в праздник движется к поздней обедне пестрая толпа: вальяжные купчихи в расписанных цветами да «пукетами» шалях и барышни помоднее в чепчиках и мантильках, купцы в армяках и поддевках, приказчики, мещаночки, молодые чиновники в узеньких, будто облизанных, фрачках и с прической «а-ля кок», простой люд. Вдоль улицы заборы, заборы с калитками и тесовыми воротами, глухие, утыканные сверху гвоздями, выкрашенные в грязно-красный, зеленый или темно-дикий (синевато-серый) цвет, а то и «сибиркою»… Побывавший в Москве в 1816 году царь Александр Павлович с неудовольствием заметил, что многие дома и ограды в старой столице крашены «грубою краскою», и с тех пор были назначены к употреблению колера светлые – «дикой, бланжевой, палевой и с прозеленью». Но замоскворецкие обыватели пренебрегали по большей части монаршей эстетикой, и квартальному Тигрию Львовичу Лютову в комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын» придется делать внушение Мигачевой за неокрашенный по предписанию забор.
Из-за заборов свисала пыльная акация, сады и огороды с огурцами располагались прямо при домах, и по летней поре купцы бегали друг к другу в гости через улицу или калитками из сада в сад, запахнувшись в домашний халат и в туфлях на босу ногу. Не только дворы, но и мостовые малопроезжих улиц густо зарастали душистой персидской ромашкой.
Пестрое, цветное, дикое, причудливое, странное и милое Замоскворечье вскормило Островского, напитало его душу первыми впечатлениями, осталось в памяти художника на всю жизнь.
Замоскворечье… Даже по своей топографии оно казалось удаленным от старой, коренной Москвы. Друг Островского и его литературный спутник Аполлон Григорьев, в те же годы подраставший в Замоскворечье, в своих записках, извинившись за избитость приема, ведет читателя на кремлевский холм, чтобы взглянуть оттуда на панораму огромного города-села, «чудовищно фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою». Последуем и мы за ним.
Перед нами, если смотреть на юг, прямо за рекой, занимая полгоризонта, будто очерченные огромной дугой, раскинулись дома, церкви и сады Замоскворечья. Слева, на юго-восток, дугу эту стягивают купола и колокольни Симонова и Новоспасского монастырей, справа, на юго-запад, Донского и Девичьего. Два моста – Москворецкий и Большой каменный – протянулись над водой, соединяя с центром города заречную его сторону.
«От ядра всех русских старобытных городов, – напоминает нам родословную Замоскворечья Ап. Григорьев, – от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город; потом разросся земляной город, и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое»[16].
Перейдя Большой Каменный мост и миновав Болото, вы попадаете в правую часть Замоскворечья. Следуя по Якиманке, здесь можно выйти к Калужским воротам, уже в те поры оставившим по себе память одним названием. По этой улице в праздники текли на богомолье и просто ходили гулять к Донскому монастырю толпы народа. Наверное, эту дорогу хорошо знал и внук схимника Феодота. Чуть левее шла Большая Полянка, а если забрать от нее еще налево, в сторону Ордынской и Татарской слобод, там начиналась едва ли не самая корневая земля Замоскворечья – одноэтажные домики в пять окон с мезонинами, длинные глухие заборы, густые сады, а в открытых окнах – кипящие самовары на столиках… Здесь пролегала и знаменитая Болвановка, названная так потому, что когда-то встречали на этом месте русские князья посланцев хана, приехавших за данью, и били поклоны татарским идолам.
Но все это правая сторона Замоскворечья, тяготеющая к югу и юго-западу. Островский же родился и жил первые годы в левой, юго-восточной его части, главной артерией которой, или «жилой», как выражается Аполлон Григорьев, была Пятницкая улица. С кремлевского холма хорошо была видна господствующая над морем домишек с садами и церквей огромная помпезная церковь Климента, папы римского, расположенная на Пятницкой, в пяти минутах ходьбы от домика, где родился Островский. Диаконом Климентовской церкви был свояк Островских – Александр Иванович Бессонов, и едва ли не он приискал Николаю Федоровичу квартирку при соседнем храме. Старинную топографию этих мест, какими они были в 1612 году, воскресит Островский много лет спустя в ремарке к драме «Минин»: «За Москвой рекой, против Кремля. Направо тын Климентовского острога с бойницами и воротами, налево деревянная церковь св. Климента, прямо земляной вал, за валом, вдали, виден Кремль».
Так было двумя столетиями прежде. Теперь же вблизи Климентовской церкви и вправо по Пятницкой, вспоминает Аполлон Григорьев, сосредоточилась в каменных домах, иной раз и с каменными заборами, жизнь по преимуществу купеческая. Таким образом, по замоскворецким понятиям, Островские жили в довольно аристократическом районе. Влево от Пятницкой, и вплоть до самой Зацепы, не однажды воспетой драматургом в его комедиях, жизнь купеческая сплеталась с мелкомещанской, мелкочиновнической и даже мелкодворянской. На Зацепе поселит Островский мещанку Марью Агуревну Козырную в своих ранних очерках о Замоскворечье, по Зацепе будет мечтать прокатиться в собственных дрожках Миша Бальзаминов. И, конечно, где-то рядом двор и службы купца Вольтова и густой сад вдовы Белотеловой, в объятия которой, перелезши со страха через чужой забор, попадет невзначай Бальзаминов.
Закисшая, косная, окаменевшая в своих формах жизнь, особливые ее нравы, чудачества и предрассудки окружали Островского с той ранней поры жизни, когда он начал помнить себя.
Здесь любили говорить о варке варенья и солке огурцов, ставили на окна бутыли с настойкой, заготавливали впрок солонину, покупали годовые запасы рыбы, меду и капусты. Здесь степенно беседовали за кипящим самоваром или стаканчиком «пунштика» бородатые купцы. Здесь их молодые жены и дочери выглядывали на улицу из-за коленкоровых занавесок, мечтая о «галантерейных» кавалерах. Здесь почта была великой редкостью, и солдата-инвалида, разносившего письма, пугались, как нежданной беды. Здесь люди добродетельные чай пили только с медом да с изюмом, экономя дорогой сахар. Здесь от всех болезней лечились банькой да полуштофом ерофеича, настоянного на красном перце. Здесь из дома в дом ходили свахи, красно расписывая достоинства женихов. Здесь по праздникам ходили в церковь, пекли пироги, ужинали «туго-натуго», рано ложились спать. Здесь одни из принципа презирали моду, считая, что важно одеваться «к лицу» и «что кому пристало», а посему появлялись на улице, к примеру, в узеньком фрачке, широких шароварах и соломенной шляпе; другие любили разодеться поцветнее, смешав голубое с розовым; третьи бежали с утра в замоскворецкую цирюльню, на которой красовалась вывеска, изображавшая молодого франта с локонами на висках и хохлом на лбу, и выходили оттуда, помахивая тросточкой, без меры завитые и напомаженные.
На Пятницкой, на Зацепе, на Болвановке, в путанице замоскворецких переулочков, коленец и тупичков – каких только было не увидеть картин, каких разговоров не наслушаться!
«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях; это значит по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью, в татарском халате, с трубкой Жукова табаку – то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками. Потом и чай убирают, а пившие оный остаются у окон прохладиться и подышать свежим воздухом. Чиновник за еранью берет гитару и запевает: “Кто мог любить так страстно”, а купец в красной рубашке берет в руки камень либо гирю фунтов двенадцати […] подле него, на окне, в холстинном мешочке, фунтов восемь орехов. Он их пощелкивает, то по одному, то вдруг по два да по три, – пощелкивает себе, да и знать никого не хочет».
Такие жанровые картинки с ранних лет стояли перед глазами будущего «Колумба Замоскворечья». Конечно, уклад собственного дома Островских, обычаи и устои их семьи были не совсем обычны в окружавшем их быте. Николай Федорович Островский по образованию и душевным запросам стоял заметно выше замоскворецкой среды. И все же трудно поверить в то, что детство великого драматурга было идиллическим, безмятежным.
Удивительная и характерная черта: впечатления детства и ранней юности, мир ребенка, его увлечения, беды и открытия, когда все внове и поражает воображение, – этот золотой запас любого писателя почти не тронут Островским в его творчестве. Нет детей в его комедиях и драмах. И ни полслова о покойной матери, случайные упоминания об отце в дневниках и письмах.
Толстой, Герцен, Аксаков с любовью и умилением живописали свое детство. Островский будто не хотел о нем вспоминать.
Биография писателя не должна напоминать писанное по канонам житие: «Родился от почетных родителей, в детстве был послушен, трудолюбив…» (Вспомним, как издевается Островский над тем, что рассказывает о детстве Глумова, фальшиво сюсюкая, его мать.) И если бы биограф драматурга взялся доказать во что бы то ни стало, что и отец его был человек благороднейший, и мать передовая, образованная женщина, и мачеха – одна доброта, он, наверное, сделал бы ошибку. Что прибавит Островскому наше усилие показать, что и воспитывали его примерно, и в гимназии учился он образцово, и вел себя достохвально? К чему эта приторность? Разве может унизить Пушкина то, что он был ленивым увальнем в раннем детстве? Или Тургенев станет меньше значить для нас, оттого что мать его злобная деспотка и крепостница? Или мы хуже подумаем о Толстом, потому что он провалился на вступительных экзаменах в университет, не сумев назвать ни одного города Франции, кроме Парижа? Какие пустяки! Гении не растут в парниках и стеклянных колбах.
И потому скажем откровенно, что отец Островского рисуется нам человеком дельным, предприимчивым и суховатым. Недюжинные способности его и трудолюбие – вне сомнений. Но напрасно один из биографов драматурга – С. Н. Дурылин – увидел его черты в честном и добром старике Маргаритове из «Поздней любви»[17]. Николай Федорович был жестче, самовластнее, хоть и не был лишен отчасти старомодной сентиментальности. В отца пошел, пожалуй, Михаил Николаевич Островский, усердный чиновник, дослужившийся на склоне лет до должности министра государственных имуществ. А наш драматург, кажется, больше – и с поэтической стороны – унаследовал от матери, которой мы совсем не знаем. Говорят, это была красивая, тихая, болезненная женщина.
Первые годы семье Островских приходилось туго. Правда, не бедствовали, но жили скромно, небогато. Каждое утро в девятом часу отец, надев казенную шинель с башлыком, поспешал в веренице чиновников и приказчиков, тянувшихся в город, по Москворецкому, или, как еще его звали в старину, Живому, мосту в присутствие. Домой он возвращался в третьем часу пополудни, но часто и задерживался допоздна, выполняя частные поручения, дававшие ему приработок.
Николай Федорович целеустремленно шел по чиновничьей лестнице, не стремясь перепрыгнуть через ступеньку, но и не застревая лишнего на предыдущей. В 1824 году он уже секретарь при обер-прокурорских делах. В 1825 году получает чин титулярного советника и переходит из канцелярии сената на более видную и денежную должность секретаря 1-го департамента Московской палаты гражданского суда. Он быстро смекает, что к чинам не лишнее еще хорошие деньги, и заводит частную юридическую практику. В клиентах у него нет нехватки – купцы, мещане просят вести их дела, и занимается он этим ловко, умело.
Видно, с самого начала семейной жизни мечтает Николай Федорович о собственном доме. Ему надоело скитаться по квартирам. Прикопив денег, он покупает недалеко от Пятницкой, в Монетчиках, пустошь и строит на этой земле дом. Уже в начале 1826 года Островские переезжают туда[18].
Жизнь в Монетчиках шла уже на более широкую ногу. У Островских появились три человека дворни. Нужна была нянька, кухарка, кормилица. У Любови Ивановны едва ли не каждый год рождались дети: после старшего, Александра, еще шесть девочек и два мальчика.
Что можно сказать об этой жизни, каким представить раннее детство Островского, если отец целиком занят своей карьерой и денежными делами, а мать едва опоминается от беременностей, кормления, болезней детей? Многие из них умерли во младенчестве. Жить остались: Наталия – любимая сестра Островского, братья – Михаил и Сергей. Дети росли со всеми преимуществами и всеми недостатками большой семьи: шумно, людно, все равны, но родительская ласка – как редкий луч, и все внимание – беспомощным, младшеньким. Наташа была моложе Александра всего на год, Михаил – на четыре года. Они и были товарищами его детских игр. Особенно Наташа.
Островский вспоминал потом, что пристрастился в детстве к рукоделию. Товарищей-мальчишек было у него мало, и время он большей частью проводил в обществе сестры и ее подружек: заодно с ними и научился кроить и шить.
Как и в других домах Замоскворечья, дети играли в своем саду, реже на улице. Зимой снежки и катание с горок, летом – бабки и бумажный змей. Ходили гулять к низкому топкому берегу грязноватой Москвы-реки или к берегам куда более чистым Водоотводного канала, звавшегося в просторечье Канавой и отделявшего от реки почти все центральное Замоскворечье. Пускали кораблики в канавах и протоках, качались на качелях в саду, как издавна русские барчата любили коротать дни с прислугой (к 1831 году у Островских было уже пять человек дворни). Девичья, прихожая, дворницкая, комната няни, где пелись старинные песни, велись, невзирая на детские уши, откровенные разговоры о житье-бытье, для юного Островского играли, наверное, не меньшую роль, чем для Герцена или Аполлона Григорьева, рассказавших нам об этом.
Как у всех, была у Островского своя няня – Авдотья Ивановна Кутузова, – и, конечно, развлекая детей, долгими зимними вечерами, когда все Замоскворечье погружалось во тьму, плела она им свои сказки. Островский говорил впоследствии Савве Мамонтову, что ее рассказами навеяна «Снегурочка»[19].
Последние годы жизни прожила в доме Островских и бабушка Наталия Ивановна, та самая московская просвирня, у которой не грех было поучиться точному и вкусному народному языку. Мальчик памятливый, «прислушливый», Островский затихал, широко раскрыв глаза, когда бабушка или няня садились рассказывать о русских богатырях, чертях и ведьмах, о подвигах Бовы-королевича, и ничего не пропускал, сам не ведая к чему, впитывал.
В 1831 году, когда Островскому не было еще девяти лет, умерла после тяжелых родов его мать, Любовь Ивановна. Отец остался с шестью детьми на руках. Младшие девочки-близнецы, Надежда и Вера, умерли вскоре вслед за матерью. Николаю Федоровичу предстояло одному воспитывать трех сыновей и дочь Наташу.
А между тем отец по-прежнему был поглощен службой, с утра до вечера сидел в присутствии, так что детям перепадало не слишком много родительской ласки. Зато благосостояние Николая Федоровича росло. В 1834 году он продал выстроенный им дом в Монетчиках и купил два новых дома на Житной улице, которые принялся расширять и благоустраивать. Можно было позавидовать деловой энергии этого человека: за все он брался, все делал ладно, из всего умел извлечь выгоду.
Понимая, что старших мальчиков пора и подучивать, да не вечно же им сидеть с тетушками и нянюшками, нужна и мужская рука, отец решил пригласить в дом учителя-наставника. В дворянских семьях роль эту выполняли гувернеры-иностранцы, в Замоскворечье же в обычае было нанимать домашними учителями семинаристов – оно и подешевле и как-то доступнее.
Первый учитель появился у Островского еще при жизни матери, в 1829 году. Искать его далеко не ходили. Как раз в это время сестра отца, Татьяна Федоровна, вышла замуж за священника Новодевичьего монастыря А. П. Гилярова. Его брата, семинариста Сергея Гилярова, по родственной рекомендации и приняли в дом Островских.
Не думаю, чтобы этот выбор был удачным. Правда, Сергей Петрович был мало похож на серого бурсака: молодой человек неплохо рассказывал, язык, как говорится, был у него легко подвешен, он любил порисоваться, имел успех у женщин. Еще учась в семинарии, он свел знакомство с актерами, интересовался книжными новинками, но все это как-то внешне, больше для форсу и чтобы отбить запах семинарии, коего сам немного стыдился. Его младший брат, Н. Гиляров-Платонов, от которого мы и наслышаны о первом учителе Островского, откровенно писал, что Сергей Гиляров «умел подлаживаться» и обычаи светского и именно высшего общества были для него «верховным кодексом»: с особенным упоением рассказывал он о едва знакомом ему княжеском и графском быте, «что и как там едят, на чем сидят, как ходят и кланяются»[20].
При таком наклоне ума и жажде развлечений Сергей Гиляров мало что мог внушить дельного своим малолетним подопечным и мыслями был далек от тех наук, с какими призван был их познакомить. Конечно, в однообразие замоскворецких впечатлений мальчиков Островских Гиляров вносил какую-то свежую струю. Но отец имел основание быть недовольным им как учителем и стал приискивать сыновьям другого наставника.
После ухода Гилярова и вплоть до поступления Островского в гимназию в их доме сменились еще трое учителей: Иван Андреевич Смирнов, Никита Никитич Скворцов и некто Тарасенко[21]. О Смирнове мы знаем только то, что он был учителем Тверского духовного училища. Будущий учитель, бывший? Не из Твери же он к Островским ездил! Может быть, он нанимался к ним в дом на вакации или ждал места в Твери? Трудно сказать что-нибудь определенное. Никита Никитич Скворцов был студентом Вифанской семинарии, находившейся вблизи Троице-Сергиевой лавры. Видимо, он окончил курс и тоже давал уроки в ожидании места. Рассказывают о нем, что это был человек трудолюбивый и добронравный. О Тарасенко же известно лишь то, что родом он был малоросс, то есть украинец.
Возможно, все эти доморощенные замоскворецкие педагоги смотрели на дом Островских как на временную пристань и, как только их обстоятельства устраивались к лучшему, уходили сами. Но не вернее ли все же предположить, что Николая Федоровича, знавшего толк в образовании, не устраивали нанятые им по случаю учителя? При первой же родительской инспекции легко было обнаружить неосновательность их науки, и не тут ли причина частых перемен?
Напрасно, как уже говорилось, искать в сочинениях Островского каких-либо автобиографических следов. Но вот одно из редких исключений. О детстве и годах учения мальчика из Замоскворечья можно кое-что узнать, кое о чем догадаться, читая неоконченный очерк «Кузьма Самсоныч» и его раннюю редакцию – «Биография Яши», писавшиеся Островским, по-видимому, в 1843–1846 годах. Эти рукописи были обнаружены и опубликованы сравнительно недавно (одна в 1924-м, другая в 1948 году) и при жизни Островского никогда не печатались. Они прямо примыкают к «Запискам замоскворецкого жителя». Житейский опыт Островского в пору его первых литературных проб был не так уж велик, и молодому автору естественно было черпать из того, что лежало поближе, что он сам пережил и видел. Конечно, Яша или Кузя – не Саша Островский, но что-то почерпнутое из личного опыта, из своих переживаний должно было тут осесть.
Начало учения в Замоскворечье бывало ознаменовано тем, что отец приносил из города новенькую, купленную им азбуку, а кто-нибудь из дворни начинал строгать и точить самодельную указку. Именно с этих двух символов первоначальной грамоты началось воспитание Яши, о них вспоминает, обращаясь памятью к своему детству, другой замоскворецкий мальчик – Аполлон Григорьев; они же бессомненно стояли у врат учености Островского.
«Азбука, которую Кузя выучил наизусть и с которой замоскворецкое юношество обыкновенно начинает свое образование, – поясняет Островский, – книга очень замечательная и за Москвой-рекой в большом почете; потому я нелишним считаю рассказать ее содержание. Сначала в этой азбуке буквы разных форм и размеров, потом всевозможные склады, потом целые слова; далее необходимые для жизни правила, как то: будь благочестив, уповай на бога, люби его всем сердцем; далее четыре стихии, пять чувств и, наконец: “Помни последняя твоя – смерть, суд и геенну огненную”».
По этой-то азбуке учили и Островского, пока не понадобились ему более мудрые и трудные книги – латинская грамматика Лебедева с измучившими поколения учеников примерами на iteritineris, а также арифметика Меморского или Аллеза с компанией.
Героя Островского Яшу воспитывал семинарист, «дальний родственник отца его», пришедший к ним «погостить до приискания места» и внушавший родителям мысль – посечь мальчика, чтобы наука не напоминала ему забаву. Мы не знаем, секли ли Островского в детстве, но не удивились бы, если б выяснилось, что Сергеи Гиляров поощрял как раз такой метод воспитания.
В очерке «Кузьма Самсоныч», где тот же Яша назван уже Кузей, описан чуть другой по типу воспитатель, который ходил по замоскворецким улицам степенно, мерным шагом, повеся голову и нахмурив брови, носил очки и длинные волосы и оттого прослыл в Замоскворечье ученым, хотя сам и не одолел гимназии. Островский наградил этого героя той же фамилией, что носил один из собственных его учителей, – Смирнов. Случайно ли? Только имя и отчество дал ему другое – не Иван Андреевич, а Петр Иванович. Возможно, если бы автор решился готовить очерк к печати, он заменил бы и фамилию. (Известный в психологии творчества случай: писатель так ясно видит перед собой прототип, что его имя невольно скользит под перо. Так, Толстой упорно называл своего героя в черновиках князь Волконский, старательно выправляя потом начальную букву – Болконский.)
Смирнов из очерка «Кузьма Самсоныч» с жаром и трагической декламацией читает стихи, переписывает в тетрадку водевильные куплеты и оды Ломоносова, сам пробует писать повесть, но в обучении своего воспитанника не идет слишком далеко. «И выучил Кузю учитель священной истории и арифметике, а грамматике по непредвиденным обстоятельствам не успел. (Об этом после Кузя, когда сбирался писать драму, очень жалел, да уж было поздно.)».
Вот так фокус! Кузя «сбирался писать драму». Оказывается, наш герой к тому же начинающий драматург? И каких только неосторожных обмолвок не сделает невзначай молодой писатель!
Набираясь опыта, автор «Записок замоскворецкого жителя» все дальше уходил от прямых прототипов. В очерке об Иване Ерофеиче, отданном Островским в печать, рассказ о юных годах замоскворецкого чиновника передан короче и объективнее – тут нет уже никаких ниточек к автобиографии. Рассказ же о годах учения Яши и Кузи, пожалуй, не зря остался лежать у молодого автора в столе. Помимо всего иного, опубликовав его, Островский рисковал обидеть отца. Ведь так или иначе, с той или иной дозой воображения, сливая и гиперболизируя черты реальных лиц, но писатель рассказывал об опыте замоскворецкого воспитания, через которое прошел сам. И Николаю Федоровичу, вообще-то не поощрявшему его писания, вряд ли бы это понравилось.
Дидро иронически замечал, что учитель должен знать не больше того, что он собирается сообщить своему ученику. Домашние учителя Островского вряд ли были обременены даже таким скромным запасом знаний. Однако в Замоскворечье была принята система воспитания, при которой никому и в ум не входило, что воспитателей следовало бы прежде самих воспитывать. Идея воспитания подавляла идею просвещения. В доморощенном воспитании, воспитании во что бы то ни стало, когда воспитывают все кому не лень, и даже тогда, когда толком не знают, чему и как воспитывать, таилось важное замоскворецкое понятие авторитета, из которого угрожающе высовывался кончик розги.
Наивно и рискованно было бы лишь по литературному подобию пытаться воссоздать живое лицо, если о нем достоверно ничего не известно. Но отношение Островского к своим домашним воспитателям легко угадать. Случайные учителя не имели на него заметного влияния, но все же обучили началам грамоты, а неведомый нам Тарасенко познакомил его к тому же со звучанием украинской речи: недаром его воспитанник дебютирует в 1852 году на сцене переделкой комедии Г. Квитки-Основьяненко «Искренняя любовь, или Милый дороже счастья».
Оставаясь один, Саша сызмала брался за книжку. Няньки и мамки смотрели на это косо: в Замоскворечье боялись «зачитаться». «Если в книжку долго смотреть, можно чудным стать…» Но отцу это нравилось.
В сентябре 1835 года Николай Федорович подал в Московскую губернскую гимназию прошение принять туда своего старшего сына, «коему от роду 12 лет, по-российски писать и читать умеет и первыя четыре правила арифметики знает». Отец скромно просил определить сына «в такой класс гимназии, в которой по экзамену он окажется достойным»[22].
Островский оказался достойным поступить в третий класс и начал носить гимназическую фуражку.
В гимназии и дома
Островский поступил в Московскую губернскую гимназию (годом позже получившую название Первой московской), казалось бы, в добрый час. Как раз в то время, когда наш юный гимназист впервые со связкой книжек под мышкой проделывал путь через Болото и Каменный мост к большому, казенного желтого цвета зданию на Волхонке, в гимназии начиналась эпоха преобразований.
Реформы не были на сей раз декретированы свыше. Они стали плодом деятельного ума и инициативы одного человека, которому немало обязано русское просвещение. Вместо равнодушной сановной развалины князя С. М. Голицына, заходившего, как утверждали злые языки, в гимназию лишь случаем, во время прогулки из дому, и то по малой нужде, попечителем Московского учебного округа был назначен энергичный и независимый граф С. Г. Строганов.
Потомок пермских колонистов, Строганов оказался самобытным человеком: держался в свете гордо, слыл неуживчивым, не признавал протекций и не внимал доносам. Но главное, он совсем не напоминал пресыщенного вельможу и не смотрел на свою должность как на синекуру, место «кормления». Это был, что называется, человек с «идеей», и сокровенный смысл своей деятельности он полагал в том, чтобы сделать истинно просвещенным дворянское сословие в России, создать своего рода аристократию духа, приблизить мельчавшее в придворных покоях и дичавшее в своих усадьбах дворянство к уровню деятельной европейской культуры.
Строганов не был, разумеется, демократом, но меценатство понимал достаточно широко. Им была составлена образцовая библиотека, отличное собрание старинных икон. Ему принадлежала и заслуга создания в Москве художественного училища, которое мы иной раз по старой памяти и до сих пор называем Строгановским.
Этот незаурядный человек, едва вступив в 1835 году в должность, решительно взялся за реформу университета, стал оттеснять старых профессоров и отправил для учения в Германию нескольких талантливых молодых ученых – среди них были Грановский, Крюков, Кудрявцев. По возвращении они заняли основные кафедры. Одновременно Строганов решил подтянуть и единственную тогда в Москве губернскую гимназию. Задача эта была не из легких и не во всем по возможностям реформатора. Казенное педантство учителей, отупляющая схоластика в преподавании, распущенность учеников так давно и прочно укоренились в этом учебном заведении, что неизвестно было, с какого боку подступиться.
В каждом классе сидело по сто учеников. Только на первых скамьях что-то слушали и записывали, над всем же остальным пространством обширной классной комнаты стоял во время урока густой гул голосов: гимназисты списывали друг у друга, спорили между собой, менялись, сквернословили; в дальнем углу с печкой, где прижились «камчаточники», играли в карты. Учителя построже перекрикивали этот шум, пускали в ход линейку. А у тех, кто помягче и послабее – в рисовальном классе или у немца, – просто вверх ногами ходили. Любимой гимназической шуткой было опоздать всем разом на урок и потом, на глазах разгневанного и изумленного учителя, входить по одному, гусем, после звонка в класс.
Островский застал только остатки этой вольницы. Побывав в гимназии, Строганов велел круто поднять дисциплину; учеников сумели кое-как приструнить. В классах воцарилась тишина, в гимназических коридорах ходили теперь в мундире, застегнутом на все пуговицы. Хуже было с учителями. Менять следовало едва ли не всех.
К несчастью, директором гимназии был отставной полковник Матвей Алексеевич Окулов, которого реформы, задуманные Строгановым, будто и не касались. Обходительный человек, водившийся с московской знатью, любитель театра с закулисной его стороны, большой мастак по части анекдотов и торжественных застолий, Окулов был совершенно безразличен к тому, что происходит во вверенном его попечению заведении. Рассказывали, что этот отменной приятности человек даже поворовывал из казенного сундука. Однако Строганов не имел власти отрешить его от должности, поскольку Окулов был приятелем министра просвещения графа С. С. Уварова и вследствие этого обстоятельства за двадцать лет службы благополучно пережил трех попечителей.
Строганову, с его уважением к просвещению, презрением к чинам и жаждой преобразований, надлежало бы родиться в век Петра: легко представить графа одним из его сподвижников. В бюрократической мундирной России Николая I он явился не ко времени: идея просвещения была не в моде, и каждый шаг по этому пути давался с трудом.
В 1835 году, когда Островский переступил порог гимназии, ее преобразование было в самом начале. Наверное, в третьем классе он должен был еще встретиться с учителями старого закала: педантом-математиком Волковым, жестоко муштровавшим ребят на уравнениях второй степени, и бездарным учителем словесности Лебедевым. Новые, лучшие наставники, да и то не по всем предметам, появились у Островского, пожалуй, лишь в старших классах.
В упоминавшемся нами выше отрывке, условно названном «Биография Яши», Островский описывает некое учебное заведение, находившееся уже «не за Москвой-рекой», куда отдали учиться мальчика из Замоскворечья, после того как пестрая вереница домашних учителей напитала его первоначальными плодами образованности.
«Здесь, – пишет Островский о своем герое, – предстали ему науки в той дикой педантической методе, которая пугает свежий ум, в том мертвом и холодном образе, который отталкивает молодое сердце, открытое для всего живого <…>. Душа, как цветок, ждет влаги небесной, чтобы жить и благоухать, а схоластик норовит оторвать ее от питающего стебля и высушить искусственно между листами фолианта».
И далее Островский повествует о странной вражде, которая велась в этом учебном заведении между учителем словесности и учителем математики и всех учеников поделила на два лагеря: у одного девизом были Кошанский и риторика, у другого – Франкер и алгебра. Даже самодельные вирши были сочинены на сей сюжет кем-то из учеников. В них прославлялся покровитель словесности – сын Феба, повергший своего врага-математика, тщеславящегося «количеством»:
- Схватил сын Феба за пучок
- Глупца, количеством венчанна,
- И, дав ему один толчок,
- Поверг на землю бездыханна…
Кто знает, быть может, перед нами строки стихов самого Островского-гимназиста? Во всяком случае, и здесь, и когда автор очерка упоминает о споре между учителями древних и новых языков, и когда рассказывает о том, что начальник заведения был человек жестокий и подозрительный, в особенности в отношении тихих и робких учеников, – все это передано с такой точностью подробностей и энергией личного чувства, что вряд ли могло быть написано лишь «по воображению». Кстати, подозрительность Окулова, если речь и впрямь идет о нем, нисколько бы не противоречила ни его «приятности» в обхождении с начальством, ни даже поощрению некоторых бойких своих учеников (Н. В. Берг, учившийся в той же гимназии, вспоминает, что Окулов устраивал его литературные вечера с чтением поэтических переводов из славянских поэтов), талантами которых он был не прочь похвалиться[23].
Впрочем, с четвертого класса Островскому повезло хотя бы в том смысле, что словесность начал преподавать у него Павел Михайлович Попов, недавний выпускник университета, человек живой и просвещенный. По словам С. М. Соловьева, двумя годами раньше Островского окончившего ту же гимназию, Попов был «учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели преподавателя – выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были»[24].
Задавалось, например, описание памятника Минину и Пожарскому, возвышавшегося напротив кремлевской стены у самого портика Торговых рядов. Но вместо простого описания памятника Попов требовал повествования о людях, в честь которых он возведен, о событиях эпохи, прославившей их имена. Жаль, что не дошло до нас сочинение на эту тему будущего автора драмы «Козьма Захарьич Минин-Сухорук».
Однако обычным даже для лучших преподавателей той поры было требование назубок знать все риторические фигуры, почерпнутые из учебника Кошанского, и уметь употребить их в должной полноте и последовательности. Даже Попов, при всех его порываниях к новой, более свободной методе преподавания, все еще стоял на этом. Понятно, что это могло смущать и отвращать живого, художественно впечатлительного подростка.
«История мидян темна и непонятна… темна и непонятна… темна и непонятна…» – без конца долбили первую фразу учебника истории. Хотелось ли после этого узнать что-либо о мидянах?
Островский учился в гимназии с умеренным успехом, особыми способностями не блистал, редко сиживал на передних партах (ученики в ту пору располагались в классе по мере их успехов – и время от времени перемещались по классу в согласии со своей успеваемостью). Но не оказался и в числе последних. В нем не было ничего от чудо-ребенка, никаких разительно ранних успехов и ослепительных способностей, столь любезных душе учителей и родителей. Этот мальчик принадлежал к числу плодов, созревающих медленно; с тайной органической избирательностью отвергают они то, что чуждо их природе, и постепенно, но прочно набираются того, что должно пригодиться им на будущем, еще смутно рисуемом сознанию поприще. Таких ребят иногда считают ленивыми, рассеянными; напротив, они сосредоточены, но сосредоточены на чем-то своем.
Островскому смолоду была свойственна самобытность суждений, смелая необычность простой мысли, которая никому не приходит в голову лишь потому, что кажется слишком простой. Там, где все выбирали из двух предложенных оценок и решений, он неожиданно предлагал свое – беззаконное и неоспоримое в своей очевидности.
Наезженное по привычным дидактическим колеям сознание, замороченное зубрежкой параграфов и правил, обесцвечивается, теряет способность к свежему созерцанию предмета, непосредственному суду, новому пониманию. Самобытность мнений доступна лишь живой интуиции, незапорошенному рассудку. С юных лет Островский инстинктивно оберегал в себе этот род независимого ума, оригинального своей ясностью. Гимназия же вместе с необходимыми начатками знаний прививала и закрепляла риторико-схоластический способ мышления.
Не потому ли в очерке о Яше Островский открыто негодует на пытку дидактического воспитания, которая делает человека «нравственным калекой», убивает в нем в зародыше врожденные инстинкты, эстетическое чувство, способность по-своему думать и не дает взамен сколько-нибудь целостного взгляда на мир?
К тому же свою правоту гимназические учителя любили подкрепить розгами, и даже при просвещенном инспекторе Попове розги для гимназии, по свидетельству воспитанника А. Репмана, «покупались возами, и это гнусное наказание производилось еженедельно – по средам и субботам»[25].
Да, не с такой охотой совершал, наверное, свой долгий ежедневный путь с Житной улицы на Волхонку круглоголовый стриженый гимназист, и не однажды, поймав его за руку, какой-нибудь досужий Мамаев, запечатленный впоследствии в пьесе о «мудрецах», начинал читать ему рацеи о том, что в гимназию-де ты еле-еле тащишься, а обратно вприпрыжку бежишь.
В письме однокашнику Николаю Бергу в 1877 году Островский назовет заведение, в котором они когда-то вместе учились, «треклятой гимназией».
Дома нашего гимназиста ждало не слишком много радостей, но все же это был дом.
Николай Федорович недолго оставался вдовцом. Четыре года спустя после смерти Любови Ивановны он женился на семнадцатилетней Эмилии Тессин. Отец Эмилии Андреевны, коллежский асессор, недавно умер, и всеми делами ее занимался брат – Иван Андреевич Тессин, которого всю жизнь недолюбливал Александр Николаевич[26]. По тогдашним понятиям, Эмилия Андреевна уже засиделась в девицах, и ее поторопились выдать за человека старше ее годами двадцатью, солидного вдовца и преуспевающего чиновника. Лютеранка, она согласилась обвенчаться с ним в православной церкви.
Молодая мачеха Островского принадлежала к оскудевшему дворянскому роду. Среди своих предков Эмилия Андреевна числила два поколения знаменитых королевских архитекторов Швеции. Ее прадед Карл Густав Тессин (1695–1770), политик, дипломат и литератор, был начальником королевской канцелярии и воспитателем наследника, пока не вынужден был вследствие ссоры с двором уйти в отставку. Его труд «Письма принцу Альберту» принес ему европейскую известность. Его сын, дед Эмилии Андреевны, обвиненный в связях с масонами, бежал в Россию и поселился в Москве. В начале XIX века здесь, на берегу Яузы, возник переулок, и до сих пор носящий название Тессинского. Николаю Федоровичу должно было льстить, что он женат на «баронессе» – это вам не просвирнино дитя! Эмилия Андреевна, девица тонкого воспитания, знала себе цену. Она любила показывать пожелтевшую старинную гравюру, на которой ее бабушка была изображена в покоях родового замка.
Николай Федорович был, понятно, не так прост, чтобы доверчиво выслушивать сентиментальные воздыхания о былом величии фон Тессинов. Здесь можно было подозревать и семейную басню. Вчерашнему семинаристу импонировали дворянские титулы и гербы, но за Эмилией Андреевной, увы, не было богатого приданого.
Старшего сына своего мужа Эмилия Андреевна приняла добро, поначалу даже несколько стесняясь его открытого, внимательного взгляда. Ей хотелось завоевать его расположение, но легче было, конечно, с меньшими – они почти не помнили матери. Вскоре у Эмилии Андреевны стали рождаться свои дети: четверо из них рано умерли, четверо же остались жить – среди них Петр Николаевич Островский, с которым Александр Николаевич позднее подружился.
Не думаю, чтобы мачеха оказала заметное влияние на воспитание и развитие Александра Николаевича. Ей хватало забот и с собственными малыми детьми, а старший сын мужа в тот год, что они поженились, уже ходил в гимназию. Сохранились семейные рассказы, что Эмилия Андреевна «из боязни упреков» всячески заботилась о своих пасынках. Для чуткого подростка забота «из боязни упреков» – не лучшая форма завоевать его доверие.
Впрочем, внешне все выглядело в семье миролюбиво и гармонично. Подростка выучили звать мачеху «маменька», и, уже будучи взрослым двадцатипятилетним человеком, он не скажет об отце и Эмилии Андреевне иначе, как «папенька с маменькой». Таков дух замоскворецкой традиции, привычная формула почитания родителей, и напрасно было бы считать ее знаком искренней сыновней любви.
По тяге своей к тонкому дворянскому обиходу Эмилия Андреевна, сама игравшая на фортепьяно и знавшая с детства европейские языки, больше всего внимания уделяла этой стороне воспитания да еще хорошим манерам. Она приглашала к детям домашних учителей – француза и немца. Но не добилась заметного успеха: как раз с новыми европейскими языками Островский в гимназии дружил меньше, чем с прочими науками. Зато успешно занимался он с учителями музыки, научился читать ноты, умел подобрать на фортепьяно и записать мелодию. (Это помогло ему потом в совместной работе с композиторами Чайковским, Кашперовым, Серовым. Серову он пересылал записанные им мелодии костромских песен.)
Несравненно более важным для биографа Островского представляется другое. Все Островские, начиная с деда, Федора Ивановича, глубоко почитали книгу. Едва Николай Федорович оперился и встал на ноги, он завел в своем доме большую библиотеку. Гимназист Островский получил доступ к отцовским шкафам с книгами и сделался увлеченным и самозабвенным читателем. Вряд ли кто-нибудь руководил его чтением, но если оно и было поначалу хаотичным, беспорядочным, то все же эта попытка добрать самообразованием то, чего ему не хватало в казенной гимназии, заслуживает пристального внимания.
«Благодаря большой библиотеке своего отца, который с самого начала журналистики в России выписывал все появлявшиеся периодические издания и приобретал все сколько-нибудь выходящие из ряду книги, Островский весьма рано ознакомился с русской литературой и почувствовал наклонность к авторству». Так написал о себе в третьем лице сам драматург[27].
Только в отрочестве читают так безоглядно, запоем, переворачивая одну книгу и тут же открывая другую. Вероятно, наш гимназист перечитал все, что читали в ту пору и другие его сверстники: «Таинства Удольфского замка» и «Юрия Милославского», романы Нарежного, Загоскина и, конечно же, загадочной и мрачной Анны Радклиф – этой Агаты Кристи XIX века. Но в библиотеке отца были и поэмы Пушкина, первое издание «Горя от ума». Тогда же, возможно, началось знакомство Островского с многотомным изданием «Российского феатра», толстыми книгами с золотым тиснением на свиной коже, содержавшими лучшие пьесы драматургов XVIII века. В 1856 году он поразит воображение молодого М. И. Семевского доскональным знанием комедий Судовщикова, Капниста, не говоря уж об Аблесимове или Сумарокове[28].
Даже если Островский немного преувеличил, говоря, что его отец выписывал все периодические издания от начала журналистики в России, все же, надо думать, в его библиотеке можно было найти комплекты таких известных журналов, как «Московский телеграф» Полевого, «Телескоп» Надеждина, так же как начавшие выходить недавно пушкинский «Современник» и затеянные Краевским «Литературные приложения» к «Русскому инвалиду», ну и, конечно же, находившуюся в зените своей популярности «Библиотеку для чтения» Сенковского. Следя регулярно хотя бы лишь за этими изданиями, можно было считать себя литературно образованным человеком. Здесь печатались стихи Пушкина, «Коляска» и «Нос» Гоголя, первые статьи Белинского.
В самом раннем из дошедших до нас сочинений Островского – «Сказании о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс…» (1843) – чиновник и купец ведут разговор о казавшемся нескромным пушкинском «Графе Нулине», и один приводит другому как пример изящной благопристойности «Библиотеку» Сенковского:
«– Да вот-с в “Библиотеке для чтения”, я брал ее у приятеля недавно, там под статьею “Гиморой” сказано – статья не для дам…
– И, да разве вы не видите, что это каламбур. Бар Бар уж такой писатель, что вечно каламбуры пишет».
В окружении Островского водилось немало горячих почитателей фельетонного стиля Барона Брамбеуса и самого его журнала. Язвительность Сенковского, его гонения на старомодный высокопарный слог, его выходки против «сих» и «оных» принимались с восторгом.
Вообще дома, в семье Островских, разговор часто касался литературы. Николай Федорович и сам следил за новинками. Нередким гостем в доме был его брат, дядя Островского, Геннадий Федорович, чуть позже отца окончивший ту же Московскую духовную академию и ставший директором Синодальной типографии. По самому роду своей деятельности, связанной с печатным станком, Геннадий Федорович был наклонен к обсуждению литературных новостей; знал он подчас и закулисную сторону известных журнальных событий. «Рассуждали о современных проповедниках, – вспоминает свидетель этих разговоров Н. Гиляров-Платонов, – о современной литературе, о цензурной истории с письмом Чаадаева в “Телескопе” и об “Истории ересей” Руднева, тоже перенесшей цензурную передрягу, о путешествии Наследника и статье Погодина по этому поводу. То были свежие новости, и они передавались с жизнью, которой недостает печатным рассказам»[29].
Люди осторожные и благонамеренные, братья Островские не заходили в своих разговорах далеко. В чаадаевском письме видели оскорбленное тщеславие офицера, посланного некогда к государю с известием о бунте Семеновского полка, но в излишних заботах о своем туалете опоздавшего и навлекшего на себя высочайшее неудовольствие. Считали, что своей статьей он вымещает заслуженную им неприятность. Осуждали и Надеждина, который подвел цензора Болдырева, окрутил его, заговорил, заморочил и убедил подписать журнал не читая. Зато добросовестно недоумевали, когда в самой книге Руднева о ересях, по повелению цинического и подозрительного Филарета, духовная цензура нашла ересь: автор тяжко согрешил, уравняв в значении святое предание со Святым Писанием… Таковая придирчивость даже людям благомыслящим казалась все же излишней.
Приткнувшись с книжкой в углу дивана, гимназист Островский тайно прислушивался ко всему и воспринимал по-своему. За что сослали Надеждина, уважаемого университетского профессора, в Усть-Сысольск и что такого ужасного наговорил в своих письмах Чаадаев? И разве еретики не повывелись еще в Средние века? Как, в самом деле, могла выйти в дядиной типографии книга, проповедующая ересь против Закона Божьего?
С двумя коренными понятиями книгопечатания – о ересях и о цензуре – мальчик, увлеченный литературой, знакомится очень рано.
Литература уже была частью души нашего гимназиста. Ему еще не исполнилось четырнадцати лет, когда из Петербурга пришло известие о том, что на дуэли с французским офицером убит Пушкин. Спустя четыре с лишним десятилетия в речи на Пушкинском празднике Островский вспомнит, возможно, эти дни и свое отроческое чувство поклонения Пушкину, когда скажет о кровной привязанности читателей к своим большим поэтам: «Вот отчего и великая скорбь при их утрате; образуется пустота, умственное сиротство: не кем думать, не кем чувствовать»[30]. Именно так: не только не с кем, но и не кем, ибо поэт дает сами «формулы» чувств, свойственные всем людям, но не до конца осознанные ими.
В черновике «пушкинской речи» Островский вспомнит, что «в учебных заведениях даже в 30-х годах беззастенчиво предлагалась реторика Кошанского». Между тем юноша Островский уже думал и чувствовал Пушкиным…
У нас нет достоверных сведений об интересе Островского к театру в гимназические годы. Мы даже не уверены, водили ли его туда хоть однажды. Говорят, большой любительницей театра была тетушка Островского – Татьяна Федоровна, жена диакона Новодевичьего монастыря. Но как глубоко затронули семейный быт Островских эти ее интересы, брала ли она с собой в театр старшего племянника, положительно затрудняемся сказать. В богатых домах Замоскворечья принято было на Святках и на Масленицу покупать в театре ложу и выезжать туда со всеми чадами и домочадцами. Но предпочтение в таких случаях отдавалось обычно опере – слушали «Аскольдову могилу» или «Русалку». Вряд ли наш гимназист бывал в ту пору на драматических спектаклях.
О чем можно судить с большей уверенностью, так это о том, что еще в детстве и отрочестве, в воскресные и праздничные дни и потом на вакациях, юного Островского возили на гулянья в знаменитые своими развлечениями уголки Москвы. Ходили в Нескучный сад с его парковыми затеями, на Девичье поле, где устраивались гулянья под Рождество и на Масленицу. 1 мая, по московской традиции, выезжали с самоваром в Сокольники, где прямо на весенней траве устраивались праздничные семейные чаепития. Ездили и на Воробьевы горы. Там, на откосе к Москве-реке, еще желтели остатки траншей от начатого строительства храма Христа Спасителя – неосуществленного проекта гениального Витберга; любовались оттуда Москвой.
Но самым знаменитым было гулянье «под Новинским». Здесь на Масленицу вырастал целый городок из балаганов, каруселей, «колоколов» (так назывались шатры, где торговали вином). Подпоясанные цветными кушаками и с лотками через шею, надрывались разносчики, предлагая сбитень и пироги. Кувыркались на подмостках паяцы, фокусники вытаскивали изо рта бесконечную паклю… Но кроме бородатых женщин, ученых собак и бельгийского великана здесь можно было увидеть настоящий площадной народный театр – примитивный, но яркий, веселый, озорной.
Приятно было день-деньской слоняться от балагана к балагану, грызть маковые на меду пряники, царьградские стрючки и, протиснувшись локтями в толпе любителей даровых зрелищ, часами простаивать у щелочек и дыр в парусине, чтобы лучше разглядеть скачущих на деревянных подмостках скоморохов.
После праздничного дня трудно было снова возвращаться в стены гимназии к риторическим фигурам словесности, герундиям и герундивам «золотой» латыни, алгебраическим формулам. Учение Островского шло неровно. Но были и успехи. По гимназии разнеслась молва[31], что Островский прочитал в подлиннике драмы Софокла[32]. Его увлечение новейшей русской литературой – Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем – тоже не осталось тайной. А близкие друзья знали, наверное, и о том, что он, Островский, пробует силы и в качестве сочинителя. Из-под его пера выходят первые прозаические наброски и, смело можно поручиться, хоть и нечем этого доказать, стихи, стихи…
Между тем годы гимназического учения подходили к концу. Седьмой класс был выпускным. 17 июня 1840 года Островский сдал последний экзамен. В аттестате об окончании гимназии говорилось, что при отличном поведении Островский обучался «очень хорошо Закону Божию, истории, географии и статистике, русской словесности, математике и физике и хорошо – латинскому, немецкому и французскому языкам»[33]. Таким образом, высших баллов у Островского не оказалось (таким баллом было «отлично»), и все же его успехи можно было считать вполне приличными. Хотя он окончил класс девятым из одиннадцати в своей группе и не получил, как первые ученики, чина коллежского регистратора (быть может, он в нем и не нуждался), зато ему было дано право поступать в университет без предварительных испытаний. С 1838 года Первая московская гимназия считалась как бы преддверием университета, и успешно окончившие ее воспитанники не подвергались при поступлении на факультеты дополнительной проверке.
Кто знает, сколько тяжких разговоров, сколько бурных объяснений с отцом должен был пережить Островский, пока не расстался с мыслью избрать для дальнейшего учения словесный (историко-филологический) факультет. Никто из его товарищей по гимназическому выпуску не шел в юристы, а уж ему совсем это было не по душе.
Но отец рассудил иначе. Отец хотел, чтобы старший сын унаследовал его профессию, и делал ту же ошибку, какую в свое время делал его отец, желая во что бы то ни стало надеть на него рясу. Молодые люди склонны сами выбирать свою судьбу, как бы благоразумно и дальновидно ни решали за них старшие. А Николай Федорович стоял на своем: юридическая карьера принесла ему чины, деньги, положение, наконец, совсем недавно, в 1838 году, она позволила ему, коллежскому асессору, подать прошение о внесении вместе с детьми в дворянскую родословную книгу – чего еще желать, о какой иной судьбе думать? Николай Федорович просто не понимал сына. Он из неимущих бурсаков пробился на гражданскую службу, тяжким потом, горбом дослужился до положения видного дельца. Сыну же предлагают все это едва ли не даром, а он готов пренебречь юридическим образованием!
Не знаем, с помощью каких фигур красноречия удалось отцу уломать сына. Памятником этим домашним спорам останутся несколько скупых строчек в автобиографии драматурга. Сказав о возникшей у него еще в гимназии «наклонности к авторству», Островский продолжает: «Но родительская заботливость готовила ему другой путь: по очень уважительным соображениям из него хотели сделать юриста»[34].
«Родительская заботливость», «по очень уважительным соображениям» – легко угадать за этими фразами, исполненными внешнего почтения, нежелания обидеть память покойного родителя, затаенную иронию. Николай Федорович думал, что знает лучше сына, как сделать так, чтобы ему было хорошо. И уверенно ломал его будущую судьбу «через коленку», разрешая проблему этим дедовским способом, издавна принятым в Замоскворечье, – не зря столько лет прожил он в этом благословенном уголке Москвы.
Сын сдался, да и не имел возможности возражать, даже если б менее робел перед родительским авторитетом: на казенный кошт его бы не взяли, а от отца зависело купить ему студенческий мундир и шпагу и вносить за ученье в год по сорок рублей серебром.
Скрепя сердце Островский окунул в чернильницу тонко очиненное гусиное перо и написал:
«Окончивши полный курс гимназического учения, желаю, для усовершенствования себя в науках, поступить в Императорский Московский университет на Юридическое отделение. Александр Островский. 1840. Июня 18 дня»[35].
Университет
День единственный, всегда памятный – первый университетский день… Прохладное и ясное сентябрьское утро, толпа студентов у крыльца на Моховой. Еще рано, и солдат не спешит отворять двери.
Студенты старших курсов в помятых (особый студенческий шик) фуражках собираются в шумный кружок: объятия, смех, крепкие рукопожатия, рассказы о минувших вакациях: кто провел лето в имении тетки, кто учил в деревне детей полоумного князька… Все новые и новые фигуры появляются в воротах резной чугунной ограды и поднимаются к крыльцу; подъезжают экипажи студентов из богатых семей – молодые люди соскакивают с подножек, придерживая рукой парадную треуголку, со шпажкой на боку.
И не смешиваясь с этой шумной толпой, пока еще чужие в ней, стоят оробевшие новички, розовые от волнения, с шеями, зажатыми в узких воротниках синих мундиров. Они пришли сюда раньше всех, но почти ни с кем не знакомы, не знают, как держать себя, и только жадно вдыхают всей грудью вместе с бодрым осенним воздухом какие-то сладкие ожидания неведомой им умной, веселой, студенческой жизни, ловят ухом словечки корпоративного быта, в котором им так хотелось бы поскорее освоиться. В этой с каждой минутой густеющей толпе среди вчерашних гимназистов мы узнаем и Александра Островского: вот он стоит чуть сбоку, круглолицый, семнадцатилетний юноша с пышной светлой шевелюрой и добрым, немного растерянным выражением глаз.
– Здравствуйте, Платон Степанович! День добрый, Платон Степанович! – несутся со всех сторон молодые голоса, и улыбки пробегают по лицам.
Плотный, коротко стриженный, с седоватым хохолком, режет флотской походкой расступающуюся перед ним толпу любимец нескольких поколений студентов инспектор Нахимов. Брат известного флотоводца Нахимова и сам отставной моряк, Платон Степанович суров и грозен на вид, но студенты давно уже его раскусили и знают, что душою он простец и добряк. По второму слову Платон Степанович переходит со студентом на «ты», любит распечь за расстегнутый мундир, длинные волосы, опоздание на лекцию, постоянно грозит карцером, но редко приводит в исполнение свою угрозу. Ходит о нем анекдотов без числа: о любви Платона Степановича к рюмочке, за что даже награжден он прозвищем Флакон Стаканович, о его простодушии и отзывчивости[36].
Правая рука попечителя Строганова в его университетских преобразованиях, Нахимов благоговеет перед графом и больше всего боится, как бы его воспитанники не осрамились перед ним. Бывало, остановит студента, идущего под хмельком или одетого не по форме, накричит на него, натопает, а потом переходит на жалостный тон: «Ну как вам не грех?.. Что граф скажет?.. Как я буду перед ним моргать?»
Островскому, как и любому из его однокурсников, придется не раз испытать на себе и вспыльчивость и доброту этого человека, надежнейшего заступника перед профессорами, если, на беду, студент начнет терпеть неудачу на экзамене.
Итак, Платон Степанович проходит к входу, отставной солдат отворяет тяжелые университетские двери, и студенческая толпа с шумом, смехом, шутками растекается по аудиториям. Субинспекторы раздают первокурсникам табели. Вчерашние гимназисты сбрасывают в швейцарской шинели на руки сторожу Михайле и спешат, спешат занять места в уходящей амфитеатром ввысь аудитории.
Пока студенты расходятся по рядам и рассаживаются, инспектор Нахимов стоит внизу у дверей, наблюдая за ними, со строгим лицом, скрещенными на груди руками и отставленной чуть в сторону правой ногой. Юристов-первокурсников почти двести человек, и первую лекцию по энциклопедии законоведения должен читать им Петр Григорьевич Редкин.
Вот Редкин поднимается на кафедру, чуть склонив большую голову. Выжидая, пока установится тишина, закрывает глаза и по привычке нюхает табак. Потом обводит глазами аудиторию и громким голосом возглашает: «Милостивые государи, зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Слушатели замирают от неожиданности, а профессор тем временем начинает сам отвечать на поставленный им вопрос. Он говорит о том, что студентов привело в университет желание узнать здесь истину, которая есть начало всякого права, и сделаться в отечестве своем защитниками правды. Он говорит о том, что наука, как все святое и великое в мире, требует от человека трудного, самоотверженного подвига. «Вы жрецы правды, вы – юристы!» – заканчивает он под дружные рукоплескания. И, прежде чем сойти с кафедры и исчезнуть из аудитории, произносит напоследок любимую свою поговорку: «Все минётся, одна правда остаётся»[37].
Среди молодых людей, восторженно рукоплескавших в тот день Редкину, был и Островский. Быть может, в эти минуты он думал, что отец-то был, вероятно, прав, послав его против воли на юридический факультет. Служение правде – разве не это считал для себя высшей целью молодой Островский, разве не к этому устремлялся в неясных мечтах о высокой литературной судьбе?
И хотя после столь заманчивого начала надо было погрузиться в будничную университетскую жизнь, с той же, что в гимназии, долбежкой латыни и немецкого, утонуть в хитросплетениях юридических формул и дефиниций, первый год университета Островский учился старательно и даже с увлечением. Общий уровень преподавания на Моховой был все же высок и не шел в сравнение с гимназической наукой.
В тот самый год, когда Островский начал свои студенческие занятия, Грановский писал Станкевичу: «Наш университет, без хвастовства, единственный в России. Жаль, что брат твой не юрист: у Редкина и у Крылова послушать полезно»[38]. Островский слушал курсы и у Редкина, и у Крылова, и у самого Грановского.
К лекциям Редкина по энциклопедии законоведения Островский должен был отнестись со вниманием уже потому, что эта факультетская, то есть основная, дисциплина служила вводом в юридические науки. Редкин весь в ту пору находился под обаянием Гегеля и его триады. Каждый из видов права Редкин делил на три подвида, из которых каждый, в свою очередь, распадался на три и т. д. «Воля» как источник права развивалась на лекциях Редкина в двадцати семи ступенях!
Островского, одаренного от природы умом простым и ясным, не склонным к отвлеченным умозрениям и «трансцендентности», могла чуть смущать эта громоздкая искусственная постройка. И все же лекции Редкина, крепко настоянные на Гегеле, имели то значение, что учили видеть в явлениях мира внутреннее развитие и объективность законов, которых ни обойти, ни объехать. Иначе сказать, они учили гибкости ума, уважению к науке как средству понять мир.
Утилитарное, «домашнее» отношение к науке, процветавшее в Замоскворечье, столкнулось на глазах Островского с другим, высоким ее пониманием, и еще резче ощутил он ветхость и мелкость представлений, оставленных за Москвой-рекой. «На науку там тоже смотрели с своей точки зрения, – вспоминал он в одном из ранних очерков о Замоскворечье, – там науку понимают как специальное изучение чего-нибудь с практической целью. Научиться медицине – наука; научиться сапоги шить – тоже наука, а разница между ними только та, что одно занятие благородное, а другое нет. Науку как науку, без видимой цели, они не понимают. И потому если вы встретите ученого, который станет вам доказывать материальную пользу своего предмета или станет хвалить свой предмет, понося прочие, так знайте, что этот ученый или родился за Москвой-рекой, или жил там довольно долго. Если вы встретите студента, который рассуждает так: “Все наука да наука, нужна нам очень в жизни эта наука; нам бы только как-нибудь четыре года промаяться да чин получить – вот и вся наука”, – так знайте, что это студент замоскворецкий, а если он приезжий, так, верно, квартирует за Москвой-рекой».
Вообще говоря, странно было бы думать, что Островский, прожив все детство и юность в Замоскворечье, хоть сколько-то не напитался его представлениями и не вынужден был бороться с ними и перебарывать их в себе. Борьба писателя с наследной средой нередко глубже, чем школа, и больше, чем книги, образует его как художника и человека. Мы знаем признание Чехова, учившегося выдавливать из себя по каплям раба. Островского с юных лет тоже пыталась покорить себе замоскворецкая «сила косности, онемелости, так сказать, стреноживающая человека». Его поэтическая душа противилась этой силе, и то понятие о жизни и о науке, с каким он встретился в университете, было драгоценной опорой его внутреннему существу, необходимой поддержкой в пору ранней ломкой юности.
Редкин не упускал случая в своих лекциях коснуться живых вопросов русской действительности и в потоке изящно построенной ораторской речи то и дело соскальзывал с высот теории к современности. Он открыто выражал свои симпатии конституционному способу правления и возмущался, что у нас «людей продают, как дрова». Начало гражданского права Редкин учил видеть в свободе, а уголовного – в воздаянии, основанном на правде.
В те времена, бедственные для печати, слово, произносимое с кафедры, не подвергалось столь пристальному контролю, как книга или статья. Молодые профессора «золотой поры» Московского университета оставили после себя поразительно мало писаных трудов, но умели воспитывать поколения просвещенных людей своим устным словом.
К новой поросли университетских профессоров, людей круга Грановского и Герцена, принадлежал и Дмитрий Львович Крюков, читавший Островскому на первом курсе лекции по древней истории. Всегда безупречно одетый, белокурый, с высоким лбом и звучной, красивой речью, он был прозван студентами elegantissimus. Отчаянный гегельянец, как Редкин, он умел передать своим слушателям массу новых идей в самом изящном, но лишенном ложной пышности изложении. Перед студентами во весь рост вставали фигуры легендарных героев Греции и Древнего Рима… Не вспоминал ли о нем его ученик, когда десять лет спустя задумал драму об Александре Македонском, действие которой должно было происходить в Древнем Вавилоне?
Редкин и Крюков были из плеяды профессоров, пригретых Строгановым, посланных им в Германию и напитавшихся там передовыми идеями века. С их помощью Строганов потеснил ученых старого закала, вроде Щедритского или Малова, скандально известного по «маловской истории» – бойкоту студентов, описанному Герценом. Но в университете в ту пору, когда там учился Островский, дослуживали свой срок и старые профессора, которых Строганов не имел сил уволить, поскольку не находил повода для их замены. Посылать молодежь в Германию учиться там русской истории, русскому праву или словесности было бы нелепо, а в родном доме «старики», не столько по возрасту, сколько по образу мыслей и методе преподавания, вроде Морошкина, Погодина и Шевырева, не давали ходу никому из способных молодых ученых, оттирали локтями тех, кто шел им вослед.
Историю русских законов Островскому пришлось слушать у Ф. Л. Морошкина, который, как рассказывают его студенты, постоянно мешал в своих лекциях дельные и ловко выраженные мысли с совершеннейшим вздором.
В отличие от молодых профессоров у Морошкина не было не только стройной, продуманной системы, своего взгляда на мир – его отличали причуды и экспромты порой самого варварского свойства. В курсе русского права коньком его было казачество, к которому он возвращался кстати и некстати и от которого производил русское дворянство, «лыцарство». Ярый славянофил, он считал многие другие европейские народы происшедшими от славян. Сам он был человеком высокого роста и, конечно же, относил это обстоятельство к родовым чертам славянского племени.
Морошкин любил вставлять в свою речь неожиданные примеры, житейские случаи и анекдоты, смеша ими аудиторию. В качестве юридического лица в его лекциях неизменно выступал некий условный Пахом. «…Стоит в завещании: а столько-то раздать нищим, – говорил он, потирая рукой лысину и высоко поднимая брови. – Нищим! кому же? здесь нищие – лицо моральное. Это завещано не тому Пахому, что каждый день стоит у вашего окна и просит милостыню, в лаптях, рукавицах, весь оборванный… нет, это не ему, а нищим – именно кому не определяется, просто нищим!»
При общем торжестве юридической законности конкретный Пахом у Морошкина всегда рисковал остаться внакладе. Островский и его друзья вряд ли могли сочувствовать такому расчленению абстрактного юридического идеала и вполне конкретной людской нужды и беды.
Над чудачествами Морошкина посмеивались, симпатизировали ему мало, но все-таки не боялись его так, как боялись профессора богословия Петра Матвеевича Терновского. Это был грубый и злобный старик, оставивший по себе недобрую память в нескольких поколениях московских студентов. В свое время он влепил двойки скверно посещавшим его курс студентам Лермонтову и Белинскому. Без тени уважения вспоминал о его «сухих лекциях» Гончаров[39].
Болезненно самолюбивый, не терпевший возражений, насквозь пропитанный семинарским духом священник, Терновский пользовался тем, что именно его курс был в глазах начальства главным оплотом воспитания студентов в духе православия и самодержавия. Богословию отводилось немало учебных часов, даже в ущерб специальным юридическим дисциплинам. Посещение лекций Терновского считалось обязательным, отметкам его придавался особый вес. Манкировать его лекциями было небезопасно.
Студенты отчаянно скучали, когда, взгромоздившись на кафедру, Терновский начинал по тетрадке, неприятным голосом, как-то гнусавя, читать свои лекции по догматическому богословию. Он объявлял в начале курса, что догматы религии можно было бы доказать исходя из двух источников: из разума и откровения. «…Но разум человеческий, – бубнил под нос отец Петр, – весьма часто погрешает, он несовершен, слаб и потемняется мирскими суетами и соблазнами, а посему отметаем сей нечистый источник». Оставалось обратиться к «откровению», чем Терновский и занимался в продолжение всего остального года. При этом своими маленькими хитрыми глазками он зорко выщупывал аудиторию, примечал, кто пропускает его лекции, и сполна рассчитывался со студентами за их нерадение на экзаменах.
Заметно более интереса, чем Терновский, должен был вызывать у молодого Островского Степан Петрович Шевырев, читавший у юристов курс словесности. Островский имел повод особенно ждать лекций по этому предмету. При первом появлении на кафедре Шевырев привлекал обычно тем, что говорил без тетрадок, свободно, почти импровизируя. Голос его был приятен, сладок, выражения поэтичны и красноречивы, но в эту приятность, как у гоголевского Манилова, было чересчур «передано сахару».
Шевырев критиковал немецкие риторики, но и сам был довольно схематичен. Так, он делил всякое ученое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой предлагал излагать общее воззрение на предмет, во второй – разбирать его во всех подробностях, а в третьей делать заключения и выводы. Сухой скелет своей риторики Шевырев то и дело украшал стихотворными цитатами, в частности и на итальянском языке, намеренно забывая, что студенты в большинстве своем его не понимают, похваляясь своей образованностью. Любимым его рассказом было, как, живя в Италии, он читал на пустынном морском берегу стихи Торквато Тассо и всякий раз к нему выползали ящерицы, «внимая изящной прелести стихов Торкватовых». Эту диковинную историю он повторял из года в год перед своими слушателями.
У Шевырева нельзя было отнять чуткости к поэзии, но напыщенность и ложная сентиментальность часто делали его смешным. А главное, студентам претили его казенно-патриотические убеждения.
Как раз в тот год, что Островский слушал лекции у Шевырева, его профессор в содружестве с Погодиным предпринял издание нового журнала «Москвитянин», сыгравшего позднее такую роль в судьбе драматурга. Первый номер «Москвитянина» вышел в январе 1841 года. В нем была напечатана программная статья Шевырева «Взгляд русского на современное состояние Европы» – кредо официального славянофильства.
Читавший лекции одновременно с работой над этой статьей, Шевырев не упускал случая разъяснить своим слушателям, что превосходство русской народности заключено в православной вере, презренной гнилым Западом ради корыстных забот и расчетов. Если каждой из народностей, учил он, было дано разработать и довести до высокого совершенства какую-нибудь часть искусства и человеческой души: одному – музыку, другому – живопись, третьему – общественную жизнь, то русская народность соединила это в живое целое. Трактуя о сем предмете, профессор искренне увлекался, вздыхал, закатывал глаза и мог вдруг расчувствоваться до слез прямо на глазах у слушателей. Но, как верно и непримиримо сказал Герцен, он «портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи – выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог»[40].
Таковы были университетские профессора, чьи лекции из недели в неделю пришлось слушать на первом курсе студенту Островскому. Иные искренне восхищали его, другие способны были разочаровать. Но юный первокурсник еще всерьез и трепетно относился к своим студенческим обязанностям, вне зависимости от того, что нравилось, а что не нравилось ему. Он прилежно готовился к экзаменам и весной 1841 года сдал их вполне успешно. Самыми ответственными «факультетскими» дисциплинами, отметки по которым учитывались при выпуске, были энциклопедия права и история русских законов. Сдать курс Редкину, который требовал к тому же представления подробных конспектов лекций, было нелегко. Студенты называли этот экзамен «чистилищем». Однако Островский получил четыре и у Редкина и у Морошкина. Прочие дисциплины, считавшиеся общеобразовательными, он также сдал недурно, получив по богословию четыре, древней истории – три, русской словесности – четыре, латинскому языку – четыре и немецкому языку – три[41].
Напрасно было бы, впрочем, думать, что при этих вполне достаточных успехах студент Островский по первому году только то и делал, что иссушал свой ум университетской наукой. Был и новый круг студентов-товарищей, и иные интересы вне аудитории и дома. Кстати, в студенческие годы Островский живет уже на новом месте.
Семья его перебралась из Замоскворечья на берега Яузы, тогда еще тихой, только начинавшей застраиваться красильнями и фабриками речки.
Когда-то в этих местах было Воронцово поле: по нему гуляла царская охота. Густой лес спускался тогда к Яузе. Рассказывают, что орлы водились здесь до начала XVIII века. При Алексее Михайловиче и Петре I тут обосновались стрелецкие слободы. На горке поставлена была церковь. Во время Стрелецкого бунта расположенный здесь полк полковника Воробина сохранил верность царю. Правительство ссудило стрельцам Воробина денег на церковь во имя Николая Чудотворца, освященную в 1693 году. Так церковь, а после и переулок получили название Николоворобинских. В XIX веке в этом тихом уголке Москвы охотно селились купцы и мещане, а общий тон быта напоминал Замоскворечье.
В Яузской части владел несколькими домами Иван Андреевич Тессин, шурин Островского-отца. Николай Федорович купил пять домов у Тессина, а рядом пристроил два новых. Земельные владения Островских стали занимать, таким образом, чуть ли не целый квартал.
Николай Федорович живет теперь совсем барином. Разбогатев, получив дворянское достоинство, он находит, что прежняя регулярная служба больше не нужна ему и, под обычным предлогом «расстроенного здоровья», выходит в отставку. Это не значит, что он бросает дела. Напротив, только тут и приобретает настоящий размах его деятельность частного адвоката, а потом, с 1842 года, и присяжного стряпчего Московского коммерческого суда.
Старшего сына, радующего отца своим послушанием, Николай Федорович может теперь устроить комфортнее и презентабельнее. Ему выделяют в новом доме комнаты наверху, чтобы он мог принимать там своих молодых друзей. У него появляется даже собственный выезд – экипаж в две лошади (большая разница с одной: иная честь, иной уровень благосостояния!).
Мы не знаем, кто составляет круг ближайших друзей Островского в эту пору, кроме разве что его приятеля по гимназии Н. И. Давыдова, женившегося позднее на его сестре. Но известно, что в университете на одном курсе с ним учились будущий педагог Константин Ушинский, князь В. Л. Черкасский, ставший впоследствии видным деятелем «эпохи реформ». На соседних курсах – годом-двумя старше или моложе – слушали в ту пору лекции Афанасий Фет, Яков Полонский, Аполлон Григорьев, будущий известный фольклорист Афанасьев, будущий художник Боклевский… Возможно, иные из них захаживали к Островскому на огонек в две небольшие студенческие комнатки в мезонине дома в Николоворобинском.
Островский вдруг открыл в себе чуть притушенную в нем с детства потребность веселого товарищества. На вид застенчивый, вяловатый, он любил собирать вокруг побольше людей, вместе смеяться и печалиться, обсуждать сообща, что узнал и пережил. Но в большом, многодетном и строгом доме Николая Федоровича, хоть и запрета на друзей как будто не было, молодая компания не чувствовала себя просто и свободно. Эмилии Андреевне хотелось блюсти аристократический тон – отец поощрял ее в этом. Noblesse oblige! А новоявленный дворянин доверял вкусу жены и очень дорожил семейной респектабельностью.
Кажется, в ранние студенческие годы Островский нечасто принимал друзей у себя, хоть и желал этого всем сердцем.
Студенты любили собираться шумно: с криками, спорами, песнями за полночь. Обсуждали своих профессоров: дружно восхищались Редкиным, смеялись над пышнословием «Шевырки». Кто-то, схватив друга за пуговицу, втолковывал ему соотношение разума и бытия по Гегелю. Другой, бледнея от волнения, занимался неистовым богоборчеством. Третий предлагал доказать бытие божие математическим путем… Все это галдело, смеялось, требовало жженки, пило, пело, шумело, и когда на рассвете друзья расходились, оглашая звонкими голосами тишь Воробинского переулка, у Островского оставался осадок смутного неудобства перед отцом и мачехой.
Голоса уходили вверх по Воробинскому переулку и затихали где-то за церковью святого Николая. Отцу не должно было это нравиться. Ему хотелось, чтобы сын прилежнее сидел над тетрадями. В студенческих сборищах Николай Федорович видел одну помеху занятиям Александра; он считал сына увлекающимся, слабовольным. Отец так удачно начал лепить за него его судьбу. Глина мягкая легко принимала форму под пальцами, а тут словно кто-то хочет ему помешать.
Впрочем, тревоги эти были пока преждевременны. Лекции второго курса Островский начал посещать с прежним прилежанием. Снова слушал Редкина, читавшего на этот раз о государственных и губернских законах и учреждениях и не пропускавшего случая, к удовольствию аудитории, всадить, будто невзначай, либеральную шпильку. Слушал сухое и добросовестное изложение политэкономии и статистики у профессора Чивилева.
Никита Иванович Крылов начал читать на втором курсе лекции по истории римского права. Внешне он оставлял невыгодное впечатление. Студенты-юристы, которым не терпелось ближе познакомиться со своим деканом, были разочарованы, увидев маленькую сгорбленную фигуру, тихо поднимавшуюся по университетской лестнице со шляпой в руках. Крылов готовил лекции не всегда тщательно; как только выходил за узко очерченные границы своего предмета, начинал спотыкаться в истории и философии, но был человек даровитый, свою область права знал отлично, и многое ему за это прощали. Несмотря на употребление без меры таких дико звучавших словечек, как «периферия личности», «амальгамироваться» и т. п., он умел заставить себя слушать, обладал даром наглядного изложения и прекрасно объяснял смысл самых сложных юридических понятий.
Но кто по-настоящему мог захватить и увлечь аудиторию, это Грановский, читавший на втором курсе историю Средних веков. Хотя он занимал кафедру всего третий год, слава о нем как о блестящем университетском профессоре укоренилась прочно.
С красивым смуглым лицом, длинными, до плеч, черными волосами, с глазами, горящими огнем мысли, – настоящий гёттингенский романтик, – появлялся Грановский на кафедре. Его негромкий, с заиканиями, глуховатый голос обладал властью завораживать и подчинять себе. И дело не только в том, что Грановский отдавался полету вдохновения и будто творил на глазах у слушателей, захватывая обаянием кажущейся импровизации. Молодой профессор обладал глубокими убеждениями и заражал ими аудиторию.
О чем бы ни говорил Грановский – о борьбе папской и императорской власти, о рыцарях ли Круглого стола или древних кельтах, – всегда помимо той или иной цепочки фактов в его речи было еще и живое чувство гуманности, уважения к страдающему человеку, ненависть к насилию. Он заставлял заново пережить историю минувших времен, как если бы ей суждено было повториться сегодня снова – со всеми ожиданиями, обольщениями, угрозами, поисками выхода, когда еще не предуказан результат. И оттого то, что совершалось в нынешние дни в современной самодержавной России, как бы тоже становилось подвластно исторической совести и суду нравственного чувства.
Грановский читал без педантизма и нравоучительности. «Педантские рассуждения о подробностях, не имеющих человеческого интереса, – вон», – положил он себе правилом. Его лекции трудно было записывать, ибо в простом конспекте фактов исчезало главное, что вносило душу в его изложение, – единство мысли и чувства, художественный эффект воссозданной им картины и тысячи тонких оттенков современных эмоций, которыми насквозь, сознательно или бессознательно, было пронизано его изложение. Студенты, до отказа заполнившие аудиторию и устроившиеся прямо на приступках вокруг кафедры – с тетрадью на коленях и чернильницей в руках, – замирали с уже обмокнутым в чернила гусиным пером и забывали записывать. Глядели во все глаза на профессора, заслушиваясь его горячим, исполненным мечтательной думы словом.
Ново и дерзко звучали развиваемые Грановским идеи в защиту религиозной реформации в Европе. Рассказывая о папе Григории VII, Грановский внушал своим слушателям мысль о «ничтожестве материальной силы при всей ее наглости в борьбе с идеями». Но, несмотря на весь свой благородный идеализм или благодаря ему, Грановский умел предстать в своих лекциях и довольно острым полемистом, в частности, когда дело касалось входившей в моду славянофильской доктрины.
Грановский дружил с иными из молодых славянофилов, например с братьями Киреевскими, но не переставал спорить с ними и спор свой в едва завуалированном виде переносил на кафедру. «Ты не можешь вообразить, какая у этих людей философия, – писал Грановский в те годы Станкевичу. – Главные их положения: запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, – мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творении святых отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам»[42].
То, что у молодых славянофилов было игом любимой мысли, добросовестным заблуждением, истекавшим из душевных поисков и горячей любви к родине, то старшими славянофилами, вроде Шевырева, Погодина, беззастенчиво использовалось для демонстрации верноподданнических чувств. Островский и студенты его поколения становились свидетелями того, как в их присутствии развертывалась на лекциях глухая, подспудная борьба между двумя главными движущими идеями той поры. То, что провозглашали Морошкин или Шевырев, тут же опровергал, едва заботясь о соблюдении профессорского этикета, в своей лекции Грановский, а Погодин, читавший вслед за ним, в свою очередь, прозрачно полемизировал с Грановским.
Шевырев, к примеру, бранит на своей лекции неправильный, варварский, «нерусский» слог Герцена. Грановский, в свой черед, толкует о «мелкопатриотическом, ограниченном взгляде на историю» некоторых «славянских ученых». Не выходя за пределы своего предмета, он выводит на сцену Шевырева и когда говорит о людях, отрицающих философию истории, и когда рассуждает по поводу риторов IV и V веков или язычников-староверов. В ответ Погодин, поднявшись на кафедру, пускается в прозрачные рассуждения об ученых-«немцах», которым непереносим «русский дух».
Островский сидит попеременно на этих лекциях, напоминающих необъявленную войну, только тетрадки с конспектами меняет: Шевырева на Грановского, Грановского на Погодина и всей душой сочувствует вольнолюбивому и просвещенному духу западников. Он не знает еще, как сложно будут вызревать, чередуясь, его убеждения, сколько раз будет вспыхивать при нем этот спор и какую мету оставит на всем его творчестве.
Грановский любил приглашать студентов к себе домой и вел с ними откровенные, доверительные разговоры. Дома он был свободнее, чем на кафедре. Тут он разрешал себе, например, подробно толковать о лозунге Великой французской революции – «свобода, равенство и братство». Грановский считал этот лозунг не конкретным политическим призывом, а выражением высшего идеала человечества. «После долгой борьбы французы получили, наконец, свободу, – говорил он, – теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство»[43]. Может быть, Островский и не бывал дома у Грановского, не слыхал из его уст именно этих слов и соображений, но дух его взгляда на мир должен был все же достаточно усвоить.
И каково после этого было отсиживать ему часы у профессора русской истории Михаила Петровича Погодина, читавшего скучно, бесцветно, монотонно, но самолюбиво одергивавшего студента, лишь только он зашепчется с товарищем. Сама прозаическая и неприятно-плебейская наружность Погодина была контрастом романтической внешности Грановского. Кроме того, студенты питали – и не зря – известные предубеждения относительно его моральных качеств: говорили, что он груб, циничен, самолюбив, корыстен. На лекциях он большей частью перелагал содержание двух своих диссертаций – о достоверности русских летописей и о варягах на Руси, а оставшееся время занимал чтением Карамзина со своими комментариями.
Трудно сказать, насколько прилежно посещал Островский эти лекции, но впечатление, сложившееся у него от Погодина как профессора и человека, было скорее невыгодным. Он и не мог предполагать тогда, какую роль сыграет Погодин в его судьбе, так же как вряд ли мог оценить действительную сложность этого незаурядного человека. При всех своих недостатках Погодин не принадлежал к числу бесцветных и пустых казенных профессоров – «антиков». Его откровенность казалась порой циничной, но даже его неприятели признавали, что он был как-то безоглядно смел и на дурное и на хорошее. В его натуре было нечто неожиданное. Сквозь угодливое чинопочитание вдруг прорывался здоровый, грубый демократизм. «Это был Болотников во фраке чиновника министерства народного просвещения…» – метко определит один из его учеников[44].
Однако Островскому-студенту, скорее всего, не пришлось даже отдаленно угадать в своем профессоре Болотникова – тогда это был для него чиновник в форменном фраке и ничего более, мучивший студентов своим педантизмом и хаотическим перечислением сведений о памятниках русской древности.
К концу второго курса стало очевидным, что Островский прохладнее относится к своим занятиям. Он начал пропускать лекции, на весеннюю экзаменационную сессию в мае 1842 года не явился «по причине случившейся лихорадки». В самом ли деле он болел? И почему, в таком случае, не воспользовался правом перенести экзамены на осень?
Не отмечая у студента Островского признаков усердия, факультет оставил его для повторного слушания курса. Островский, по-видимому, не был угнетен тем, что стал второгодником. Слушать второй раз уже знакомый курс не было нужды, зато открывался неожиданный простор для более вольной студенческой жизни, не связанной обязательством ежедневно посещать аудиторию.
Не то чтобы Островский был по природе «с добрецой», как русский народ великодушно называет лень. Но все же, добросовестно высиживая первое время часы на университетских лекциях, он смутно чувствовал, что все это, быть может, и интересно и значительно, да не в коня корм. Не то, не то!
И вот метода воспитания родительским авторитетом, во что так истово верил отец, дала первую трещину. Зачем он загонял сына силком в рай, зачем принуждал последовать своему выбору?
Вдруг что-то стряслось с молодым Островским, что-то с ним случилось, почему он так быстро охладел к учению. Но что? Мне кажется, я это знаю. Он полюбил театр.
На галерке
Из дальней дали зрелых лет Островский вспоминал, что начал ходить в театр, «зазнал», как говорилось в старину, московскую труппу, а вместе с тем и «московскую публику с 1840 года». Это случилось, стало быть, или в последние месяцы гимназического ученья, или в самом начале студенческой жизни.
Федор Бурдин, учившийся в одной гимназии с Островским и в одном классе с его младшим братом Михаилом, утверждал, что еще на ученической скамье слышал восторженные рассказы будущего драматурга о Мочалове, Львовой-Синецкой, Щепкине[45]. Возможно, почтенного артиста подвела память и он немного сдвинул события. Бурдин был тремя классами младше Островского – разница в школьные годы весьма ощутимая, – и вряд ли Александр Николаевич уже тогда был так близок с ним, чтобы делиться своими театральными впечатлениями. Но чуть позже, когда Островский стал студентом, а Бурдин так сильно заболел театром, что решил, оставив гимназию, устроиться суфлером (а это случилось в декабре 1841 года), их пылкие разговоры об игре московских артистов – дело вполне вероятное. «Мы ходили в гимназию и учились в Малом театре», – говорили поколения москвичей[46].
У образованной Москвы 1840-х годов было два любимых детища, которыми она гордилась, с которыми соединяла главные свои надежды и симпатии: университет и театр. И, как братья одной матери, университет и театр тесно сдружились между собой. Для московских студентов театр был чем-то бόльшим, чем средство досуга, развлечения на свободный вечер. Это было почти студенческой привилегией, чем-то вроде прекраснейшей части университетских занятий. Раёк будто синей каймой обводило, когда студенты плотно усаживались там в своих форменных мундирах.
Артисты, в свою очередь, знали, что они находят в профессуре и студентах лучшую свою публику, самых преданных и строгих ценителей их искусства. Щепкин дружил с Грановским и Крюковым, Мочалов встречался запросто со своими друзьями-студентами в кофейне. От Моховой до Театральной площади было едва десять минут ходьбы, и на этом коротком пути легко установился ток взаимных симпатий, притяжений и восторгов.
Драматическая труппа Московского императорского театра занимала тогда в очередь с оперой и балетом и помещение Большого Петровского, как он тогда звался, театра.
Конечно, студент университета не мог считаться вполне студентом, если он не изучил московский балет и не принял участия в борьбе двух театральных партий: одна из них стояла за московскую балерину Санковскую, другая – за петербургскую гастролершу Андреянову, выдвижение которой связывали с тем, что ее покровителем был директор императорских театров А. М. Гедеонов. Студенты почти поголовно держали сторону Санковской. На собранные в аудиториях деньги поднесли ей в бенефис серебряный венок и приветственные стихи и неистово хлопали при каждом ее выходе. Андреянову же, которой рукоплескал партер, встречали дружным шиканьем с галерки, а один неуемный «санковист», Костя Булгаков, даже бросил ей из райка на сцену дохлую кошку, грубо намекая на худобу балерины. За Островским-театралом, правда, таких крайностей не водилось, но и он с удовольствием вспоминал впоследствии о московском балете поры своей молодости.
В Большом театре студенты университета посещали и оперу со знаменитым басом Ферзингом и сопрано Нейрейтер, но больше всего их театральные волнения и восторги были связаны с московской драматической труппой. Игра актеров заново открывала публике великие творения драмы, но московские артисты умели поднять до высокого значения иногда и случайную роль в ничтожной драме Полевого или жалком переводном водевиле, и это было целой новой областью познания жизни и людей, прорывом к небу истинного искусства. Здесь безраздельно царствовали: в трагедии – Мочалов, в комедии – великий Щепкин.
Мочалов был кумиром университета. Могучий трагик с тяжелой львиной головой и голосом редкого по красоте тембра, способным заполнить все закоулки театра, он умел заставить услышать и на галерке слово, произнесенное шепотом. Будто самой природой Мочалов был предназначен для минут высокого романтического восторга, самозабвенного потрясения на театре.
Он никогда не играл ровно – иные спектакли и роли можно было счесть полным его провалом. В такие дни публика, пришедшая насладиться игрой великого артиста, чувствовала себя обманутой: сцену будто отбрасывало вспять, к временам, когда артисты лишь любовались раскатами собственного голоса, вставали в мучительно неестественные позы, выделяли ударением слова «любовь», «кровь», «измена» и покидали сцену с простертой вверх правой рукой, будто вымогая у публики овацию. Но когда Мочаловым овладевало вдохновение, он отметал испытанные приемы ремесла и обнаруживал себя такой трагической силы художником, что вызывал прилив бьющего через край восторга, зрители забывали, что они в театре. Рассказывали, что в одной из мелодрам Мочалов, видя в зеркало сцену отравления, с выражением ужаса на лице медленно поднимался из своего кресла, и вслед за ним непроизвольно вставал весь партер.
Аполлон Григорьев вспоминал счастливые мгновения, какие заставил его пережить Мочалов в студенческие годы:
- …театра зала
- То замирала, то стонала,
- И незнакомый мне сосед
- Сжимал мне судорожно руку,
- И сам я жал ему в ответ,
- В душе испытывая муку,
- Которой и названья нет.
- Толпа, как зверь голодный, выла,
- То проклинала, то любила…[47]
Островского тоже опалил этот вихрь увлечения Мочаловым. Московский трагик был несравним с холодным, отточенным петербургским Каратыгиным; в нем была «искра Божия», как сказал Щепкин, пусть даже в иные минуты становилось неловко от вставшей на котурны романтики.
Сетуя впоследствии на отсутствие трагика в московской труппе, Островский будет всегда вспоминать Мочалова. Он выскажет мысль, что потребность в трагедии у «молодой публики» больше, чем потребность в комедии или семейной драме: «Ей нужен на сцене глубокий вздох, на весь театр, нужны непритворные, теплые слезы, горячие речи, которые лились бы прямо в душу». Все это было в игре Мочалова.
Навсегда остались в памяти тех, кто его видел, лучшие роли артиста: хромой, безобразный, с язвительной улыбкой Ричард III, так удивительно ловко соблазняющий Анну у гроба ее мужа, злобно торжествующий свой успех и вдруг ввергнутый в самую бездну отчаяния и леденящий кровь публики криком: «Коня, полцарства за коня!»; Нино, сгорающий от любви к Веронике, в драме Полевого «Уголино»; пылкий Мортимер в «Марии Стюарт» Шиллера и, наконец, признанная вершина, венец его искусства – шекспировский Гамлет! Гамлет, о котором сохранилось столько преданий, рассказов, воспоминаний, что точно сейчас видишь великого артиста в этой роли: вот он «с печатью тайны роковой» при встрече с тенью отца бессмысленно и страшно глядит в пустоту, допрашивает себя в тщетной надежде разгадать загадку жизни, а потом, в следующей сцене, выбегает в невиданном волнении со словами «быть или не быть?» на устах и то кидается в изнеможении в кресло, то снова вскакивает на ноги, осененный приливом мужества, и поднимается к самой вершине художественного потрясения в словах: «Уснуть! Быть может, грезить?».
Тут не одни студенты позабывали себя от восторга. В этом наэлектризованном зрительном зале теряли голову и профессора. Грановский рассказывает в письме Станкевичу, как на одном из представлений «Гамлета» профессор-астроном Д. М. Перевощиков[48], сидя в ложе с какими-то аристократическими дамами, хлопал что есть мочи. Одна из соседок, которую «беспокоили его восторги», сказала вслух по-французски: «Est-il fou, cet homme?» («He сошел ли с ума этот человек?») – «Сама глупая-с баба-с; ничего-с не понимает; бездушница-с», – отвечал Перевощиков спокойно и громко[49].
На Мочалова ходила публика не только в бобровых воротниках, но и в волчьих шубах. Им восхищались купцы, покупавшие места в партере, и студенты, забравшиеся за последний двугривенный на галерку и оттуда, сложив ладони рупором, выкликавшие имя любимого артиста, а потом устраивавшие ему овацию на подъезде.
Спустя двадцать лет в драме «Пучина» Островский изобразит гуляние в Нескучном саду, знакомое ему не понаслышке, и вложит в уста прогуливающихся купцов и студентов бурное одобрение игре Мочалова в мелодраме Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока».
«Купец. Ай да Мочалов! Уважил.
Жена. Только уж эти представления смотреть уж очень жалостно; так что уж даже чересчур.
Купец. Ну да, много ты понимаешь!»
Если в пьесе был занят Мочалов, при театральном разъезде все говорили только о нем. Во времена Мочалова в московской драматической труппе репертуар строился в расчете на «примирующих» артистов, остальные роли считали «аксессуарами». И все же рядом с Мочаловым Островский имел основание отметить его обычную партнершу – правдивую и тактичную актрису М. Д. Львову-Синецкую. Она была то, что мы бы теперь назвали «интеллигентная актриса»: серьезно готовила роль, много читала, общалась с литераторами, собиравшимися в ее гостеприимном доме.
Настоящим большим актером реалистической школы с точным ощущением быта, замечательным юмором, актером, открывшим русской публике Гоголя (а это имя с юных лет было дорого для Островского), признавали московские зрители Михайлу Семеновича Щепкина. Соперничая в известности с трагиком Мочаловым, он как бы представлял второе крыло искусства – комедию. Но хотя он умел рассмешить до колик, в отличие от яркого комика-буфф Живокини это не был лишь комедийный актер. Щепкин впервые стер на сцене понятия амплуа: от юмора с неотразимой житейской правдивостью он умел переходить к драматизму, а едва дав зрителю расчувствоваться, снова возвращал его к веселью и насмешке. Со своей полной фигурой, круглолицый, даже расплывшийся к старости, он двигался по сцене удивительно легко и изящно, а в водевилях был подвижен, как ртуть.
Щепкин обладал, как говорят, «вкусной» дикцией, но сохранял при этом на сцене полнейшую простоту тона. Реалистическая интонация, усвоенная Щепкиным, совершила переворот в театральном искусстве. Он имел смелость говорить на сцене «как в жизни», оставив все декламационные интонации, с той простотой, которая поначалу кажется слишком обыденной и бедной, но неодолимо захватывает зрителя и заставляет его встрепенуться от ощущения пронзительной правды, едва дело дойдет до ярко драматического или комедийного места роли.
Островский застал на сцене уже стареющего Щепкина, и все же это был удивительный, непревзойденный мастер. Иные роли, вроде Фамусова в комедии Грибоедова, в поздние годы он играл с еще большей мерой совершенства, чем в пору своего расцвета. Островский мог видеть Щепкина в знаменитой роли Матроса в одноименном французском водевиле, и в роли Чупруна в «Москале Чарывнике» Котляревского, и Гарпагона в «Скупом», и Арнольфа в «Школе жен» Мольера. Но что уж он бессомненно не пропустил – это гоголевскую «Женитьбу» с Щепкиным в роли Кочкарева и «Ревизора», где Щепкин играл городничего.
Всю жизнь потом вспоминал Островский московскую драматическую труппу той поры как созвездие образцовых исполнителей Гоголя. «Для блестящего исполнения “Ревизора”, “Женитьбы” и “Игроков” Гоголя нашлись артисты на все роли. Для типов Гоголя московские артисты явились лучшими истолкователями. Люди, не видавшие пьес Гоголя на сцене или видевшие их в провинции, говорили, что только после игры московских актеров они получили ясное представление о выведенных гениальным художником характерах»[50]. По словам Островского, сам Гоголь «был очень доволен исполнением “Ревизора” на московской сцене…» И «примировал», как говорилось тогда, в спектаклях несомненно Щепкин – городничий.
Наивно и убежденно принимал он свое право карать и миловать и с искренним драматизмом переживал позор, свалившийся на его седую голову. Наслаждаясь правдивой игрой артиста, автор будущего «Банкрота» мог впервые задуматься тогда о том, что в конце концов трагедия и комедия – лишь условные полюсы драматического творчества, а в жизни комическое и трагическое чаще живут заодно и подлинное искусство легко смывает разделяющую их жанровую границу.
И не покидая театра до последнего хлопка, горячо приветствуя артистов, раскланивающихся на вызовы, наш студент думал: вот где подлинная жизнь, вот где родной дом, и кафедра, и все, все, что только нужно ему.
Едва ли не все деньги, перепадающие от отца, Островский тратит теперь на театральные билеты. Кажется, нет в Петровском театре ряда, от партера до верхних ярусов, в котором бы он не сиживал. В 1842 году он становится даже подписчиком альманаха «Литературный кабинет», составленного из трудов московских артистов, в том числе П. Мочалова и Д. Ленского, и отпечатанного в университетской типографии[51]. Мало-помалу Островский знакомится с актерами и начинает бывать за кулисами…
В университете между тем идут занятия, к которым он как слушатель повторного курса относится довольно прохладно. Зимой он держит экзамен по статистике. Студенты готовятся к нему сообща, собираясь по двое, по трое. Расстилают дома на полу огромные бумажные простыни со статистическими таблицами, их требует знать назубок профессор Чивилев. В конце года Островский сдаст ему экзамен на тройку и, вздохнув свободно, разрешит себе в занятиях долгую паузу.
В его образе жизни в это время слишком мало того, что придало бы назидательности его биографии. С некоторых пор Островского чаще можно застать днем в грязном и шумном, продымленном дешевым табаком трактире «Британия», чем в университетской аудитории.
«Британия» расположена как раз напротив университета, рядом с манежем, и инспектор Нахимов старается следить, чтобы студенты не слишком часто плавали, по его выражению, «через пролив». Впрочем, с тем, что «Британия» служит неким приложением к университету, своего рода студенческим клубом, начальство давно смирилось. На стенах там висит расписание факультетских занятий, половые знают поименно всех профессоров и сами отважно рассуждают о литературе. Здесь не редкость увидеть за столиком в углу молодого человека, обхватившего обеими руками голову и пытающегося в последние часы перед экзаменом постичь все бездны учености. Сам Платон Степанович в порядке инспекции наносит изредка сюда визиты. Грозно объясняется со студентом, не заплатившим трактирщику (без погашения долгов в «Британии» университет не выдает выпускного диплома), и с трактирщиком, который норовит вместо рома налить студенту в чай какую-то бурду – а уж в роме старый моряк что-нибудь понимает.
Здесь нередко можно видеть и Островского. Гудит прокуренная «Британия». Студенты локтями на столиках, перед опустевшими стаканами, с трубками Жукова табаку в руках, до хрипоты спорят о новой книжке журнала, о чьей-то лекции, о вчерашнем спектакле…
Так стремительно набегает весна 1843 года, приближаются отсроченные экзамены, и Островский снова берется за тетради и книги. Но как усидишь дома, когда московская весна тянет на улицу! Хочется дни напролет бродить без цели, смотреть, как поднимается парок над протаявшей булыжной мостовой, вдыхать бражный весенний воздух, чувствовать легкость в ногах и счастливый гул в голове и улыбаться неведомо чему, предаваясь неопределенным мечтам и ожиданиям.
Вот он, веселый московский апрель, каким увидит его Островский: «Еще кой-где лежит снег по склонам гор да по оврагам, еще утром и вечером замерзает каждая лужица и лопается под ногой, как стекло, а уж солнце так печет, или, как говорят, сверху так жарко, хоть надевай летнюю одежу. Народ в праздничном расположении духа толпами ходит по улицам, потряхивая завязанными в красные бумажные платки орехами; везде выставляют окна; вот пара вороных жеребцов чистой крови мчит легкую, как пух, коляску, в ней сидит купчик в лоснящейся шляпе, вчера только купленной у Вандрага, и рядом с ним цветущая его супруга в воздушной шляпке, прилепленной каким-то чудом к самому затылку, и долго дробный стук колес раздается по улице; под Новинское, – замечает кто-то с тротуара; разносчик кричит: цветы, цветочки, цветы хороши, и в весеннем воздухе проносится запах резеды и левкоя»[52].
Ноги сами ведут нашего студента в Нескучное или, по памяти детства, в балаган Лачинио под Новинским, где вас еще издали встретят дурачащиеся и зазывающие публику паяцы на балконе; а внутри балагана во всем простодушии нехитрой техники будут представлены сказочные чудеса. Ну а если не хочется идти вдаль, совсем рядом с университетом Александровский сад – вечный приют студентов перед экзаменами, и Кремль, по которому так приятно побродить весенним деньком.
Большой дворец в лесах, только еще строится, соборы стоят широко, просторно. У Боровицких ворот на пригорке радуют своей красотой Спас на Бору и крошечная церковь Уара. Можно постоять у Царь-пушки и только что поднятого из ямы Царь-колокола, пройти к Спасским воротам, выйти на площадь и поклониться Минину у торговых рядов… Да мало ли куда можно еще пойти?
А может быть, как раз этими весенними днями, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, сидит он у окна в своем мезонине у Николы Воробина и марает чернилами и рвет один лист за другим. Что это? Будущая повесть, стихи или комедия? А может, и то, и другое, и третье в очередь? Не знаем.
Знаем только, что, явившись 6 мая 1843 года на экзамен по истории римского права к профессору Крылову, Островский принес домой единицу. Как второгоднику ему грозило исключение. Он не стал ждать и сам подал прошение об уходе. 22 мая ему было выдано свидетельство об «увольнении от университета»[53].
Что произошло на экзамене у Крылова? Был ли Островский обескуражен своей неудачей или принял ее спокойно? Об этом можно только гадать.
Известно, что Никита, как звали между собой студенты своего декана, был изрядно свиреп на экзаменах по своему предмету и единицы сыпались у него как из рога изобилия. Допускаем, что и Островский в том настроении, в каком он находился, мог быть не слишком подготовлен к экзаменам.
Но существует идущая, по-видимому, от самого драматурга версия, что Крылов хотел получить с Островского взятку как с богатенького студента. Помилуйте, да возможно ли это? Видный московский профессор, блестящий лектор, да еще «западник» из плеяды молодых профессоров, не какой-нибудь заплесневелый старик чинодрал, и вдруг – взяточник?
Трудно было бы в это поверить, если б не некоторые особенности личности профессора, мимо которых нельзя пройти.
Да, Крылов был необыкновенно способный, обладающий блистательным даром изложения лектор. Он быстро схватывал и усваивал то, что его мало-мальски заинтересовывало. Однажды он попросил у Грановского дать ему почитать что-нибудь о французской революции – он знал о ней лишь понаслышке. Грановский дал ему Тьера и был потрясен тем, сколько неожиданных новых соображений высказал ему Крылов, отдавая книгу. В другой раз при разъезде из гостей, уже в передней, Крылов сказал что-то к слову о Римской империи, его переспросили, и тогда он тут же, не сходя с места, нарисовал такую яркую и увлекательную картину падающего Рима, что столпившиеся вокруг него гости в шубах никак не могли разойтись по домам.
Да, Крылов мог очаровать на лекции свою аудиторию. И все же он не пользовался уважением ни среди своих товарищей-профессоров, ни среди студентов. Дело в том, что в его поведении не было нравственной основы. Казалось, он считал себя свободным от каких бы то ни было серьезных убеждений, а без этого обращаются в тлен самые блестящие и редкие способности. Наиболее чуткие слушатели замечали, что при отточенной и внешне изящной форме его лекции напоминали работу какой-то великолепной логической машины. «Мысль с мыслью цепляются, излагаются в блестящей форме, но жизни, духа, внутренней, теплой связи нет», – говорил С. М. Соловьев [54].
О том, что Крылов не брезгает взятками, в ассигнациях или богатых подарках, давно ходили слухи в университете. В 1846 году, три года спустя после ухода Островского из университета, в результате громкого семейного скандала взяточничество Крылова было доказано. Им возмутились его же товарищи-«западники». Грановский, Редкин, Кавелин требовали убрать Крылова из университета, иначе угрожали сами покинуть его.
Что было за дело Грановскому, что его бывший товарищ принадлежал к партии «западников». «В России, собственно, только две партии – людей благородных и низких», – сказал как-то Грановский и прибавил, что негодяй останется для него негодяем, будь он последователем Гегеля или Авдотьи Павловны Глинки – старозаветной московской поэтессы, мракобески и ханжи[55].
Островский сдавал свой злосчастный экзамен Крылову, когда тот еще не был уличен во взяточничестве и сохранял вид внешней добропорядочности. Но разве когда-нибудь респектабельность мешала заниматься вымогательством? «Столкновение» студента с профессором, привыкшим к более покладистым ученикам, кажется нам весьма правдоподобным.
И, однако, даже не будь этого скверного инцидента, уход Островского с юридического факультета все равно был предрешен. Так же оставил университет десятилетием раньше Белинский, так же ушел из него, недоучившись, Михаил Лермонтов…
Как ни хороша была, положим, университетская наука, другое было у Островского на уме, другим он жил, к другому стремился. Настал час, когда студент-юрист вдруг заглянул в себя и отчетливо понял: напрасно бьется с ним отец, напрасно сердится, – не быть ему дипломированным дельцом. Неудача ли на экзаменах случилась оттого, что занимался он спустя рукава, или занимался спустя рукава оттого, что не ждал удачи, но только лопнула вдруг внутри какая-то пружинка, которой еще что-то держалось. Единица у Крылова все развязала.
Вообразим теперь, что ждало Островского дома. Обычно спокойный отец на этот раз не удержался, наверное, от взрыва негодования. «Люди семинарского образования всегда склонны к риторике», – заметит герой одной из пьес Островского.
«Бездельник… повис на шее отца… семье обуза… все по театрам да по трактирам… Такими ли мы были… Я в твои годы…» – эти или похожие на то попреки и увещевания должен был услышать провалившийся студент. И возразить как будто нечего, все справедливо. Но вот когда вспомнить бы отцу, как приневоливал сына идти по своим стопам. Да нет, куда там, не вспомнит. А сердится круто, грозит лишить материальной поддержки (собственный выезд, конечно, – долой, в деньгах – ограничить) и немного успокаивается лишь на мстительной мысли: «Что ж, пусть послужит, пусть потянет чиновничью лямку с самых маленьких, как я тянул».
Впрочем, об этом мы можем лишь догадываться, а знаем твердо одно: Николай Федорович сходил куда-то, с кем надо поговорил, и 19 сентября 1843 года Островский, давши подписку, что ни к каким масонским ложам или тайным обществам не принадлежит, был зачислен в Московский совестной суд на должность канцелярского служителя, то есть попросту – писца[56].
В суде
Каждому москвичу-старожилу известно было скучное старинное здание Присутственных мест при выезде из Воскресенских ворот с Красной площади. На его задворках помещалась знаменитая Яма – московская долговая тюрьма. Одно это название, отдававшее сырым, могильным духом, способно было повергнуть в священный ужас несостоятельного должника. В высоком подвале слепые окошки с толстыми железными прутьями, в холодных камерах томились арестанты. Водевилист Ленский резвился на эту тему в куплетиках:
- Близко Печкина трактира,
- У присутственных ворот,
- Есть дешевая квартира,
- И туда свободный ход…
Совестной суд помещался совсем рядом с Ямой, и из его окон можно было видеть, как ведут по улице с полицейским солдатом очередную жертву замоскворецкого банкротства.
В это учреждение, за неимением на примете лучшего, и определил поначалу Николай Федорович своего непутевого сына. Карьеры в Совестном суде не делали, но трудно было рассчитывать на более видное и хлебное место для уволенного студента. К тому же Островский поступил в суд, не имея даже первого классного чина, – не чиновником, а «служителем». Что его ожидало? Макать перо в орешковые чернила и учиться разгонисто, чисто и тонко переписывать прошения, составлять протоколы и повестки. Год должен пройти, прежде чем его произведут в чин коллежского регистратора, а там видно будет, какое усердие проявит по службе.
Совестной суд уже в ту пору выглядел учреждением архаичным, доживавшим свой век. Учредила его, расчувствовавшись над «Духом законов» Монтескье и собственной перепиской с энциклопедистами, Екатерина II. По мысли законодателя, Совестной суд должен был основываться на «естественном праве», а судья – прислушиваться к голосу сердца.
Упование на доброе сердце судей в России, где совсем недавно Шешковский ломал руки в застенках, было не более чем сентиментальной утопией. Однако в российском законодательстве оставалось столько белых пятен, а в части писаных законов царил такой ералаш, что Екатерине II показалось проще обойти эту проблему, учредив для не слишком опасных преступлений патриархальный суд. Суд этот должен был действовать, как определит Градобоев у Островского, «по душе», а не «по закону».
Судьям Совестного суда просвещенная царица вменила в обязанность руководствоваться «человеколюбием, почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения». Легко вообразить, как просторно могли трактовать человеколюбие московские подьячие дореформенной поры!
В Совестной суд обращались с исками родители против детей и дети против родителей – суд пытался разрешить эти споры мировым соглашением «по совести». Здесь решались дела по разделу имущества, некоторые торговые тяжбы. Кроме того, суд ведал и уголовные дела по преступлениям, совершенным при особо неблагоприятном стечении обстоятельств, дела малолетних, глухонемых и т. п.[57].
Что за типы проходили тут каждый божий день перед столом канцелярского служителя! Что за диковинные всплывали истории! Суд основывался лишь на устных показаниях сторон, и тот, кто оказывался речистее, всегда имел шанс выиграть дело.
Похоже, что именно Совестным судом пугает в «Женитьбе Бальзаминова» сваха Красавина робкого дурачка Мишу.
«Красавина. Да ты все ли суды знаешь-то? Чай, только магистрат и знаешь? Нам с тобой будет суд особенный! Позовут на глаза – и сейчас решение.