Читать онлайн Вампиры и другие фантастические истории бесплатно
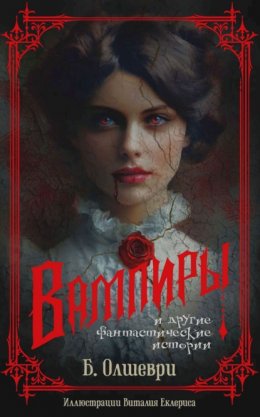
* * *
Рассказ «Жрица богини Гатор» публикуется впервые.
С целью переиздания произведения необходимо обращаться за разрешением к публикатору Д. Р. Кобозеву.
Рассказы «Наследство Варвары Сидоровны. Что было и что казалось», «Где правда? Из вопросов о вампиризме», «„Дело Ивана“, или Было ли это?», «Две или одна?» публикуются впервые; их рукописи принадлежат коллекции Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. С целью переиздания текстов необходимо обращаться за разрешением в архив ИРЛИ РАН.
Публикуемая фотография М. А. Молчановой работы М. А. Шапиро (ок. 1918) печатается с разрешения Краевого государственного автономного учреждения культуры «Красноярский краевой краеведческий музей»
© В. В. Еклерис, иллюстрации, 2024
© Публикатор Д. Р. Кобозев, 2024
© Д. Р. Кобозев, составление, статья, примечания, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Благодарим всех, кто оказал помощь в работе над книгой, и выражаем особую признательность А. В. Хомзе, А. М. Еремееву, И. О. Собенниковой, Г. Н. Родюковой, А. В. Бродневой, Е. В. Беднягиной, М. В. и Ю. В. Шилко
У всякого барона своя фантазия…
Необычайно смелая попытка проникнуть в область таинственного.
Аннотация на титульной странице русского издания «Дракулы» 1904 года
Роман «Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди» увидел свет в 1912 году в Московской типографии Владимира Михайловича Саблина (1872–1916) и был отпечатан в количестве 2000 экземпляров. Согласно «Книжной Летописи», издание поступило в Главное Управление по делам печати Российской империи в апреле того же года[1].
Это знаменитая литературная мистификация, классический русский роман о вампирах, стилизованный под западные источники – в первую очередь, роман Брэма Стокера (1847–1912) «Дракула» (1897). В книге представлена альтернативная история похождений самого известного вампира и обращенных им жертв. Однако, в отличие от персонажей Стокера, вампиры, созданные фантазией автора, скрывшегося под псевдонимом барон Олшеври, – герои страдающие, втянутые в кровавый круговорот кошмарных событий во многом против своей воли. Они вынуждены прибегать к убийствам лишь ради собственного существования: «Чтоб на свете жить, должна кровь людей пить», – гласит эпиграф ко второй части романа. Члены семейства Дракула-Карди предстают перед читателем не столько кровавыми чудовищами, сколько жертвами ужасного стечения обстоятельств. Еще в год первого появления «Вампиров» рецензенты отмечали, что произведение это «читается с интересом», что, «несмотря на немного наивный демонизм содержания (ужасные вампиры, привидения, мертвецы и т. п.), в фабуле много свежести и богатого вымысла, а иные „ужасы“ трактованы психологически верно»[2].
Между прочим, на титульном листе издания 1912 года было указано, что вторичен именно роман Стокера, переведенный с английского: он-де является продолжением «Вампиров» барона Олшеври. Конечно же, данное заявление (вероятно, нацеленное на привлечение покупателей) вызывает улыбку, однако оно приводится и в предлагаемой книге, являясь элементом литературной игры и неотъемлемой частью литературного памятника, коим, бесспорно, являются «Вампиры».
Справедливости ради следует заметить, что роман барона Олшеври отчасти выполняет функцию предыстории событий, развертывающихся в произведении Стокера. Т а к, на его страницах раскрываются об стоятельства появления в карпатском замке по крайней мере двух из трех кровожадных «невест» Дракулы (надо полагать, третья вампирша была обра щена Дракулой уже после событий, описанных в сочинении барона Олшеври), граф Карло и его духовник предрекают смерть старого «не мертвого» от руки «истребителя», который «уже рожден, и скоро его детская рука сделается рукою мужа», а также что гибель графа-вампира «зависит от мужественной женщины» (намек на персонажей Стокера – Джонатана и Мину Харкер). Но связь этих романов условна. При чтении «Вампиров» не раз ловишь себя на мысли, что «американскому дедушке» подошла бы совсем иная фамилия. Орлок, к примеру (как в шедевре немого кинематографа «Носферату: симфония ужаса» 1922 года). Да и время действия – XX век – никак не может предшествовать событиям «Дракулы» ирландского пи сателя.
Можно предположить, что барон Олшеври был знаком с романом Стокера по переводу княгини Елизаветы Федоровны Крапоткиной, напечатанному в 1902 году в типолитографии Виссариона Виссарионовича Комарова (1838–1907) под именем другого автора – англичанки Марии Корелли (1855–1924), хорошо известной русским читателям как автор мистико-приключенческих романов. На это указывает и встречающаяся в переводе Крапоткиной русификация имен некоторых персонажей (Андрей Гаркер, Петр Гаукинс), которую намеренно или невольно перенял в своем произведении барон Олшеври. Роман «Вампир – граф Дракула» был выпущен отдельной книгой (в количестве 200 экземпляров)[3] и вместе с произведениями других авторов в составе 9-го тома ежемесячного сборника романов и повестей «Свет». В 1904 году русским читателям представилась возможность познакомить ся еще с одним вариантом перевода «Дракулы». Он вышел из печати в типолитографии «Энергия» и носил витиеватое название «Вампир. Изумительный роман Брэм-Стукера». Примечательно, что этот перевод был анонимным, в нем были опущены несколько абзацев из начала оригинального романа, а фамилия кровожадного графа и вовсе не упоминалась. По-видимому, сделано это было во избежание конфликта со здравствовавшим на тот момент заграничным автором-правообладателем. Следующая публикация «Дракулы» (в переводе Нины Сандровой) появилась только в 1912–1913 годах.
Уже сам псевдоним сочинителя «Вампиров», который с учетом принятой в те времена формы сокращения титула (Б. Олшеври) можно прочитать как «больше ври», и эпиграф романа «Не любо – не слушай, а врать не мешай» указывают на принадлежность этой щекочущей нервы книги не столько к оккультной, сколько к развлекательной литературе. А скрупулезность в описании деталей, психологическая проработка нюансов, наблюдательность и понимание не только характеров персонажей, но и их амбиций наводят на мысль, что «барон» должен был носить дамское платье. Что впоследствии и подтвердилось.
…
Роман, не соответствовавший установкам социалистического реализма, в советское время не переиздавался и пережил свое «второе рождение» в начале 1990-х годов, возымев невероятный успех у читателей. Однако личность автора, заявленного как «барон Олшеври», оставалась загадкой, издатели указывали лишь, что роман переведен с английского (!) и публикуется по книге, увидевшей свет в типографии В. М. Саблина в 1912 году.
Возможно, барон так и остался бы анонимным англичанином, если бы в 1993 году в редакцию газеты «Книжное обозрение» не пришло письмо из библиотеки Уральского политехнического института города Екатеринбурга. Основываясь на воспоминаниях давней читательницы библиотеки, профессора Натальи Павловны Беднягиной (1913–2016), авторы письма сообщали, что роман был знаком Беднягиной еще в 1920-е годы благодаря ее учительнице Маргарите Альбертовне Хомзе, утверждавшей, будто книгу написала ее мать – Молчанова-Хомзе. Из этого же послания следовало, что актриса МХАТа Елена (Нелли) Давидовна Стругач-Строева (1909–1989), имевшая успех на сцене в 1940-1950-х годах, приходилась внучкой упомянутой Молчановой-Хомзе, а другой потомок предполагаемого автора – Вальтер Альбертович Хомзе – умер в начале 1970-х годов.
Письмо было напечатано в «Книжном обозрении» 30 апреля 1993 года в виде заметки под названием «„Вампиров“ написал „Больше ври“» (рубрика «Расследует читатель»)[4], и эта публикация явилась первым шагом на пути выяснения личности истинного автора романа.
Профессор Беднягина, обладавшая несомненным литературным даром, впоследствии изложила на бумаге наиболее значимые эпизоды своего долгого жизненного пути. Среди ее мемуарных заметок, опубликованных в микротиражном (30 экземпляров) издании «Мгновения жизни», адресованном близкому окружению, особое место занимают воспоминания о дружбе с Маргаритой Альбертовной Хомзе-Беклешовой.
«Я была очарована и влюблена в Маргариту Альбертовну, – признается мемуаристка. – Эта замечательная женщина имела огромное влияние на меня и так много для меня сделала. Счастливые годы НЭПа[5], с 1923-го по 1929-й, наши семьи жили рядом в Каслях и дружили. Беклешов Евгений Константинович, муж Маргариты Альбертовны, был главным инженером Каслинского чугунолитейного завода, а мой отчим Беднягин Павел Андреевич был там в то время еще молодым инженером.
Маргарита Альбертовна – любимая добровольная учительница и мой лучший друг, рассказчик, которого заслушаешься, – была высокообразованным человеком: училась в Смольном, окончила Сорбонну (бакалавр изящных искусств), владела несколькими языками. Она любила меня и много занималась со мной. Учила я с ней английский и немецкий. Уже неплохо говорила по-английски, а в немецком пленилась стихами – баллады и книга песен Гейне[6]. Я учила их наизусть и рассказывала ей (как все это пригодилось мне в дальнейшем!). А сколько книг я перечитала из ее обширной библиотеки!
С Беклешовыми встречались семейно за столом с домашней стряпней по два-три раза в неделю. К ним приезжали иногда из Москвы веселые компании молодежи: племянница Нелли – юная красавица, подающая надежды артистка МХАТа, и сын Вальтер, тогда студент и поэт. Устраивались интересные вечера и красочные костюмированные праздники с играми.
В Каслях, в счастливые годы своего отрочества, я прочитала у Маргариты Альбертовны роман, созданный ее матерью еще в начале века. Ее мать болела и проводила время в инвалидном кресле. И вот она увлеклась сочинительством. Богатая женщина, она напечатала один роман где-то в Москве или в Германии в 1912 году. Назывался он „Вампиры“. Был написан ею в первом десятилетии XX века и, очевидно, навеян вышедшим незадолго до этого „Графом Дракулой“ Стокера.
Надо сказать, роман произвел на меня – мечтательную девочку – огромное впечатление. Будучи фантазеркой, верившей в мистику, я долго потом боялась всякой сверхъестественной чепухи. В романе описана страшная и очень романтичная история: замок в Карпатах, графы, обворожительные дамы, вампиры и призраки. Как сейчас помню прекрасно изданную книгу в матерчатом переплете. Потом эта книга была у Вальтера»[7].
Окончательная же точка в спорах об авторстве «семейной хроники графов Дракула-Карди» (а в числе предполагаемых авторов называли Нину Сандрову, Сергея Соломина, Владислава Реймонта) была поставлена Андреем Михайловичем Еремеевым, внуком Елены Давидовны Стругач-Строевой. Он подтвердил, что его прабабушка Алевтина (Лина) Альбертовна Стругач (1886–1966) в девичестве носила фамилию Хомзе, а в семье заботливо хранят экземпляр «Вампиров» 1912 года издания.
По счастливой случайности Алевтина Альбертовна Хомзе-Стругач (далее по тексту Алевтина Альбертовна Стругач) оставила прекрасные машинописные мемуары, которые до сих пор не опубликованы. На страницах этого ценного документа она подробно рассказывает и о своей матери, Екатерине Николаевне Молчановой-Хомзе, и о том, что та взяла себе псевдоним барон Олшеври (Б. Олшеври).
Более того, автору настоящей статьи удалось связаться с внуком Вальтера Альбертовича Хомзе (1907–1973) – Алексеем Владимировичем Хомзе. Оказалось, что в его семейном архиве, наряду с экземпляром романа «Вампиры» 1912 года (тем самым, что в 1920-х годах держала в своих руках Наталья Павловна Беднягина), сохранились рукописи других литературных произведений Екатерины Николаевны Молчановой-Хомзе, лучшее из которых – «Жрица богини Гатор» – впервые появляется в печати в предлагаемом сборнике.
С любезного разрешения Андрея Михайловича Еремеева последующее повествование будет сопровождаться впервые публикуемыми выдержками из так называемых «Воспоминаний о прошлой жизни» Алевтины Альбертовны Стругач (произведение автором не озаглавлено)[8].
При подготовке этой статьи автору пригодились и уникальные сведения, почерпнутые из автобиографических очерков старшей сестры Алевтины Альбертовны Стругач – Маргариты Альбертовны Беклешовой (1882–1960). Работа с ними (как и с рукописями ее матери) стала возможной только благодаря стараниям Алексея Владимировича Хомзе, без неоценимой помощи которого читатели не смогли бы увидеть и большую часть фотографий, напечатанных на страницах сборника.
…
Екатерина Николаевна Хомзе (в девичестве Молчанова) родилась 7/19 октября 1861 года[9] в семье кяхтинского купца-первогильдейца Николая Лукича Молчанова (1829–1904), заработавшего миллионы на чаеторговле с Китаем. Этому способствовало то, что в XIX веке торговая слобода Кяхта, расположенная на российско-монгольской границе, являлась важнейшим пунктом русско-китайской торговли. Редактор газеты «Восточное обозрение», зять купца Алексея Михайловича Лушникова (1831–1901) Иван Иванович Попов (1862–1942), хорошо знавший Кяхту и ее обитателей, писал, что «в слободе были дома только миллионеров или тех, кто служил им». Он особо подчеркивал соседство и переплетение в Кяхте различных культур и эпох: «А рядом великолепный собор, комфортабельно обставленные апартаменты, картины, гобелены, прекрасные библиотеки, платье от Ворта[10] из Парижа, из окон льется пение, рояль, скрипка – Моцарт, Бетховен, Чайковский. Культура европейца, быт кочевника-номада, тысячелетняя застывшая цивилизация Серединного царства, шаманизм, даосизм, ламаизм, магометанство, христианство, иудейство. Все религии мира слились здесь. (…) Женская гимназия и каменная баба перед ней, с таинственными надписями, шампанское высокой марки и кислое кобылье молоко, трюфеля и деликатесы и вяленое мясо из-под потника седла, где оно согревалось на спине мохнатой лошадки…»[11].
Алевтина Альбертовна Стругач сообщает о предках своей матери следующее:
«Предки Молчановых, как говорят, были какие-то бежавшие или выехавшие в Сибирь во времена Грозного бояре[12]. Женились они и на монголках, и на бурятках – оттого и мы широкоскулые, с далеко расставленными глазами.
Дед, Николай Лукич, был умным, энергичным и властным человеком. До самой смерти вел регулярные метеорологические записи, интересовался общественной и политической жизнью и особенно „случайно“ попадавшей в Кяхту нелегальной литературой. После его смерти остались очень интересные, как говорят, записки о старой Кяхте, но, к сожалению, они пропали во время революции 1917 г. (…) Больше всего меня интересовала история так называемого „Молчановского толка“ – секты, в которой дед мой в молодости был Иисусом Христом, а его сестра, красавица Ларисса, – Божьей матерью[13]. Царское правительство жестоко преследовало эту, как и все другие, секту, пересекло всех ее участников, часть засекло до смерти и разорило всех дотла. Начав все сначала – с ничего, – дед к старости был миллионером и лишь к концу своей жизни потерял значительную часть имущества, вероятно, в связи с тем, что значительная часть торговли с Китаем пошла мимо Кяхты. (…) Собственная честность не позволяла ему верить в возможность чужой нечестности. Не раз ему указывали на то, что управляющий его золотым прииском его обманывает, показывая нерентабельность работ и скупая золото. Дед говорил: „Подозревать другого может только тот, кто сам способен на обман“. Кончилось дело тем, что, поверив в истощенность прииска, он за бесценок отдал его тому же управляющему и – глядь! – прииск, унесший значительную часть миллионов дедушки, стал давать большую прибыль».
Муж будущей писательницы Альберт Александрович Хомзе (1852–1912) – потомок остзейского баронского рода, верхоленский мещанин, чьи родители первоначально прибыли из Белостока в Вятку. Вот что писала Маргарита Альбертовна Беклешова о предках своего отца:
«Когда я была в институте[14], у нас был эконом фон Гернет, который интересовался геральдикой. И он, заинтересованный нашей фамилией Хомзе, которая пишется по-немецки Chomse, т. е. против всех правил языка, разыскал, что она образовалась из фамилии Hochomse, а эта – из von der Hohen See и что эта фамилия теряется в Средних веках, где наши дальние предки были свободными имперскими разбойничьими графами. Как все такие фамилии, она мельчала и падала, пока наконец в конце XVIII века Михаил Chomse von Orley опять получил дворянство – т. е. сделался von Chomse. Старший его сын Александр, видимо, вступил в неравный брак и, видимо, с еврейкой или девицей еврейского происхождения Анной Иогансен и был изгнан своим отцом и лишен майората[15] Orley. Переселился он в Россию, где его дворянства при переходе в русское подданство не признали. Это был мой дед».
O жизни Альберта Александровича Хомзе до знакомства с Екатериной Николаевной Молчановой известно очень немногое. В 1863–1866 годах он учился в Петербурге в немецком Петропавловском училище, а потом, по свидетельству Маргариты Альбертовны Беклешовой, рано лишившись родителей и будучи обкраден опекуном, с восемнадцати лет начал скитальческую жизнь по Сибири, работал приказчиком на приисках. «Видимо, это время было либо тяжелое, либо темное, так как о нем никогда у нас в семье не упоминалось», – сообщает в своем автобиографическом очерке Маргарита Альбертовна Беклешова[16].
Наконец Альберт Александрович Хомзе каким-то образом завоевал симпатию богатых троицкосавских купцов Коковина и Басова и с приисков перешел к ним на службу в Троицкосавск – небольшой городок, соседствовавший со слободой Кяхта. Здесь он и познакомился с Катей Молчановой – «лучшей кяхтинской невестой». Маргарита Альбертовна Беклешова, излагая на бумаге свои впечатления о Кяхте, вспоминала о трех старых соснах, возвышавшихся на голой каменистой горе в окрестностях слободы: «Я раз забралась туда и видела в коре одной из сосен вырезанные инициалы А. X. (Альберт Хомзе) и Е. М. (Екатерина Молчанова) – память молодости моих отца и матери».
Алевтина Альбертовна Стругач пишет:
«Как она говорила впоследствии нам, своим дочерям, больше всего к отцу ее привлекло то, что он был много образованнее и начитаннее окружающих, бывал в России (так в Сибири называли то, что лежит за Уралом) и даже говорил по-немецки. Они поженились[17] почти против воли и, во всяком случае, при молчаливом неодобрении стариков Молчановых. (…) Глубоко не одобрявший выбора своей старшей любимой дочери дед, уважая чужую свободу, препятствовать ей не стал, не проклинал ее, как это делали другие отцы, и приданого не лишил. Напротив, он построил для молодых хороший дом со службами, меблировал его, купил посуду, белье, нанял прислугу, но… предусмотрительно приданого на руки не выдал, а лишь обеспечил ежегодный доход с него, сказав: „Таких процентов с капитала, как я, никто платить вам не будет“. Мой отец был страшно оскорблен, а быть может, и просто обманут в своих ожиданиях и расчетах. Мать, влюбленная в него и сильно романтически настроенная, негодовала на отца. Лишь много-много лет спустя она поняла мудрость своего отца, поняла, что этим поступком он спас и ее, и детей, и самого мужа от нищеты. Отец, несомненно, все бы спустил очень быстро, так как любил „баронствовать“ и фанфаронить».
И далее Алевтина Альбертовна Стругач сообщает:
«Всего детей у моих родителей было семь. Старший сын. Николай, умер еще ребенком. Потом дочери Маргарита и Ларисса, сын Борис, я, дочь Конкордия, умершая тоже ребенком, и дочь Екатерина, „поскребыш“, родившаяся через десять лет после меня.
Уже с первых лет брака между отцом и мамой начались нелады. Отец предпочитал общество, дам и клуб и совершенно забрасывал мать. Были попытки примирения; в ознаменование одной из них умершая сестра и была названа Конкордией (согласие), – но увы! – прожила всего несколько месяцев. Так же недолго держалось и согласие между моими родителями. Отец – эгоцентрик, влюбленный в себя, деспот в домашней обстановке и очаровательный с чужими, особенно женщинами. Мать – влюбленная в него и страшно страдавшая от всех его выходок. Все это создавало дома очень тяжелую обстановку.
В Кяхте моему отцу показалось тесно, и вся семья выехала в Россию весной 1888 или 1889 г.[18] Мне было в это время около двух лет. Поездку я знаю только по рассказам мамы. До Нижнего[19] (теперь Горький) ехали на лошадях и пароходах. (…) Много натерпелась мама с четырьмя сорванцами, особенно когда отец бросил ее среди дороги и уехал один вперед, якобы устраивать квартиру, которую, однако, не устроил, так как мы долго жили в Петербурге в гостинице „Дагмар“. На пароходе мама просто привязывала нас на четыре веревочки, другой конец которых укрепляла у себя на кисти руки. Сидит на палубе и читает, а мы бегаем, можем подойти к борту и заглянуть вниз, но чуть побольше наклонишься, веревка натянется и мама поднимает голову. Часто веревки так запутывались, что начиналась драка. С горем и со смехом добрались до Петербурга.
Из гостиницы переехали в прекрасную квартиру на Невском, 5, около Александровского сада. В том же доме помещался чайный магазин отца „Цзинь-Лун“ („Золотой дракон“). Весь фасад был художественно отделан резным под черным лаком деревом в китайском стиле. На окнах красовалась надпись золотыми буквами: „Высочайше утвержденное товарищество „Цзинь-Лун““. Это „высочайшее утверждение“ стоило отцу немало денег. Впоследствии его все же отняли, ссылаясь на профанацию высочайшего имени. Вероятно, кто-то что-то „недополучил“.
Нас, детей, отец обратил в живую рекламу. Наряженные в расшитые шелковые китайские курмы[20], мы должны были со своими двумя няньками гулять в таком виде по Невскому. Маргарита до сих пор с дрожью вспоминает эти гулянья, когда за нами ходили толпы народа, указывавшие на нас пальцами и щупавшие наши необычные одеяния.
Внутри магазин был роскошно отделан настоящим черным деревом с бронзой. Но ни небывалая до сих пор роскошь отделки, ни живая реклама не помогли. Из года в год дела отца шли все хуже и хуже – до полного разорения[21]. Не клеилось отчасти потому, что к дорогим чаям петербуржцы не привыкли и вовсе не ценили, что они доставлены караваном на верблюдах, а не морем, где чай теряет свой аромат; оптовые покупатели – учреждения – всегда покупали дешевку, а на одной рознице, да и то ограниченной, с чаем далеко не уедешь.
Отчасти вина лежала и на самом отце. Он оказался больше барон, чем коммерсант. Чуждался своего брата, купца, предпочитая более аристократические связи. Дни и вечера проводил не в магазине или конторе, а в гостях, театрах, клубе, ресторанах, где имел „свой“ столик и „свою“ марку вина. Много тратил на женщин, предпочитая шикарных кокоток».
Не обделял он вниманием и молоденьких гувернанток своих детей. «Гувернантки у нас менялись калейдоскопически», – вспоминала Алевтина Альбертовна Стругач.
Падкий до женского пола глава семейства, принимавший весьма деятельное участие в общественной жизни, выступил и в роли благотворителя (субсидировал строительство храма Святой Мученицы Татияны на 6-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, был почетным попечителем Ларинской гимназии, с 1884 по 1900 год помогал Русскому обществу охранения народного здоровья, существовавшему под покровительством великого князя Павла Александровича), а также состоял действительным членом Императорского Русского географического общества и Общества востоковедения в Санкт-Петербурге (казначеем которого он являлся с момента основания до 1906 года). Вероятно, увлечение Востоком, сподвигшее коммерсанта профинансировать ряд экспедиций, нашло отражение и в романе про вампиров, позже созданном его женой.
Дети между тем учились сначала в Петропавловском училище (Петришуле), а потом две старшие дочери (Маргарита и Ларисса) поступили в Санкт-Петербургский Александровский институт.
Алевтина Альбертовна Стругач, позже (в 1904 году) с отличием окончившая это же учебное заведение и получившая «шифр»[22] из рук императрицы Марии Федоровны, вспоминала:
«На лето мои сестры приезжали из института домой. Уже когда их собирали туда, я завидовала им. (…) В институт я хотела не только из зависти к сестрам, но и из-за тяжелой домашней атмосферы, от вечных неладов между отцом и мамой.
Отец не желал себе ни в чем отказывать. Пропадал из дому целыми днями и ночами, но, будучи умным человеком, знал, что от скуки женщина тоже может „закрутить“, всегда придумывал маме какое-нибудь занятие, предварительно разрекламировав его. Мама то целыми месяцами сидела, раскрашивая фарфоровые чашки, блюдца и блюда, то вся квартира наполнялась запахом химикалий – это мама занимается фотографией или гальванопластикой. Но отец не оставлял в покое и хорошеньких горничных и гувернанток. Когда это открывалось, очередное увлечение мамы красками, монетами, марками летело к черту и над домом нависала туча. Все это дети, конечно, чувствовали, если и не все понимали. Только отец напрасно боялся, что мама „закрутит“. До тех пор, пока сама жизнь не научила маму смотреть на многое другими глазами, она была страшно, до жестокости, строга к себе и другим. Насколько я знаю, было у нее в жизни одно увлечение, и все, что она позволила себе, – это послать „ему“ чистый листок бумаги, надписав конверт собственной рукой. И это она считала чуть ли не преступлением перед мужем! Неумолима она была только к женщинам – они всегда были виноваты, и им ничего не прощалось».
Кончилось тем, что в 1907 году, после почти тридцатилетнего брака, Альберт Хомзе бросил жену, ликвидировал чайную фирму и уехал заграницу с опереточной или фарсовой актрисой Зике. Жене предприимчивый ловелас солгал, что так нужно для установления новых деловых отношений.
Екатерина Николаевна очень тяжело переживала разрыв с мужем. Обманутая женщина слепо верила каждому слову «дорогого Альберта» и не теряла надежды на его скорое возвращение. Она с негодованием отвергала любые открыто высказанные родственниками подозрения и всячески заступалась за своего супруга. Алевтина Альбертовна Стругач описывает состояние матери так:
«Маму мы застали в большом мягком зеленом кресле. Ее уже начинал сильно мучить унесший ее затем в могилу обезображивающий артрит. Она двигалась уже с трудом. На столике перед ней стоял портрет папы. Со слезами на глазах она считала – вот столько-то недель и дней, как Альберт уехал, бросив ее. Эти исчисления она повторяла довольно часто, пока мы, дети, не взялись за дело энергичнее и, причинив ей сразу сильное страдание, не избавили ее от смешных сожалений и слез о покинувшем ее муже, который не стоил и одной ее слезинки».
Дочери, заручившись авторитетом старого друга семьи, рассказали матери горькую правду об отце, «развенчав ее идеал», и постепенно она перестала из-водить себя, «в ней все переболело».
Альберт Александрович Хомзе умер 3 января 1912 года в Южном Тироле (Меран), где и был погребен. О его внезапной кончине россияне узнали из некрологов популярной петербургской газеты «Новое Время» от 6/19 и 14/27 января 1912 года, причем во втором номере газета уведомляла о панихиде в Казанском соборе 15 января в час дня.
Разносторонне одаренная, необычайно образованная[23] и начитанная купеческая жена, располагавшая большим количеством свободного времени и средств, умела себя развлечь. Она неоднократно бывала в Европе (по крайней мере, до 1907 года, когда обезображивающий артрит буквально приковал ее к инвалидному креслу), ее петербургский салон посещали люди искусства, в числе которых был и молодой Федор Иванович Шаляпин (1873–1938). Екатерина Николаевна запросто могла устроить домашний праздник. Однажды посреди года «институтку» Лину Хомзе пришлось даже специально освободить от учебы на два дня – для участия в организованном ее матерью балумаскараде, яркими красками запечатленном на страницах «Воспоминаний» Алевтины Альбертовны Стругач:
«Меня уже ждал дома белый костюм Пьеретты[24] с остроконечной шапкой, красными помпонами и красными чулками. Маргарита была средневековой германкой, Мильда [Ларисса Хомзе, примеч. Д. К] – очень красивой русской боярышней. Были и маркизы, и неизбежная „Ночь“, и капуцин[25], и валкирия[26], и еще много всего. Но больше всего мне понравился и до сих пор запомнился костюм „Письмо“. Припрыгивая, вбегает в залу громадный конверт. Видны только ножки. На конверте есть и адрес, и, склеенная из маленьких, громадная марка, и штемпели. Вдруг марка откидывается, и из отверстия сыплются письма всем участникам вечера… Вот было смеха!»
Среди увлечений, помогавших Екатерине Николаевне скрасить досуг, следует упомянуть об игре в шахматы. Успешное участие в первом и втором шахматных турнирах по переписке, проводившихся петербургским «Шахматным журналом» в 1892–1894 годах[27], наглядно свидетельствует о незаурядном уме этой женщины. Дочерям она также помогала раскрыть свои таланты.
Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала: «Мама очень поощряла наше желание рисовать и, чтобы поддержать его в нас и не отбивать охоты уборкой, мытьем кистей и т. п., взяла на себя всю эту грязную работу. Целыми днями читала нам вслух, лишь бы мы рисовали».
Готовила она дочерей и к замужеству, «желая, чтобы они обладали различными салонными достоинствами – умели поиграть на рояле, попеть, потанцевать и вести легкую беседу». С подачи Екатерины Николаевны дочери продолжили свое образование в лондонском Ройял Холлоуэй Колледже, в Сорбонне и Лейпциге. Правда, по словам Алевтины Альбертовны Стругач, «мамино представление о деятельности женщины (…) исчерпывалось педагогикой – учительница, гувернантка, классная дама – то есть заработком в 40–60 рублей. А за одно платье дочери платили дороже. Обе старшие сестры вырваться из-под этого влияния мамы так и не могли и обе занимались нелюбимым делом».
«Дамским рукоделием», un passe temps[28], развлечением для себя и близких считала Екатерина Николаевна и свою литературную деятельность, по-видимому сделавшуюся предметом ее постоянных занятий в начале 1910-х годов.
Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала:
«Мама с семьей переехали в Москву – там для мамы лучше климат[29]. Мама уже не может двигаться и сидит целыми днями в кресле на колесах[30]. Голова у нее ясная. Она пишет детские сказки с естественно-научным уклоном. Такие, какие вошли в моду после революции 1917 г. Сказки выходят интересные. Но мной мама недовольна. Когда она их начинала, она за всякими сведениями обращалась ко мне. Я живо помнила всякие ботанические, зоологические и прочие премудрости и могла дать ей ответ на любой вопрос. Но потом мама сама перечитала много источников, приобрела много солидных сведений, а я за это время успела много позабыть. Вопросы мамы к тому же усложнялись и углублялись, и мне все чаще и чаще приходилось отвечать: „Не знаю“. „Учишься, учишься и ничего не знаешь“, – ворчала мама, так недавно говорившая: „Ну и дочь у меня, что ни спросишь, все-то она знает!“. Помимо сказок, мама пишет книгу, предназначенную быть началом „Графа Дракулы“. Псевдоним мамы – Барон Ольшеври – Б. Ольшеври („Больше ври“). Один экземпляр этой книжки сохранился у Кэт [Екатерины Альбертовны Хомзе, примеч. Д. К]. Курьезно. Сидя в 1919 г. в тюрьме[31], мы познакомились с одной заключенной и разговорились о книгах. Она рассказала, что у ее мужа есть любимая книга, переплетенная им в черный бархат и хранимая пуще зеницы ока. Книга эта – „Вампиры“. Вот была бы рада мама, если бы она была жива и это услыхала. Мои же экземпляры, а их было несколько, как-то необъяснимо пропали все до одного. Были – и не стало. Книги имеют свою судьбу».
Родственники и знакомые Екатерины Николаевны с интересом восприняли ее сочинение. В письме Ору Васильевичу Собенникову (1898–1968), троюродному брату Алевтины Альбертовны Стругач, которое было отправлено из Берлина в Москву 13 апреля 1914 года его сестрой Александрой Васильевной Собенниковой-Шлехтер (1887 г. р.), есть следующие строки: «Дорогой Орик! Спасибо за книгу „Вампиры“, давно получила и прочла. Когда увидишь Ек(атерину) Ник(олаевну), поблагодари ее за меня»[32].
Алевтина Альбертовна Стругач сообщает любопытные сведения о впечатлении, которое роман Брэма Стокера «Дракула» произвел на нее и близких ей людей. Так, причиной ухудшения самочувствия Эмилии Яковлевны, няньки малолетней дочери Алевтины Альбертовны, стало следующее:
«Оказалось, что ни одной ночи она не спала спокойно. Виновата была оставленная ей мною книжка „Граф Дракула“. Глупая книжонка о вампирах, но очень интересная и жуткая. Недаром такой трезвый человек, как Вадим Собенников[33], прочтя ее, говорил: „Черт знает что такое! Читаешь и злишься – как все глупо, а потом в коридор выйти страшно“. Эмилия Яковлевна прочла „Дракулу“, а затем целыми ночами до самого рассвета стояла полураздетая у темного, выходившего в открытое поле окна, судорожно сжимая в руке пустую бутылку. Какое прекрасное оружие против вампира! Я очень люблю такие глупые „нервотрепательные“ книжки и очень дорожила с трудом добытым „Дракулой“. С большим колебанием я дала его после переворота 1917 г. одному из своих знакомых – Надеждину. Он обещал ее вернуть „в конце недели“, а в начале ее был вместе с женой убит какими-то хулиганами выстрелом в рот на улице».
Теперь вернемся к «фантастическому» творению Б. Олшеври.
Совершенно очевидно, что загадочные инициалы Е. А. X. в посвящении к роману указывают на имя самой младшей из дочерей автора, Екатерины (Кэт) Альбертовны Хомзе (1897–1955), учившейся в 1912–1913 годах в VII классе московской частной женской гимназии Любови Федоровны Ржевской, а впоследствии выбравшей профессию художника-иллюстратора. Сестра же ее, Маргарита Альбертовна Хомзе-Молчанова (во втором браке Беклешова), жившая во время написания романа под одним кровом с матерью и Кэт, возможно, послужила прообразом прекрасной черноглазой итальянки Риты, волею судьбы оказавшейся в зловещем замке Дракулы.
В правом верхнем углу титульной страницы экземпляра «Вампиров» 1912 года, принадлежащего Андрею Михайловичу Еремееву, частично сохранилась надпись чернилами:
‹Больше›
ври. Ма‹ма›
А на странице с посвящением Е. А. X. можно различить полустертую дату: «19 марта 1912 г.». Вероятно, в этот день Екатерина Николаевна вручила книгу той, кому ее посвятила, ибо реликвия эта прежде хранилась у Кэт Хомзе, перейдя после ее смерти к сестре Лине.
По-видимому, первоначально «страшная сказка про вампиров» складывалась из отдельных историй: автор бесконечно переносит читателя из одного временного измерения в другое, повествование ведется от лица нескольких персонажей, оставлены заголовки ряда сцен («Охотничий дом», «Осмотр замка» и так далее). Результат литературных занятий настолько впечатлил Екатерину Николаевну и ее окружение, что имеющиеся материалы объединили и переработали в произведение для печати – правда, не объяснив при этом, в чем состояла таинственная сила рокового ожерелья с застежкой в виде головы змеи, каково значение загадочных татуировок лотоса у капитана Райта и Джемса и что за экзотические женщины неоднократно спасали Гарри от клыков карпатских вампиров (уж не ацтекские ли они кровопийцы?). Однако некоторая недосказанность (к чести автора, будоражащая фантазию читателя) меркнет перед общей широтой и грандиозностью образов, поэтичностью повествования, драматизмом нагнетаемых событий, атмосферой нарастающего отчаяния, ужаса, безысходности и интригующей развязкой. Финал романа оставлен открытым – вряд ли на другом континенте жизнь неразлучных друзей обойдется без приключений, ведь Гарри (якобы потомок Монтесумы, а значит, наследственный жрец древних богов, коим подчинены вампиры) нашел ожерелье и везет его обратно в Америку, как того и хотели призрачные девы с медно-красными обнаженными телами, взывавшие: «Найди талисман, верни нам жизнь, будь нашим повелителем».
Уже в первой половине XIX века начали появляться литературные произведения, в которых нашли свое отражение страхи и опасения, связанные с египетскими мумиями и смертоносными древними силами, таящимися в полузасыпанных песком ритуальных сооружениях страны пирамид. Впоследствии исследователи причислили подобные сочинения к жанру «египетская готика», пережившему настоящий расцвет в конце позапрошлого столетия. Свой посильный вклад в становление «египетской готики» внесли такие знаменитые писатели, как Теофиль Готье (1811–1872), Эдгар По (1809–1849), Луиза Олкотт (1832–1888), Генри Райдер Хаггард (1856–1925) и Артур Конан Дойл (1859–1930).
В ноябре 1903 года в Лондоне был опубликован роман Брэма Стокера «Сокровище Семи Звезд», повествующий о тайных магических ритуалах Древнего Египта и секретах бальзамирования, о расхищении гробниц и странствиях души после смерти. В этом произведении соединились элементы фантастического, «готического» и оккультного. Подобно ирландскому писателю-неомифологу и мистику, чей кровожадный граф вдохновил Екатерину Николаевну Хомзе на создание «Вампиров», пробовала она свои силы и в жанре «египетская готика», результатом чего явился рассказ о проклятии египетской жрицы.
Беловой автограф фрагмента этого произведения (вернее, второй его половины), самим автором никак не озаглавленного, но подписанного «Б. Олшеври», находится на страницах рабочей тетради писательницы, хранящейся в семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе. Рассказу мы дали условное название «Жрица богини Гатор».
Автограф этот наглядно подтверждает слова Антона Павловича Чехова (1860–1904), сказанные однажды начинающему беллетристу: «Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, „вводить в рассказ“ и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа; вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен. И вообще, не надо ничего лишнего! Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть»[34].
Действительно, предысторию событий, описанных в сохранившейся второй части рассказа Б. Олшеври, понять несложно: молодой служащий Павел Иванович Меншуткин, неплохой рисовальщик, человек с лицом, на котором невзгоды оставили неизгладимый отпечаток, встречает в Петербурге (предположительно, в Летнем саду) близкого друга – доктора Кази – и излагает ему историю своих злоключений. Совсем недавно Меншуткин женился на очаровательной девушке по имени Вера. Египтолог «дядя Фра», по-видимому состоявший в родстве с кем-то из новобрачных (скорее всего, с Верой), подарил невесте на свадьбу египетскую золотую корону урей – несомненно, древний артефакт. После чего, надо полагать, стали происходить загадочные события, а настроение Веры резко переменилось: она сделалась задумчивой и меланхоличной, стала тосковать по Египту. Вероятно, Павел Иванович, обеспокоенный состоянием жены, обратился к доктору Кази, который посоветовал «ни о чем не спрашивать» Веру и посетить страну пирамид. Во время отпуска Меншуткина супруги отправились в Египет, где присоединились к экспедиции «дяди Фра», безуспешно пытавшегося определить местонахождение старинного египетского храма, посвященного богине Гатор (Хатхор). Внимательная и догадливая Вера помогла старому ученому отыскать это сооружение, верно истолковав текст имевшегося в их распоряжении древнего папируса.
К сожалению, никаких документально подтвержденных сведений об истории создания этого вполне самодостаточного фрагмента не сохранилось. Однако характер оформления рукописи и карандашные пометы на последней ее странице дают основания полагать, что Екатерина Николаевна Хомзе писала произведение для участия в литературном конкурсе, объявленном журналом «Мир Приключений» в ноябре 1911 года[35]. Задача конкурсантов состояла в том, чтобы сочинить рассказ к четырем предложенным иллюстрациям. Редакция не закрепляла порядка расположения рисунков в тексте и разрешала участникам конкурса переставлять их по своему усмотрению. Объем произведения не должен был превышать 25 000 букв. В этой же книжке журнала давался совет, как учесть число букв в рукописи, листы которой следовало четко и аккуратно заполнять только с одной стороны. Срок приема рукописей истекал 1 марта 1912 года[36].
Не лишенная азарта Екатерина Николаевна, ранее участвовавшая в шахматных турнирах по переписке, не преминула воспользоваться возможностью помериться своими литературными способностями с другими малоизвестными сочинителями. Рассказ был написан, все условия конкурса соблюдены… кроме одного. Когда на последней странице беловой рукописи автор принялась при помощи карандаша высчитывать количество букв, выяснилось, что произведение превысило объявленную редакцией норму более чем в два раза: вместо 25 000 букв их количество составило 58 960.
Вероятно, четыре предложенные журналом иллюстрации соответствовали тексту первых четырех (из девяти) глав рассказа, и Екатерине Николаевне пришлось переработать первую половину своего сочинения, занимавшую отдельную тетрадь, в новое произведение с более или менее убедительной развязкой. Его она и отправила на конкурс.
Согласно заявлению редакции, из 156 рассказов, подлежавших рассмотрению конкурсной комиссией, ни один «не мог быть признан безусловно заслуживающим первой премии», поэтому решено было назначить две вторые премии (по 75 рублей каждая) авторам двух лучших рассказов. Премировали Ф. Зарина из Санкт-Петербурга и Е. Лохтина из Киева, а Б. Олшеври не был упомянут даже в числе авторов рассказов, отмеченных как «выдающиеся по своим литературным достоинствам или по оригинальности сюжета»[37].
По всей видимости, результаты конкурса расстроили Екатерину Николаевну она посчитала свое сочинение неудачным, утратила к нему интерес и не стала обращаться в редакцию для возвращения рукописи, которая после 1 августа 1912 года была уничтожена в числе прочих невытребованных рукописей. Вторую же часть рассказа писательница оставила в своем литературном архиве. Так и появилась тетрадь с «безымянным» рассказом, начинающимся не с первой, а с тридцать пятой страницы. Однако тема мумий и древнеегипетского культа мертвых продолжала занимать Екатерину Николаевну, и она вновь обратилась к ней в своих естественно-научных сказках «Пчелы» (1914) и «История золотого зернышка» (издана посмертно в 1924 году).
А рассказ «Жрица богини Гатор», ни в чем не уступающий знаменитому фантастическому роману Б. Олшеври «Вампиры», впервые появляется в печати, и читатели могут по достоинству оценить его.
…
Сочинения подобного рода отнюдь не редки в творчестве Екатерины Николаевны Хомзе. Свои фантастические опусы, снабженные неизменным «Посвящается Е. А. X.» и подписанные как «Б. Олшеври, автор „Вампиров“», она предлагала для публикации в известные периодические издания той поры. Так, в архиве редакции иллюстрированного художественно-литературного ежемесячника «Аргус» сохранились беловые рукописи четырех «фантастических рассказов» 1914–1915 годов: «Наследство Варвары Сидоровны. Что было и что казалось», «Где правда? Из вопросов о вампиризме», «„Дело Ивана“, или Было ли это?», «Две или одна?»[38].
Куда только не устремляла сочинительницу ее безудержная фантазия! Вместе с Б. Олшеври читатель отправляется в мрачную карпатскую обитель, населенную монахами-вампирами; в заброшенный барский дом, в котором ненастной ночью прародительница главного героя, сошедшая с парадного портрета, сулит ему драгоценный перстень в награду за спасение ее души и избавление от вечных мук; в монастырское подземелье, где девушку, заслужившую в родной деревне дурную репутацию колдуньи, подвергают пытке, дабы заставить ее сознаться в убийстве сестры-близнеца. Только существовала ли эта сестра? На полях сражений Первой мировой войны разворачиваются события фантастического рассказа «Дело Ивана», в котором автор предоставляет читателю самому решить, чем же в действительности был описанный случай – вмешательством высших сил или следствием безумия немецкого офицера? В рассказах Б. Олшеври сосуществуют быль и небыль, реальное и чудесное, обыденное и сверхъестественное, разделенные зыбкой, постоянно нарушаемой границей.
Не все эти произведения равнозначны по своему идейному содержанию и художественному своеобразию, однако, судя по тому, что редактор журнала «Аргус» Василий Александрович Регинин (настоящая фамилия Раппопорт, 1883–1952) оставил рукописи среди архивных материалов, можно думать, что авторитетный литератор придавал им некоторую цену.
К сожалению, рассказы так и не стали достоянием читательской аудитории при жизни их автора. Теперь же, спустя 110 лет забвения, они обретают «второе рождение», будучи впервые опубликованы на страницах нашей книги.
…
Естественно-научные сказки Екатерина Николаевна Хомзе сочиняла в основном для малолетнего внука Вальтика (Вальтера Альбертовича Хомзе), будущего инженерагидролога и поэта, оставленного ей на попечение дочерью Лариссой, соратницей Гапона[39], 19 сентября / 2 октября 1910 года покончившей жизнь самоубийством. До 1916 года мальчик, по сути, воспитывался бабушкой и тремя сестрами покойной Лариссы. Всех четверых он называл своими «мамами», хотя настоящей матерью для него стала Маргарита Альбертовна Беклешова, усыновившая Вальтера.
В семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе сохранились подписанные псевдонимом Ек. Т. Рина тетради с рукописями «Сказок для Вальтика»: «Пчелы» (поздняя редакция), «Дятел», «Воробьи», «Лягушки», «Рыба Лосось», «Смерть мухам!», «Мыши и крысы» и четырехстраничный отрывок произведения аналогичного жанра без начала и конца, условно названный автором статьи «Извержение вулкана».
Научные сведения для создания своих сказок Екатерина Николаевна черпала в трудах Альфреда Брэма (1829–1884), Жюля Мишле (1798–1874), Лоренца Лангстрота (1810–1895), Лиланда Говарда (1857–1950), в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (издавался с 1890 по 1907 год). По всей видимости, Екатерина Николаевна Хомзе готовила эти произведения к публикации. Однако нам известны только три ее сказки, напечатанные под псевдонимом Ек. Т. Рина: «Пчелы. Рассказ для детей» (1914)[40], «Чижи и кукушка» (1916)[41] и «История золотого зернышка» (1924)[42]. Сказка «Рыба Лосось» в сокращенном виде без указания автора появилась на страницах детского журнала «Мирок» в 1916 году[43].
Пресса того времени не оставила без внимания научно-просветительскую деятельность Екатерины Николаевны Хомзе. Так, рецензент «Пермских губернских ведомостей» восторженно сообщал читателям, что «книжка под заглавием „Пчелы“ заслуживает самого благожелательного к ней отношения. Написана она для всех ясным и понятным языком. В виде живого увлекательного рассказа в сжатом виде представлена вся жизнь пчелы со дня ее рождения, все привычки и анатомическое строение пчелы, матки, трутней.
Довольно подробно описывается уход за пчелами, устройство улья, говорится и о добывании меда и воска. Даются указания относительно выбора места для пасеки, описываются лучшие сорта медоносных цветов, трав и деревьев.
Следя с большим интересом за фигурирующими в рассказе лицами (пчелинец Алексеич, девочка, сосед-пасечник, с одной стороны, и пчелы Абель, Бинна и Би – с другой), читатель легко, как бы мимоходом, незаметно для себя глубоко впитывает в память необходимые практические сведения по пчеловодству. „Пчелы“ не только интересная и занимательная книжка для детей школьного возраста, но и взрослый прочтет ее с удовольствием и пользой.
Все эти умело и популярно изложенные в рассказе сведения по пчеловодству принесут особенно большую пользу в деревнях, где пчеловодство у нас начинает с каждым годом развиваться, но, так сказать, само собой, в большинстве случаев без всяких знаний и указанья, книжка же эта не только даст самые необходимые сведения, но и настолько заинтересует, благодаря своему особенно умелому изложению, что прочитавший ее возьмется и за другую пчеловодную книгу…»[44].
Вероятно, опубликованный вариант «Пчел» следует считать самой ранней из дошедших до нас сказок Екатерины Николаевны. На это указывает описание фигурирующей в произведении девочки Кути: «Поедет наш мед с широкой Волги-матушки в город. А там живет твоя знакомая девочка, Кутя. У нее такие же светлые волосы, как и у тебя, ровно белый лен, только коса у нее толстая и банты большие. А, знаю я, медок лизать Кутя любит не меньше тебя». Кутей или Кэт в семье Хомзе называли младшую дочь Екатерину, следовательно, на момент написания сказки она была еще подростком и носила банты. Вышесказанное позволяет предположить, что «Пчелы» были созданы раньше обессмертившего Б. Олшеври романа «Вампиры», посвященного «повзрослевшей» Куте (Е. А. X.).
В сказке «Лягушки» мы вновь встречаем ненюфар и… кровопийцу. Правда, здесь это не вампир, встающий из гроба, а обыкновенный комар, который сетует, что у кувшинки нет ничего хорошего, даже душистого запаха, в отличие от деревенских ребятишек с алой, теплой кровью.
Екатерина Альбертовна Хомзе, сотрудничавшая с издателем Гавриилом Фомичом Миримановым (1870 – после 1930) как художник-иллюстратор (в частности, ею были созданы две забавные детские книжки о приключениях «мишуков-шалунов»)[45], в 1924 году под уже известным нам псевдонимом Ек. Т. Рина посмертно опубликовала сказку матери «История золотого зернышка». Произведение было отредактировано согласно реалиям НЭПа, когда широкое развитие получили различные виды кооперации и появилось понятие «продналог». К сожалению, подобное бесцеремонное обхождение с текстами «старых» авторов являлось характерной чертой фирмы Г. Ф. Мириманова, старавшейся шагать в ногу со временем.
…
В рукописном архиве Екатерины Николаевны Хомзе сохранились и образцы автобиографической прозы, объединенные общим заголовком «Давно прошедшее время». На страницах этих набросков, созданных около 1915 года, автор выступает в роли бытописателя, повествуя о традициях празднования Николина дня[46] в семье Молчановых; в духе «натуральной школы», но с большой долей юмора в изображении не массового, а исключительного, курьезного в жизни, рассказывает о чудаковатом троицкосавском старике «дедушке Макарьине», страдавшем болезненной страстью смешивать разные крепкие напитки и проверявшем «безвредность» полученных смесей на учителе местного уездного училища, «наигорчайшем пьянице»; вспоминает мельчайшие подробности далекого, многотрудного и опасного в те времена путешествия из Петербурга в Кяхту и обратно, пришедшегося на зиму и весну 1895 года. Маргарита Альбертовна Беклешова, сопровождавшая мать в памятной поездке, много лет спустя написала следующие строки: «Я была еще достаточно мала, чтобы сознавать различные опасности, но теперь считаю, что мама была исключительно храбрый человек, так как шла иногда на такой риск, на который не решился бы и мужчина».
По словам Алексея Владимировича Хомзе, эти произведения передают живые исторические картины, повседневную ткань той жизни и раскрывают стойкий характер писательницы, ее поучительное самообладание и стремление думать, а не действовать по эмоциональному порыву.
…
Помимо прозаических сочинений до наших дней дошли также гранки созданной Екатериной Николаевной злободневной песенки о благодушном китайском мандарине (напоминающем гоголевского Манилова), которую царская цензура запретила печатать «как заключающую в себе намек на злоупотребления административной власти в России»[47].
Считаем уместным познакомить читателей с полным текстом песенки, тем более что публикуется она впервые.
ЧУН-ЧИН
- Жил-был в Китае мандарин
- По имени Чун-Чин.
- Он назначал секретарей
- Над областью своей,
- А сам ел пряники с вином
- И спал на ложе золотом.
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- Он области своей не знал,
- Да знать и не желал;
- Не выходил он никогда
- Из своего дворца;
- Весь день, раскинувшись, лежал.
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- К народу он не выходил:
- Он шуму не любил;
- Но знал обязанность свою
- И два раза в году
- К царю с подарками езжал
- И пятки царские лобзал.
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- Так жил невинный мандарин,
- Ловя за чином чин,
- И мира сладкого его
- Не нарушал никто.
- Сын Неба говорил: «Чун-Чин —
- Великолепный мандарин!»
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- Но не дремали уж зато
- Секретари его.
- Народ вздыхал, народ стонал
- Правитель не слыхал.
- Любя покой и тишину,
- Он не мешался в их возню.
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- Народ терпенье потерял,
- Народ забушевал.
- Валит народная волна
- К палатам Чун-Чина.
- Царь о восстанье узнает,
- Царь Чун-Чина на суд зовет.
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- «О, милосердный властелин!
- Заговорил Чун-Чин. —
- Неблагодарная толпа
- Клевещет на меня.
- Я никого не обижал,
- Я никого не притеснял».
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
- «Я мог их грабить и казнить,
- Мог резать и душить,
- А я по доброте души
- Не поднял и руки:
- Все поручив секретарям,
- Я тихо спал по целым дням».
- Пой, лира, пой ему хвалу,
- Пой славу Чун-Чину!
Остается поведать о последних годах Екатерины Николаевны Хомзе. Обратимся для этого к воспоминаниям Алевтины Альбертовны Стругач:
«Впрочем, я забыла еще про лето 1913 г., которого забыть не могу[48]. В это лето Маргарита и Кэт поехали в Париж. Я потом поняла, что мама нарочно отправила их подальше, чтобы развязать себе руки. Я осталась с ней одна в Москве.
Уже много лет мама неподвижно сидела в кресле и очень страдала от обезображивающего артрита. Почти все суставы потеряли свою подвижность. Ноги не действовали совсем, плечевые суставы тоже. Держалась она только морфием. Иногда я целыми днями сидела около нее и раскладывала ей пасьянсы. Уходить из дому я избегала, так как видела, что мама что-то нервничает. Заметила также, что вместо сказок она пишет что-то другое. И хотя не знала что, все же почему-то беспокоилась. Однажды мама особенно сильно уговаривала меня пойти пройтись – нельзя же целое лето просидеть без воздуха. Очень мне не хотелось уходить, но, чтобы мама не нервничала из-за меня, я согласилась на полчаса сходить к моей троюродной сестре и приятельнице Нине Швецовой [Нина Васильевна Собенникова-Швецова, 1889 г. р., примеч. Д. К.]. Мы жили в Сущевском тупике[49], а она – на Малой Дмитриевке, у Страстного монастыря. Ходьбы было минут 15–20. Не успела я войти к Нине, как позвонил телефон. Эмилия Яковлевна зовет меня срочно домой. Я сразу поняла, что что-то с мамой.
Оказалось, мама приняла морфий. Несмотря на страшные боли, она в течение нескольких дней копила приносимые ей порошки и приняла их сразу, как только я ушла. Началась рвота. Услыхала Эмилия Яковлевна и вызвала меня. У меня было странное состояние: спасать ли маму или дать ей умереть? Она так давно и так страшно страдает, надежды не только на спасение, но и даже просто на облегчение никакой нет. Напротив, чем дальше, тем будет хуже. Решиться на самоубийство нелегко, еще труднее привести это решение в исполнение. Имею ли я право насиловать мамину волю и заставлять ее и дальше страдать? Может быть, если бы мы были с ней одни на свете, я оставила бы все как есть. Ну а тут решила посоветоваться с кем-либо. Первый, кто пришел на ум, был дядя Андрюша[50]. Позвонила ему. Он сказал, что я сошла с ума и что он немедленно приедет с врачом. (…) Через несколько минут они приехали. Началась очень тяжелая сцена. Мама не хотела никакой помощи, плакала и говорила, что мы пользуемся ее беспомощностью. И я знала, что она права: защищаться она не могла. Ее насильно раздели и делали ей впрыскивания в спину. Много дней после этого она плакала и горько упрекала меня, говоря, что именно на меня и на мою выдержку она и надеялась, что нарочно отправила сестер в Париж, написала завещание и отослала меня к Нине. Мне было жаль ее, и я дала слово, страшное слово. Я обещала ей, что если она когда-нибудь еще раз захочет покончить с собой, я не только не буду ей мешать, но сама дам более эффективный яд и что сделаю это даже сама, тайно от нее, если она не будет больше в состоянии переносить свои страдания. Мама мне поверила и успокоилась. Через два года она это мое обещание еще помнила, но отнеслась к нему совсем иначе. Мы были с Маргаритой в Евпатории, когда получили телеграмму от Кэт, что маме плохо. Маргарита выехала тотчас же, а я должна была задержаться на 1–2 дня, чтобы найти заместителя врача в Мойнакскую грязелечебницу, где я работала. Получаю телеграмму от Маргариты, чтобы я не торопилась с выездом, что все благополучно. Дней через десять новая телеграмма – о смерти мамы. Спрашиваю у Маргариты объяснений ее поступка. Оказывается, мама страшно мучилась, у нее началась гангрена мягких тканей, так что обнажились кости таза. Но еще больше она мучалась страхом, что ее отравят. И, помня мое обещание, боялась меня. Да и не только меня. Каждое лекарство, каждую ложку еды она заставляла при себе пробовать, прежде чем проглотить. В момент смерти проснулся сильнейший инстинкт жизни и боязнь смерти. (…) Конечно, Маргарита была права, что меня не вызвала. После смерти мамы мы исполнили ее желание – вызвали врача, и она проколола маме сердце длинной иглой. Мама страшно боялась летаргии».
Фобия Екатерины Николаевны нашла отражение и в романе «Вампиры», где летаргический сон явился предвестником зловещих событий – превращения Риты в кровожадного упыря.
На первой странице своих «Воспоминаний» Алевтина Альбертовна Стругач предупреждает читателя: «Я не обещаю точных хронологических дат – не помню их». Это объясняет несоответствие указанной ею даты смерти матери (1915 год) фактической.
Согласно записи в метрической книге[51], Екатерина Николаевна Хомзе, вдова потомственного почетного гражданина, скончалась 12/25 августа 1916 года от «воспаления суставов». Ее похоронили в Москве на Лазаревском кладбище. В 1916 году историк Москвы Алексей Тимофеевич Саладин (1876–1918) писал, что Лазаревское кладбище «далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от всякого шума за прочными стенами, кладбище покрылось буйной растительностью. Трава – выше пояса – скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти только с трудом, обжигаясь о крапиву»[52]. В 1934 году кладбище было закрыто, а с 1937 года началась его ликвидация, закончившаяся уже в послевоенные годы. Тысячи не эксгумированных тел остались лежать под лужайками разбитого на этом месте парка и проезжей дорогой (участок Третьего транспортного кольца Москвы).
- Камни сорной порастут травой,
- Прахом станет тело…
- И могила очутится под тропой,
- Где потомки зашагают смело![53]
Образным воплощением судьбы и творчества Екатерины Николаевны Хомзе может послужить случай, описанный ею на страницах воспоминаний «Давно прошедшее время».
При переезде всей семьи из Кяхты в Санкт-Петербург в 1889 году Екатерина Николаевна и трое детей помещались в большом крытом экипаже дормез, и однажды ночью ей, матери, приснилось, будто от стеариновой свечки, зажженной перед отходом ко сну для успокоения напуганного грозой ребенка, начался пожар и все сгорели… Екатерина Николаевна очнулась от сильной боли в пальцах руки и поняла, что сон превращается в действительность: перед ее глазами пылал яркий огонь – горело толстое меховое одеяло, в которое были завернуты дети. Посреди охватившего ее смятения Екатерина Николаевна осознала, что если поддастся порыву ужаса и закричит, то ямщики бросятся на помощь, быстро откинут фартук экипажа, от притока свежего воздуха пламя взметнется и огонь вспыхнет сильнее, напугав детей и причинив им страшные ожоги…
Воля нашей героини позволила разуму взять верх над чувствами: она молча своими руками потушила горевшее одеяло и только потом позвала на помощь. Дети не пострадали, сама же она, благодаря теплым толстым перчаткам, отделалась незначительными ожогами.
В последнее десятилетие своей жизни Екатерина Николаевна оказалась в еще более сложной ситуации, когда усилившаяся болезнь приковала ее к инвалидному креслу, а сердцу была нанесена неизлечимая рана безответной любви к бросившему ее мужу Альберту – ее «символу веры», усугубленная затем его кончиной.
В 1910 году эту «летопись несчастий» дополнило переживание вины за самоубийство любимой дочери Лариссы, которую Екатерина Николаевна сама отправила в Швейцарию к «бабушке русской революции» Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской (1844–1934), думая, что так будет лучше и дочь, увлеченная революционной романтикой, окажется под присмотром. Вышло иначе. Наивная девушка только глубже погрузилась в грязную мясорубку подпольной деятельности, запуталась в сетях кровавой борьбы революционеров и провокаторов и не нашла выхода.
В чем теперь могла Екатерина Николаевна отыскать смысл жизни и мотивацию к ней? Литературное творчество сделалось для нее спасительным выражением воли к жизни, родом медитации. Она стала сочинять развлекательные и научно-сказочные тексты для младшей дочери и внука, не заботясь при этом об указании своего авторства в книгах, появившихся в печати. Объем рукописей, сохранившихся в литературном архиве Екатерины Николаевны, свидетельствует о том, что первую половину 1910-х годов она посвятила практически только их написанию.
Ее произведения увлекательны, наполнены фантазией, светом разума и добрым юмором. Это мир, созданный ею самой. Это сказочная реальность, сотворенная ею вопреки всему. Это пример реализации стоического убеждения в том, что мы, люди, не властны над внешними обстоятельствами своей жизни, но свободны в выборе того, что нам делать в этих обстоятельствах…
Такова удивительная история мудрой и талантливой женщины из далекого прошлого, по сути совершившей личный человеческий подвиг: несмотря на выпавшие ей испытания, она «играючи», для узкого круга близких людей, в числе прочих своих произведений сотворила одну из самых ярких литературных мистификаций XX века – роман «Вампиры», анонимно прославивший ее уже в наши дни.
Да, у всякого барона своя фантазия, а уж у купеческой жены, представившейся читающей публике бароном, – и подавно!
При подготовке предлагаемого сборника редактор неизменно стремился к тому, чтобы по возможности точнее передать все намерения писателя и тем самым очистить авторский текст романа «Вампиры» от накопившихся с годами опечаток и купюр. Взятая за основу оригинальная публикация 1912 года страдала типографскими, смысловыми и орфографическими погрешностями, неточной передачей иноязычных выражений. В связи с этим потребовалось проделать значительную работу по подготовке текста, куда были внесены обоснованные исправления, сделавшие его более удобочитаемым как в отношении разбивки на главы, так и в плане замены устаревших слов и выражений, представляющихся в наши дни нелитературными и разговорными (напр., лавенда, вдолге, способы отваживания, зало, понаблюди, вырешили).
Подобным же образом были подготовлены к печати и рукописи фантастических рассказов.
Орфография и пунктуация печатного и рукописных подлинников в настоящем издании приведены в соответствие с современными грамматическими нормами, однако в целом особенности языковой и литературной манеры автора тщательно сохранены.
Д. Р. Кобозев
Вампиры
Из семейной хроники графов Дракула-Карди
Фантастический роман барона Олшеври
Продолжение этого романа – перевод с английского «Граф Дракула (Вампир)»
Посвящается Е. А. Х.
Пролог
Не любо – не слушай, а врать не мешай[54].
Сегодня большая комната деревенской гостиницы ярко освещена и убрана по-праздничному.
Там собралось большое и богатое общество.
Вот уже неделя, как вся гостиница снята под приезд американского миллионера мистера Гарри Карди.
Его приезду предшествовали целые легенды. Говорили, что он несметно богат, что его хлопчатобумажные плантации – целое королевство. Что в его происхождении много таинственного, что он потомок мексиканского короля Монтесумы[55] и что он тайно поклоняется Вицли-Пуцли[56].
Вымысла в рассказах, конечно, было больше, чем правды. Одно оставалось неоспоримо: мистер Гарри богат, молод, страстный охотник и что страсть эта заставила его побывать и в Африке, и в Индии.
В Европу его привело дело и любопытство путешественника.
В деревне говорили, что приезд этого сказочного принца в Карпатские горы был сопряжен с вводом во владение древним замком графов Дракула.
Замок этот лет сорок, если не больше, стоял покинутым. Все владельцы вымерли, а последний, как говорят, бросил мир и отрекся от жизни, похоронив себя в монастыре, где и умер.
Одни уверяли, что мистер Гарри купил замок ради титула, другие – что замок перешел ему по наследству. Что один граф Дракула уехал в Индию и изучал там черную магию под наблюдением браминов[57] и что уже оттуда его наследники попали в Америку.
Мистера Гарри сопровождал целый штат служащих, друзей и прихлебателей. Самыми близкими людьми к миллионеру были: доктор Вейс – небольшого роста полный господин, весельчак и милый собеседник; капитан Райт – англичанин, доведший свое хладнокровие до апогея. Про него говорили, что, находясь в плену у тугов[58], в подземельях кровожадной Бовами, где его ожидала неминуемая смерть, он не изменил своему обычаю и не выпускал сигары изо рта, а при почти чудесном освобождении спросил стакан рому и выпил его так же спокойно, как и на дружеской пирушке. К этому неразлучному трио присоединялся еще Джемс Уат, также американец, но в жилы которого, несомненно, попала живая кровь француза. Он был подвижен и всегда желал до всего допытаться, ко всему, его занимающему, прикоснуться руками. За желание потрогать золотой лотос на груди какого-то индийского истукана он чуть не заплатил всей рукой. И посейчас красный шрам, как змея, обвивает его руку. Этот шрам – память от удара одного фанатика. За страсть Джемса к наблюдениям и выводам доктор называл его Шерлоком Холмсом.
Затем шли: управляющий Смит; личный камердинер Гарри – Сабо; слуга и помощник доктора Джо. Он же заведовал аптекой и всеми перевязочными средствами, так нужными при опасных охотах; повар и лакей.
Остальной штат нанимался из местных жителей и при отъезде распускался.
Общество друзей-прихлебателей тоже менялось по месту жительства.
Теперь Гарри сопровождала больше молодежь – любители охоты или же люди, любившие вообще пожить на чужой счет.
Надо отдать справедливость, Смит умел занять гостей хозяина. В настоящее время охота сменяла охоту, одна лучше другой, равно как и устраиваемые по вечерам обильные ужины с массою лучшего вина.
Вино развязывало языки. После ужина шли разговоры. Вначале говорили о скачках и женщинах, но чем дальше в горы забирались охотники, тем чаще прежние разговоры сменялись охотничьими рассказами и рассказами о приключениях в лесах Америки и джунглях Индии.
Сегодня хозяин изобрел новую забаву: чтение. Недавно он принял к себе на службу старика-библиотекаря, Карла Ивановича Шмидта, для разборки нужных бумаг, а главным образом для отыскания в местном церковном архиве документа о смерти или погребении одного из графов Дракула. Каждый вечер библиотекарь давал отчет, что им найдено за день, и вот сегодня он принес хозяину бумаги, вернее – дневники, или записки, взятые им из церковного архива. Записки эти показались Гарри интересными, и он попросил Карла Ивановича прочесть их вслух после ужина, для развлечения гостей.
Часть I
I
Дневник учителя
С этой ночи никто из жителей не видел его… Что это, случайность или новая жертва?
Я сказал «жертва», но жертва чего?..
Вот уже полгода, как я не брал в руки эту тетрадь. Все было спокойно. Мое подозрение, что между «случайностями» есть связь, что-то роковое, что заставило меня вести эту летопись несчастий, – улег лось. Мне даже было стыдно, что я поддался такому суеверию…
Вчера мои сомнения вспыхнули вновь. Пропал Генрих-охотник.
Генрих – это предмет тайных мечтаний всех деревенских невест.
Молод, красив, всегда весел. Первый танцор и первый храбрец. Про него говорили, что он не знает страха, черта не боится, а перед Божьей Матерью, покровительницей нашей деревни, склоняется почтительно и даже носит ее изображение и образок на груди, на зеленом шнурочке.
В пятницу утром Генрих ушел на охоту обещав вернуться ко времени службы в костеле.
Но ни в воскресенье, ни в понедельник его не было.
Сестра его, Мария, очень беспокоится: не случилось ли с ним несчастья. Она пришла к нам на кухню, плакала и просила совета.
Среда – Генриха нет. По деревне уже идет слух, что он погиб и искать его надо не иначе как в Долине ведьм…
Но зачем он туда попадет?
Если кузнец Михель и нашелся в Долине ведьм, то он был пьян…
Генрих не пьет, да и промысел его лежит не близ проезжей дороги, а по другую сторону, в горах…
– Здесь, видимо, вырвано несколько листов, – сказал библиотекарь, сдвигая очки на лоб.
– Вот и отлично, перерыв, мы можем выпить по стакану вина! Эй, Сабо… – вскричал веселый хозяин. – Кстати, господа, – продолжал Гарри, – по расписанию мы завтра после охоты ночуем в Охотничьем доме. Он как раз лежит на холме, при входе в Долину ведьм. Вот, капитан Райт, тебе случай показать свою храбрость.
– Пока я еще ничего не понимаю, – пробурчал Райт.
– Поймешь, когда ведьма завладеет тобой.
– Да объясни лучше, что это за знаменитая Долина ведьм?
– Долина ведьм – прескверное место, – вмешался один из гостей, местный уроженец. – Говорят, туда собирается нечистая сила и ведьмы справляют там свои мерзкие праздники. Кто дорожит спасением своей души, не должен на них смотреть.
– Видите ли, друзья мои, – вновь начал Гарри, – Долина ведьм – это небольшая прелестная долина, лежит она у подножия скалы, на которой стоит замок. Но скала настолько крута, что из долины подъема на нее нет. С другой же стороны лежит цепь лесистых гор. В одном конце долины стоит наш Охотничий дом, а недалеко от другого конца проходит проезжая дорога. На дне долины лежит небольшое озеро, сплошь заросшее мертвыми розами-ненюфарами[59]. Берега его болотисты, и на закате солнца на нем клубится туман.
– Вот этот-то туман, конечно, и подал, по моему мнению, мысль к созданию всех легенд о долине, – вставил свои слова доктор.
– Не слушайте его, у него нет ни капельки поэзии в душе, – перебил хозяин. – Туман, особенно при свете месяца, принимает образы прекрасных молодых женщин. На голове у них венок из мертвых роз, а по плечам вьется белое легкое покрывало… Глаза их горят, как звезды, а тело светится розоватым оттенком…
– Недурно, – промычал Райт.
– Да, но немного найдется желающих испытать эту любовь. Всякого, кто волей или неволей попадал в полнолуние в Долину ведьм, находили мертвым, а если он и приходил оттуда, то умирал через месяц – в следующее полнолуние. Женщины с озера вместе с поцелуями выпивают его жизнь. Он слабеет, бледнеет и умирает.
– Еще бы не умереть, когда вода в озере стоячая, гнилая и туман несет бог знает какие ядовитые испарения, – прибавил доктор.
– Смотри, доктор, поплатишься за свое неверие, – смеясь, сказал Гарри.
– Напротив, я вполне верю, что если пьяный зайдет на болото, то он или утонет, или, проспав на сырой земле, схватит лихорадку, а болотные лихорадки шутить не любят!
– А что ты скажешь о ранах, находимых на теле тех, кто умер в долине? Положим, ранки крошечны, едва заметны.
– Ну, это очень просто, укус змеи или пиявки. Ведь ты сам говоришь, что ранки едва заметны.
– Впрочем, что, господа, говорить о том, что было да прошло, – с печальной миной продолжал хозяин. – Вот уже больше тридцати лет никто не погибал в Долине ведьм, и храброму капитану Райту не придется отличиться. Нам остается только жалеть, что мы живем в век, когда нет ни спящих красавиц, ни драконов, ни даже самых простых упырей. И нам остается слушать только чужие подвиги. Еще по стакану вина и внимание! – закончил Гарри.
Библиотекарь надвинул очки и начал снова:
Только когда он пришел в себя, нам удалось разжать судорожно сведенные пальцы. В них оказался образок Божьей Матери, что он всегда носил на себе.
15-ое
Сегодня Генрих заговорил. Он говорит сбивчиво, неясно, но если хорошо обдумать, то, видимо, дело было так: он заблудился, что довольно странно для Генриха, и к ночи попал к озеру Долины ведьм. Чувствуя, как и все простолюдины, страх к озеру, он решил бежать и взобрался на высокую скалу, куда не достигает туман, и решил не спать. Сев на выступ скалы, недалеко от куста боярышника, он, как хороший католик, прочел «Ave Maria»[60] и задумался.
Луна ярко сияла. На озере клубился туман, воздух был прорезан серебристыми нитями, и цветы боярышника странно благоухали. «Точно вонзались мне в голову», – говорит Генрих. Было жарко. Небывалая, приятная истома напала на него… Вдруг порыв ветра качнул куст боярышника, и ветка ударила его в грудь, в ту же минуту он был осыпан белыми цветами боярышника. «Точно белое покрывало окружило меня», – говорит он. Луна померкла. Покрывало засветилось, и ясно было видно прекрасное женское лицо, бледное и чудное, с большими зеленоватыми глазами и розовыми губами. «Оно все приближалось – я не мог от него оторвать глаз, – говорит Генрих. – Хотел молиться, но слова путались в голове. Хотел схватить свой образок, но представьте себе мой ужас, – с дрожью прибавляет Генрих, – образка и шнурка не было на мне.
„Оно“ сорвало его покрывалом!
Наконец „оно“ прильнуло к моим губам… все зашаталось и пошло кругом… Я потерял сознание», – добавляет он.
Очнулся он от сильной боли в шее. Не успел открыть глаз, как в голову ударил пряный, одуряющий запах свежей крови…
«У меня вновь закружилась голова, и я упал, – говорит Генрих. – Падая, рукою я захватился за что-то…» – и дальше он не помнит ничего.
Генрих убежден, что сама Божья Матерь спустилась, чтобы спасти его от вампира. Он уверяет, что видел сияние вокруг ее лица и слышал злобный хохот побежденного дьявола. Ведь то, что, падая, он схватил рукою, – был его заветный образок!
16-ое
Мне, сельскому учителю, представителю просвещения, не подобает верить в вампиров.
Да, если спокойно разобрать историю Генриха, то все выйдет очень просто.
Он заблудился; ночь на воскресенье была очень темная. Увидав себя в Долине ведьм, он, как всякий крестьянин нашей деревни, испугался и, вместо того чтобы быстро пересечь долину и идти в деревню, бросился в горы.
Ведь, пересекая долину, надо пройти мимо озера, ну а это было выше его храбрости.
Усевшись на камень, он задремал и все остальное видел во сне. Со сна упал и ударился головой – отчего и потерял сознание: да, это так.
Почему только он слаб?
Фельдшер говорит, что такая слабость бывает от сильной потери крови.
Ран на теле у него нет, и фельдшер предполагает, что просто от жары и волнения у него пошла носом кровь, так как рубашка спереди была в кровавых пятнах. Фельдшера удивляет только то, что, судя по пятнам, крови вышло не очень много, а Генрих, такой молодой и здоровый, настолько сильно ослабел от подобного пустяка.
17-ое
Сегодня я был в Долине ведьм и нашел место, где заснул Генрих. Это было нетрудно: ружье его все еще стояло прислоненным к скале и шляпа валялась рядом.
Сев на камень, я отлично понял, как порывом ветра наклонило боярышник, и тот колючкой сорвал шнурок с образка и ею же уколол и шею Генриха. Кстати, и шнурок висел тут же на ветке. Осмотрев подножие камня, я нашел следы колен и рук Генриха. Падая, он ладонью нечаянно уперся в оборванный образок и стиснул его пальцами. Если б я нашел признаки, куда впиталась кровь из носа, то все было бы ясно. К сожалению, этого я не нашел.
Кругом все тихо.
Решив возвращаться домой, я увидел под ногами цветок ненюфара. Откуда он? Немного завядший, но все еще прекрасный. Генрих не говорил, чтобы он срывал его, да он и не подходил к озеру.
Я поднял цветок и принес его домой.
Сейчас он стоит передо мной в стакане воды. Как прекрасен! Завялости нет и следа, лепестки прозрачно-белы и точно дышат, а внутри сверкают капли воды, как дорогие камни, нет, как милые глазки… Что это, аромат? Нет, игра воображения… ненюфар, мертвый розан, ничем не пахнет.
Пора спать. Слава богу, дело с вампирами окончено: все так просто и естественно.
21-ое
Три дня я не брал пера в руки… такая творилась со мной чепуха.
Обдумав хладнокровно все приключение Генриха, я успокоился и лег спать. По-видимому, тотчас же заснул…
Сколько прошло времени – не знаю, но мне показалось, что я не сплю.
Комнату наполнял серебристый свет: он переливался и мерцал. Это не был холодный свет луны, а, напротив, полный желаний и трепета… Откуда он?.. Он точно родился в моей комнате. Следя за волнами, я увидел, что он исходит от моего письменного стола.
Смотрю- ненюфар уже не плавает беспомощно в стакане воды, а гордо качается на высоком стебле, да это уже и не стебель, а стройное женское тело, а на месте цветка чудная головка. Бледное лицо с большими печальными глазами и чуть-чуть розовыми губами, золотистые волосы падают красивыми волнами на грудь.
Фигура тихо качается и с каждым движением растет и становится нормальной женщиной, только тело ее прозрачно, точно соткано из серебряных нитей.
Вот она двинулась от стола, и комната наполнилась ароматом и неуловимыми звуками. Движения я не улавливаю; фигура точно плывет в воздухе…
Все ближе и ближе; она уже качается около моей кровати, что-то шепчет, но я не могу разобрать слов…
Она склоняется ко мне, я холодею; она хочет припасть ко мне на грудь, но страх придает мне силы; дико вскрикнув, отталкиваю видение…
…ясно было видно прекрасное женское лицо, бледное и чудное, с большими зеленоватыми глазами и розовыми губами
Раздается грохот и звон разбитого стекла…
В комнату вбегает испуганная Мина, и я вскоре могу разобрать ее ворчание:
– Кричат, столы со сна роняют… Вон и графин разбили, а купили-то его всего как два года, новенький.
Итак, это сон!
Недоверчиво кошусь на письменный стол: там беспомощно увядает бедный ненюфар… Только сон!
Мне стало смешно и стыдно.
22-го
День прошел как всегда.
К ночи мне показалось, что ненюфар ожил.
Улегшись в постель, я взял книгу и начал читать, невольно время от времени посматривая на цветок.
Положительно я не ошибаюсь: он становится нежнее и светлее. Еще немного, и он закачался на высоком стебле.
Я сел на кровать. Я не сплю.
И это уже не цветок, а женщина… Опять звенит воздух, опять наполняется ароматом…
Но она не подходит ко мне, а смотрит, смотрит… точно молит о чем-то…
Чего она хочет?
Мне пришло на ум, не душа ли это какой-либо самоубийцы, просящей молитв за себя.
Призрак застонал и исчез…
Как я заснул – не помню.
23-е
Утро. Ненюфар почти завял.
Что же, опять был сон? Нет и нет!
Целый день меня преследует мысль: что она хотела, о чем просила?
Сегодня я ее спрошу.
Вечером после ужина я хотел взглянуть на ненюфар, но его не оказалось на столе. Мина на мой вопрос ответила, что выбросила завядший цветок. Жаль, я привык к нему.
Ночью сон бежал от меня. Я ждал.
Но все было тихо. Стол стоял пустой и темный. Воздух был спертый. Я ждал.
Но все напрасно…
Наконец больше не мог выдержать, встал и открыл окно.
Луна сияла. Далеко по направлению Долины ведьм вился туман, принимая различные очертания. Мне казалось, она там, она ждет меня.
Чего она хочет?
Как я ни всматривался в туман, ее не было. А между тем я ясно чувствовал, что она там и ждет.
Не пойти ли? А если правда, что говорят о Долине ведьм?
Пока я колебался, выглянуло солнце и туман рассеялся, вместе с ним ушли и мои желания и сомнения.
Все-таки спрошу у фельдшера нервных капель.
24-ое
Был в деревне, сказал, что болит голова, и просил капель.
Фельдшер смеется: «Уж и вам, как Генриху, не снятся ли девы, сотканные из тумана, с ненюфарами в волосах?»
Кстати, Генрих поступает в помощники к церковному сторожу. Он говорит, что не может видеть свежей крови и что он должен отмолить свою душу. Его сильно подстрекал старик-сторож, да и немудрено, старик страшно дряхл, говорят, ему больше ста лет, и он нуждается в молодом помощнике.
Он уверил Генриха, что если вампир попробовал крови человека, то тому очень трудно от него спастись. А в церкви, кроме защиты Божьей Матери, старик предлагает и свою помощь.
– Я умею возиться с этими паскудами! – утверждает он.
25-ое
Пью капли и сплю отлично, не лучшее ли это доказательство, что дело не в вампирах, а в нервах?
И чего я струсил? Надо было посмотреть, что было бы дальше. Все идет своим порядком, только Генрих с усердием кладет поклоны и звонит на колокольне.
Пробовал расспрашивать его. Молчит. Сознался только, что ранка на шее плохо заживает.
– И не заживет, пока «она» не укусит кого другого, – буркнул старик-сторож, слышавший наш разговор.
У старика, видимо, «не все дома», как говорится. Над окнами, над дверями, на подоконниках – всюду нарисованы кресты. Щелки, замочные скважины забиты чесноком; около кровати Генриха висят венки из омелы и цветов чеснока. Сад полон этим же вонючим растением.
На мой вопрос:
– Что это?
Старик ответил:
– «Она» не любит!
Когда же я стал объяснять ему, что наука не признает существование вампиров и что мертвые не встают из гробов, он только покосился на меня и прошамкал:
– Молод еще, поживи с мое!
Мина говорит, что старик знал лучшую жизнь. Он был дядькой одного из молодых графов Дракула и жил в замке. Но семью постигло какое-то несчастье, которое и свело в могилу почти всех ее членов. Замок забросили, и он пришел в упадок. Говорят, есть дальние родственники, где-то в Америке, но никто не знает, где они…
II
– Стойте, – прервал чтение один из молодых людей. – Гарри, да не вы ли этот американский наследник? Я, кажется, слышал что-то подобное.
– Пожалуй, вы и правы, – сказал молодой хозяин, – что дело идет обо мне, вернее, о моем дяде. Дядя, со стороны матери, оставил мне, умирая, свои хлопчатобумажные плантации и какие-то права на замок и титул. Первое время мне было недосуг думать о замке и титуле: наступил кризис в торговле хлопком – надо было спасать доллары.
И вот только полгода назад я решил ехать в Европу. Оказалось, что замок и земли существуют, но все страшно запущено.
Замок с виду представляет руину, и я даже не был в нем, тем более что не могу получить ввода во владение – не хватает акта похорон двоюродного деда или указания места, где находится его могила.
Вот я и просил Карла Ивановича разобрать школьно-церковный архив. Нужной бумаги нет, а он выудил какие-то записки и рассказы о здешних вампирах. По правде говоря, мне некогда было его выслушать, тем более что местный священник все объясняет старинными легендами, а деревенский староста уверяет, что вот уже тридцать лет, как у них в деревне не было ни одного убийства или загадочной смерти. Раз только и случилось, что пьяный столяр зарубил свою жену, да и та после этого жила целый год.
Зиму, как вы знаете, я провел в Париже. А весною меня потянуло на охоту. Вот я и предложил вам поехать в мое, хотя еще и не утвержденное, поместье в Карпатских горах.
Замок выглядит сумрачно, и я велел пока отделать Охотничий дом.
Карл Иванович забрался сюда раньше и глотает архивную пыль.
– Если б мистер Гарри разрешил посмотреть архив замка… – заявил старый библиотекарь.
– Хорошо, хорошо. Это от вас не уйдет, мы все пойдем осматривать замок. Друзья, по последней сигаре, – предложил хозяин. – Продолжайте, Карл Иванович.
27-ое
Ночи стали темнее, сплю хорошо, и нервы совершенно успокоились.
Вчера заходил к Генриху. Он бледен, но, видимо, тоже успокоился. Старик усердно подмалевывает крестики и разводит чеснок.
На мои насмешки по поводу чеснока ответил:
– Эх, связываться с тобой только не хочу, а уж порассказал бы!
Надо подпоить старика, авось развяжет язычок.
28-ое
Все идет спокойно и скучно. По ночам запах чеснока из церковного сада проникает даже и в мою комнату.
29- ое
Сегодня зашел к нам церковный сторож, принес Мине в чистку какие-то церковные вещи.
Я его зазвал в кабинет и угостил чаем, куда успел влить ложки две рому. Старика живо развезло, и он начал ораторствовать: говорил о замке, о порядках в нем, о гончих, о прекрасной бедной графине.
– А вот поди ж ты, – развел он руками, – чуть она меня не загрызла!
– Кто, гончая сука? – спрашиваю я.
– Какая там сука, графиня! Умерла это она, а как полнолуние, так и пойдет бродить. Пристанет к кому – известно, погиб человек! Иной тянет месяц-два, а иной и сразу ноги протянет. Выпьет у человека жизнь. Много тогда народу из замка разбежалось… А вот единожды идем это мы опушкой, а матерый-то волк и прысь на меня… повалил; я уже Богу душу предоставил! А она-то, моя голубушка Нетти, красавица, как разъярится да ему, паскуде, в загривок впилась…
– Кто, графиня мертвая? – удивился я.
– Ну тебя, путаешь все только! Гончая Нетти, я сам ее вынянчил; и ни за что пропала собака! В ту ночь и погибла, когда змея укусила молодую графиню. Знаешь, та, с зелеными глазами…
Чем дальше, тем рассказ его путался все больше и больше, и окончательно нельзя было уже отличить, о ком идет речь: о суке Нетти, о графине или о змее. Кто кого укусил, и у кого были зеленые глаза.
– Я ее утопил в старом колодце! – с гордостью закончил старик.
Он пошел домой, я его не удерживал. На пороге он оглянулся и, смеясь, спросил:
– Что, помогает?
III
5-ое
Наступило полнолуние. Я тоскую, меня гнетет неведомое желание, кругом какая-то пустота.
Что она хотела, о чем просила?
Каждую ночь помимо своей воли я жду ее и прислушиваюсь…
Тихо.
Только противный чесночный запах стоит в комнате. При открытом окне он легче, несмотря на свободный доступ воздуха.
Чего я жду? Сна… видения?..
Днем я совершенно покоен, но к ночи становлюсь раздражительным, не могу найти себе места. Меня тянет куда-то, что-то надо сделать, но все неясно, неопределенно, а потому еще мучительнее. Состояние становится невыносимым.
Завтра пойду и принесу ненюфар.
6-ое
День я был сам не свой, к вечеру пробрался за деревню, сбежал в долину, к озеру, и сорвал прекрасный ненюфар. При этом по колено попал в болото. Крадучись, точно вор, принес цветок в свою комнату.
Сижу у стола и жду. Ничего! Надо лечь.
7-ое
Всю ночь не мог спать, ждал и ждал – ничего!
Ненюфар недвижим, и только запах чеснока царит в комнате.
Что делать? Как добиться ее возвращения?
Чувствую, она страдает, но как и что?!
11-ое
Был на озере несколько раз, но, кроме промоченных ног и испачканных сапог, ничего не добился.
Тоска моя нарастает… она для меня не видение, не призрак, а любимая, желанная…
13-ое
Был у Генриха. Старик хитро улыбается. На мой вопрос о суке Нетти довольно обстоятельно объяснил, что у графов в замке была отличная стая гончих, а Нетти была любимицей самой графини и имела привилегию лежать у ее ног.
Уж не иначе как старый американский дьявол уходил ее, – говорит старик. – С первого же дня она его невзлюбила! Чуяла. Как завидит, ощетинится, оскалит зубы… а в ночь, как захворала графиня, на Нетти смотреть было страшно.
Когда я вбежал в комнату, Нетти стоит и трясется, шерсть на ней вся дыбом, изо рта пена, а глаза дикие, зубы щелкают. Некогда было тогда заняться ею, а помню, это я хорошо помню, как открыл я дверь на террасу, Нетти как сумасшедшая бросилась вон и скрылась по направлению старой капеллы… Больше ее и не видели…
Ты думаешь, что змея укусила Нетти? – спросил я.
– Нет, змея укусила графиню.
– Откуда же взялась змея в замке? – удивился я.
– Из футляра, старый дьявол привез…
Когда я уходил, старик спросил меня: хорошо ли я сплю и перестал ли ходить на озеро.
– Кто тебе сказал, что я был на озере?
– Да где же вы сапоги-то пачкаете, ведь все в тине, не ототрешь. Ничего, будете спать хорошо, – прибавил он и засмеялся.
Придя домой, я все раздумывал, почему старик интересуется, хожу ли я на озеро, и почему он уверен, что я буду спать хорошо.
Раздумывая, я ходил по комнате и нечаянно задел занавес у окна: из-под него что-то скользнуло и упало на пол, поднимаю – и что же!.. Гирлянда из засохших цветов и луковиц чеснока! Так вот откуда этот противный запах, а я думал – из церковного сада. Не иначе как сумасшедший старик подкинул мне ее.
– Здесь опять перерыв, – сказал старик-библиотекарь.
– И отлично. Пора спать, и то половина наших гостей дремлет, а капитан Райт так и похрапывает, – заявил хозяин. – Доброй ночи и побольше прекрасных сновидений.
Все охотно разошлись по комнатам деревенской гостиницы – усталость охотничьего дня давала себя знать.
IV
Утром за чаем веселый хозяин спросил:
– Господа, кого посетили ночью здешние девы? Неужели никого?
– Меня, – робко заявил один молодой человек, скорее мальчик – лет шестнадцати, болезненный, нервный.
Что, как, расскажите? – посыпались вопросы.
– Она пришла и просила открыть дверь, где она давно томится, и сказала, что берет меня в свои рыцари, – конфузясь, сообщил мальчик.
– Какую дверь, где? – спросил Гарри.
– Не знаю. Она сказала: «Ищи».
– Ну и конечно, она была с распущенными волосами и с ненюфарами? – смеясь, сказал доктор.
– Совсем нет, – ответил юноша, – я рассмотрел ее хорошо и узнаю из тысячи. У нее темные волосы, и большой черепаховый гребень держит их на затылке.
– Галлюцинация, – пробормотал доктор.
– Лошади готовы! – доложил слуга.
Все бросились к ружьям, сумкам, патронташам, и все женщины и вампиры мира – были забыты.
Охота!
V
Вечером охотники собрались вместе. Результат охоты был великолепен, а потому и состояние духа у всех повышенное. После хорошего ужина и многих стаканов вина разговор с охотничьих приключений снова перешел на вурдалаков. Вытребовали старика-библиотекаря и приступили к нему с вопросами, не нашел ли он продолжения дневника учителя.
– Нет, господа, в церкви идут приготовления к празднику Богородицы, а потому ризница и архив подле нее замкнуты. Но если мистер Гарри позволит, то я могу прочесть письма, найденные сегодня в Охотничьем доме.
Мы были там с управляющим, и дом, как уже известно, не успели приготовить к сегодняшнему вечеру. Он очень запущен. Даже к завтрашнему будет готова только часть дома: столовая и несколько спален, – говорил библиотекарь.
Убирая одну из спален, управляющий нашел в столе пачку писем и передал ее мне. Я просмотрел их, и мне кажется, что письма эти имеют связь с дневником учителя, и вот, если господа пожелают, я их прочту, – предложил Карл Иванович.
– Просим, просим!
– Я предполагаю, – продолжал Карл Иванович, – что это пишет один товарищ другому; место отправления, судя по пометке, Венеция, Италия.
Письма к Альфу
Письмо первое
Милый Альф!
Ты не можешь себе представить, как я счастлив. Мне разрешено, вернее, я могу вернуться на родину, которую оставил семилетним мальчиком. До сих пор для меня тайна, почему я был отослан из родительского дома.
Я много раз тебе рассказывал, как богато и весело жилось в родовом замке отца, но я как-то стеснялся рассказать тебе последние мои впечатления. Сегодня мне хочется это сделать. Не знаю сам, что побуждает меня к тому.
Начинаю.
Был прекрасный весенний вечер, солнышко еще не закатилось, сад благоухал ароматом цветов; все собрались на террасе. Я и малютка Люси, моя сестренка, также присутствовали. Любимая собака мамы лежала около нас.
Вдруг входит слуга и докладывает, что старый чужой господин просит разрешения переговорить с отцом.
На разрешение отца ввести его на террасу явился старый седой господин, одетый в длинное полумонашеское платье. Я заметил, что у него были красноватые глаза и пунцовые губы на бледном лице.
При первых звуках его голоса Нетти, любимая собака матери, вскочила и, ощетинившись, бросилась на него. Она точно хотела вцепиться в его ноги, но страх перед палкой, которую держал незнакомец, заставил ее отступить.
– Поразительно, что с Нетти, – сказала моя мать. – Извините, – обратилась она к незнакомцу, – это первый раз, что Нетти бросается на чужих.
– Петро, выведи собаку, – приказал отец.
Незнакомец, казалось, не обратил никакого внимания на выходку собаки и с низким поклоном подал отцу большой запечатанный конверт.
Пробежав несколько строк, отец обратился к матери и начал сообщать ей содержание письма. Я, конечно, не понял, да и не все слышал. Дело кончилось тем, что отец и мать предложили посланному сесть и изъявили свое согласие на его просьбу.
Пропустив первое мимо ушей, незнакомец спросил:
– Когда же позволите привезти гроб?
– Завтра, если хотите, – ответила мать.
Поклонившись, незнакомец удалился.
O чем говорили отец с матерью, я не разобрал; поминали капеллу, деда, старый портрет, но какую все это имело связь, я тогда не понял.
Вчера мне не удалось кончить письма: пришел Сильвио и уговорил меня ехать прокатиться на Лидо[61]. Вечер был чудесный. Гондола наша тихо скользила по воде. Отблеск заходившего солнца золотил облака. Кругом нас раздавались пение и музыка с соседних гондол.
Я, настроенный на воспоминание о прошлом, думал о моей милой матери и ее преждевременной кончине. Она умерла, когда я уже был в Нюрнберге. Как прекрасна она была и как быстро увяла! До сих пор я не знаю болезни, что свела ее в могилу. На мои вопросы отец не отвечал, так же как не объяснил мне причины, почему я был отослан из замка.
– Это желание твоей матери, – был его ответ.
Но почему? Она так любила меня!
Я ясно представлял себе мою мать: высокая, стройная, с тяжелыми русыми косами. Голубые глаза любовно и нежно смотрят на меня… Я точно чувствую их… и что же… два глаза смотрят на меня, но это не голубые глаза матери, а жгучие, черные.
Они промелькнули и исчезли… а я не могу их забыть!.. Мне необходимо еще раз увидеть их!..
Пока прощай.
Твой Д.
Письмо второе
Милый Альф!
Вот уже две недели, как я не писал тебе. Представь, я даже не заметил, что прошло так много времени!.. Ты простишь мне, если я скажу, что счастлив, безмерно счастлив!
Я нашел ее, т. е. нашел обладательницу тех черных глаз, что смотрели на меня на Лидо. Глаза эти при свете солнца еще прекраснее. Да и вся она хороша! Возьми описание красавиц Венеции, и ты будешь иметь понятие, но не думай – не о ней, а только о ее тени…
Она знатного рода, но сирота и небогата. Живет под присмотром своей кормилицы; вот все, что пока я о ней знаю.
Я уже тебе сообщал, что мое невольное изгнание с родины кончилось, и я могу вернуться в родительский дом. Возвращение мое невесело, так как возможность вернуться я получил только благодаря смерти отца.
Много лет я уже не имел известий из родного дома. Отец, под угрозой его проклятия, запретил мне самовольно явиться в замок: «Когда придет время, я позову тебя».
И вот старый слуга пишет, что отец скоропостижно скончался от разрыва сердца, как определил врач.
Петро был моим дядькой и отвозил меня в Нюрнберг. Он просит прислать нотариуса для продажи замка и прибавляет, что это желание отца. О моем возвращении он не говорит ни слова. Точно этого и быть не может…
Нет и нет! Я еду домой, хотя бы это стоило мне жизни! Я хочу наконец знать тайну, что окружает смерть моей матери.
Да и сказать ли тебе, я мечтаю, что поеду туда не один…
Прощай!
Твой Д.
Письмо третье
Милый Альф!
Может ли быть кто-либо несчастнее меня? С семи лет у меня не было матери, и я не знал ее забот и ласк; не было родины; никто меня не любил; ты скажешь, что я жил в довольстве, окруженный достатком. Да, но это не то! Я все же чужой; вот и она прошла вчера мимо меня и даже не взглянула! А я знаю, знаю, что она видела, знала, что я стою за колонной и жду ее взгляда. А прошла мимо. Несчастный я, ты можешь плакать на могиле матери, а я… Еду, еду домой!
Ты спрашиваешь, о каком гробе я писал тебе. Да о гробе дедушки, что его слуга привез из Америки. Отчего дед был в Америке и что с ним там было – сказать тебе не сумею. Есть какое-то предание, но детская моя память его не удержала. Знаю одно, что дед завещал перевезти себя в родовой замок из страны ацтеков…
– Как ацтеков? – вскричал молодой хозяин. – Ведь и я из страны ацтеков, я потомок их.
– Быть может, это и есть тот самый родственник, документов о погребении которого и недостает, чтобы быть введенным в права наследства, – сказал доктор.
– Жаль, что нет здесь нашего нотариуса. Но дальше, дальше, – торопил Гарри.
На другой день – опять читал Карл Иванович – после посещения старика с красными глазами, перед вечером, в ворота нашего замка въехали дроги, а на них большой черный гроб.
Отец и мать весь день были заняты хлопотами к его принятию.
Открыли двери склепа, что ведут из капеллы. Капеллу всю убрали зеленью и свечами, решили пригласить священника. Склеп также очистили от пыли и паутины, и на одном из запасных каменных гробов отец приказал высечь надпись с пометкой: «Привезен из Америки».
Долго ожидали старика, и только к вечеру он явился со своей печальной кладью.
Гроб оказался страшно тяжел.
Старик с красными глазами выразил сомнение, пройдет ли гроб по узкой и крутой лестнице, что вела из капеллы в склеп.
– Не лучше ли открыть западные двери склепа, выходящие в сад, – сказал он.
– Откуда вы можете все это знать? – удивился отец.
– По рассказам графа, – сумрачно ответил старик.
Пришлось отказаться от внесения тела в капеллу и от похоронной службы, что очень огорчило мою мать.
Наскоро открыли западные двери склепа и через них внесли гроб и опустили в назначенное место.
Когда хотели снова замкнуть двери замком, который изображал крест и, по словам стариков-слуг, был прислан самим папою из Рима, не оказалось ключа. Поднялись суматоха и спор – кто последний держал ключ, но ключ не находился.
Красноглазый старик попросил у отца разрешение поселиться в развалившейся сторожке, близ дверей склепа, обещая их охранять, как собака.
– Да ведь сторожка непригодна для жилья, – сказал отец.
– Ничего, я ее поправлю, а для меня только и осталось на свете, что посещать могилу моего господина.
– В таком случае – хорошо.
Старик низко поклонился и, вынув из кармана большой темный футляр, подошел к моей матери.
– По словесному приказанию моего умершего господина, графа, на память о нем, – сказал он, передавая футляр.
На нежно-голубом бархате лежало чудное колье из жемчуга. Застежкой к нему служила голова змеи художественной работы, с двумя крупными зелеными глазами. Изумруды, их изображавшие, были большой стоимости и как-то загадочно мерцали.
Все колье было особенное и стоило немало денег, конечно…
Вдруг Гарри прервал чтение.
– Не знаю, известно ли вам, что на груди у Вицли-Пуцли было ожерелье из жемчуга, вернее, из жемчужной змеи с зелеными глазами, и оно имело какую-то таинственную силу. Ожерелье пропало, когда испанцы разорили храм Вицли-Пуцли.
Подождав минуту, но видя, что Гарри молчит, Карл Иванович продолжал:
Мать взглянула на отца, тот утвердительно кивнул головою.
Мать приняла подарок. Лучше бы она отказалась от него!..
Но прощай, «она» послала за мной… о, я счастливейший из людей!
Д.
Письмо четвертое
Альф, милый Альф, дорогой Альф, она меня любит, любит… мы объяснились! «Она» меня любит. Это нарочно «она» прошла мимо. Ей хотелось, чтобы я пошел за ней. Как я счастлив! «Она» и родина, что нужно еще человеку?
Прощай. Бегу за розами.
Д.
Письмо пятое
…
Письмо шестое
Как я уже писал тебе, все шло по-старому, и если смерть дочери садовника и огорчила мать, то все же она была совершенно здорова…
– Какая смерть, когда? – раздались вопросы.
– Видимо, пропущено одно письмо, – ответил Карл Иванович.
– Ну, дальше, – сказал хозяин.
… совершенно здорова, вплоть до роковой ночи.
Происшествия этой ночи крепко врезались мне в память, хотя до сих пор во многом они для меня загадочны.
Люси и я, мы спали через комнату от нашей матери, под надзором Катерины.
Среди ночи меня разбудил страшный крик: откуда он, я не знал. Сев на кровати, я стал слушать: в доме была суматоха, хлопали двери, слышались шаги и голоса.
Окликнув Катерину, я убедился, что ее нет в комнате. На меня напал страх. Босиком, в одной рубашке, я бросился в спальню матери. Там было много народа.
Мать лежала без чувств на высоко приподнятых подушках, бледная, как ее белые наволочки и ночная кофта. На груди, на белом полотне, я заметил кровавые пятна. Отец наклонился над больной, а старый наш доктор вливал ей лекарство в рот.
Кругом толпились испуганные слуги.
Через несколько минут мать очнулась и боязливо осмотрела комнату.
– Фредди, это ты? Фредди, ты прогнал его?
– Кого «его», моя дорогая?
– Его, дедушку, не пускай его, не пускай!
– Успокойся, милая, никого нет, дедушка умер, а ты видела сон.
– Сон, да, сон, но как ясно, – пробормотала мать. – Нет, это не сон!.. – снова заговорила она. – Правда, я уснула, но вдруг почувствовала, что кто-то вошел в комнату, лампада перед образом зашипела и погасла.
Нет. Быть может, она и раньше погасла, а это шипела змея. Не знаю… В комнате был полумрак, – продолжала больная после короткого перерыва, – но я ясно узнала его, деда. То же бархатное платье и золотая цепь, а главное – те же злые глаза, чуть-чуть отливающие кровью. Горбатый нос и сухие губы. Это был он и не он!
– Полно, успокойся, – прервал ее отец.
– Нет, слушай. Он наклонился ко мне. «Почему ты не хочешь носить моего подарка? – тихо спросил он. – Попробуй». В руках его было ожерелье с головою змеи. Он надел его на меня, целуя в губы, – при этих словах мать вытерла рот, – губы его были холодные, точно лягушки, и от него скверно пахло: гнилью, сыростью…
Вместо ожерелья на моей шее висела змея, которая тотчас же меня и укусила…
Тут я потеряла сознание и ничего не помню… – закончила мать.
– Где же змея, мама? – не вытерпел я.
Тотчас же две хорошо мне знакомых руки подхватили меня и быстро унесли из комнаты.
– Где это видано, бегать ночью босиком, – ворчала Катерина.
– Да где же змея, няня? – не унимался я.
– Какая там змея, барыня видела сон и закричала.
– А кровь на кофте, ведь я видел кровь!
– Ну, это не знаю. Надо спросить доктора. Да спи ты, спи, – ворчала няня, укрывая меня.
На другое утро солнце так ярко светило в нашу комнату, Люси так звонко смеялась и болтала, что я совершенно забыл и о ночном страхе, и о змее.
Когда мы были готовы, Катерина, как и всегда, повела нас здороваться с родителями. При входе в столовую она просила нас не очень шуметь, так как матушка не совсем здорова.
На кушетке, обложенная подушками, полулежала наша мать. Даже мой детский взгляд заметил, как она побледнела и осунулась за ночь.
Почти не обратив на нас внимания, она обратилась к лакею:
– Где же Нетти, почему вы не приведете ее сюда? Вот уже полчаса, как я ее жду.
– Нетти нет дома, – отвечал, заикаясь, лакей, – все утро мы ее ищем и не знаем, куда она делась.
– Но где же она, что это значит? – волновалась мать.
Лакей молчал.
– Разыщите, узнайте, кто видел ее последний, – распорядилась мать.
Лакей вышел.
Отсутствие собаки удивило и меня; я так привык ее видеть у ног матери, но все же судьба змеи интересовала меня больше, и с несдержанностью избалованного ребенка я спросил:
– Мама, ты нашла змею?
В ту же минуту отец сердито дернул меня за руку и прошептал:
– Молчи!
С недоумением я посмотрел на него и на мать. Брови отца были грозно сдвинуты, а мать с легким стоном откинулась на подушки.
Прежде чем я опомнился, отец спокойным тоном спросил меня, не хочу ли я верхом съездить в деревню, что давно уже было мне обещано.
Удовольствие верховой поездки заслонило все. С криком радости я бросился на шею отца.
– Прикажи оседлать тебе Карего и пусть едет провожать Петро. Когда лошади будут готовы, зайдите сказать, я дам Петро поручение.
Да, только поезжай осторожно, не скачи особенно под гору, – окончил отец.
Через час мы уже выезжали из ворот замка. Пропуская нас, привратник просил Петро узнать, не в деревне ли Нетти.
– До сих пор мы не можем ее найти, а барыня изволят сердиться.
Петро проворчал что-то вроде «старого дьявола», и мы осторожно начали спускаться под гору.
Я устал, Альф, до завтра.
Твой Д.
Письмо седьмое
Воспоминания, как рой потревоженных пчел, осаждают меня, и мне остается одно – писать и писать.
Итак, мы отправились с Петро в деревню.
Петро, старый слуга нашего дома, обожал отца и меня, да и вообще любил всю нашу семью. Это был добрый, веселый старик, всегда готовый помогать мне во всех шалостях: достать ли птичье гнездо, смастерить ли удочку, принести ли живого зайца… В Петро я всегда находил усердного помощника.
Но за последнее время Петро очень переменился: его уже не интересовали больше ни наши зайцы, ни ловля рыбы, ни даже молодой ворон с перебитым крылом, что подарил мне кучер.
Петро молчал по целым часам, и только глаза его странно бегали и как-то загорались злобой, когда он хотя издали видел проходившего старого слугу графа, привезшего гроб.
Он что-то бормотал, и «старый дьявол» частенько срывалось с его губ.
Вся дворня знала ненависть старика к приезжему американцу, и всех это удивляло, так как человека добрее и обходительнее, чем Петро, в замке не было.
Чем вызвал американец к себе ненависть – трудно сказать. Он был так тих и так непритязателен. Все время он проводил или в своей сторожке, которую исправил, или в склепе, у гроба своего господина. Реже он тихо бродил в той части сада, где было его жилье.
Ни в людской, ни в кухне он никогда не появлялся. От общего содержания он тоже отказался.
– Мой господин оставил мне достаточно, чтобы не умереть с голода, – объяснил он отцу.
Кое-кто из наших привилегированных слуг думали свести знакомство с новым жильцом; но живо отстали, обиженные его гордыми и холодными ответами.
Отказ от общего стола тоже многих задел за самолюбие, а над выражением «не умру с голоду» слышались шутки.
– Ишь ты, приехал сухой да серый, а теперь так растолстел, что в дверь не войдет, да и губы красные, что твоя кровь! – смеялась Марина, молодая веселая поломойка.
– Не верещи! – прикрикнул на нее Петро. – Вот заест тебя – не так еще потолстеет.
– Подавится, – заливалась смехом Марина.
Пока довольно, Альф.
Ты спросишь, как дела с Ритой? Великолепно. Бросая перо, я сбрасываю и все прошлое и принадлежу только моей чудной невесте.
Иногда мне приходит на ум – время ли теперь заниматься воспоминаниями, не лучше ли наслаждаться настоящим?
Но в тиши ночи, после горячих поцелуев, меня тянет к воспоминаниям, а следовательно, и к перу. Что это? Видимо, за долгую жизнь изгнанника назрела потребность высказаться… и даже сама любовь не в силах заглушить ее.
Итак, до следующего раза. Завтра иду отыскивать подарок, достойный моей милой.
Д.
– Господа, я вотирую[62] вопрос насчет сна! – вскричал хозяин, как только Карл Иванович прервал чтение.
– Что! Спать! Рано еще, – раздались голоса.
– Ну, кто как, а я ухожу, – встал первый капитан Райт.
– А также и я, – прибавил доктор, – ведь охота завтра назначена на два часа раньше, чтобы засветло попасть в Охотничий дом. Сегодня так до него и не добрались, а все это ваши чтения. А по правде говоря, и разобрать-то в них ничего нельзя.
Молодежи ничего не осталось, как только покориться решению старших.
Библиотекарь аккуратно сложил старые, пожелтевшие листки и, поклонившись, вышел из комнаты.
– Завтра в Охотничьем доме! кричали ему вслед.
– Хорошо.
Охотничий дом
Назавтра за час до захода солнца вся компания собралась к Охотничьему дому.
На высокой башне развевался флаг свободной Америки – голубое поле с серебряными звездами: это была своего рода лесть управляющего перед владетелем-американцем.
Дом был невелик, но странной архитектуры; видимо, его построили не сразу, а надстраивали и пристраивали понемногу.
Стены из серого камня облупились, выветрились, но все это скрадывалось сильно разросшимся диким хмелем и вьющимися розами. Окна нижнего этажа до половины были закрыты боярышником и жасмином.
Да и вообще растительность, никем не задерживаемая, развилась во всей красе и часто являлась почти непроходимой.
У крыльца общество было встречено управляющим Смитом и его помощником, местным уроженцем, Миллером.
Из довольно темной прихожей с допотопными колоннами гости прошли в ярко освещенную столовую.
Комната большая, но узкая, видимо, всегда имела это назначение: внушительный камин, несколько вделанных в стену шкафов, украшения из рогов и голов убитых зверей подтверждали это предположение. Охотничьи картины своей аляповатостью ясно говорили о местном происхождении и невольно наводили на мысль, что изображенные на них сцены взяты из жизни владельцев.
Вот седой старик наступил на голову убитого медведя.
Рядом висит картина, изображающая прекрасную породистую собаку, впившуюся зубами в загривок волка. Лапы хищного животного попирают лежащего на земле человека: судя по одежде – егеря. Молодой человек в бархатном плаще держит наготове ружье, чтобы прийти на помощь своей собаке.
А вот у ног прекрасной охотницы лежит благородный олень.
Когда-то дорогие, тисненные золотом обои отстали и потемнели, но хитрый янки уж в очень плохих местах повесил флаги в честь гостей, а так как гости были разной национальности, то и флаги своим разнообразием напоминали ярмарку. На стене против камина висел красивый бархатный ковер и еще больше усиливал пестроту комнаты.
Мебель была тяжелая, орехового дерева.
Слуги торопливо бегали, приготовляя ужин.
В ожидании его хозяин предложил осмотреть дом.
Все охотно согласились.
Из столовой шел узкий с несколькими поворотами коридор. В конце его было круглое окно с разноцветными стеклами, часть стекол была выбита и заменена белыми. При таком скудном освещении даже днем коридор был темен.
По коридору шли небольшие комнаты, видимо спальни. Каждая из них имела одну или две кровати. Кровати все были старинные, деревянные, но с новыми тюфяками, набитыми свежим сеном.
На одном из поворотов коридора управляющий открыл дверь, ведущую в противоположную от расположения спален сторону.
Общество весело вошло в открытую дверь. Новая комната была большая, с широкими окнами, выходившими к озеру.
Обстановка ее отличалась богатством и роскошью. Высокая резная кровать под парчовым балдахином, с золотыми амурами в головах, конечно, не могла служить ложем для мужчины; да и вся остальная меблировка напоминала о прекрасной, избалованной женщине.
Изящный туалет с дорогим венецианским стеклом, шкапики, этажерки, столики – все это могло удовлетворить самую прихотливую красавицу.
– Э, Гарри, да мы никак попали в замок феи! – вскричал всегда спокойный Райт.
Все с интересом принялись осматривать комнату.
– Да, несомненно, это жилище женщины, смотрите, – сказал доктор, открывая один из столиков.
Там, прикрытые легким слоем пыли, лежали принадлежности дамского рукоделия: шелка, еще сохранившие свой яркий цвет, шерсть, немного истлевшая, а особенно много – бисера и мелкого жемчуга. Крошечный золотой наперсток с вставленным опалом, красивые ножницы, иголки и все прочее, без чего не может обойтись женщина.
– Мы ничего здесь не трогали, – как бы извиняясь, сказал управляющий, посматривая на пыль.
– Отлично сделали, – ответил хозяин. – Осмотр жилища феи доставит удовольствие мне и моим друзьям.
И в подтверждение своих слов он открыл дверцу одной из шифоньерок.
Тонкая ароматная струя лаванды наполнила комнату. На полках лежало прекрасное белье, отделанное настоящими кружевами; вороха лент, бантов, цветов. Тут же стояли изящные маленькие туфельки.
– А вот и ларец с драгоценностями, – указал доктор на довольно большую шкатулку. Шкатулка неоспоримо японской работы была богато украшена золотом и перламутром.
Посмотрим, что прятала в нем красавица, – прибавил Гарри, беря ящик в руки.
Но все старания открыть крышку ни к чему не привели. Ларец имел свой секрет! А что он не был пуст, доказывала его тяжесть.
– Придется оставить до другого раза, – сказал Гарри, ставя ларец на прежнее место и закрывая шкаф.
– Идите сюда, это стоит посмотреть! – раздался голос Райта.
Он стоял на балконе, колонны и перила которого заплел хмель, спелые шишки с сильным запахом свешивались целыми гирляндами.
Все столпились на балконе. Зрелище в самом деле было чудесное!
Последние лучи солнца скользили по долине. От озера поднимался туман и, пронизанный лучами, отливал то нежно-розовым, то золотистым цветом. А там, где туман несколько расходился, проглядывала голубая вода и зеленый берег. Слева была рамка из темной зелени сосен, а справа поднималась мрачная скала, увенчанная угрюмым замком.
– Недурно, чудесно, восхитительно, – слышалось со всех сторон.
– Ну, теперь еще больше, чем прежде, я отказываюсь здесь видеть злых дев с гусиными лапами[63], – громко заявил доктор.
– Это и понятно, все вампиры при заходе и восходе солнца прикованы к своим гробам, – сказал старик-немец, староста деревни, приглашенный хозяином на ужин в виде любезности за разрешение осмотреть школьно-церковный архив.
Вдруг в комнате раздался раздраженный голос хозяина:
– Вы с ума сошли, Смит, если воображаете, будто я соглашусь спать на старых тюфяках, да еще под пыльными занавесями. Нет и нет. Свежее сено и отсутствие тряпок.
– Извините, мистер, но я полагал, что это лучшая комната в доме, – отвечал сконфуженный управляющий.
– Ну а теперь прикажите отнести мои вещи в одну из маленьких спален.
Управляющий и его помощник Миллер начали быстро переговариваться и, видимо, были в большом затруднении.
– В чем еще дело? – спросил хозяин.
– Мы не знаем, как быть, кому из господ предложить эту комнату, так как число кроватей заготовлено по числу гостей, – с низким поклоном сказал Миллер.
– В наказание за вашу непредусмотрительность ложитесь сами в это пыльное гнездо, – смеясь, ответил Гарри.
– Я, мне… спать… остаться… – бормотал бледный как полотно, растерявшийся помощник. – Нет, я не могу… Пощадите!..
– Да что с вами? Говорите толком.
– Да ведь здесь жила невеста, здесь она и умерла, и люди в деревне говорят, что она ходит здесь, стонет и плачет но ночам, – говорил, боязливо оглядываясь, Миллер.
– Ну, господа, дело дошло уже до привидений. Жаль, я не знал этого раньше, непременно бы поселился в этой комнате. Но мое правило – не брать назад раз отданного приказания. Кто желает свести знакомство с невестой с того света? Не ты ли, Райт? – предложил, улыбаясь, Гарри.
Что же, я не прочь, если мне дадут стакан рома и десяток сигар.
– При десятке сигар, да еще с примесью опиума, как ты любишь, ручаюсь, ты увидишь не только невесту-привидение, но и белого слона с зеленым змеем, – пробормотал доктор.
– Итак, решено, капитан Райт ночует здесь. Показывайте дальше, Смит.
– Но, мистер, это все.
– Как все? Дом выглядит гораздо больше.
– Я хочу сказать: это все, нами приготовленное; другую половину, быть может даже большую, мы почти и не осматривали.
– Все равно, проведите нас туда.
– Вам придется идти через сад, так как два хода из этой половины мы заколотили и завесили коврами.
Все шумно прошли через столовую, прихожую и вышли на крыльцо.
VI
Солнце закатилось, и начало быстро темнеть.
Пройдя густо разросшийся сад, подошли к большой крытой веранде.
Управляющий открыл дверь, из нее пахнуло плесенью и затхлостью, как из нежилого помещения.
Было темно. Пришлось позвать лакеев со свечами.
Первая комната не представляла интереса, да и трудно было определить ее назначение: в нее поставили лишние вещи и мебель из приготовленных уже комнат, и она походила на лавку старьевщика.
Тут же, прислоненный к окну, стоял большой письменный стол с подогнувшейся ножкой.
– Карл Иванович из этого стола взял пачку писем, – указал на стол управляющий, – но там еще есть бумаги.
– Не трогайте их до Карла Ивановича, – приказал Гарри.
Пошли дальше.
Комнаты не представляли собой ничего особенного, но были довольно выдержаны. Там, где мебель была черная, и рамы картин были черные. Комнаты, отделанные дубом, имели и мебель дубовую. Все массивное и мрачное.
В одной из комнат обратил на себя общее внимание портрет. При темной обстановке богатая золотая рама невольно бросалась в глаза. Казалось, что портрет этот попал сюда случайно, тем более и висел-то он как-то сбоку, около двери. Так и чувствовалось, что его повесили наскоро, на первое попавшееся место.
По желанию Гарри портрет хорошо осветили.
Высокий сухой старик в богатом бархатном платье, с золотою цепью на шее и в высокой по моде того времени шляпе гордо глядел из рамы. Большой нос и тонкие губы говорили о породе и злом характере, глаза…
– Э, да он в самом деле смотрит! – вскричал один из юношей.
При неверном, мигающем свете свечей глаза блестели злобным красноватым отливом.
Все согласились, что живопись великолепна.
Глаза жили.
Доктор, большой любитель старинной живописи, заходил то с одной, то с другой стороны, весьма живо выражая свое восхищение.
При одном из поворотов он нечаянно толкнул неловкого старосту деревни, а тот, чтобы не упасть, сильно оперся рукою о стену. В ту же минуту он с криком полетел в темное пространство…
Портрет был забыт. Все бросились на помощь старику.
Оказалось, что староста, думая опереться на крепкую стену, оперся на потайную дверь. Дверь сдала, и старик упал.
К счастью, он отделался одним только испугом.
Все с большим интересом вошли в новую комнату, так неожиданно открытую.
Управляющий и его помощник уверяли, что не видели этой комнаты при осмотре дома.
Им можно было легко поверить, так как комната имела совершенно иной характер и не заметить ее было невозможно.
По своим большим венецианским окнам, по изяществу и дороговизне обстановки она подходила к спальне невесты-привидения.
Если б не слой пыли, то можно было бы думать, что комната не так давно оставлена своей обитательницей.
На столах лежали книги, гравюры, какое-то женское рукоделие.
Около кушетки, стоявшей почти посредине комнаты, на изящном столике, в дорогой серебряной вазе – увядший букет полевых цветов.
В головах кушетки – шелковая подушка, еще сохранившая следы женской головки, покоившейся на ней.
Рядом – стул с брошенной на него лютней.
Подойдя ближе, доктор на что-то наступил. Этот предмет оказался небольшой книгой в черном переплете и с золотым обрезом.
– Католический молитвенник! На заглавном листе красивым женским почерком, но, видимо, слабеющей рукой написано: «Помолитесь о несчастной!»
В ногах кушетки – прекрасная плюшевая дамская накидка ярко-пунцового цвета и несколько засохших розанов.
После того как доктор прочел просьбу умершей: «Помолитесь о несчастной!» – смех и разговоры смолкли, все сдерживались, точно труп был тут же в комнате. Этому чувству способствовала никем не нарушенная обстановка помещения.
Даже стакан и графин с открытой пробкой свидетельствовали, что комнату оставили неожиданно.
Видимо, какое-то большое несчастье выгнало ее обитателей, а раз ушедши, никто уже не вернулся.
Такое предположение еще более подтвердилось видом птичьей клетки.
На дне раззолоченной клетки лежал полуистлевший скелет птички. Бедняга погибла от голода: в кормушке в виде раковины не было ни одного зерна.
Было тихо, свечи тускло горели, а белые кружевные занавесы на окнах, выглядывая из-под тяжелых шелковых портьер, казались крыльями улетевших ангелов.
Черт возьми, Гарри, да это точь-в-точь из «Спящей красавицы»[64]! Только где она сама, чтобы ты мог разбудить ее поцелуем? – не выдержал наконец Райт.
Очарование было снято: зашумели, заговорили; посыпались догадки, предположения.
Управляющий, подойдя к последнему окну и раздвинув портьеры, увидел, что это дверь. Она оказалась запертой, но ключ торчал в замке.
С неприятным скрипом, точно со стоном, замок поддался, и дверь открылась. Ночной свежий воздух ворвался в комнату. Свечи замигали, занавесы и сухой букет задвигались, точно дух усопшей ворвался в комнату, озлобленный нарушением покоя.
Так я и думал, эта комната примыкает к большой дамской спальне, – заявил Смит. – Отсюда это нетрудно определить: эта сторона дома выходит к замковой горе и далекого вида на озеро отсюда нет, а за углом будет большой балкон.
Гарри убедился, что Смит прав. Балкон, на который он сейчас вышел, был крошечный, точно гнездо ласточки.
Тотчас же нашли и дверь, ведущую в спальню; ее не заметили сразу только потому, что она представляла художественное произведение и могла быть принята за картину. Дверь не была заперта, но тем не менее открыть ее не могли.
– Да это потому, что с той стороны стоит тяжелый шифоньер, тот самый, в котором мы видели столько вещей. Недаром мне показалось, что он стоит как-то не у места: занимает лучший простенок, тогда как его место скорее в углу, – сказал Гарри. – Завтра это разберем, а теперь ужинать. Все эти открытия прибавили мне аппетита.
Все повиновались хозяину дома и пошли обратно. Возвращаться пришлось опять через сад.
VII
После усталости охотничьего дня и новых впечатлений от осмотра старинных комнат компания весело и охотно принялась за роскошный ужин и дорогие вина.
Вначале все были заняты закусками, заливными, паштетами и так далее, и только утолив голод, а тем более жажду, начали разговаривать. Против обычая, об охоте не было и речи, а весь разговор вертелся около таинственных комнат и их обитателей. Слышались разные мнения: одни предполагали, что обитательница комнат умерла, вернее, погибла внезапно; другие, что она была похищена, но все сходились на том, что в таинственных комнатах произошла трагедия.
Также присутствующих очень занимал вопрос, почему в таком специальном здании, как Охотничий дом, оказались жилые покои, да еще прекрасной молодой женщины. В том, что она была молода и прекрасна, как-то никто даже не сомневался. Это казалось очевидным!
– Эта дама была из чужой земли, – вмешался староста.
– А вы откуда это знаете? Кто вам сказал?
– Моя бабушка говорила, что заморская красавица умерла от тоски по родине. Что она была очень красива, но не нашей веры и умерла без покаяния, оттого ее душа и бродит по дому, не знает покоя и просит молитв своему богу.
– Но отчего же она жила здесь, а не в городе или не в замке?
– Этого бабушка не говорила.
– Карл Иванович, быть может, вы можете что-либо сказать на этот счет? Вы разбирали сегодня церковный архив?
Оба управляющих и Карл Иванович сидели на дальнем конце стола и не вмешивались в разговоры почетных гостей.
– Нет, мистер Гарри, ризница еще закрыта, и только завтра я получу от нее ключ.
– Это верно, – подтвердил и староста.
– Вот, если вам угодно, я приготовил к чтению письма, – предложил Карл Иванович.
– Да, да, пожалуйста! – вскричала молодежь.
– Вина и сигар, – распорядился лакеям хозяин.
Когда приказание было исполнено, слушатели разместились поудобнее и закурили. Карл Иванович начал.
Письмо восьмое
Извини, Альф, что после последнего письма я сделал такой большой перерыв. Все эти дни я был сильно занят, так как искал подарок, достойный моей милой невесты. Ты, конечно, думаешь, что это нетрудно сделать в таком городе, как Венеция. Да, найти возможно, и я нашел.
Один старый еврей, торговец старинными вещами, предложил мне шкатулку, по его словам принадлежавшую какой-то римской императрице. Он клянется богом Адонаем[65] в верности своих слов. Это, понятно, не важно, но вещь и правда из ряда вон выходящая…
Уже сама шкатулка – чудо искусства. Ее перламутровые цветы и золотые птицы напоминают что-то сказочное. Наружного замка нет, а внутренние застежки делают честь своему изобретателю.
На крышке с левой стороны есть птица, готовая схватить яблоко. Нужно вдвинуть это яблоко ей в клюв, и застежки откроются.
В шкатулке несколько отделений, и все они заполнены дамскими украшениями. Почти все великолепной старинной работы, но главную красоту представляет большой черепаховый гребень, украшенный золотом и желтым жемчугом. Как бы он был красив в черных кудрях Риты!
Хороша еще булавка из розового сердолика с острым золотым концом, но что рассказывать! Купить этого сокровища я не мог… Средства, посылаемые мне из дома, казались большими для одинокого студента, а теперь я чувствую всю их мизерность.
Вместо шкатулки императрицы пришлось купить в подарок тряпки: кружева, материи, ленты и т. д.
Рита, когда открыли сундуки, была в неописуемом восторге. Она то разбирала вещи, то примеряла на себя, то бросалась мне на шею, мечтала сшить себе такие платья, как видала на старинных портретах в галерее.
Радость Риты радовала и меня, но все же я был забыт для атласа и бархата!
«О женщины, ничтожество вам имя!» – сказал поэт[66].
Мне ничего не оставалось, как проститься и пораньше идти домой.
А потому займусь окончанием моих воспоминаний.
Итак, до сих пор, если не считать ночного припадка матери и исчезновения собаки, все было просто и естественно.
Теперь же наступает какой-то сумбур. Но слушай.
Жизнь в замке течет мирно. Мать почти совершенно оправилась, только боится еще оставаться одна. Первые ночи после припадка в ногах ее кровати всю ночь сидел отец, теперь его место заняла наша старая Пепа. Пепа с давних пор занимает должность экономки в нашем замке.
Днем мать также не остается одна: отец, мы – дети, старик-доктор и посетители не дают ей время задумываться. После обеда она выходит на площадку в саду и там ложится на кушетку.
Площадка – это лучшее место в нашем саду. Она раскинулась над обрывом, и вид с нее превосходный, от людских глаз и заходящего солнца она защищена непроницаемой стеной зеленого душистого хмеля.
Тут же мы играем с Люси в разбойников и строим песчаные пирамиды. Мать порозовела, но прежняя живость все еще к ней не вернулась. Она по большей части лежит тихо, устремив глаза вдаль.
Первые дни она скучала о Нетти, судьба которой так и осталась неизвестна, но взять другую собаку мать наотрез отказалась.
Играя с Люси в разбойники, я спрятался в хмеле и слышал часть разговора отца с доктором, конечно относившуюся к ночному приключению.
– … У малокровных, а тем более нервных людей это часто бывает, – говорил доктор. – Наверное, положила футляр на ночной столик и ночью, не отдавая себе отчета, вздумала надеть ожерелье и, конечно, со сна сильно уколола шею острой застежкой, а уже от боли явилась галлюцинация змеи и все прочее. Единственное, что меня беспокоит в этом случае, – это то, что ранки заживают с большим трудом, – прибавил задумчиво доктор.
– Все это так, доктор, но как попало ожерелье в постель? Мы нашли его в складках одеяла.
– Да говорю вам, она сама его надела!
Так-то оно так, только странно, футляр оказался на туалете в соседней комнате…
Доктор молчал.
Теперь я принял меры, – продолжал отец, – она не увидит больше ожерелья, я запер его к себе в бюро.
– Поймала, поймала, – лепетала Люси, вытаскивая меня из хмеля.
Насколько у нас на горе было тихо, настолько в долине, в деревне, нарастала тревога. Там появилась какая-то невиданная эпидемия, которая уносила молодых девушек и девочек.
Не проходило недели, чтобы смерть не брала одну или даже две жертвы.
Все они умирали скоропостижно. Накануне веселые, жизнерадостные – наутро были холодными трупами.
Наружных следов насилия не было, и трупы не вскрывали.
Вначале на случаи смерти не обращали особого внимания, но частая их повторяемость при одинаковых условиях взволновала умы.
Всюду затеплились лампадки и зажглись ночники, а те, у кого были девочки-подростки, ложились спать в их комнатах или же девочек клали с собою в кровать.
Болезнь приутихла, точно испугалась.
Но вот пропала дочка старосты, девочка лет тринадцати, поднялась тревога. Подруги сказали, что она пошла в соседнее поле за васильками. Бросились туда и у самой межи нашли труп ребенка. Васильки были еще зажаты в ее ручке. Лицо было испуганное, а на шее заметили две небольшие ранки.
По просьбе отца труп также не вскрывали.
Дня через три погибла дочь зажиточного крестьянина – веселая восьмилетняя девочка, общая любимица семьи. Она находилась всегда вблизи матери, а с наступлением неведомой опасности мать, что называется, не спускала с нее глаз.
В роковой день мать работала на огороде, а рядом, в кустах смородины, резвился ребенок, перекликаясь с нею. Не слыша некоторое время смеха ребенка, женщина его окликнула и, не получив ответа, бросилась в кусты. Там все было тихо. Побежав в сад, который сейчас же примыкал к огороду, несчастная мать наткнулась на свою девочку.
Ребенок был бездыханным. Ручки были еще теплые, и глазки два раза широко открылись и затем сомкнулись навеки. На шее ребенка виднелись две ранки, и кровь обильно залила платье.
На этот раз вмешались уже власти. Труп вскрывали, но ничего не нашли, кроме ранок на шее, но ведь эти ранки могли появиться от укола о сук или шип, когда ребенок падал.
Опросы и допросы ни к чему не привели, разве только затемнили дело.
Обнаружились свидетели, говорившие, что видели большую черную кошку, которая шмыгнула в рожь, когда поднимали с поля дочь старосты.
Находились и такие, что уверяли, будто это была не кошка, а большая зеленая ящерица.
Но общее мнение было то, что кто-то скрылся во ржи.
При последнем же случае даже этого не могли сказать. Домик был крайний с конца деревни, и сбежавшиеся люди не видели ни одного живого существа.
Только старуха-нищенка, сидевшая у ворот деревенской околицы, видела какого-то пожилого, хорошо одетого господина, который прошел из деревни по направлению замка.
Загадка осталась загадкой.
Тревога все росла; девочек-подростков оберегали; но, несмотря на это, ужас охватывал даже самых спокойных и уравновешенных, так как в то же время не знали, откуда может прийти беда. А все это еще усугублялось тем, что время в деревне было рабочее, тяжелое.
Понемногу тревога перешла и в замок. Среди дворни были люди, имевшие в деревне и родню, и знакомства.
По приказу отца от матери скрывали появление эпидемии.
Иногда, когда ветер был со стороны деревни, к нам ясно доносились удары погребального колокола.
Мать вздрагивала и бледнела. Всем, даже нам, детям, становилось жутко. Все крестились. Разговоры на минуту смолкали.
Но тотчас же отец, доктор и другие старались отвлечь внимание матери от печальных звуков.
Многие заметили, что при первом же ударе колокола старый американец как-то съеживался и не шел, а прямо бежал в свою сторожку.
Прошла неделя, и разразилась новая беда.
У одной вдовы-крестьянки была дочь восемнадцати лет. Красавица, хохотунья, кумир всех деревенских женихов.
Домик их был окружен садом, одна сторона которого выходила на большую дорогу.
По приказу матери девушка и молодая работница собирали в саду крыжовник.
Со стороны дороги подошел пожилой высокий господин и попросил чего-либо напиться. Просьбу свою он сопровождал серебряной монетой в руку служанки.
Ничего не подозревая, та бросилась в ледник[67] за квасом.
Возвратившись через четверть часа, она нашла свою госпожу лежавшей без чувств на садовой дорожке. Незнакомца нигде не было.
Служанка подняла страшный крик. Сбежались соседи, мать, работники, а когда приподняли новую жертву, то на песке дорожки осталось темное кровавое пятно.
С большими усилиями девушку привели в чувство, но она была так слаба, что доктор запретил всякие расспросы.
О появлении незнакомца и о его исчезновении сообщила, заикаясь и путая, испуганная служанка. Одно, на чем она крепко стояла, – это что при ее возвращении с ледника на дороге никого не было, а дорога прямая и открытая.
– Когда я подходила, мне было видно всю дорогу, и я подумала, что «он» вошел в сад, – твердила она.
Обыскали дом и сад. Никого и ничего.
Все-таки рассказу служанки пришлось поверить: на заборе на солнышке нежился большой черный кот, и, конечно, пройди здесь чужой человек, кот неминуемо бы убежал.
Известие о новом несчастье дошло до замка и стало известно моей матери. Она заволновалась и послала нашего старика-доктора на помощь молодому деревенскому врачу.
Целую ночь провели доктора у постели больной, и к утру она начала говорить. Но рассказ ее был так фантастичен, что его приписали бреду.
Она бормотала, что черный господин прыгнул на забор, а потом в сад, запрокинул ей голову руками и впился в шею, но это уже был не господин, а большая черная кошка… Все это она говорила несвязно и со стонами, все время боязливо озираясь по сторонам.
Молодой врач рассказы объяснил нервностью, галлюцинациями, а слабость – малокровием.
Наш старый эскулап молчал у постели больной.
– Не могу же я у молодой деревенской красавицы допустить нервы и малокровие! – признался он отцу.
Больше всего его занимали ранки на шее.
– Несомненно, укус! – бормотал он. – Но чей?
Опять прошло несколько дней.
Девушка оправилась, но была слаба и бледна.
На расспросы матери о состоянии больной доктор отвечал:
– Должен признаться, правда, что у ней малокровие, и в сильной степени. Нужно хорошее питание, молоко, вино, – добавил он.
Мать распорядилась все это послать в дом вдовы.
Наконец беда разразилась и над нашим замком.
Умерла одна из служанок, веселая хохотунья Марина, та самая, которую Петро пугал американцем.
Накануне она, по обыкновению, работала за троих и шутила, и хохотала при каждом удобном случае.
Утром, не видя ее на работе, пошли в ее комнату. Комната, где она жила, была под самой крышей, и туда вела маленькая крутая лесенка.
Дверь оказалась незапертой.
На кровати лежала Марина, поза и лицо были совершенно спокойны, никакого беспорядка в комнате также не было, и только ветер, врываясь в открытое окно, путал волосы покойницы.
В первую минуту думали, что она спит, но потом убедились, что, несомненно, она была мертва, мертва и даже начала уже застывать.
На шее зловеще алело пятно ранки с белыми, как бы обсосанными краями.
Весть об этой смерти поразила всех как громом.
Страшное, неведомое чудовище вошло в наш дом!..
На женщин напала паника, мужчины угрюмо молчали.
Покойницу обрядили и положили в притвор капеллы. В этот притвор-прихожую был ход не только из зал замка, но и со двора.
Старые слуги замка взялись по очереди читать положенные молитвы.
Ночь от двенадцати часов до утра досталась конюху. И он уверял, что покойница не иначе как самоубийца, так как ее душа всю ночь билась за окном, скреблась, выла и мяукала. Одни верили, другие смеялись, потому что в кармане рассказчика нашли пустой штоф из-под водки.
Марину похоронили. Колокол капеллы печально вторил колоколу в деревне.
Родители и мы, дети, проводили гроб до ворот замка, большинство же дворни отправилось на деревенское кладбище.
Ни на прощаньи, ни на похоронах не было американца, а когда проходили мимо его сторожки, ставни и дверь ее были плотно заперты.
– А старик-то боится смерти, – заметил отец.
Смерть Марины открыла дверь для несчастья в замке.
Вскоре умерла девочка лет трех, круглая сиротка, жившая в замке из милости. Ее нашли на краю обрыва между камнями. Плакать о ней было некому, и ее живо похоронили.
Но так как труп нашли недалеко от площадки, где моя мать проводила время после обеда, то отец вздумал переменить место отдыха хотя бы на несколько дней.
Он выбрал большой балкон, с которого был прекрасный вид на долину и на заходящее солнце.
Балкон примыкал к парадным, вернее, к нежилым комнатам замка и был во втором этаже. Комнаты эти служили прежним владельцам для шумных пиров, при отце они совсем не открывались, но сохраняли всю свою богатую и старинную обстановку.
Балкон очистили и убрали цветущими растениями, коврами и легкой мебелью.
Несколько прекрасных дней мы провели на нем.
Из-за глупой случайности опять все пошло вверх дном.
Как-то раз, кончив беседу, мать встала, чтобы под руку с отцом идти вниз в свои комнаты. Мы и гости двинулись следом.
Лакей распахнул дверь.
Мать сделала два или три шага по зале, вдруг страшно, дико вскрикнула и, протягивая руки в соседний зал, проговорила:
– Он смотрит, смотрит… это смерть моя! – и упала в обморок на руки отца.
Все невольно взглянули по указанному ею направлению, и у многих мороз пробежал по коже.
В соседней комнате, как раз против двери, висел портрет одного из предков нашего рода.
Высокий сухощавый старик в бархатном колете[68] и в большой шляпе, точно живой, смотрел из рамы. Тонкие губы сжаты, а злые, с красными белками глаза прямо наводили ужас своей реальностью. Они жили.
Общество было поражено. Царствовало молчание.
К счастью, один из молодых гостей сообразил, в чем дело; он бросился к большому готическому окну и силою открыл его. Сразу же глаза портрета потухли.
Перед нами висел простой, заурядный портрет – правда, мастерской кисти, но и только. Теперь в лучах заходящего солнца блестела и сверкала дорогая золоченая рама.
Весь эффект произошел оттого, что луч солнца, падая на разноцветное готическое окно, прошел как раз через красную мантию изображенного на нем короля и придал адскую жизнь глазам портрета.
Чей это портрет? – спросил один из гостей.
– Предполагают, что это портрет того самого родственника, чей труп недавно привезли в гробу из Америки, – ответил доктор.
Чтобы он провалился в преисподнюю! – сказал Петро, грозя портрету кулаком. – Ну, чего рты разинули, убирайте все! – крикнул он на лакеев. – Больше сюда не придем!
Мать, против всякого ожидания, скоро успокоилась, когда ей объяснили причину.
Несмотря на видимое спокойствие матери, с этого дня ей часто казалось, что злые, с красным оттенком глаза смотрят на нее. В комнатах они не появлялись, но все чаще и чаще преследовали ее в саду; то они смотрели из-за выступа обрыва, то сверкали между листьями хмеля.
Когда она сообщила это отцу, он засмеялся и сказал:
– Полно, милая, даже портрета-то, тебя напугавшего, нет больше в замке; я отправил его в ссылку.
А все же, милый Альф, мать была права: глаза на нее смотрели, и смотрели с жадностью… Я сам видел их, но не одни – между листьями хмеля мелькали и нос, и губы, а все вместе напоминало американского слугу.
Я не догадался тотчас же броситься к стене хмеля, а когда сообразил, то там никого уже не было. Американец сидел на крыльце своей сторожки.
Теперь мне предстоит перейти к заключительным ужасным дням, но я прямо чувствую себя не в силах сделать это сегодня. Итак, до завтра или, вернее, до следующего раза.
Твой Д.
Письмо девятое
Вот видишь, милый Альф, я делаюсь аккуратным и пишу тебе на другой же день. Это оттого, что радость моя так велика, что один я не могу ее вместить в себя!
Представь, я богат, несметно богат!
Сегодня утром ко мне явился Петро, старый слуга отца и бывший мой дядька; он передал мне книгу вкладов в банки. Оказывается, отец жил последние годы совсем отшельником, и вклады сильно возросли. Более миллиона флоринов лежит в Венеции! Как это тебе покажется!
Кроме того, он принес шкатулку с драгоценностями моей матери. Если не считать особенного гребня, то вещи по красоте и стоимости не уступают знаменитой шкатулке римской императрицы.
Жемчуга и камни наилучшего качества.
Перебирая их, я вспомнил об ожерелье со змеиной головой и спросил о нем у Петро.
Он сильно побледнел, странно покосился на меня и ответил, что такого ожерелья не было.
Когда я стал настаивать и вспоминать, он резко меня оборвал и спросил:
– Что же вы думаете, что я его украл?
Пришлось замолчать.
Сам Петро сильно состарился, хотя лет ему не так много; выглядит угрюмо и страшно молчалив. Часто делает вид, что не слышит вопроса, а на настоятельные повторения отвечает «да» и «нет».
Где можно добиться от него толку, так это только насчет наследства.
Деньги и драгоценности он привез сам; замок и принадлежащую к нему лесную дачу запер и оставил караульных. Земли и другие доходные статьи сданы на прежних условиях арендаторам. Деньги и отчеты будут присылаться, куда я прикажу.
Сам он просится отпустить его на поклонение какому-то святому для замаливания грехов. Обещает через полгода вернуться обратно в замок.
Я ему сказал, что в память о матери назначаю ему приличную пенсию и право жить в замке. От паломничества не отговариваю, а даю деньги на путевые расходы.
– Не надо, пойду пешком! – сурово оборвал он меня.
Когда же я сказал ему, что женюсь и поеду в свой замок, старик точно сошел с ума. Он вскочил, как молодой, глаза его засверкали; он замахал руками и закричал:
Туда, туда… нет и нет… никогда… ты не смеешь! – (Раньше он почтительно говорил мне «вы».) Лицо его горело, а волосы беспорядочно разметались.
На мои вопросы и заявление, что я так решил, он понес такую чушь, что и не разберешь: тут было и обещание, и клятва, и проклятие, смерть и любовь – одним словом, бред сумасшедшего.
Я напоил его вином, дал ему успокоиться и тогда хотел обстоятельно все выспросить. Но это было невозможно.
При первых же словах старик бросился передо мной на колени, целовал мои руки и умолял не ездить в замок.
Тут я понял, что есть какая-то тайна, но он под страхом проклятия не смеет мне ее открыть.
– Ваша мать отослала вас, вы должны ее слушаться, – кончил он с усилием.
Я говорил ему, как всю жизнь рвался на родину, как тосковал и что теперь я должен, прямо должен поклониться могилам отца и матери. Если даже для этого мне придется загубить и свою, и его душу.
Конечно, это я говорил для красоты слога, но с Петро снова сделался припадок исступления: он катался по полу и рвал свои седые волосы; пена шла у него изо рта…
Наконец он ослаб и притих.
Тогда подождите меня, мы вместе поедем туда, – попросил он.
Желая его успокоить да и отвязаться от сумасшедшего, я пообещал:
– Поторопись вернуться в замок, а к полугоду и я приеду туда.
Он поклонился и вышел.
Вечером, когда я спросил о нем, то мне сказали, что, придя от меня, он живо собрал свою котомку и, никому не отвечая на вопросы и не говоря ни слова, ушел из дому.
Видимо, он торопился.
Ясное дело, ждать его я не буду, выясню все дела и поеду.
Но странно, Альф, после старика у меня точно камень на сердце… нервы натянулись, как струны. Прощай.
Твой Д.
Карл Иванович замолчал. Он аккуратно сложил письма и перевязал их старым шнурком.
– Это все, – сказал он.
– Как все? А где же конец?
– Где разгадка тайны?
Читайте дальше, – слышались голоса.
– Я говорю: это все, – повторил Карл Иванович. – В пачке нет больше писем.
– Какая жалость!
– Это так интересно, неужели нет конца?
По-видимому, больше всех был опечален сам хозяин.
– Карл Иванович, господин Смит говорит, что в столе есть еще бумаги. Разберите их, нет ли там окончания, – сказал Гарри.
– Хорошо, мистер, завтра я посмотрю.
– Ну а сегодня нам ничего не остается, как идти спать, – сказал доктор.
Все распрощались и разбрелись по спальням.
VIII
Ночь прошла спокойно.
Утром за кофе хозяин обратился к капитану Райту, к которому, видимо, чувствовал симпатию, и спросил, смеясь:
– Ну что, милый капитан, как ты почивал, не беспокоила тебя хозяйка комнаты?
Капитан Райт угрюмо сосал свою сигару и не сказал еще никому ни слова.
Что же, ты полагаешь, что и я верю всем этим бредням… и трясусь от страха по ночам? – пробурчал он сердито.
– Не бойся, никто не заподозрит тебя ни в суеверии, ни в трусости, – поспешил успокоить его Гарри.
– Ну а я бы не решился лечь в той комнате, – с дрожью в голосе заговорил Жорж К., молодой мальчик, тот самый, что один раз уже видел привидение.
– Лечь на ее постель, под ее занавесы, – продолжал он, – а вдруг ночью она вздумает их открыть! Бр-р-р!.. Благодарю…
Что за чушь вы городите! – вскричал Райт, с треском отодвигая стул.
Все изумленно на него взглянули: спокойный, холодный Райт так сердится на безобидную болтовню мальчика. Это что-то новое.
Наступило неловкое молчание.
– Господа, – поспешил на помощь хозяин, – охоты сегодня нет, и я предлагаю отправиться в замок. Ввода во владение я все никак не дождусь, но местные власти в лице деревенского старосты, нашего милого гостя, – говорил Гарри, кланяясь в сторону старосты, – ничего не имеют против осмотра. Конечно, ни один камень не будет оттуда взят.
От любезного поклона будущего владельца замка лицо старосты просияло, и он предложил себя в проводники.
– Итак, после завтрака, – решил Гарри, – а вы, Карл Иванович, займитесь бумагами и постарайтесь найти нам что-либо для вечернего чтения.
Осмотр замка
За завтраком ни Карла Ивановича, ни старосты не было. Они оба ушли в деревню. Один – разбирать архив, а другой – взять ключи от замковых ворот из церковной ризницы.
Место встречи было назначено у ворот замка, куда общество из Охотничьего дома, а староста из деревни должны были прийти разными дорогами.
Замок лежал недалеко от Охотничьего дома, он как бы царил над ним, но подняться на скалу со стороны долины было невозможно. Крутая и отвесная скала не привлекала пешехода.
Пришлось идти через лес с противоположной стороны от деревни. Здесь подъем был не крут и почти незаметен. Выйдя из кустов, которыми кончался вековой лес, тотчас же очутились под стенами замка.
Серые мрачные стены, без украшений, без бойниц и даже без щелей – они производили тяжелое впечатление.
Обогнув угол замка, дошли до ворот. Здесь пришлось немного обождать.
Ворота были массивные, дубовые, обитые железными полосами. Как на них, так и на маленькой калитке висели замки и печати.
Вскоре на дороге из деревни в замок показался староста. Он быстро шел. Дорога эта была короче, но много круче и страшно запущена.
По знаку Гарри староста, сняв печати, толкнул калитку; с тяжелым скрипом она открылась.
Все вошли во двор.
Когда-то этот двор был мощен, но теперь зарос бурьяном; всюду по углам валялся мусор, снесенный туда ветром; стояли лужи бывшего ночью дождя, – одним словом, картина запустения была полная.
Сад тоже заглох. Здесь рука времени сказалась еще сильнее: все перемешалось, перепуталось, дорожки исчезли. О цветочных куртинах[69] не было и помину, бассейны предстали в виде заглохших мусорных ям. Площадки сохранились лучше. Так, с одной из них, с самого обрыва, открывался чудный вид на долину. В глубине виднелось голубое озеро, а направо вдали белела деревенская колокольня. По ясному воздуху долетали удары вечернего колокола.
– А эта площадка походит на ту, что описана в письмах к Альфу, – заявил молодой охотник Джемс, приехавший с Гарри из Америки. Несмотря на свойственную ему подвижность и впечатлительность, он был серьезен не по годам, любил до всего додуматься и все знать. Это был самый внимательный слушатель Карла Ивановича.
– Вот и обрыв с камнями по краю, здесь, вероятно, была стена из хмеля – ведь это западная сторона, и отсюда виден заход солнца, – продолжал он, – тут же неподалеку найдем и сторожку американца.
– А пожалуй, ты, Джемми, и прав! – вскричал Гарри. – Если сторожка найдется, то и место действия определено. Ура, наш Шерлок Холмс!
Все начали оглядываться, а потом и искать; думали, что разросшиеся деревья скрывают сторожку. Но все было тщетно – нигде ни признака постройки.
– Господа, пожалуйте, подъезд открыт! – торжественно крикнул староста.
Он до сих пор возился с замком, в чем помогал ему его рабочий.
Прекрасные входные двери из темного дуба были открыты, и ветер, врываясь в мрачную и холодную переднюю, поднял такую массу пыли, что ничего не было видно, особенно после яркого дневного света.
Поэтому общество поспешило в соседнюю залу. По знаку Гарри открыли окно. Повторилась та же история: с солнечным лучом ворвался и ветер, пыль поднялась, как туман, охватывая всех и каждого.
Точно серое покрывало привидения! – уверял Жорж К.
Окно поспешили закрыть и второй раз решили этого не делать.
Пришлось осматривать в полутьме.
Окна до того были запылены и загрязнены, что пропускали только сероватый свет, а иные при этом были еще сделаны из цветных стекол.
Все же можно было разглядеть, что комнаты полны мебелью, картинами и всем прочим. Большинство вещей было закрыто чехлами. Ни книг, ни других мелких обиходных предметов не валялось. Все было прибрано. Видимо, жильцы ушли спокойно, а не бежали, как из Охотничьего дома.
Комнат было много, и, судя по мебели, тут были спальни, гостиные и прочие помещения, но при тусклом освещении они ничем не привлекали внимания общества.
Поднялись во второй этаж. Здесь обстановка была более жилой; этот этаж был покинут позднее, чем нижний. Здесь можно было натолкнуться на много неубранных, обыденных вещей. Вот лежит забытый хлыст и пара перчаток, вот на полу роскошный голубой бант: несомненно, от дамского туалета, а вот и раскрытая книга.
Джемс не преминул в нее заглянуть:
– Латынь. «Сказание о ламиях[70] и выходцах с того света», – объявил он. – Гарри, когда ты получишь замок, позволь мне прочесть эту книгу.
– Конечно, Джемми, тогда ты сможешь взять ее совсем.
– Что это, разбитое зеркало?
И правда, гладкая черная рама была пуста.
Прошли еще несколько комнат. Вот большая зала, стены которой сплошь завешаны портретами: семейная портретная галерея.
Гарри и Джемс, отделившись от общества, были в соседней комнате.
– Смотри, Гарри, это дверь, и она, ясное дело, ведет на балкон. Значит, отсюда через дверь висел страшный портрет. Теперь его место должно быть пусто.
– Да будет тебе, неудачный сыщик, – смеялся все слышавший доктор. – Как ни смотри, а пустого места на стенах нет. Не эту ли красавицу ты считаешь за «страшный портрет»? Да и рассуди логично: если место действия – здешний замок, то письма писал его владелец. Каким же образом они попали обратно сюда, не писал же он их сам себе? А раз они здесь, то, значит, он их не писал, а получал.
– Но замок стоит на горе, и в народе рассказывают о нем разные чудеса, – не унимался Джемс.
– Замков на горах много, а легенд про них еще того больше! – отрезал доктор.
Говоря так, они подошли к портрету красавицы. Высокая, стройная, с чудным цветом лица и лучистыми, черными глазами – она заслуживала вполне название красавицы. Черные волосы были высоко подобраны под жемчужную сетку и красивый большой гребень удерживал их на макушке. Его резной край, тоже с жемчугом, как корона, поднимался над передними волнами волос. Белое шелковое, затканное серебром платье фасона Екатерины Медичи[71] выказывало стройность фигуры, а большой воротник настоящих кружев, с драгоценными камнями, был хорошей оправой для белоснежной шеи. В руках ее были розы.
Ей в pendant[72] висел портрет мужчины. Белокурый, прекрасно одетый, он, казалось, даже с портрета любовался своей соседкой и обожал ее.
– Какая дивная, прекрасная пара! – восхищался доктор. – Но поспешим, нас ждут.
Тем временем все общество остановилось у запертых дверей.
Двери были массивные, чугунные, но покрыты золоченым орнаментом такого тонкого и изящного рисунка, что казались легкими. Главным украшением были кресты на обеих половинках.
Это украшение прямо указывало, что двери ведут в капеллу.
Попробовали их открыть и убедились, что они не только замкнуты, но заделаны. Как щели, так и замочная скважина были залиты каким-то металлом.
На ручке дверей висел венок из каких-то однородных цветов, но что за цветы составляли этот венок, сказать было нельзя, до того он истлел. От одного прикосновения венок разлетелся прахом.
IX
Пошли дальше.
В третьем этаже были помещения для прислуги. Из них по наружной веранде можно было спуститься прямо в сад, что и сделали.
Восточная сторона сада представляла ту же картину запустения, как и западная.
Прошли в самый его конец.
Оказалось, что общий массив скалы здесь еще приподнимается и образует высокий красивый выступ, по гребню которого и проходит замковая стена.
Скала под стеною, видимо, была отделана рукою человека. Оставив красивую площадку у подножия стены, она отвесно опускалась в сад и вся сплошь была закрыта вьющимися растениями – точно завешана дорогой портьерой.
Скоро между растениями рассмотрели две пары колонн; они были из темного порфира и поддерживали небольшой фриз[73]