Читать онлайн Красный демон бесплатно
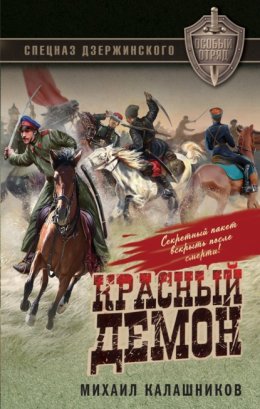
© Калашников М.А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
1
В красной луже лежал белый офицер. Лошади с перекошенными и пустыми седлами проносились над ним, но пока ни одна его не задела. Перекрикивались всадники, роняли грубые слова вперемешку с матом:
– Живее давай! Да черт с ними… не догнать уж теперь! Коней ловите… оглядите трупы, может, жив еще кто.
Гаранин сознания не терял, не паниковал, в голове его вертелось: «По левой руке полоснул, чувствую точно. А вот досталось ли в бок? Спасибо тебе, Мирон, пометил меня щадяще, как и обещал. Комкор ему лично приказал на меня руку наложить, у остальных задание – меня не трогать, а вырубать мой эскорт. Бедолаги, переодетые в кадетскую форму, они кричали налетевшим чекистам: “Свои! Свои!„Они-то не предупреждены были о деле, им сказали сопроводить меня в стан белых, а там прикидываться, пока наши не придут… Пакет не замочить бы кровью, ради него все и начиналось».
Солнце от Гаранина заслонила высокая тень, и он почувствовал, как на щеку его упал клок пены, остро пахнущий лошадиным потом. Гаранин не вздрогнул, продолжая хранить хладнокровное сознание.
– Этот дышит! – раздалось над ним. – Поднять! Усадить его в седло, довезем к своим!
Гаранина обхватило разом несколько рук, кто-то ловко порол рукав его кителя и бинтовал руку. Гаранин застонал и медленно открыл глаза. Среди мелькавшей формы, амуниции и лошадиных крупов он увидел ротмистра в седле, от Гаранина не ускользнула деталь: награда за «Ледяной поход» на его груди. Ротмистр заметил открытые глаза раненого, громко спросил:
– Ваше имя? Ехать верхом сможете?
Гаранин ответил не сразу, изображая действительную потерю сознания:
– Я посыльный из корпуса Вюртемберга… мне велено доставить пакет… срочно… я готов ехать…
И Гаранин в подтверждение своих слов унял шатание в коленях, опершись на плечи помогавших ему солдат, встал ровно, но тут же пошатнулся.
– Скорее коня ему! – прогремел властный голос. – Красные с подмогой скачут обратно!
Гаранину подали чужую лошадь с забрызганной кровью попоной; поддерживаемый с боков и со спины, он неловко взвалил свое тело на седло, тяжело перекинул ногу. Вся кавалькада понеслась прочь. Гаранина поддерживали с обеих сторон двое верховых, он болтался, чувствуя боль в раненой руке. Обернувшись, заметил, что красные и вправду их настигают: постановка должна была проходить со всей правдоподобностью. Обругав себя за переигрывание, Гаранин приобрел твердость посадки, позабыл о боли и умело перехватил поводья здоровой рукой. Лошадь почуяла ловкое управление и шпоры Гаранина. Запаленным голосом он рявкнул сопровождавшим его:
– Отставить! Я сам!
На стороне белых глухо ударило четыре орудийных ствола, Гаранин обернулся: перед их преследователями выросли земляные султаны. Красный отряд с чувством облегчения перестал имитировать погоню и повернул к своим позициям.
Сопровождавшие Гаранина чуть разъехались в стороны, но не отстали, скакали по бокам. Они направили его в проход между узкой плетенкой из колючей проволоки, проехали по деревянным помостам, перекинутым над траншеями, две линии окопов, провели своего подопечного к брезентовой палатке, скрытой в неглубокой лощинке. У палатки уже толпился остальной конный отряд, «выручивший» Гаранина из переделки. Тут же стояли несколько офицеров, в аксельбантах, усах и с наградами за германскую войну.
Внезапно у Гаранина поплыло все перед глазами. «Должно быть, от потери крови…», – промелькнула мысль, он вынул из-за пазухи пакет, успел освободить ноги из стремян и повалился на бок. Ему подставили руки, он почти не ушибся, промолвил: «Срочное донесение!..» – и закрыл глаза.
Полностью он не отключился, слышал, что куда-то несут, укладывают, тщательно осматривают рану. Гаранин лежал, насторожившись и прислушиваясь: каждое слово, брошенное мимо, может пригодиться, продлить ему жизнь в этом враждебном лагере. Он ощутил, что его убрали с солнца, занесли в тень, возможно, в такую же брезентовую палатку, какую он видел в лощине. Но даже если так, двери в палатке были распахнуты, он слышал конское ржание, голоса проходивших мимо людей, пение беззаботной птахи, звон медицинских инструментов. С него аккуратно стянули китель и нижнее белье. Запахло йодом и спиртом, вновь его руку тревожили, но теперь по-иному, совсем не как на поле боя. Гаранин сразу понял: пальцы, ухаживающие за его раной, принадлежат женщине.
Он осторожно приоткрыл глаза, обычная милосердная сестра в белой наколке с красным крестом. Обычное лицо. Хотя… в нем мелькнуло что-то знакомое. Или просто показалось. Сестра обработала рану, стала наново ее бинтовать, заметила чужой взгляд на своем лице, без улыбки попросила:
– Не тревожьтесь, закрывайте ваши глазоньки, вам так будет легче.
Гаранин покорно опустил веки:
– Скажите, у меня только рука? Больше нет ран?
– Только ссадины на боку и спине. Опасного ничего нет.
Она доделала свою работу, накинула сверху него легкую простыню, оставив забинтованную руку не укрытой. Через время Гаранин вновь приоткрыл глаза, двух секунд хватило оценить обстановку: он и вправду лежал в палатке с незапахнутыми полами, на походной раскладной койке, в одиночестве. Ему дали покой, но не оставили без присмотра – в этом он был уверен. Из плюсов: рана незначительная, он в сознании и может контролировать обстановку вокруг себя. Минусов пока нет. Зато есть минутка вернуться во вчера, заново проанализировать весь путь и свою миссию.
…Гаранина срочно вызвали в губернский отдел ЧК, благо дорога от фронта была близкая, он поспел к нужному часу – совещание назначалось экстренное. Темная ночь окутала город, то и дело возникали из тьмы патрули, спрашивали пропуск. Тишина разламывалась от редкого собачьего лая на окраинах и тревожного цоканья подков по булыжнику мостовых.
Съехались начальники штабов от обоих корпусов, вся верхушка губернского и фронтового ЧК, товарищ Розенфельд и еще какое-то начальство. Розенфельд приступил к делу:
– По-хорошему, надо кое-кого дождаться, но не будем – дело срочное. Два часа назад в полосе фронта Казаченко в плен взят вестовой Вюртемберга с целым эскортом. У него ценный пакет.
На этих словах по присутствующим пробежало оживление. Розенфельд продолжал:
– Мы с вами – птицы стреляные, не должны терять голову. Любая информация оттуда, согласно директиве, воспринимается критически, не исключена диверсия. Но и не воспользоваться выпавшим шансом – значит проявить саботаж. Вюртемберг, мы все знаем, отрезан от телеграфа и любой связи на своем плацдарме, а поэтому я считаю возможным, что он выбрал именно такой способ сообщить о себе. В пакете информация о начале прорыва.
Розенфельд сделал паузу, ожидая нетерпеливых возгласов, но выскочек на совещании не было, все напряженно взирали на Розенфельда.
– Вюртемберг, как отрезанный ломоть, долго сидеть на своей плацдарме не может. Эвакуироваться с артиллерией, лазаретами и обозом – ему тоже не по силам, а весь понтонный парк мы у него уничтожили и отняли. Выход у него один – прорыв. В одиночку ему не выйти, а значит, нужен совместный удар всей кадетской армии в месте удара корпуса Вюртемберга, чтобы они вышли друг другу навстречу. И вот он задумал сложную схему. Посылает вестового, но мало того, что в пакете расписана вся диспозиция прорыва, назначены день и час, на случай если вестовой попадет к нам, вестовому в устной форме велено передать: завтра в полночь, от кадетской армии будет подтверждающий знак – две зеленые ракеты с полуминутным перерывом между ними. С плацдарма этих ракет не видно, но через линию фронта будет послан специальный наблюдатель. Он эти ракеты должен засечь и принести Вюртембергу весть: все в порядке, вестовой достиг своей цели, можно проводить операцию. Схема сложная, но оправданная.
– Товарищ Розенфельд, – поднял руку Гаранин, – разрешите уточнение: нельзя ли услышать обстоятельства того, как попал вестовой Вюртемберга в ваши руки?
– Твой интерес понятен, товарищ Гаранин, надеешься в деталях усмотреть подлинность сообщения или его намеренную обманку. Может, Вюртембергу и удастся незаметно послать со своего плацдарма одинокого наблюдателя за зелеными ракетами, только не конный разъезд в пять человек. Они, выезжая, надеялись на темноту ночи, но она их не спасла. Наша разведка дала им отъехать подальше от своих передовых пикетов, и всех взяли без шума, а самого вестового удалось взять живым, хоть и помятым.
– Можно ли увидеть вестового? – интересовался Гаранин. – Я бы попытался определить степень его фанатичности, преданности Белому движению, из этого следует выводить правдивость слов вестового по поводу условного знака с зелеными ракетами…
– Это слишком долгий процесс, товарищ Гаранин, – оборвал его Розенфельд. – Мы знаем твои выдающиеся способности психоанализа, но ты сюда вызван по другому поводу. Если бы ты, Гаранин, согласился взять на себя роль этого самого вестового и доставить пакет по назначению… Мы имеем возможность выманить Вюртемберга с укрепленных позиций и разделаться с этим его опротивевшим плацдармом, а также нанести ошеломляющий удар основному кадетскому войску… Подумай, Гаранин. Риск велик, но и польза от твоей работы несоизмеримо велика.
Гаранин размышлял не более полсекунды, он поднялся со стула:
– Прикажете остаться в логове белых после исполнения задания?
– Твоя главная миссия: заставить кадетов верить в удар Вюртемберга и выманить их ему навстречу, под наш кулак. Если это удастся – тебе там делать нечего, можешь смело бежать и где-нибудь затаиться до нашего подхода.
Вскочил с места Казаченко:
– Имею слово, товарищ Розенфельд! По-моему, сил у нас недостаточно, чтоб одновременно встречать корпус Вюртемберга и засаду устраивать идущим ему на подмогу основным войскам. Не лучше ли быстренько переделать содержание пакета: им отпишем наступление в такой-то день, а Вюртемберг ударит в другое число, не с ними заодно.
– Глупо, товарищ Казаченко! – резко осадил его Розенфельд. – Во-первых, у нас нет времени переделывать пакет – каллиграфист попросту не успеет. Во-вторых, до плацдарма не такое уж и большое расстояние. По-твоему, Вюртемберг услышит, как в бой пошли основные кадетские войска, и не смекнет, что план его разгадан? Нет, пакет нам переделывать не с руки, бить – так одним махом обоих. А дополнительных сил затребуем…
Розенфельда перебил скрежет распахнувшихся железных ворот, и Гаранин с высоты собственного роста увидел через окно внутренний двор ЧК, освещенный двумя фарами. Автомобиля Гаранин не разглядел, но представил, что он черный, с поднятой крышей, продолговатый и зловещий, как и человек, который в нем ездил.
В начале германской войны Гаранину повезло увидеть живого Нестерова. Это был легкий и подвижный человек, своей стремительной походкой похожий на крылатую машину. Перед самой революцией в окрестностях Могилева он видел неповоротливый гибрид: авто, где вместо передних колес были санные полозья. Гибрид скользил по снегу, плохо управлялся и часто буксовал. На нем возили Николая Романова – в ту пору главнокомандующего армией. Год назад Гаранин увидел знаменитый эшелон «кочегара революции» Троцкого: весь закованный в броню, ощетиненный орудиями и пулеметами, с мощной радиостанцией, ловившей свежие новости со всего мира и тут же печатавшей их в походной типографии, с автомобилем в вагоне-гараже и цистерной для бензина, с внутренним телефоном и вагоном-баней, с толпами затянутых в красную кожу бойцов. На них все было красное и кожаное, даже буденовки и ремни, словно только что они вышли из кочегарок, растопленных в преисподней.
У автомобиля, въехавшего во двор губернской ЧК, не было никакой помпы, но тут и задача требовалась другая. Гаранин не видел отворившихся дверец авто и выходящего оттуда человека, не слышал притворенной за его спиной двери с черной лестницы, но чувствовал, что прибывший пассажир уже поднимается к ним на второй этаж, а потому не спешил садиться и не тревожил Розенфельда новыми вопросами. Дверь в кабинет скрипнула, участники совещания вскочили. Вошел худой и длинный человек с острой полуседой бородкой, колким холодным взглядом. Он молниеносно окинул им совещание, велел всем садиться. Гаранин продолжил стоять. Вновь прибывший подошел к нему вплотную.
– Феликс Эдмундович, это наш лучший разведчик, – представил подоспевший Розенфельд. – С положением ознакомлен, на фронте уже давно…
– Служили в царской контрразведке? – перебил Железный Феликс Розенфельда, обращаясь напрямую к Гаранину.
– От начала войны до подписания Брестского мира, – молниеносно среагировал Гаранин.
Собеседник прожигал его взглядом:
– Это похвально. Я склонен полагать, что вы ценный сотрудник. Ваши мотивы?
Тут Гаранин растерялся, не вполне понимая суть вопроса. Собеседник помог ему:
– Почему вы пошли с нами? Ведь ваши все по ту сторону.
– Вовсе нет, Феликс Эдмундович, – сказал Гаранин и почувствовал, что у него пересыхает во рту. – Среди военспецов полно бывших офицеров…
Гаранин хотел перечислять громкие фамилии на службе у советской власти, и без того известные Железному Феликсу, затем вспомнил свои мотивы, толкнувшие его после революции в рабоче-крестьянскую армию, мысли бежали вскачь, но собеседник его внезапно развернул на лице приятную улыбку:
– Вы славный сотрудник, я вижу это по вашей искренности. Извините, что забрал у вас несколько минут времени, ведь еще нужно подогнать форму. Как вам кажется: успеете до рассвета попасть к ним?
– Не уверен. Вы сами сказали про мелочи с формой и прочее, а еще к фронту надо и там, по местности.
– Что будете отвечать, если вам не поверят? – резал Железный Феликс словами, как бритвой.
– Скажу, что наш пикет заплутал во тьме, пережидали день в плавнях, дожидались темноты и теперь…
– Вы невнимательны, товарищ контрразведчик, – лукаво улыбался собеседник. – Вам надо попасть к белым до сегодняшней полуночи, чтобы предупредить о двух зеленых ракетах, иначе поход ваш будет напрасным. Поэтому придется идти к ним белым днем.
– Я готов. Плана у меня нет, но надеюсь на свой опыт.
Железный Феликс приподнял удивленно брови. Вступился Розенфельд:
– Товарищ Гаранин имеет образование, знает два европейских языка и, согласно старому режиму, обучен манерам.
– Отряд для поимки вестового Гаранина и его эскорта готов? – снова перебил Розенфельда резкий голос.
– Все превосходные наездники и верные чекисты. Предупреждены, что придется рубить своих, но рука у всех твердая – не дрогнет, – сурово докладывал Розенфельд.
Железный Феликс заглянул глубоко в глаза Гаранину и протянул ему ладонь:
– Не теряйте времени, товарищ Гаранин. И мы его терять не будем: с начальниками штабов немедленно приступаем к разработке операции. Я верю в ваш успех.
Гаранин уходил гулким коридором, чувствуя в своей руке горячее пожатие. Комкор шел по левую руку, монотонно втолковывал:
– Мирошку я предупредил, он обещал тебя лично приголубить. Память, сказал, оставлю Гаранину на всю жизнь, но аккуратненькую. Их отряд уже выехал, будет ждать вас у Волчьей пади, там к кадетским позициям близко, должны вас заметить и на помощь прийти. Не будут же они сидеть, когда у них на глазах целый эскорт вырубают?
В предрассветных сумерках Гаранин с переодетым в форму белых эскортом, набранным из ничего не подозревавших лапотных мужиков, пробирался плавнями к фронту. Солнце приоткрыло свой край, когда они приблизились к неширокой промоине, впадавшей в заболоченное русло. «Волчья падь», – догадался Гаранин и щелкнул внутри себя тумблером, будто провернул выключатель потолочной лампы: сделался холодным и собранным. Чекисты бесшумно вывернули из пади, бешено разгоняя коней. Лица несчастных мужиков, переодетых в кадетскую форму, передернуло ужасом.
2
Гаранин лежал в палатке, чувствительный к любому звуку, шагу и движению. Он давно распознал за стенкой мерные шаги часового, оставленного для охраны Гаранина, слушал, сколько пронеслось верховых в одну сторону и сколько вернулось в другую, к нему долетало ленивое лягушечье кваканье, и он понял, что его не потащили далеко от позиций – плавни и болото рядом. Ветром принесло запах пшенной каши, дело шло к обеду. По неутрамбованной, покрытой травой земле подъехала фурманка. Ездовой или человек, сидевший в ней, негромко спросил:
– Аннушка, в город едете?
Из-за стенки соседней палатки приглушенно раздалось:
– Да, Осип, смена моя кончилась, погоди немного – собираюсь.
Через минуту зашелестела полотняная сторона палатки, веревочный хлястик ударился о стенку, зашуршало платья, колеблемое стремительными шагами. Гаранин решился приоткрыть глаза, но опоздал, в распахнутых «дверях» его палатки мелькнул лишь черный подол с белым кружевом по краю и послевкусием пронеслось вслед за подолом облако духов. Невидимый Осип чмокнул губами, будто поцеловал кого-то, тронул лошадиные бока вожжами; фурманка, скрипнув разъезженными осями, удалилась.
Долго вокруг палатки ничего не происходило, и Гаранин мог позволить себе дремать вполглаза, восполняя усталость бессонной ночи. Потом что-то гулко ударило в землю, Гаранин определил: бросили тяжесть или неаккуратно ее опустили. За стеной негромкие голоса:
– Фух, давай передохнем немного.
– Поручик Квитков будут ругаться.
– А черт с ним, он отходчивый.
– Не скажи. Я видел, как он самолично одного бедолагу порол.
– Красного небось.
– Да нет, нашего. Правда, у него листовку красную нашли.
– Тогда понятно. Квитков красных с дерьмом бы съел, истый зверь.
– Озвереешь тут, когда родного брата в паровозной топке сожгли.
– А кто сжег-то?
– Знамо дело – красные.
– А ты видел? В семнадцатом все красными были, когда с фронта бёгли. Мы и сами, помнишь?..
– Тихо ты! Поднимай… Живее, поднимай ее. Пошли.
Гаранин думал: «Уж не тот ли это Квитков, что в третьем полку служил? После перемирия я его не видел».
Зимой семнадцатого года многие офицеры оставили окопы и рванули по домам вместе с солдатами. Гаранин же остался до конца, сам не зная, чего он ждет от всей этой волокиты. Встретил Розенфельда в окопах. Они бродили тогда, черные кожаные комиссары, накануне февральского наступления немцев, уговаривали всех засевших в окопах переходить к ним на службу. Гаранина приняли в ЧК, увезли под Петроград, а спустя неделю он узнал, что фронта не существует, германская железная машина рванула через оставленные русскими войсками позиции, заняла все вплоть до Пскова, Нарвы и Смоленска. Гаранину не хотелось жить, тем более продолжать службу. Розенфельд сказал, что именно в этом спасение. Сам Розенфельд и люди, что его окружали, были единственной силой тогда, кому Гаранин поверил. В них чувствовалась хоть какая-то воля к сопротивлению, и именно они уберегли Гаранина от самоубийства.
Он не проходил обряд крещения, как многие из его коллег, которых водили в темные петроградские подвалы умыть свои руки кровью контры, ему поверили и так. В ЧК ценились кадры с фронтовым опытом, ими, можно сказать, дорожили, а потому и не устраивали для них своеобразных обрядов посвящения в расстрельных подвалах.
Гаранин знал о темных застенках. Поначалу ему было мерзко и противно, потом он стал ругать себя «чистоплюем», а через неделю-другую сказал себе: «Если бы у Николая Романова были такие вот опричники в чертовой коже, никогда бы Родзянки с Милюковыми не устроили Февраль». И он убедил себя, что каждый важен на своем месте.
От коротких воспоминаний Гаранина вернули в реальность чьи-то шаги. Часовой за стенкой палатки спросил:
– Ты к нему?
– Велено к начальству доставить, – ответил пришедший.
Гаранин не стал ждать, когда в палатку войдут и станут приводить его в чувства – открыл глаза, сел на складной койке. Вошел конвойный:
– Приказано сопроводить вас к господину полковнику.
Гаранин устало провел здоровой рукой по лицу, стал натягивать сапоги. Штабная палатка была в двух сотнях саженей от лазарета, полотняные двери ее также были распахнуты, позволяя залетать внутрь прохладному ветерку. Офицеров в ней на этот раз было меньше, чем при первом появлении здесь Гаранина. За столом сидел седоусый полковник с широкой проплешиной посередине лба, слева от него – тот самый ротмистр, «спасший» со своим отрядом Гаранина, а справа – неизвестный молодой поручик с такой же наградой на черно-оранжевой ленте, как и у ротмистра.
– Вестовой генерала Вюртемберга, поручик Гаранин! – свел каблуки вместе и приложил пальцы к козырьку вошедший Гаранин.
Лицо его при этом ненаигранно исказилось: от отвык от козыряния и резкое движение стрельнуло в раненую руку.
– Как ваша рана, поручик? – участливо спросил старший по чину из бывших в палатке офицеров.
– Уже лучше, господин полковник. Ваши медики оказали мне помощь.
– Скажите мне, поручик: как долго вы состоите у Вюртемберга в качестве вестового? – совсем невраждебно спросил полковник, но Гаранин внутренне насторожился.
В голове его не было лихорадки, мысли проносились молниеносно: «Вюртемберг всего лишь две недели как оторван от них. Всех офицеров корпуса Вюртемберга они знали если не в лицо, то уж пофамильно – наверняка, ведь у них сохранились списки… Я приплыл к Вюртембергу с другого берега из иной белой армии? Но зачем? С каким заданием? И для чего именно меня Вюртемберг послал сюда?»
Молчание длилось не более пяти секунд, и молодой поручик не вытерпел, сорвался с места:
– А-а-а, спекся, красная собака!
Он стремительно подбежал вплотную к Гаранину, полковник быстро одернул его:
– Поручик Квитков! Вернитесь на место!
Гаранин продолжал смотреть впереди себя, на Квиткова не повернул даже взгляда, лицо сохранял холодным. Квитков слышал приказ, но не спешил его выполнять, испепеляя Гаранина яростными глазами. Ротмистр поднялся на ноги, любезно взял молодого поручика под руки и отвел к стулу.
– Так я жду, господин поручик, – напомнил о своем вопросе полковник.
Гаранин знал истинную фамилию вестового, и он не назвался ею по понятным причинам: в войске, куда он направлялся, несомненно, были люди, знавшие подлинного вестового лично.
– Поручик Мякишев, бывший вестовой генерала, погиб третьего дня в стычке с конным разъездом красных при попытке доставить пакет от генерала Вюртемберга. Его тело вместе с пакетом привезли на лошади уцелевшие люди эскорта. Именно с тем пакетом, что доставлен сегодня мною вам, господин полковник. Не знаю, осталась ли на пакете моя кровь, но кровью покойного Мякишева испачкан угол конверта. Таким образом, я на должности вестового генерала Вюртемберга состою всего два дня.
Полковник переглянулся с подчиненными, выдержал на допрашиваемом долгий взгляд и осведомился:
– А отчего, поручик, в наших армейских списках нет вашей фамилии?
– Ее там по определению не может быть, господин полковник. Я попал в корпус генерала Вюртемберга только две недели назад.
Троица, сидевшая за столом, вновь переглянулась и даже обмолвилась парой тихих слов. Полковник снова сдержанно спросил:
– Вы позволите нам узнать способ своего попадания к Вюртембергу? Ведь не секрет, что его корпус сидит на плацдарме, отрезанный водой и красными частями, без всякой связи с нашими войсками. Так откуда вы прибыли к нему и с какой целью?
Гаранин не изменил ни холодного своего голоса, ни устремленного вперед взгляда:
– Я не прибывал к корпусу, это корпус прибыл ко мне.
Лицо полковника покрыла нервная дрожь, он презрительно оттопырил нижнюю губу и уже не таким ровным голосом проворчал:
– Потрудитесь объяснить: что это за высокопарный слог? Что ваши ребусы означают?
– Это весьма долгая история, господин полковник, – загадочно произнес Гаранин.
– Верьте мне, у нас есть на это время, – теряя остатки самообладания, выдавил из себя полковник.
– Положение генерала Вюртемберга и доставленный мною пакет подсказывают мне, что времени у нас всех не так уж и много, – стоял на своем хладнокровный Гаранин.
– Не лезьте не в свое дело, так называемый поручик! – разгневался полковник. – Отвечайте на вопрос, или к вам примут иные методы воздействия!
– Как вам будет угодно, – согласился Гаранин. – Я жил в Губернске, что в тридцати верстах отсюда, с тех пор как покинул германский фронт. Там у меня оставались родители, и это единственное место, где меня ждали с войны. Я слышал о рейде генерала Корнилова и хотел еще в ноябре семнадцатого идти за ним, по его горячим следам, куда бы он ни повел наше малое войско. Но родители мои за время войны заметно одряхлели, я не мог бросить их одних, а потому остался ухаживать за ними.
– Прекратите нести чепуху, иначе я сделаю вывод, что вы нас специально запутываете! – угрожал полковник. – Какая связь между вашими родителями и генералом Вюртембергом?
– Я стараюсь наиболее подробно ответить на ваш вопрос: как генерал Вюртемберг нашел меня, а не я его, господин полковник, – без оправдательных ноток в голосе говорил Гаранин. – Позвольте я продолжу… Зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год мои родители не пережили и тем самым развязали мне руки. С весны я наблюдаю за продвижением добровольческой армии и жду с ней встречи. Когда слухи о продвижении фронта достигли Губернска, я покинул город и поселился на Осетровом хуторе. Переходить линию фронта для меня казалось неоправданно опасным, поэтому я поселился там, ожидая, когда фронт пересечет этот самый Осетров хутор. Успешное форсирование корпусом Вюртемберга реки позволило мне дождаться его войск. Вот, вкратце, моя история.
Ротмистр, давно догадавшийся, в чем смысл окончания этого рассказа, заготовил вопрос:
– И как же генерал Вюртемберг доверил вам такую ответственную должность и свое важное послание? Ведь, по вашим словам, он знает вас едва две недели.
– Вовсе нет, – снова бесстрастно отвечал Гаранин, – я не говорил, что знаю генерала только две недели. Я сказал, что встретил его две недели назад, когда он отвоевал плацдарм с Осетровым хутором, но знаю я его гораздо дольше. Я был в его подчинении одно время, на Юго-Западном, в середине пятнадцатого года.
Трое офицеров проникались задумчивостью, в лицах полковника и ротмистра даже мелькнуло слабое доверие. Гаранин вновь перебирал в памяти подробности из послужного списка Вюртемберга, любая мелочь могла сыграть на пользу, выстроить еще одну ступеньку из могильной ямы, маячившей перед Гараниным все это время.
– Вы вскрывали пакет? – наконец спросил полковник.
– Я не имел такого приказа, господин полковник. Но у меня есть устный приказ от генерала Вюртемберга, который я должен передать лично полковнику Новоселову.
Полковник нервно привстал:
– Передавайте, поручик… Этих людей можете не опасаться… Ну же! Я жду!
Гаранин выдержал паузу, показывая свою принципиальность и верность отданному начальством приказу, и, любуясь волнением Новоселова, вымолвил:
– В случае если мне удастся доставить вам пакет, то в подтверждение полученных вами сведений, содержащихся в нем, вам следует сегодня в полночь выпустить две зеленые ракеты с полуминутной паузой. От генерала Вюртемберга будет отправлен посыльный, чтобы наблюдать эти ракеты и сообщить о них генералу.
Новоселов схватил со стола карандаш и четвертушку бумаги, торопливо черкнул на ней не более пяти слов, тихо и отрывисто выговаривая:
– Митя, скачи в штаб армии, пулей! Доставь это и передай на словах все, что здесь слышал.
Гаранин, понимая важность момента, успел сказать:
– Простите поручик, я слышал, ваша фамилия Квитков. Валерий Михайлович Квитков не родственник ли вам?
Поручик замер:
– Это мой… старший брат…
– Я служил с ним недолго в одном полку.
– Некогда, поручик, предаваться ностальгии! – набросился на Гаранина полковник. – После, после! Митя – скачи!
Ошарашенный Квитков вынесся прочь, на ходу фуражкой задел откинутый полотняный край, и тот захлопнулся, окунув внутренность палатки в полутьму.
3
В этой полутьме Гаранин успел заметить, как сидевший ротмистр решительно приподнялся и хотел что-то спросить у него, но сам же себя быстро одернул и опустился снова на раскладной стул. Гаранину стало абсолютно ясно, что ротмистр не передумал задавать вопрос, а всего лишь отложил его до более удобного случая, и Гаранин запомнил это.
Полковник протянул руку:
– Итак, поручик…
– Гаранин, – напомнил тот.
У полковника оказалась мягкая рука, как у всех проведших жизнь в неге людей:
– Рад знакомству, господин Гаранин. Меня вы знаете, а это ротмистр Сабуров.
Ротмистр снова приподнялся, рука его оказалась крепкой, он жал ладонь Гаранина, словно проверяя: «А ну-ка, на самом деле ты Гаранин? За кого вы нас держите, товарищ Гаранин? Лучше сразу скажите, кто вы есть». Вслух же он говорил об ином:
– Вам, должно быть, необходимо в госпиталь? Он здесь, неподалеку, в городе. Вы позволите, господин полковник, сопроводить поручика?
Не дав распахнуть полковнику рта, Гаранин выпалил:
– Я бы хотел сообщить господину полковнику ряд нужных сведений, они необходимы для будущей операции.
– Разумеется, разумеется, поручик, – заторопился полковник, бросив недовольный взгляд на Сабурова. Он сам не намеревался отпускать Гаранина столь быстро.
Новоселов слушал поручика с вниманием, делал беглые записи в блокноте, постоянно сверялся с картой. Гаранин рассказывал все, о чем знала разведка и что успел рассказать плененный Мякишев, мелочи додумывал сам и непрестанно следил за пытливым взглядом Сабурова. «А это сложный игрок, – размышлял он, – или хочет таким казаться… Возможно, он не умнее Новоселова».
Стараясь особо не давить на жалость, Гаранин сообщил о бедственной обстановке отрезанного на плацдарме корпуса, о тяжелом положении раненых, о каждодневных обстрелах и потерях. Полковник выслушал Гаранина, провел рукой по лысеющему лбу:
– Давайте поступим так. Вам, поручик, несомненно, нужны силы и отдых. Вы отправитесь в госпиталь, но только до вечера. Вечером соберутся начальники подразделений, и мы проведем совещание. Вы сами расскажете обо всем, и, думаю, в штабе к этому моменту примут решение: соглашаться с диспозицией Вюртемберга или нет.
– Разрешите, господин полковник, еще один уточняющий момент прояснить у поручика Гаранина, – вмешался Сабуров.
Полковник кивнул.
– Разведчик, посланный Вюртембергом, допустим, сможет увидеть наше согласие на операцию в виде двух зеленых ракет. Как мы убедимся, что он нас увидел? Может, от него будет какой-то знак?
Этот вопрос обсуждался еще на заседании в губернском ЧК. Предлагали в ответ на зеленые ракеты пустить одну красную (якобы разведчик ее запустит) или откликнуться филином, но решили не усложнять и так многослойную схему знаков и все оставить как есть. Гаранин ответил:
– Генерал Вюртемберг тоже долго размышлял над этим вопросом, но в штабе пришли к выводу, что любой отклик со стороны разведчика выдаст его. Поэтому разведчик будет сохранять молчание, а мы уповать на нашу общую удачу и Господа Бога.
Заканчивая свои слова, Гаранин едва заметно пошатнулся и схватился за угол стола, сохраняя равновесие.
– Вам дурно, поручик? – обеспокоился Новоселов. – Присядьте. Велеть принести чаю?
– Не стоит, господин полковник, не беспокойтесь, – снова встал ровно Гаранин.
– Ротмистр, сопроводите поручика в госпиталь и сами оставайтесь в городе до вечера.
Пока Сабуров выходил отдать распоряжение о лошадях, полковник еще успел заверить Гаранина:
– Мне верится: штаб решит в пользу дела. Нельзя оставлять Вюртемберга с его корпусом на заклание, это может сильно навредить всему фронту.
Гаранин выходил из палатки приободренным, на лошадь взобрался почти без посторонней помощи. Они ехали с ротмистром через лагерь, и Гаранин делал вид, что не старается приметить ту или иную особенность, хотя успевал ставить зарубки в памяти о прорытых в стенках лощины капонирах, складах для артиллерийского боезапаса или стрельнуть глазами по разорванным ботинкам и плохому обмундированию многих встречных солдат. Гаранину удавалось делать наблюдения незаметно, он наверняка знал про это, но какую-то игру вел и Сабуров. Он резким окриком остановил встречного бойца, соскочил с лошади, ухватил солдата пальцами за шею и стал пригибать его голову к земле:
– Ну ты, морда, опусти бельма свои, полюбуйся хоть. В чем штаны изгвазданы? Из ботинка когти торчат! Мне, что ли, брать дратву да залатывать? Обмотка рассупонилась… Совсем руки отсохли? Так я тебя выучу!
Остальные солдаты замирали, в удивлении выпучивали, согласно словарю Сабурова, «бельма». Да и сам Гаранин видел, что ротмистр занимается несвойственным ему делом, ругаться у него получалось плохо, можно даже сказать – неловко. «О, да вы, господин ротмистр, надумали меня экзаменовать? Проверить, силен ли во мне “пролетарский„дух? Что ж, посмотрим, кто кого», – думал Гаранин и вслух произнес:
– Сходи, падаль, на плацдарм к Вюртембергу. Мы там уже с голоду дохнем и то себя так не распустили.
Сабуров отпустил бойца, нервно достал из кармана платок и вытер пальцы. Гаранин заметил на тонкой белой шее солдата красные следы от крепких пальцев, да и сам солдат оказался сущим мальчонкой, быть может, вчерашним гимназистом, отданным в войска папашей-патриотом. Он глядел набрякшими влагой глазами, поджимал обиженно губу и прерывисто дышал, едва сдерживаясь, чтоб не разрыдаться. Гаранин успел оглядеть других замерших здесь же солдат: вчерашние крестьяне, оторванные от земли, просидевшие три года в окопах на германском фронте. Битые, клятые, мятые. Кто-то смотрел на мальчика с покрасневшей шеей презрительно, чуть ли не с отвращением, другие оглядывали Сабурова с плохо скрываемой ненавистью.
– Что таращишься, сволочь? – остаточным жаром вспыхнул он и подступил к ближнему солдату. – Забыл, как глядеть нужно?
– Никак нет, ваше благородие. Помню! – стал во фронт боец.
Сабуров скомкал платок и бросил в пыль. Взлетев на лошадь, он было тронул ее рысцой, но тут же опомнился, оглянулся на отставшего Гаранина, осадил ход. Гаранин не спеша догнал его, едва растворяя угол рта, выдавил:
– Каков подленыш этот русский мужик, ни дня без плетки не выдержит.
– Вы тоже заметили, поручик?.. – ерзал в седле Сабуров и, скрывая свою неловкость, не вполне уместно поинтересовался:
– Как ваше имя, кстати?
«Актерского мастерства в тебе маловато, ты лучше за этот игральный столик не садись», – делал выводы Гаранин, отвечая Сабурову:
– Глеб Сергеевич меня зовут. А вас?
– А я – Сергей Глебович, – с улыбкой ответил Сабуров.
«О, да мы еще способны шутить после такого нервного потрясения! – с восторгом отметил Гаранин. – Намекаете на мою фантомность и выдуманное имя, господин Сабуров? Или это у вас такая защитная реакция?»
– Я бы хотел услышать подлинное имя, – со всей серьезностью сказал Гаранин и тем снова поставил собеседника в неудобное положение.
Сабуров назвался Климентием Константиновичем.
Гаранин приподнял в изумлении брови:
– Да у вас имя, как у красного командарма! – И тут же озарил спутника улыбкой: – Не обижайтесь за сравнение, я ведь тоже пытаюсь шутить.
– Это больше, чем шутка, господин Гаранин, – всерьез обиделся Сабуров.
Глеб тронул бока своей лошади шпорами, выдвинулся на полкорпуса вперед и перегородил путь ротмистру. Приложив раненую и здоровую руки к груди он вымолвил:
– Я прошу у вас прошения, Клим. Моя шутка нелепа.
Сабуров смерил его глазами, тщательно пряча во взгляде презрение, объехав лошадь Гаранина и продолжая путь.
– И где вы только нахватались этой… нелепости? – долго подбирал он нужное слово.
– В стране победившего хама, – ни на секунду не задумался над ответом Гаранин.
Из его интонации следовал только один вывод: «С волками жить – по-волчьи выть». Это была универсальная отмычка к любым вопросам и недоразумениям, о которые так или иначе предстояло спотыкаться Гаранину на протяжении своей миссии.
– Мне тоже повезло пожить в этой удивительной стране, – в голосе Сабурова чувствовалась издевка, смешанная с нотками теплой доверительности. – Я, как и вы, после фронта был вынужден отправиться в родительское гнездо, но прожил там недолго: как только весной восемнадцатого услышал про освобожденный Дон – перевез стариков туда. Ох, каких мучений стоила нам дорога…
Гаранин ехал рядом с ротмистром, иногда поглядывал в его сторону, без скрытности пытался заглянуть в лицо, как это бывает в приятельской беседе. Он ждал продолжения этой беседы, подбирал корректные слова для расспросов, но быстро одернул себя: «Ему эта тема неприятна, попытайся найти более теплую».
– Вы, Климентий, в германскую на каком фронте служили?
– На Северном. Два года из-под Риги не вылазил.
«Черт возьми, судя по ответу, он и войну не намерен вспоминать. А может, оставить его? Замолчать, и все. Похоже, ротмистр переваривает недавние дела своих рук».
Внутри у Сабурова действительно проворачивалась одна и та же картинка: бледное лицо мальчишки, готового заплакать и красные следы на его шее. Гаранин ошибся в одном: Сабуров любил вспоминать ту, «настоящую», войну. Она стала все чаще проявляться в его душе, особенно теперь, когда шла война нынешняя. О германской войне думалось с теплотой и любовью, затерлось все мерзкое и нехорошее, чем был недоволен загнанный современной войной в окопы он – кавалерийский офицер, к этим самым окопам не приспособленный и в них совершенно бесполезный. Тогда война казалась дрянной, позиционной и даже братоубийственной. Но теперь, Сабуров в этом разобрался, она была настоящей, с подлинным, невыдуманным врагом. А нынешнего врага, хоть он и победивший хам, можно будет сломить по-иному. Сабуров даже считал, что можно поддаться, сложить оружие, и пусть хам победит до конца и перестанет литься русская кровь… Но потом, когда оружия ни у кого не останется, он верил, что хама можно будет задавить своим интеллектом, ученостью, здравым смыслом, в конце концов.
Когда он робко попытался намекнуть в офицерской компании про свою теорию, – его засмеяли: «А куда же вы денете чистки? Вы что-нибудь слышали, господин Сабуров, об физическом устранении всех неугодных? О подвалах, под завязку забитых контрой? О новых могилах, вырастающих за одну ночь на пустырях и задворках рядом с городами?»
Сабуров больше никогда и ни с кем не говорил об этом, но продолжал лелеять в сердце свою утопию.
И германскую войну он все же любил. Отчетливо вспоминая некоторые эпизоды, он понимал это день ото дня уверенней и крепче. Ему не забыть, как отбил их эскадрон однажды несколько десятков латышей, угоняемых немцами в плен. Немцы покидали занятый ими клочок земли, выжигали деревню, уводили с собой скот, женщин, детей и стариков. Сабуров думал тогда после боя: «Я и мои сотоварищи, как былинные богатыри во времена Новгородской республики. Тогда псы-рыцари из Ливонского ордена грабили псковское и ижорское пограничье, тоже угоняли население в рабство, жгли и терзали эту землю. Ничего за полтысячи лет не изменилось, только оружие. Хотя нет, и оно такое же. Сидел вот так же новгородский стольник на камне, чистил пучком травы свой клинок от крови, правил оселком зазубрины на лезвии… Черт, а здорово разлетелась голова у того улана, даже каскетка его не спасла. А вот эта зазубрина осталась от встречи с его палашом, этот заусенец от пики, я точно помню, как принял ее на самый кончик шашки, еще немного – и промахнулся бы, а она влетела бы мне в грудь».
В таких подробностях Сабуров помнил свои стычки не всегда. Поначалу, когда бой кончался, он не мог сказать себе: что делал, как поступал и куда бежал. Потом ему объяснил один кавалерист его эскадрона – простой мужик, взятый по мобилизации из Олонецкого края: «Нам память дырявой на то и дадена, чтоб все плохое забывать. А иначе голова лопнет от злодейства, которое мы на земле творим». Но постепенно Сабуров и его сознание стали обрастать твердым натоптышем, он запоминал бои и особенно рукопашные схватки, мог вспомнить мельчайшие подробности убитого им врага, вроде цвета глаз или маленькой родинки у него под нижней губой. Люди, отправленные на тот свет его рукой, не приходили к нему в страшных снах, не маячили помимо его воли перед глазами, он просто мог вспомнить их, всех и каждого, если ему этого хотелось.
Сабуров перенес привычку запоминать врага в лицо и на эту войну. Количество убитых им красных приближалось к цифре сраженных Сабуровым немцев, и он придумал свое индивидуальное суеверие: как только эти цифры сравняются – именно в тот момент и кончится война. Результат, как мы уже знаем, его не интересовал.
Он не верил человеку, которого нынче утром он выручил от гибели или взял в плен (смотря как глянуть), что ехал сейчас бок о бок с ним. Но и выводить на чистую воду этого человека у Сабурова не было особого рвения, хотя он и заготовил на вечер один ловкий вопрос – в этом Гаранин не ошибся.
Они очень долго ехали молча, думая каждый о своем. Гаранин, к примеру, размышлял: «Интересно, чего он хотел добиться этой выходкой с тем неопрятным чудаком? Неужто и впрямь думал, что я клюну на эту дешевую уловку и брошусь защищать бедного солдатика? Если так, то совсем они нас за идиотов держат».
Сабуров, в свою очередь: «Чего я прицепился к этому бедолаге? Словно бес попутал… Никогда за собой раньше такого не замечал, да и солдаты, кажется, обалдели. Отпроситься, может, у полковника на денек в город? Выспаться, побездельничать».
Дорога утомила Гаранина, солнце палило жестоко, рана и ссадины на спине стали гореть огнем. Въехав на улицы уездного городишки, они держались теневой стороны, но сильно это их не спасало, воздух прогрелся даже под кронами деревьев. Гаранин ощутил себя летящим на машине времени, она перенесла его на несколько лет назад: по улицам ходили чиновники в кителях и фуражках со значками дореволюционных ведомств, шумела кое-где торговлишка, толкался у единственного в городе синематографа народ, никаких тебе лозунгов, растянутых посреди улицы на красном кумаче, никаких тебе призывных плакатов.
Сабуров переговорил с дежурным врачом, и Гаранина отвели в приемную. Пожилой санитар помог снять форму, проводил к ванной, выдал полотняное белье и халат, а после сменил повязку. В полутемной палате были занавешены окна, солнце не мешало дневному сну больных и раненых. Плотный храп подсказал Гаранину, что здесь их не меньше десятка. Санитар указал Гаранину на свободную койку.
Глеб с удовольствием сомкнул веки. Ему бы хотелось расслабиться и безмятежно уснуть, но он помнил: даже в этом госпитальном спокойствии он должен дремать вполуха, не ослаблять волю и не расставаться с сознанием. Ведь спросонок можно ляпнуть чего-нибудь. Вот так откроешь глаза, потянешься, хрустнув косточками, да и выдашь беззаботное: «Как спалось, товарищи?» Нет, на такие глупости Гаранин, конечно же, не способен, это он так, для примера.
С прикрытыми глазами он снова вертел в голове ситуации, готовил себя к будущей встрече с верхушкой белых. Наверняка они будут сомневаться, искать подвоха, взвешивать за и против, и даже если поверят в то, что Гаранин действительный посланник с плацдарма, – вовсе не обязательно им идти на выручку Вюртембергу. Может, они уже его похоронили и не будут рисковать своими войсками ради такого опасного дела. Гаранин, конечно, убеждал сегодня полковника, что на плацдарме еще масса боеспособных соединений, которые могут влиться в белое войско и еще послужат Отечеству, но все это сомнительно в их глазах, все это непросто.
Снова вырывали Гаранина из полудремы гулкие шаги по коридорам, женские и мужские голоса, топот лошадей и скрип тележных колес во внутреннем дворе госпиталя. Он слышал, как стихает постепенно храп, – один за другим просыпались жильцы его палаты, как откидывали шторы и освобождались окна с затухавшим, не яростным солнцем, как загремели в конце коридора оловянной посудой и все стали собираться на ужин. Сыпались всегдашние солдатские темы:
– От вши лучше всего зимой чиститься, на мороз вынес, и порядок.
– А я люблю над печкой. Раскалишь ее докрасна, тряхнешь над ней рубахой, они падают, лопаются, аж с треском – милое дело.
– Или над костерком еще подержать, если печки нет.
– Тоже можно.
– Лучше всего – муравейник. Раскладешь бельишко на полчасика, и они, трудяги, все швы очистят, даже гнид к себе в муравейник вынесут.
– Еще я слышал, вша конского поту не переносит. Постелил портки на лошадь горячую – и они с нее долой скачут.
Гаранина тронули за плечо здоровой руки:
– Вставай харчеваться, ваше благородие.
Он открыл глаза, на него смотрело доброе лицо с рыжими прямыми усами.
«Что это? Очередной экзамен? Лучше проявить гонор, панибратство в этом лагере будет не на пользу».
– Ты чего мне тыкаешь, солдат?
Лицо с рыжими усами не обиделось:
– Да ладно, мы ж не в строю. Коль попали сюда… А в госпитале, как в бане: ни чинов, ни погонов.
И, отвернувшись, солдат похромал из палаты вслед за остальными.
«Хороший мужик, добрый, таких у нас много. Но спуску этой доброте давать нельзя: сидит сейчас за углом какой-нибудь чуткий Сабуров и этого доброго на меня натравляет. Никаких поблажек, помнить каждую секунду, кто я есть».
Впервые за сутки Гаранин поел. За ужином ему вспомнилось, как в прошлом году их команда рассекретила одного белого шпиона и брала его на такой же вот госпитальной койке.
Они догадывались: в лагерь пробрался увертливый лазутчик, хитрый и ловкий, как крыса. Артиллерия белых долбила по позициям и складам боепитания с завидной точностью, словно у них перед глазами была набросана схема расположений. Происходили и другие мелочи, вроде испорченной телефонной связи или отравленного супа. Ясно было, что гадит кто-то свой, кто-то очень близкий. Подозревали всех и каждого, устраивали чистки, выводили кого-нибудь из штабных на «допрос к генералу Духонину»[1] чуть ли не каждый день, на их место присылали новых. Шпион продолжал действовать. Путались в догадках: «Может, здесь не один лазутчик, а целая свора? Мы их пропускаем через “штаб Духонина”, а они приползают снова и снова». Но шпионский почерк говорил, что работает один и тот же человек.
Потом диверсии на время прекратились, в штабе выдохнули с облегчением, наконец признав: «штаб Духонина» оказался верным средством, хоть и пострадали наверняка при этом невинные кадры. Гаранин выдвинул свою версию: шпион все еще жив и поискать его следовало среди отлучившихся по разным причинам. Стали проверять среди командировочных, шерстили тех, кто попал в госпиталь. Помогла вычислить шпиона случайность. Один из больных подглядел ночью, что его сосед рвет из подмышки волосы и сыпет себе в рану, растравливает ее, не давая ей зажить.
Когда стали допрашивать подозрительного, он долго отнекивался, будто просто боялся снова возвращаться на фронт, мол, хотелось подольше побыть в госпитале. Признания из него все ж таки выбили. Оказывается, собирался в очередной раз подсыпать крысиного яду в питье для больных и тем привлечь на голову медперсонала «справедливую» кару и самосуд. В госпитале были видные профессора, без них тыл на этом участке фронта значительно охромел бы.
Гаранина наградили в тот раз именными часами. Городской гравер по фамилии Рубинчик, вручая их Глебу, нахваливал свою работу: «Верьте слову старого еврея, товарищ Гаранин, мои правнуки отведут своих внуков в советскую школу, а ваши часики будут тикать бесперебойно, и ни одна буковка из этой благодарственной надписи не затрется».
Глеб думал тогда: «Где будут мои потомки, когда праправнуки Рубинчика станут ходить в школу? Кому я вручу эти часы после своей смерти?»
Теперь Гаранина судьба его часов не интересовала, они весной этого года легли на дно одной неширокой речки, затерянной среди степных просторов анархистской вольницы…
После ужина его отправили на перевязку, за окнами еще не совсем стемнело, но в коридорах и палатах уже зажгли керосиновые лампы. Санитар проводил его до кабинета, отворил дверь, сам заходить внутрь не стал.
Глеб проворно подошел к стулу, опустился на него, уложив руку на железный столик с вогнутой крышкой. У другого столика, с инструментами и перевязочным материалом суетилась сестра милосердия, лицо ее скрывала повязка из марли. Гаранин глянул на ее опущенные к столику глаза и по ним узнал: «Та самая, что в полевом лазарете меня сегодня утром бинтовала».
Она приготовила все необходимое, перенесла и уложила на столик, где покоилась рука Гаранина, ножницами разрезала завязку, стала разматывать марлю. Глеб ждал ее поднятых глаз, она почувствовала это, подняла их, уперлась во взгляд Гаранина и тут же их опустила.
Этой секунды Гаранину хватило: «Узнала. Несомненно, узнала. И мало того: секунду назад, она не была предупреждена, кого к ней приведут, в глазах ее удивление».
– Кажется, вы меня сегодня уже лечили? – первым нарушил он молчание.
– Вы чересчур внимательны, ведь я лечила вас, когда глазоньки ваши были закрыты.
– Я их закрыл слишком поздно, только по вашему велению, а до этого успел вас хорошенько изучить.
– Вы ученый? – иронизировала она, не сбиваясь с рабочего такта.
– Именно. Сомаграфолог. Слышали о таком направлении? Изучаю линии женского тела.
– О, не только слышала, но и встречала. – По глазам девушки стало видно, на лице ее, скрытом маской, появилась улыбка.
Гаранин торжествовал: «Давай, покажи ей, что ты опытный обольститель! Навесь этот штамп, пусть она принимает тебя за ловеласа».
В ране что-то кольнуло, Гаранин невольно скривился.
– Тише, тише, рыцарь, самое больное еще впереди, – насмешливо запугивала она.
– Как же так получилось, что утром вы на одном месте, а вечером уже на другом? – скрывая свой конфуз за бодреньким голосом, спросил он.
– Нынешним утром вы тоже были на другом месте, но я же не спрашиваю вас, почему теперь вы здесь.
Она поглядела на него поверх повязки, на этот раз долго и проницательно. В ее вопросе и взгляде не было ничего настораживающего, но Гаранин неизвестно почему стал нервничать: «О чем это она? Намекает, мол, еще сегодня утром я был в лагере красных, а теперь вот раненый и разбитый у них? Нет… я сам себя накручиваю. А если эта особа – опытный контрразведчик? Подослана ко мне следить. Ополоумел я, что ли? Это обычная сестра милосердия».
Гаранин долго молчал, она вновь опустила глаза и продолжила делать перевязку, попутно объясняя:
– У нас заведен такой график: одну ночь мы дежурим во фронтовом лазарете, день отдыхаем и следующую ночь дежурим в городском госпитале, третью ночь мы проводим дома, а потом все повторяется вновь.
– Значит, следующей ночью вас можно застать дома? – развязно налепил себе прежнюю маску Гаранин и сам содрогнулся от этакой пошлости.
– Флирт хорош тем, господин поручик, что он не переступает границы дозволенного. – Заканчивая работу, она намеренно жестко стянула завязку, и Глеб снова ощутил боль в раненой руке, но на этот раз стон удержал.
4
Сабуров позвал его из коридора перед самым отбоем, проводил в какое-то хозяйственное помещение. Там висела на стуле отчищенная и приведенная в порядок форма, в которой Гаранин прибыл сюда. Рядом стоял все тот же пожилой санитар, готовый помочь.
Они быстро пересекли спящие улицы города, выехали на простор. Гаранин даже в темноте узнавал некоторые ориентиры, замеченные сегодня днем, понял, что движутся они той же дорогой, и готовил себя: «Едем снова к фронту, значит, обещанному совещанию быть. Надо раскачать их, убедить, что удар навстречу Вюртембергу необходим».
С ротмистром заговорить он не пытался, готовый тем не менее в любую секунду ответить на его вопрос. Сабуров размышлял: «Молчит. Что-то он себе там думает. Надо забить ему голову любой ерундой, лишь бы отвлечь».
– Отдохнули в госпитале, Глеб Сергеевич? Удалось поспать?
– Да, вполне. Дневной сон был долгим, никто меня не тревожил, и теперь хоть всю ночь готов скакать. А как вы, Клим Константинович? Отдохнули?
– Выезд в город – всегда отдых. Повидал кое-кого, заглянул в гости. Был, кстати, зван завтра вечером на именины.
Голос Сабурова был теплым и ласковым, как июльская ночь, но мысли ходили строгие: «Что ты с ним любезничаешь? Завали его горой вопросов, пусть он трещит по швам, пусть отдувается». И тут же нападал:
– Вы, наверное, давненько не бывали в гостях, в приятной компании? Расскажите о жизни там, по ту сторону фронта.
– Люди везде люди. Что тут, что там, – простецки бросал Гаранин. – Но насчет приятной компании – это вы верно заметили. Там не пируют, не устраивают званых ужинов, там попросту голодают. И я, признаться, завидую вам, меня и вправду сто лет никто никуда не звал.
– А поедемте вместе? – тут же предложил Сабуров, сгорая от нетерпения: «Вот там-то я тебя и прощупаю, развяжу твой пьяный язык, если сегодня на совещании он у тебя не развяжется».
– Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но привык получать приглашение от самих хозяев.
– Ай, да бросьте! Хозяева – мои хорошие друзья, они и слова не скажут против вашей компании, – беззаботно отмахнулся Сабуров.
– Сказать, может, и не скажут, но подумают.
– Уверяю вас, Глеб Сергеевич, никто ничего не подумает. Хозяева патриоты, любят угощать фронтовых офицеров.
Тут Сабуров звонко шлепнул себя ладонью по лбу, будто вспомнил что-то важное:
– А если узнают, что вы к нам прорвались с плацдарма, так до утра вас не отпустят, будут расспрашивать, станете главной фигурой всего вечера, прикуете внимание.
– Не знаю, не знаю, Климентий. Чем закончится сегодняшнее совещание, как повернется судьба… Ведь если полковник и его штаб не примут зов Вюртемберга, не согласятся наступать – до именин ли мне будет? Да и ранен я, тут не до веселья.
– Простите, Глеб Сергеевич, всего несколько часов мирной жизни – и я уже выпал из реальности.
Сабуров сгоряча хотел заверить Гаранина в том, что будет держать на совещании его сторону, уговаривать штаб в пользу наступления, но вовремя одернул себя, вспомнив о заготовленном каверзном вопросе для Гаранина.
– Вам нравится эта лошадь? – по-прежнему бомбардировал Сабуров вопросами.
Гаранин хотел ответить простецкое «Дареному коню в зубы не смотрят», но осекся и вспомнил, что он дворянин. Похлопав лошаденку, внезапно доставшуюся ему из-под убитого сегодня утром, по шее, он молвил:
– Бывало и хуже. Более года, признаться, не сидел в седле. До войны у меня был отличный дончак, стройный красавец. Когда выезжал на охоту и брал с собой Ральфа, курцхаара-трехлетку, обязательно ставил их вместе где-нибудь на пригорке, отходил и любовался. Оба умницы, без моего слова с места не сходили, хоть час на них смотри – без команды не шелохнутся, оба поджарые, на тонких и быстрых ногах. Лошадь и собака… ни одна человеческая жизнь не пересилила бы эту пару… Я бы не пожалел ничего, если бы мне вернули ту пору и те вещи, которыми я обладал.
– У меня тоже бывает такое! – горячо согласился Сабуров. – Иногда вспоминаю тринадцатый год, Дягилевские сезоны в Париже, полжизни бы отдал, чтоб это повторилось опять.
Гаранин вторил:
– Из всех, кто покинул страну, больше всех жалею о Рахманинове. Едва только он приедет – тут же любыми способами попаду на концерт.
Сабуров говорил себе: «Да, эта птичка с прошлым, дворянин неподдельный».
Гаранин тоже не скучал: «Копаешь под меня или просто трепишься? То ли простачек, то ли делает вид – пока непонятно».
На подступах к позициям их окликнул из темноты патруль, Сабуров уверенно произнес парольное слово. В палатке собрались все, кого ожидал полковник Новоселов: чины штаба, полковое и батальонное начальство, был и сам командующий корпусом. Глеб знал его в лицо по фотокарточкам из оперативных документов, а потому сразу смекнул: «Всполошились не на шутку. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, за кем здесь будет последнее слово».
Гаранин еще раз рассказал всем собравшимся об обстоятельствах своего пути от плацдарма к засаде красных и дальше, о нелегком положении корпуса Вюртемберга. Он не взывал о помощи, старался сохранять холодность, деловитость и сухой тон. Когда закончил, никто не спешил с дополнительными расспросами, все тактично ждали первых слов от командующего корпусом.
– Вюртемберга, конечно, выручать нужно, – начал было вслух рассуждать генерал, в воздухе повисло неизбежное «но…», и никак генерал его не мог вымолвить, видимо, плохо представляя, как дальше строить ему речь после этого пресловутого «но».
Командир корпуса был человек пожилой, от жизни уставший, хоть и несла она его на своих волнах, ласково баюкая. Как ребенок из приличной фамилии, он легко окончил гимназию и поступил в кадетский корпус, с такой же легкостью окончил и его, получив сразу же высокое назначение. С началом Русско-японской – на фронт, как иные карьеристы, не стремился, служебный рост и так шел своим мерным чередом. Связи, деньги, положение – все, что было накоплено предыдущими поколениями, давало ему легкую жизнь. Он и в этой войне угодил на пост командующего корпусом чуть ли не против своей воли: когда его назначали, он думал о тех, кто уже доехал и доплыл в Париж, Белград и Прагу, тайно хотел на их место, понимая, что в стране победившего хама все уже решено. Его страшил только суд военного трибунала, в случае если он откажется воевать или проявит явную халатность. Поэтому он держался, пыжился, делал вид, что радеет в пользу успеха белой армии, сам же с нетерпением ждал, когда фронт покатится на юг и можно будет с чистой совестью сесть на уплывающий к Босфору пароход.
– Разрешите, господин генерал, задать поручику Гаранину один важный вопрос? – вдруг вскочил Сабуров.
«Вот оно – началось. Ну, что ж, бей. Поглядим, каков твой удар», – внутренне сжался Глеб.
– Он действительно важен? – недоверчиво взглянул генерал на Сабурова.
– Поверьте, господин генерал, с глупостью бы я не полез.
Генерал в ответ меланхолично махнул: «Извольте». Сабуров обернулся к Гаранину:
– Если у Вюртемберга есть такой опытный разведчик, способный пересечь передовую, выследить запуск двух зеленых ракет, беспрепятственно вернуться назад и сообщить о них Вюртембергу, зачем генералу понадобилось устраивать весь этот цирк с неудачной посылкой одного эскорта, убийством поручика Мякишева, снаряжением повторного эскорта и вашей посылкой, поручик Гаранин? Ведь пакет, что вы нам привезли, мог доставить тот самый незаметный разведчик, и было бы гораздо проще.
Глаза всех собравшихся устремились на Гаранина, даже во взгляде командующего корпусом развеялась меланхолия и зародился слабый блеск любопытства. Возможно, в другой бы миг Гаранин и дрогнул под обвалом этих напряженных взглядов, но теперь он подумал: «Всего-то? А уж как готовил меня к этому, как готовил», – и холодно заметил:
– Я не имею привычки давать наставлений вышестоящим чинам.
Сабуров ухватился за эту дерзость:
– То есть вы, господин поручик, видя всю ненадежность предложенной Вюртембергом схемы и явно прослеживая простоту передачи пакета одним-единственным разведчиком, согласились с Вюртембергом и пошли по наиболее сложному сценарию?
– Генералу Вюртембергу, безусловно, повезло бы больше, если бы на моем месте были вы, господин Сабуров. Вам наверняка удалось бы убедить генерала в верности ваших суждений, – оставался непроницаемым Глеб.
Командующий фронтом наконец оборвал фехтование Гаранина с Сабуровым:
– Я знаю Вюртемберга, старик всегда любил сложные планирования, у него одна диспозиция расписана на пять листов. Все верно, это почерк Вюртемберга. Сидели бы, ротмистр, молча, не высовывались, – гневно взглянул генерал в сторону Сабурова и сразу же обернулся к Новоселову:
– Что скажете, полковник? Сил у вас достаточно для рывка?
Новоселов поднялся:
– Если подкинуть из резерва штыков четыреста да сотню сабель, я думаю, нам удастся встречный удар и Вюртембергу поможем выбраться.
Внезапно кто-то засомневался из штабных:
– Но как мы можем начать наступление, до конца не зная: идет ли нам навстречу Вюртемберг или нет? Может, это удар в пустоту?
Командующий фронтом нахмурился:
– В каком смысле «в пустоту»? Выражайтесь яснее.
– Ракеты-то мы запустим, а увидит ли их посланный Вюртембергом человек? И если увидит – донесет ли он эту весть на плацдарм или будет схвачен красными на обратном пути, и Вюртемберг останется слепым: идти на прорыв с плацдарма – не идти?
Гаранин попросил слова, едва заметно подняв руку:
– Прошу меня простить, господин генерал, я, видимо, заразился от мною уважаемого господина ротмистра привычкой давать советы. До плацдарма не так далеко, и, если Вюртемберг с него ударит, мы, без сомнения, услышим артиллерийскую пальбу, а значит, сможем убедиться…
– Верно! – не дал договорить Гаранину командующий корпусом. – Операцию разрабатывать немедленно, сконцентрировать ударный кулак и держать его наготове к означенному в диспозиции Вюртемберга часу. Как только начнется прорыв с плацдарма – переходить в наступление. Если на плацдарме будет тихо, то и мы будем бездействовать. Сколько у нас до полуночи?
– Чуть больше полутора часов, – доложил адъютант.
– Полковник, лично проследите об условленном запуске зеленых ракет, возьмите моего адъютанта, сверьтесь по его хронометру, – раздавал поручения генерал.
Все обступили разложенную на столе карту, громко заговорили, стали произносить цифры и ориентиры. Гаранину показалось, что в керосиновых лампах невидимая рука прибавила света: «Теперь продержаться три дня, ничем себя не выдав».
Новоселов с Сабуровым подошли к Гаранину, полковник сказал:
– Вы можете возвращаться в госпиталь, поручик, долечивайте рану, ротмистр вас сопроводит. Вам, Сабуров, прошение по рапорту удовлетворяю: отдыхайте сутки.
Гаранин благодарил Новоселова, отвечал общепринятыми любезностями, а сам скользил взглядом по Сабурову: «Как себя чувствуете, голубчик? Молодцом, держитесь молодцом, даже в лице не изменились и досады своей не проявляете. И это весь ваш каверзный вопрос? Слабовато».
Обратный путь прошел в столь же теплой беседе: обсуждали борзых, великолепную поэзию Гумилева и его отчаянные путешествия, спорили об убойной силе «маузера» и «люгера». Оба делали вид, будто и не было столкновения в присутствии штабистов и командующего корпусом. У ступеней госпиталя Сабуров пожал своему спутнику руку, тепло произнес:
– Так я все же рассчитываю на вашу компанию, завтра после ужина – заеду.
Гаранин уловил его твердое пожатие и ответил неуверенно:
– Я бы с радостью, но отпустит ли госпитальное начальство?
– Об этом не беспокойтесь, я скажу, что вас снова затребовали на совещание.
Гаранин внутренне одернул себя: «Перестань кобениться! Ты ведь бывший светский лев, истосковался по обществу, томясь среди сермяжной серости».
Он отдал поводья своей лошади дежурившему солдату:
– Очень благодарен вам, Климентий, буду ждать завтра, с удовольствием.
5
Госпитальный день прошел в тоскливом ожидании. Оно не было тревожным, Гаранин только думал иногда: «И зачем ему вздумалось тащить меня на эти именины? Хочет посмотреть, как я по-гусарски опрокидываю водку и травлю скабрезные анекдоты? Или чего он ждет? Неугомонный тип».
После обеда Гаранина перевели в офицерскую палату, там освободилась койка. А до этого он успел наслушаться солдатских разговоров:
– Наступлению быть. Дело верное: гляди, скольких сегодня на выписку отправили.
– Точно, вот Антипенку даже не долечили, так с кашлем и уволокли, в окопах долечится.
– На том свете его долечат, как и нас с вами.
Гаранин отмечал, что боевого духа в кадетских солдатах очень немного, хотя кормежка здесь и общее содержание были на порядок выше, чем в красноармейских госпиталях. Поглощая в обед кашу на сале и наваристые щи, Глеб размышлял: «Черт возьми, на что способен наш дьявол-мужик… Недоедать будет, поступать в ущерб своему хозяйству, а возьми его, выверни изнанкой наружу – у каждого в душе светлая мечта: заживем завтра по-небывалому! Никакого голландца с англичанином на такое не толкнешь, их от тепленького очага с кофейником не отцепишь». И проглатывал Гаранин едва показавшуюся сентиментальную слезу, упрятывал глубоко в себя.
В офицерской палате его встретили с должной холодностью. Все давно ко всему привыкли, никто ничему не удивлялся, не спешили знакомиться и сдружиться: сегодня ты здесь, а завтра снова тебя перевели в другую палату, на фронт или еще куда подальше. Гаранин попытался было завести разговор с одним офицером, но тот быстро дал понять, что вести «великосветские» беседы не намерен. Глеб напрашивался в друзья даже не с разведывательной целью и выискиванием в доверительной беседе каких-то тайн, он просто пытался быть естественным, как ему казалось, но быстро понял, что быть естественным – это поменьше говорить, выглядеть уставшим и побольше спать. Быстро переняв здешний порядок, он уснул, предчувствуя нынешнюю ночь (или большую ее часть) бессонной. Дремал он, как всегда, вполуха, до конца не отключая сознание, не теряя надежды, что кто-либо из обитателей офицерской палаты уронит ценное словцо. Надежды его не оправдались.
Сабуров заехал, как и обещал – после ужина. Снова Гаранина проводил дежурный санитар в хозяйственную комнату и помог нарядиться, со стороны госпитальных задворок привели накормленную лошадь. Вдвоем они неторопливо двинулись по улице. В вечерних сумерках слышались угасающие крики детей – еще не все закончили с играми и разбежались по домам, хлопали во дворах калитки, лаяли дремавшие весь день собаки, уныло отбивал часы соборный колокол.
– Именинницу зовут Агнесса Васильевна, – заочно знакомил Сабуров Глеба с новой компанией. – Еще не вдова, но где ее муж, она не знает: то ли воюет на севере у Юденича, то ли вообще выехал за границу. У нее целый сонм молоденьких подруг, поэтому скучать нам с вами не придется.
– Где я только не был, Климентий Константинович, – с жаром принимал его интерес Гаранин, – но лучше русских женщин не увидел. До войны удавалось выехать в Париж и отдыхать на немецких водах, поверьте моему слову – дело имел не только с ночными бабочками, но и с дамами из общества. Как нахваливает наша литература, а вслед за нею и общественность, француженок! Ни черта против наших, уж ваше право – верить или нет.
Сабуров поджал губу и значительно покивал головой, изображая на лице легкую зависть:
– А мне, знаете ли, не довелось иностранного тела попробовать. Хотя нет – вру, была одна пухленькая латышка с необъятными бедрами. А что она вытворяла своими ягодицами…
Спутник Гаранина явно издевался над ним, и Глеб немного недоумевал: «Ты же сам затеял эту игру, так зачем теперь ерничаешь? Плата за вчерашнюю промашку на совещании или продолжаешь меня раскусывать?»
Сам Гаранин врал про иностранные интрижки. Он бывал в Париже и Баден-Бадене, но оставлял всегда чистыми тело и душу. У него случались в молодости влюбленности, случались романы, он даже знал несколько способов обольщения женщин, ведь в его профессии без этого нельзя, но случая применить эти способы пока не возникало. Гаранин делил постель с одной лишь иностранкой, в бедном румынском захолустье осенью шестнадцатого года…
После Брусиловского прорыва маленькое королевство решило, что у него достаточно мощи потягаться силами с побитой русскими Австро-Венгрией, и ударило ей через южную гряду Карпат в подбрюшье. К побитым австрийцам, как всегда, на помощь пришли их более стойкие собратья – немцы и погнали румын обратно через горы, а с правого дунайского берега уже летели злобные болгарские крики: «Вы нам еще за девятьсот тринадцатый год ответите, проклятые мамалыжники!»[2] Румыны с воплем взывали о помощи к своему восточному соседу. Дивизию, к которой был прикреплен тогда Гаранин, перебросили с Юго-Западного на самый север Румынского фронта, к горным карпатским вершинам. Край смешанного населения и языка: румына не отличишь от мадьяра, жида от цыгана, а гуцула от молдаванина.
К декабрю фронт замер, и Гаранин, обрядившись в крестьянские обноски, пошел в свой первый рейд за линию фронта. На Юго-Западном он почти не бывал на позициях, сидел в ближнем тылу, занимался бумажной работой, вел допросы пленных и всякого рода «подозрительных», схваченных на дорогах пикетами. А тут впервые была горячая работа на земле, Гаранин давно тосковал по такому. За долгие месяцы квартирования в Галиции он достаточно уверенно изучил здешний диалект, каждодневно упражнялся в лавках и на улицах, оттачивая нужное произношение. Глеб успел узнать несколько фраз на румынском и рассчитывал на смеси этих двух языков объясняться с жителями и встреченными в пути австрийскими патрулями.
С местными ему поговорить почти не удалось, в первом встретившемся патруле ему попался трансильванский румын, заметивший его скверное румынское произношение. Гаранина тут же взяли за шкирку, стали бить, как беспородную дворовую собачонку.
– Кто ты есть на самом деле? – орал на него румын, охаживая по ребрам прикладом.
Гаранин с перепугу лепетал на чистом украинском выговоре:
– Я тутошний, паны солдаты, я ту-тош-ний!
Его продолжали бить, пока с диким криком не налетела в их толпу молодая румынка. Она упала на Гаранина, закрыла его своим телом, неистово запричитала непонятные для Гаранина румынские слова:
– Чертовы «освободители»! Хотите совсем его замордовать?! Это муж мой! Он не отсюда, он с австрийской стороны гор! До войны мы женились с ним, нашего языка он так и не выучил, знает плохо…
Солдаты поначалу отшатнулись, обалдев от бабьего крика, потом сказал один из них:
– Коли он из Австрии, так должен знать по-немецки.
Инстинкт выживания помог Гаранину:
– Совсем немного я знаю, совсем, совсем немного! Пан смотритель, эта чечевица по две кроны, а вот эту, дробленую, отдам за полторы, – сознательно коверкая произношение и нарушая падежи, лепетал он немецкие слова своим разбитым ртом.
Солдаты поглядели на его жалко скукоженное тело, на крестьянку, прижимавшую его голову к своей груди, как родную, и трансильванский румын с сочувствием спросил:
– Что, приятель, тоже гнул до войны спину на арендатора? Проваливай, чтоб больше тебя не видели. А ты береги своего австрияка и скажи ему, чтоб начинал учить тебя по-немецки – швабы пришли сюда надолго.
Крестьянка уволокла Гаранина к себе в хижину, кинула в углу холодных сенцев охапку соломы и застелила ее рядном, молча указав ему ложиться. Он провел у нее неделю, медленно зализывая раны, почти не выходил за огорожу, слонялся по двору, о разведке уже не думал, хотелось живым вернуться за линию фронта. Хозяйка понимала, что ему нужно отлежаться, в таком состоянии он бы далеко не ушел, делила с ним скудные плоды своей земли и летнего труда, иногда говорила с ним, больше знаками, чем словами объясняя, что мужа забрали в армию и он уплыл вслед за войсками туда – в русскую сторону. А в последнюю ночь позвала его из холодных сеней в халупу. День ото дня Гаранин понимал все больше румынских слов. Крестьянка потянула через голову ночную рубашку, сказав: «Может, и у вас какая баба моего Михая пожалеет».
Он помнил до сих пор ее горячие поцелуи, заставлявшие снова кровоточить его едва поджившие после солдатских ударов губы, ее прерывистое дыхание…
Сабуров велел своей лошади остановиться. Они замерли перед высокими деревянными воротами с башенками. На втором этаже каменного мещанского дома из распахнутого окна раструб патефона скрежетал новомодное танго, слышался звон посуды и оживленная беседа.
– Да мы запаздываем, поручик, – с видимой озабоченностью сказал Сабуров.
– Джентльменам так поступать не подобает – скорее наверх, – поддержал его Гаранин.
У именинницы собралось не меньше десятка гостей, Сабуров не обманул – в основном женского пола. Гаранина он подвел к виновнице и представил. Это была дама нестарая, приятной внешности, в прошлом, несомненно, обладавшая совсем иным лоском и размахом и теперь все это растерявшая, но не согласная мириться с нынешним своим положением и в столь скудные времена отказываться от маленького праздника. У нее все еще оставались знакомые и приятели, кое-какая родня, которая позволяла ей держаться на плаву и не искать службы во вновь открывавшихся по городу ведомствах. Вся эта приятельская компания и была нынче здесь: три-четыре дамы примерно возраста именинницы, пожилая пара, два деловитых господина и еще какие-то одинокие девушки, приходившиеся Агнессе Васильевне одновременно приятельницами и племянницами. Плавно ходила между гостями и обстановкой горничная, разнося закуски и напитки.
В атмосфере плавали разговоры:
– Большевики твердят о свободе, но где она? – втолковывал один деловитый господин другому. – Вместо нее я слышу лишь ненавистные выпады в сторону Бога: «Религия есть опиум». Да, пусть так, но я-то хочу сам до этого дойти, своим свободным умом. Положите передо мной антирелигиозную брошюру, но не прячьте при этом Евангелие, не несите его торжественно на костер. Оставьте Евангелие для моего свободного выбора, и тогда, соизмерив ваше большевицкое антирелигиозное творение и Библию, я, возможно, и скажу: «Бога нет». Но не в этой идиотической ситуации, когда вы берете и просто отменяете Бога, сжигая его на костре.
Его приятель соглашался с такой яростью, словно спорил со своим оппонентом:
– Эта поганая революция есть революция неслыханных свобод и безбожных экспериментов. Свобода от совести, от всяких обязанностей, от нравственности и морали, от чести и достоинства, свобода от Отечества и любви к ближнему.
К ним присоединился пожилой господин со своей спутницей:
– Ах, если бы Чернышевский, Герцен и Толстой дожили до революции – заплакали бы кровавыми слезами и от всего бы отреклись. Уверяю вас.
Оба господина тактично закивали головами, и старик, поощренный этим, понес дальше:
– Говорю вам точно, господа, большевики рукотворно распространяют бактерии сыпного тифа.
Волна сомнения пробежала по лицам обоих деловитых господ, один из них осторожно заметил:
– Это сомнительно, они ведь не застрахованы от болезни и сами.
– Что им до российского населения? До этих вот комиссаров, что исполняют их волю на местах? Сами-то они сидят за Кремлевской стеной, в народ не спускаются, а потому и ничем не рискуют. Миллионом русских больше, миллионом меньше. Главное для них – сохранить власть!
Гаранин старался не слушать этих разговоров, сразу поняв их бредовую незначимость, старался сконцентрироваться на другом, но память невольно вытолкнула его недавний разговор с одним из чекистов. Речь зашла о тех десятках тысяч «лишних» людей, которые, несомненно, останутся после победы в войне. Приятель доверительно говорил тогда Гаранину:
– Ты что ж думаешь, они потом скажут: «Ага, господа большевики, вы выиграли, мы проиграли, давайте жить под одним солнцем». Нет, не игра это, а война. До полного конца, полного уничтожения. И мы их породу всю подчистую выведем с этого света. А тот, кто в Париж там или Берлин успел убежать, и там настигнем.
– Да как же это так? – не соглашался Гаранин. – А где же закон гуманизма?
– Это не наше слово – буржуйское. Его нынче вместе с Богом отменили.
Из воспоминаний Гаранина выдернули новые возгласы:
– Правительство большевиков намеренно ввело продразверстку, ведь забирая все и давая от этого малую кроху, можно управлять людьми. Кинь им любой приказ – и они, голодные и озлобленные, за кусок хлеба попрут на другой край земли вершить мировую революцию.
– Дьявольское коварство и несусветная хитрость.
Гаранина, невольно ухватывавшего обрывки этих разговоров, поочередно всем представили, и они с Сабуровым подошли к столику с домашними винами. Взяв по бокалу, стали гадать: считается ли моветоном в здешнем «свете» вальсировать под патефон.
– Вы уже выбрали предмет обожания? – с серьезной миной интересовался Сабуров.
– Да, вы знаете, я желаю, чтобы вы не становились у меня на пути, когда я пойду приглашать вон ту жгучую брюнетку.
– Умм, любите сладенькое, – паясничал Сабуров.
– С потрохами бы умял, – подхватывал Гаранин, мечтая о том, чтобы быстрее все это кончилось.
– Вы верите в наш успех? – внезапно спросил Сабуров на французском.
Вопрос был прост, но Гаранин все же на долю секунды задумался.
– Мне кажется, если диспозиция не даст сбой и все пройдет по задуманному, – мы сможем освободить Вюртемберга и остатки его корпуса, – ответил Гаранин казенными словами на языке, на котором был задан вопрос.
– Я не про это, Глеб Сергеевич, – не моргнув глазом, снова перешел на русский Сабуров. – Вы верите, что Белое дело победит?
Гаранин столь же недолго размышлял, изобразить ему на своем лице удивленный гнев или ошеломление, в итоге налепил разом все вместе:
– Вы думаете о своих словах, господин ротмистр? Если мы с вами вместе на брудершафт выпили, это не значит…
– Тихо, тихо, спокойно. – Сабуров быстро поставил пригубленный стакан на стол и, подхватив давно запримеченный, кем-то оставленный девичий веер, шутливо замахал им на Гаранина. – На брудершафт мы с вами еще не пили, – и веер, обратившись обратно к Сабурову, кокетливо запорхал.
Гаранин понимал, что обострять конфликт ему не с руки, но видел и провокацию Сабурова: «Если вы, господин Гаранин, дворянин, как себя смеете заявить, так прервите эту клоунаду, навешайте мне пощечин здоровой рукой или найдите иной способ меня остановить».
– Я больше никогда, господин Сабуров, не приду с вами в компанию. Честь имею.
Гаранин испепелял собеседника взглядом и головы на последних словах не наклонил.
Патефон устало чахкал очередной шансонеткой, заглушая от гостей разговор двух офицеров.
В эту минуту дверь распахнулась и впустила в комнату еще одну запоздавшую пару. Судьба закинула Гаранина в город, где он мог знать только двух людей, и оба они пришли на именины к Агнессе Васильевне: поручик Митя Квитков и сестра милосердия, делавшая Гаранину перевязку. Все бросились встречать новых гостей, в том числе и Сабуров. У Гаранина появился миг перевести дух: «Провокатор. Этот просто так не отстанет. Продержаться осталось два дня и две ночи. В городе оставаться нельзя: спрятаться здесь негде, да и бежать из госпиталя будет сложно. Куда исчезнуть сразу после битвы? Такой, как Сабуров, спуску не даст, особенно после неудачи, он заставит свое начальство меня арестовать и вывести на чистую воду».