Читать онлайн Решение об интервенции. Советско-американские отношения, 1918–1920 бесплатно
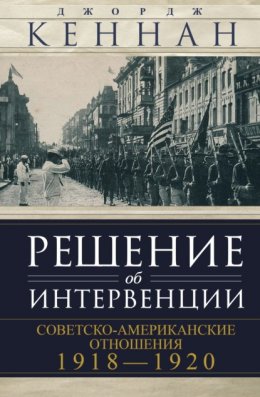
George F. Kennan
Decision to intervene
Soviet-American Relations
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2024
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2024
Пролог
Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
М.А. Булгаков. «Белая гвардия»
Март 1918 года ознаменовал начало последнего кризиса Первой мировой войны. Предыдущей осенью на союзников обрушились два бедствия: сокрушительное поражение итальянцев на реке По и, что еще хуже, события в России – крах российского военного сопротивления, петроградский триумф большевиков и фактический выход России из рядов воюющих держав. Всю зиму, пока немцы и большевики торговались в Брест-Литовске об условиях мира, на Западном фронте царило относительное затишье. Ни для кого не было секретом, что немцы массово перебрасывали войска и транспорт с востока на запад, готовясь к тому, что, как они надеялись, станет сокрушительным и решающим наступлением против союзных войск во Франции.
В Лондоне и Париже, несмотря на ожесточенное упорство, порожденное тремя с половиной годами войны, ощущалось скрытое и мрачное предчувствие, вызванное осознанием численного превосходства, которое немцы теперь смогут накопить на западе. Тем не менее союзники вовсе не растеряли решительности – даже совсем наоборот. С одной стороны, альянс прекрасно понимал, что это последнее усилие агонизирующей Германии и в случае успешного его сдерживания худшее останется позади; с другой – такое положение дел сулило по крайней мере еще один год военных действий и новые жертвы устрашающего масштаба.
Эта ужасная перспектива, наряду с относительно вынужденным спокойствием на фронте, сильно действовала на нервы всем, кто так или иначе был связан с ведением войны: длительное напряжение просто не могло не сказываться на психике. Люди, переутомленные работой сверх всякой меры, ощущали себя полностью измотанными. Это проявлялось в повышенной раздражительности, излишней ранимости и время от времени в потере гибкости при принятии решений. Безропотно и упорно выполнявшим свой служебный долг военным порой было сложно по-новому оценивать собственное положение. Февраль месяц стал свидетелем весьма болезненной и глубокой корректировки структуры высшего командования британцев. Напряженные и даже почти неудовлетворительные военные отношения союзников также оставляли желать лучшего. Вследствие нескончаемой череды взаимных обид, подозрений, недоразумений и политических маневров их раскачивало то в одну, то в другую сторону. Невзирая на всю формальную титульность и институциональные условия, о полномерном достижении незыблемого принципа военного вертикального единоначалия не могло идти и речи.
В 4:30 утра 21 марта, после особенно зловещей ночной тишины, британский участок фронта оказался внезапно накрыт оглушительными залпами 6000 немецких орудий: началось страшное весеннее наступление[1]. Эта величайшая военная операция из когда-либо проводившихся в то время была задумана для того, чтобы отделить британский сектор от французского и вывести немецкие войска к морю. Вся тяжесть атаки легла на британцев, уже измотанных годами непрекращающихся потерь и самопожертвований. В течение последующих 40 дней это стоило британской армии во Франции примерно 300 000 потерь личного состава (то есть более четверти всех сил). Пока еще никто не предполагал, что только к середине июня ситуация будет стабилизирована и состояние крайней опасности окажется позади.
Неудивительно, что с началом этого наступления в высшем военном руководстве Великобритании проявились некоторые нотки отчаяния, вызванные невозможностью возрождения Восточного фронта в связи с потерей российского военного потенциала, ранее принимавшегося в расчет. Теперь судьба всей войны висела на волоске. Баланс представлялся настолько тонким, что, возможно, даже символическое возрождение сопротивления на востоке, даже малейшее отвлечение внимания и ресурсов Германии с Западного фронта могли бы определить победу или поражение. Любой ничтожный шанс на то или иное развитие событий подлежал рассмотрению, каким бы слабым и неправдоподобным он ни казался.
Американские войска до сих пор практически не участвовали в военных операциях в Европе. Со времени объявления войны Германии прошел уже почти целый год. На территории Франции дислоцировались 6 американских дивизий, но ни одна из них еще не была задействована в активном ведении боевых действий. Три из них (1-я, 26-я и 42-я) пребывали на линии спокойных участков фронта в учебных целях, а еще одну (2-ю) перевели на фронт в марте. К началу немецкого наступления потери американцев составляли в общей сложности 1722 человека, причем только 162 из них погибли в результате непосредственных боевых действий.
В ярком контрасте между столь скромной боевой активностью и огромным проявлением патриотического энтузиазма, доминировавшим на внутренней американской сцене, крылось что-то весьма наигранное и искусственное. Безусловно, нельзя говорить, что война не потребовала от Америки значительных усилий, жертв и порой общественного дискомфорта: никто не отрицает высоких цен, недостатка топлива, транспортных перебоев или дефицита рабочей силы. Европейцы вообще склонны недооценивать как трудности создания мощных вооруженных сил с нуля в Соединенных Штатах, так и той серьезности, с какой американцы взялись за дело. Здесь не было видимого кровопролития или разрушений, а тень массовых человеческих потерь еще не накрыла американское общество. До рассматриваемого времени усилия Соединенных Штатов в основном носили экономический и организационный характер, а в сознании граждан страны не существовало должного представления об ужасающих реалиях современной войны и о последующих тяжелейших проблемах, настигнувших всю западноевропейскую цивилизацию. Другими словами, для американцев война все еще обладала неким очарованием новизны и романтической отдаленности, поэтому большая часть общественной жизни могла бы продолжаться и дальше, находясь вне зоны существенного влияния военных действий.
В конце марта 1918 года «Джайентс» продолжали оттачивать бейсбольное мастерство в Техасе, «Янки» – в Джорджии, а Йельский университет занял первое место в межвузовских соревнованиях по плаванию. Шоу-бизнес так и оставался шоу-бизнесом – в Нью-Йорке по-прежнему исправно функционировали пятьдесят официальных театральных сцен, а газеты напропалую расхваливали «Чу Чин Чоу»[2] как «самое великолепное, гигантское, красочное, величественное, захватывающее, очаровательное и превосходное зрелище в истории мюзиклов». Цирк «Барнум и Бейли», со всеми своими 185 грузовиками, все еще совершал ежегодный переезд из Бриджпорта в Нью-Йорк и, как обычно, шествовал по Лексингтон-авеню по пути в Гарден. До тех пор, пока происходили такие события, можно было бы по сто раз в день говорить, что цивилизация находится под угрозой, что человечество балансирует на грани катастрофы, но все это трудно укладывалось в голове американских обывателей и ускользало от их внимания.
Возможно, отчасти из-за подсознательного стремления убедить себя в реальности далекой войны американцы щедро отдавались внешним проявлениям воинственного духа. Конечно же, в полной мере задействовались коммерческое использование военной темы и инспирированная правительством пропаганда: рынок был наводнен книгами на военную тематику, а индустрия производства патриотических безделушек расцвела махровым цветом. Музыкальные магазины оглашались звуками «патриотических хитов» того времени Over There, So Long, Mother, Goodbye Broadway, Hello France и I May Be Gone for a Long, Long Time. В Мэдисон-сквер-Гарден проходили «грандиозные встречи с солдатами и военными моряками», предлагавшие послушать «множество захватывающих и поучительных историй войны». Нужно ли добавлять, что они завершались сводным выступлением многочисленных музыкальных групп, исполнявших национальный гимн The Star-Spangled Banner под личным руководством Джона Филипа Сузы[3], собирая полные залы.
Но большая часть всего, что говорилось о войне, совершенно спонтанно исходила от новообразованного высшего класса того времени – от людей, полагающих себя обязанными задавать тон общественным дискуссиям. Они не могли избавиться от чувства необходимости показать себя как выдающихся деятелей в надлежащем свете, однако сама война представляла для них сложную проблему. Дело в том, что у американского общества не было традиций, которые могли бы помочь спокойно и зрело отнестись к иностранным войнам. В его политической философии – оптимистичной, идеалистической, пропитанной верой в неукротимый прогресс американского государства – не нашлось места для массовых убийств и разрушений. Следовательно, не существовало и объяснений участия Америки в войне, что вполне соответствовало основным предпосылкам американского мировоззрения и в то же время позволяло принять реалистичный образ врага, признавая войну неотъемлемой частью исторического процесса. С точки зрения американцев, это не могло быть чем-то общим для человеческой природы, что привело к такой путанице. Только чисто внешняя сила – демоническая, необъяснимая, злая до бесчеловечности – могла поставить Америку в такое положение, могла подтолкнуть ее к предприятию столь неестественному, столь несвойственному характеру страны, столь мало являющемуся результатом ее собственного осознанного выбора.
Перед лицом этой двойственной и даже нелепой ситуации многие общественные деятели, привыкшие произносить речи и задавать тон, почувствовали, что вынуждены каким-то образом занять оборонительную позицию. Внезапная реальность войны не соответствовала тому, что они твердили раньше, поэтому теперь им надлежало себя оправдать и показаться адекватными в новой ситуации. В своем роде это напоминало массовое бегство в поисках идеологического убежища, а «прикрытием» служила демонстрация благородного негодования против внешнего врага в сочетании с почти бесконечной идеализацией американского общества, философские основы которого, таким образом, ставились теперь под сомнение. Так или иначе, но это была единственная безопасная позиция, дающая защиту от втянутости в авантюрные глубины спекуляций и сомнений, находясь в которых человек был бы совершенно одинок, чувствовал себя в моральной изоляции, не видел конечной цели и не ощущал твердой почвы под ногами.
Результатом такой неопределенности стали не поддающиеся описанию истерия, напыщенность, оргия самолюбования и стучащего в грудь негодования. В той или иной степени они завладели прессой, образовательными и лекционными площадками, рекламой и политической ареной. Официальные заявления президента – каковы бы ни были достоинства политической философии, лежащей в их основе, – были сдержанными, умеренными и подобающими государственному деятелю, однако из его частных бесед следовал совершенно иной вывод. Страна никогда не сталкивалась с таким обилием красноречия, причем красноречия натянутого, пустого, носящего скорее оборонительный характер и, что самое страшное, все более отдаляющегося от реальности. Всеобщее чувство собственной праведности и ненависть к врагу хлестали через край. Даже юмористические журналы внезапно продемонстрировали ужасное отсутствие юмора, проявляющееся при попытках основать сатиру на гневе. Даже сам Лаймен Эбботт[4] в своем The Outlook отрицал применение принципа христианского милосердия к немцам. В залах Республиканского клуба в Нью-Йорке видные общественные деятели каждую субботу соперничали друг с другом, вычурно демонстрируя дух военного времени. Рассказы о немецких зверствах, по большей части лишенные всякого содержания, охотно принимались во внимание и доводились до абсурда, компромиссные мирные предложения осуждались со всех мыслимых точек зрения, подчеркивалась личная вина каждого немца от первого до последнего. Дошло до того, что для всего немецкого народа потребовали «100 лет социального и коммерческого остракизма», а идея безоговорочной капитуляции Германии приобрела ритуальную нетерпимость. Массовое идеологическое безумие достигло национального масштаба: в прессе разразился крупный скандал после того, как был процитирован один докладчик Нью-Йоркского общества мира, высказавший мнение, что война закончится компромиссом. Граждане повсеместно брали на себя смелость выискивать шпионов и диверсантов среди собственных соседей, а обращение с американцами, «пишущими через дефис», да еще и с немецкими фамилиями, приняло дискриминационный, совершенно позорный, а порой даже жестокий характер. Америка, ничуть не стыдясь ничтожности собственных военных усилий, с точки зрения публичных обсуждений ситуации у себя дома (по крайней мере в той интерпретации и в отражении гражданского поведения) переживала не самый свой звездный час.
Ни в коем случае нельзя утверждать, что американское общество было лишено добродетелей или стало жертвой идеологической провокации. Дело заключалось в другом: произошла полная потеря баланса и адекватности восприятия как родины, так и врага. Несколько слабых голосов (в частности, писателя Уильяма Форбса Кули) призывали народ к большей вдумчивости, к самостоятельному анализу целей Америки и ее будущего, к более зрелому изучению взглядов и мотивов врага. К сожалению, эти голоса затерялись в общей шумихе. Способность к реалистичной самооценке была буквально задушена разгулом патриотических демонстраций, а образ врага исказился до абсурда. Реальная Германия времен Вильгельма, со всеми ее недостатками и достоинствами, призрачными иллюзиями и даже трагедией, исчезла из поля зрения. На ее месте появилась гротескная фигура звероподобного «гунна» в лице несчастного кайзера, истинная личность и значение которого в истории человечества вполне очевидны.
Если учесть все сказанное, становится понятным, почему американская общественность не оценила по-настоящему всю серьезность военной ситуации в Европе и, в частности, значимость весеннего наступления Германии. Поскольку Соединенные Штаты были теперь официально вовлечены в войну, а армия проходила соответствующую подготовку, самоуверенные американцы никогда не позволили себе усомниться, что война будет выиграна. Более того, в гражданском обществе все еще существовала наивная и старомодная вера в эффективность чисто физического мужества и праведного гнева как источника победы. Один юмористический журнал, настроенный против Вильсона и сожалеющий о невозможности избрать Теодора Рузвельта президентом военного времени, опубликовал карикатуру с подписью «Могло бы быть и так». На картинке был изображен Рузвельт с искаженным от негодования лицом, душащий трясущегося от страха кайзера. Видите, как все просто? Нужно быть храбрым и ненавистным к врагу, иметь на вооружении чистую совесть – и победа неминуема.
Из-за неясного представления военных реалий «дезертирство» России не вызвало в Америке сочетания горечи и ужаса, испытанного в Великобритании и Франции. Влиятельные американцы, скорее, были возмущены коварством Германии, использующей российскую ситуацию в Брест-Литовске, испытывали жалость к русскому народу (считавшемуся каким-то образом невиновным во всем происходящем и на самом деле все еще пребывающему «на нашей стороне») и имели высокую решимость не «бросать Россию». Но эта решимость обладала лишь единственной видимой связью с реальностью – уверенностью в окончательной победе над Германией и верой, что страна так или иначе сделает для этого все возможное.
Следствием подобного мировоззрения стал односторонний взгляд на феномен советской власти – американцы видели в ней всего лишь продукт немецких интриг. Советское правительство не могло (с этой точки зрения) отражать народные настроения, ибо русский народ был «за Америку» и не вышел бы из войны по собственной воле, следовательно, власть большевиков олицетворяла зло. Но не могло быть и двух независимых противоборствующих центров зла – кайзера и Ленина. В эмоциональном мире взбудораженной демократии «зло» всегда пребывало в единственном числе, а не во множественном. Признание сложной и противоречивой природы заблуждения означало бы признание еще более сложной и противоречивой природы истины (как дополнения к заблуждению). Двоичный взгляд на одну и ту же вещь казался невыносимым, ибо в этом случае рушилась вся структура военного духа и войну следовало рассматривать как трагедию с запутанным началом (и, вероятно, с не менее сумбурным концом), нежели как простое героическое столкновение добра и зла. Получалось, с врагом следовало бороться не в слепом праведном гневе, а, скорее, в духе печали и смирения с фактом, что американский гражданин оказался втянут в несчастное и даже бесконечно саморазрушительное положение.
Даже в официальном Вашингтоне, эмоции которого сдерживались политической ответственностью и постоянными напоминаниями о международной сложности, наблюдалось подобное мышление. Безусловно, у американского истеблишмента не было недостатка в желании изучить факты о ситуации в России или даже встретиться с советской верхушкой лицом к лицу, однако даже и в этом случае пониманию постоянно мешала неспособность сформировать реалистичный образ немецкого противника. Прежде всего, в американском правительстве существовала тенденция преувеличивать немецкие амбиции и ту роль, которую Германия играла для России. Оно недооценивало разобщенность немецкого лагеря, слабости и ограничения, на которых основывались военные усилия немцев, а также феномен большевизма, как коренного проявления российских политических реалий. Американцы видели в неразберихе на российской политической сцене лишь еще одну проекцию немецкого зла. Из этого взгляда следовал вывод, что проблемы России (собственно, как и проблемы Европы в целом) автоматически решатся после победы союзников над Германией.
В России заключение Брест-Литовского договора ознаменовало начало новой эры. На северном участке старого Восточного фронта теперь царило ненадежное затишье, немцы создавали своего рода «западноевропейский порядок» со своей стороны военной демаркационной линии, а на другой ее стороне царили хаос, беспорядки и революции. В силу более раннего договора с украинской Радой, заключенного еще до выхода России из войны, немцы энергично продвигали свое наступление на Украине. Поскольку официального соглашения о демаркации северной границы района, подконтрольного Раде, просто не существовало, германские войска часто натыкались на коммунистически настроенные отряды, лояльные Москве. Непрекращающиеся стычки вызвали ряд обоюдных советско-германских протестов, лишний раз подчеркивающих всю опасность и нестабильность ситуации. В ее постоянство мало кто верил (и меньше всего советские лидеры), а добросовестность и доверие полностью отсутствовали с обеих сторон. Соблюдение мирного договора обоюдно основывалось лишь на мучительной и хрупкой обоюдной целесообразности.
К концу марта 1918 года Москва пребывала в полной неразберихе, вызванной прежде всего разнородностью политических движений. В это же время происходил и переезд правительства из Петрограда. Почти ежечасно перегруженные поезда с грохотом въезжали на московские станции. Вереницы потрепанных и грязных пассажирских вагонов, битком набитых человеческими телами, и открытые товарные платформы, еле вмещающие груды ящиков, извергали свой груз в царящий хаос. Газеты, ежедневно публиковавшие списки новых московских адресов правительственных учреждений, создавали некоторое впечатление порядка и целенаправленной работы, однако реальность была совершенно иной. Неотапливаемые помещения, больше напоминающие пещеры, с растерянными копошащимися в суматохе людьми в меховых шубах и грязных ботинках, оказались заваленными перепутанными упаковочными ящиками и неубранными вещами последних выселенных жильцов. Правительственную машину российского государства встречали оборванные телефонные провода, разбитые оконные стекла, мусор и нечистоты. Чрезвычайно медленно, сопровождаемая миллионами скрипов и перебоев, она с трудом приходила в упорядоченное движение.
Уютный и комфортабельный древнерусский город на берегах Москвы-реки не был способен в короткий срок пережить все потрясения революции и принять новые функции, вызванные прибытием правительства из Петрограда. Переполненный и перегруженный, он напоминал теперь огромный потревоженный муравейник. Весь день поток людей в одеждах темно-коричневого цвета, создаваемого бесконечными вариациями военного хаки вперемешку с мрачными зимними одеяниями российского гражданского населения, лился по коридорам и улицам, заполняя общественные места, выплескиваясь с узких тротуаров на мостовые, снег на которых превратился в толстые корки черноватого льда. Плотными колышущимися массами люди, похожие на скопления насекомых, цеплялись за платформы и поручни разбитых трамваев и кое-как прокладывали себе путь в этой суматохе. Возбуждение и революционная суета присутствовали повсеместно. Всевозможные агитаторы штурмовали заводы и фабрики в поисках народной поддержки, от которой так зависел новый режим. В бесчисленных, похожих на амбары комнатах, пропахших махоркой и несвежей одеждой, заседали усталые и охрипшие партийные комитеты, зачастую жестоко, но эффективно пробиваясь сквозь туман административной неразберихи. По всему городу шла дикая борьба за жилье, сопровождаемая бесцеремонным выселением «буржуазных элементов», но пока без особого террора и репрессий. По старому Сенатскому дворцу теперь между кабинетами сновали Ленин и Троцкий.
И все же другая сторона жизни тоже не прекращалась. Бизнес ресторанов и прочих увеселительных заведений продолжал процветать. Безысходное веселье и множество печалей тонули в цыганской музыке среди тех, кто предчувствовал конец собственной полезности для страны и для своего времени. Гадалки внезапно наживали состояния, каких сами себе никогда бы не предсказали. Вопреки всем скрытым волнениям пульс культурной жизни зашкаливал: Шаляпин пел, Карсавина танцевала под вступительные аккорды «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Сидя бок о бок в позолоченных ложах, пролетариат и буржуазия, завороженные, подавленные и примирившиеся на эти короткие часы в общем восхищении хореографической реконструкцией многовекового противостояния рыцарства и жестокости, казалось, не собирались по каким-то причинам подвергать сомнению его подлинность и уместность.
В этом водовороте общества, вырванного из устоявшегося уклада жизни, всплывали все крайности бытия. Здесь старое боролось с новым, прошлое с будущим, русское с иноземным. Великий город переживал самый острый из мыслимых спазмов эпохи перемен. И над всем этим – над ненавистью, надеждой, отчаянием, заговорами, мистицизмом, низменными страстями и жестокостью – возвышались огромные сверкающие купола кремлевских церквей, уходящие корнями в темное и мрачное наследие русского прошлого. Казалось, безмолвно и несколько иронично они размышляли, глядя на потрясенный город, пребывая в уверенности, что столь быстрые перемены никогда не смогут обрести реальность, а древняя, варварская Московия, из которой они сами произошли, не сможет заявить о себе теперь, когда Кремль снова стал центром русской земли.
В отличие от Москвы, провинциальная Вологда казалась тихой идиллией. Жизнь маленькой дипломатической колонии союзников, покинувших Петроград в конце февраля, протекала относительно спокойно. Американский посол Дэвид Р. Фрэнсис обосновался в большом деревянном здании бывшего клуба, ставшим ему и домом, и официальным представительством Соединенных Штатов одновременно почти на пять месяцев. Пусть этому дому срочно требовалась покраска, да и расположение комнат было далеко не идеальным, но все же жизнь казалась вполне сносной. В больших русских печах уютно потрескивали дрова, откуда-то издалека раздавался колокольный перезвон, а с заснеженной улицы то и дело доносился скрип санных полозьев. Сотрудники посольства, расквартированные по всему городу, ежедневно приходили на службу, управляли миниатюрной канцелярией и делили с Фрэнсисом столовую. С учетом непрекращающихся поисков еды, затянувшейся переписки о ликвидации петроградского офиса и ежедневного обмена телеграммами с главой американского Красного Креста в Москве Рэймондом Робинсом дел хватало. Совместные вечера проходили за скромными ужинами и игрой в бридж, сопровождаемой обменом «бородатыми» анекдотами. Каждую субботу посол устраивал прием для высшего общества, какое только могло найтись в этой провинции. В общих чертах жизнь быстро вошла в привычное русло, столь же спокойное, сколь и непостоянное.
Вологодские дипломаты в большей степени имели лишь символическую значимость: важным оставалось их присутствие в России, но не сама деятельность. Посольские канцелярии воплощали лишь нежелание союзников признавать полное поражение, связанное с выходом России из войны, и на текущий момент вряд ли могли делать немногим большее, чем олицетворять факт своего существования. Дальнейшее выяснение отношений между большевиками и альянсом происходило в других местах, в частности при прямых контактах в Москве с большевистскими лидерами.
Многие современные исследователи смотрят на зиму 1917/18 года как на один из великих поворотных моментов мировой истории, при котором публично формировались и делились два великих противоречия – тоталитарный и либеральный ответы на возникшие проблемы современности: густонаселенность, индустриализм и урбанизацию. Первая концепция была персонифицирована и четко определена Лениным, другая же, более туманная и менее адекватная, – Вильсоном. Тоталитарный путь предполагал не только насильственный и полный разрыв с прошлым, но и фактическое уничтожение социального и политического наследия человечества, безграничной веры в способность современного индивидуума понять свои проблемы и наметить собственный курс. Из него следовала централизация всей социальной и политической власти, безоговорочное подчинение, направление всех локальных и индивидуальных импульсов к коллективной цели (однако определенной централизованно) и преднамеренная ликвидация значительной части цивилизации в интересах прогнозируемого прогресса остальных. Другая концепция рассматривала этические нормы – в основном уходящие корнями в религию, как в основу всего человеческого роста. Она признавала мудрость и опыт предыдущих поколений, формирующих базовое отношение к проблемам современности, и верила, что все изменения, несущие в себе пользу, должны происходить постепенно, быть органичными и ни в коем случае не разрушительными. Либерализм отвергал необходимость классового насилия и рассматривал личность как цель, а не инструмент социальной организации. Он приветствовал разнообразие мотивов и интересов, фактически считая, что высшая мудрость заключается во взаимодействии разнообразия человеческих импульсов, предпочитал в целом мириться с несовершенствами общества, унаследованными из прошлого, и надеялся, что их можно эволюционно и мягко трансформировать к лучшему, а не пытаться выкорчевать и уничтожить все сразу, рискуя вырвать с корнем и остальное.
Именно эта потрясающая дихотомия, универсальная по своим последствиям, легла в основу русской революции и теперь, в 1918 году, проявлялась в полной мере. Именно ей выпало стать главной проблемой следующей половины столетия. На самом деле русская революция не имела никакого отношения к Первой мировой войне: она не была тем вопросом, из-за которого воевали народы Западной Европы и Америки. Прежде всего война олицетворяла соперничество между европейскими странами и определение места объединенной и укрепившейся Германии как ключевой державы в мировой экономике.
Именно по этой причине, поскольку речь шла о столкновении двух противоположных мировоззрений, первоначальная встреча между союзниками и советским правительством вызвала столько путаницы. Эту путаницу советские идеологи предпочли игнорировать и скрывать. Для мирового коммунизма было более удобно рисовать драматическую картину того, как западные державы 1918 года, напуганные появлением коммунистической идеологии, пытались спастись, задушив советскую власть в ее зачаточном состоянии, нежели признать реальность мира в состоянии войны: усталую государственную мудрость и пробуждение национальных чувств, зацикленных на навязчивых военных идеях.
Но все же это существовало: в 1918 году неразбериха и хаос являлись преобладающими элементами во внешнеполитических отношениях с Россией. Именно из-за них события, которым посвящено это исследование, вызывают столь безмерное и обескураживающее недоумение, но и именно из-за этой путаницы и черпается неповторимый событийный колорит и драматизм.
Глава 1
Русский Север
Начало мировой войны в 1914 году фактически закрыло российские балтийские порты как каналы доступа России к Атлантическому океану. У Северной и Западной России не было прямого морского выхода к Атлантике, за исключением пути, лежащего через заливы и бухты Баренцева моря на арктическом побережье. По состоянию на 1914 год в этом регионе существовал только один сколько-нибудь значимый порт – Архангельск, расположенный в устье Северной Двины на Белом море.
Основанный в 1584 году голландскими купцами, Архангельск вскоре превратился в важную торговую гавань, связывающий Россию и Запад. Он служил альтернативой нарвскому порту в Финском заливе и, безусловно, приобрел огромную значимость, когда связь с Нарвой прервалось. В XVIII–XIX веках ряд событий (приобретение Россией балтийских провинций с превосходным и устоявшимся рижским портом, развитие нового порта в Санкт-Петербурге и первоначальная ориентация российского железнодорожного строительства на балтийские гавани) привел к снижению активности и значения архангельского порта. В начале XX столетия была построена железная дорога, привязавшая порт к общей железнодорожной системе России. Как следствие, его деятельность снова стимулировалась благодаря быстрому росту британского спроса на древесину и другие лесопромышленные товары. К 1914 году это место, несмотря на удаленное расположение, превратилось в административный и коммерческий центр всего Русского Севера, а численность населения стала составлять почти 50 000 человек. Безусловно, Архангельск обслуживал лишь малую долю внешней торговли России в стоимостном выражении, но крупные объемы поставок предполагали высокую транспортную активность.
Порт расположен на восточном берегу Северной Двины в том месте, где большой водный поток расширяется, образуя островную дельту. Несколько каналов тянутся еще на сорок миль через острова к открытой воде Белого моря. Этот район представляет собой прекрасный естественный порт с защищенной якорной стоянкой для сотен океанских судов с огромным пространственным потенциалом. И порт, и сам город лишний раз демонстрируют небрежную природную щедрость, являющуюся выдающейся характеристикой северорусского ландшафта в целом.
К 1914 году портовые доки и склады уже тянулись на целых тринадцать миль вдоль обоих берегов. Хотя основная масса городских зданий состояла из бревенчатых строений (что характерно для всех северорусских поселений того времени), Архангельск мог похвастаться главной улицей – Троицким проспектом, задуманным по впечатляющим образцам великих петроградских аналогов. Он простирался почти на три мили параллельно берегу Двины и был окружен рядом относительно современных постоянных сооружений.
Кроме отдаленного расположения, к самым серьезным недостаткам Архангельска, как порта военного времени, относилась его ледяная скованность на протяжении почти полугода. Навигация закрывалась, как правило, в ноябре и не возобновлялась до конца мая, а иногда даже и июня, хотя с помощью современных ледоколов удавалось сокращать этот период на несколько дней с обеих сторон временного интервала. Иногда можно было добиться некоторого облегчения за счет использования разгрузочных зон вблизи устья дельты. Но факт оставался фактом: внутренняя гавань, составляющая основную зону доков, обычно была закрыта для судоходства на период почти шести месяцев в году. Активность порта значительно возросла в первые годы войны в связи с ростом поставок боеприпасов и военного снаряжения от западных союзников в европейскую часть России. Например, только за лето 1916 года в порт зашло более 600 судов, в 1917-м здесь появились и первые американские корабли быстро растущего военного и торгового флотов.
Следует заметить, что до 1917 года у Соединенных Штатов не было постоянного официального представительства в Архангельске, и в первые военные годы только один местный житель, некий датский бизнесмен, побочно оказывал услуги американской стороне, выступая в роли консульского агента. К лету 1917 года датчанин ухитрился (неизвестно – заслуженно или нет) попасть в черные списки разведслужб союзников как вероятный немецкий шпион. По этой причине, а также и потому, что американские суда теперь начали регулярно посещать порт, правительство Соединенных Штатов решило заменить консульского агента на официального консульского представителя. Мистер Феликс Коул, один из самых молодых вице-консулов военного времени в штате петроградского консульства, был официально направлен в Архангельск в конце лета. Этот выпускник Гарварда пять лет проработал в России по частным делам до поступления на дипломатическую службу и обладал хорошим практическим знанием русского языка. После его прибытия в Архангельск правительство Соединенных Штатов впервые получило независимый источник информации о событиях в северном регионе.
Во время захвата власти большевиками в Петрограде союзники интересовались Архангельском не только как важным транспортным центром европейской части России. В этом городе, как и во Владивостоке, сосредоточилось огромное количество военных припасов, отправленных союзниками бывшим российским правительствам. На складах в Бакарице через реку от города и в портовом участке «Экономия» недалеко от устья дельты скопилось в общей сложности 162 495 тонн военной продукции, ожидавшей вывоза в конце 1917 года. Они включали ценные запасы металлов: 2000 тонн алюминия, 2100 тонн сурьмы, 14 000 тонн меди и 5230 тонн свинца. Эти поставки не только были предоставлены союзниками из их собственных небогатых запасов военного времени, но фактически были взяты Россией в кредит и отправлены в Архангельск крайне скудными союзническими транспортными судами, чрезвычайно необходимыми на других театрах военных действий. Вполне естественно, что правительства стран альянса испытывали острую озабоченность судьбой этих поставок и считали себя вправе иметь голос при принятии решения о том, что следует делать с ними дальше ввиду выхода России из войны.
Политическая ситуация в Архангельске в первые же недели, последовавшие сразу за ноябрьским переворотом, не отличалась от царящей во Владивостоке. Удаленность от российского центра, заметное присутствие и заинтересованность дружественных представителей союзников и возросший космополитизм сообщества, ориентированного в первую очередь на внешнюю торговлю и судоходство, в общем своем сочетании замедлили продвижение большевистского движения в этом регионе. К этим факторам добавилась и значительная зависимость города от поставок продовольствия из-за рубежа, то есть от обстоятельства, становящегося все более важным по мере их сокращения из дезорганизованных внутренних районов России.
Перед лицом этих факторов революция в Петрограде изначально нашла лишь малое отражение в архангельской ситуации. Власть, мирно принятая так называемым Ревкомом, в котором доминировали умеренные эсеры, вскоре должна была провести выборы делегатов в Учредительное собрание – этот орган пользовался поддержкой большинства населения Архангельской губернии. Члены Ревкома и представители местной муниципальной администрации заняли разумную и дружественную позицию по отношению к союзникам и с самого начала проявили готовность решать взаимные проблемы путем обсуждения и мирных компромиссов.
Еще не успев укрепить свою власть в Петрограде, большевики приступили к тому, чтобы положить конец неудовлетворительной для них ситуации. Сразу же после скандально известного роспуска Учредительного собрания в январе 1918 года в Архангельск была направлена влиятельная Чрезвычайная комиссия, возглавляемая комиссаром-большевиком М.С. Кедровым (Цедербаумом)[5]. С этого времени он должен был представлять основную исполнительную и военную власть от имени советского правительства в Северном регионе, а позже стать ведущим советским историком событий, связанных с интервенцией союзников в этом районе. Чрезвычайной комиссии было поручено, во-первых, обеспечить полный большевистский контроль над городом и прилегающим регионом и, во-вторых, организовать немедленную отправку вглубь страны военных материалов из Бакарицы.
Причина последней меры, по-видимому, заключалась в желании советских лидеров доставить военную продукцию туда, где она была бы легкодоступна и находилась в безопасности от захвата союзниками. Это решение было принято без каких-либо консультаций с правительствами держав альянса, даже без предварительного предупреждения и почти одновременно с отказом России признавать долги бывших правительств. Другими словами, большевики не только планировали применить поставки для целей, не имевших никакого отношения к военным действиям России, фактически подошедшим к концу, но и отказывались за них платить.
Кедров и его сообщники, не теряя времени, приступили к выполнению приказов. 7 февраля им удалось, как выразился Коул в одной из своих депеш, «добыть» для себя большинство в Архангельском Совете. Используя этот рычаг, они сразу же приступили к ликвидации Ревкома и эффективному захвату власти от имени местного Совета во всем городе и прилегающем регионе.
Таким образом, политическая ситуация была взята под контроль, и члены Чрезвычайной комиссии с той же оперативностью приступили к вывозу военных припасов, хотя это оказалось нелегким делом ввиду общей экономической дезорганизации и низкого уровня эффективности железной дороги Вологда – Архангельск. Но здесь, как и во многих других ситуациях, большевистская безжалостность и решительность оказали свое влияние. К концу марта военные грузы направлялись во внутренние районы страны в объемах около 3000 тонн в неделю. Большинство из них попадало на берег реки Сухоны, недалеко от Вологды.
В начале января 1918 года, еще до окончательного захвата власти местным Советом, умеренные элементы, находившиеся тогда во главе города, обратились к британским и американским представителям за помощью в снабжении региона продовольствием, указав, что Архангельский регион в 1917 году получил только половину обычных поставок из внутренних районов России (конкретно было запрошено 35 000 тонн продовольствия, в основном муки). Обращаясь с этой просьбой, члены Ревкома в полной мере осознавали заинтересованность союзников в военных материалах, хранящихся в Бакарице и в «Экономии», и были готовы согласиться с тем, что часть этих запасов следует возвратить союзникам. Британское правительство ответило через своего консула в Архангельске предложением отправить два продовольственных транспорта на судах, способных пробиваться сквозь льды (по крайней мере до внешней границы рейда), в обмен на предоставление достаточного количества возвратных военных припасов. Однако к тому времени, когда британский ответ достиг Архангельска, Чрезвычайная комиссия под началом Кедрова уже вовсю занималась их вывозом. Не беспокоясь о нуждах гражданского общества, преимущественно антибольшевистского по своим политическим настроениям, лидеры Комиссии остались глухи ко всем просьбам прекратить переброску. Тем не менее британское правительство, невзирая на хаос военного времени, отправило в Архангельск два судна. Прибыв к месту назначения в конце апреля, они были вынуждены провести на рейде около двух месяцев, тщетно ожидая разрешения спора о военных поставках.
В таких обстоятельствах легко понять, что упорство большевиков в вопросе изъятия припасов широко обсуждалось в кругах союзников. Прежде всего спрашивалось, какое юридическое право имели большевики распоряжаться ценными запасами, отправленными альянсом в Россию для ведения военных действий против Германии, от которых теперь советское правительство отказалось? К этому недовольству в умах многих союзников добавилось подозрение, что экспроприация военных складов была инспирирована немцами и вся продукция в конечном итоге окажется в руках Германии.
Пока порт оставался замороженным, союзники мало что могли с этим поделать: любая вооруженная активность в таких условиях представлялась немыслимой. Именно в связи с этим фактом наряду с осознанием, что вместе со сходом льда в мае – июне ситуация в корне изменится, большевики придали такую срочность своим действиям. С другой стороны, срочный вывоз архангельских ценностей, естественно, вызывал раздражение в умах союзников и стал одной из причин, оправдывающих, по мнению альянса, военное вмешательство для защиты их интересов в северном российском регионе.
Ввиду короткого навигационного сезона Архангельск всегда представлял лишь частичную альтернативу тем российским портам Балтийского моря, которые в обычные зимы были полностью свободны от льда. По этой причине в начале войны было принято решение дополнить Архангельск строительством нового северного порта, которым можно было бы пользоваться весь год.
Местом, выбранным для нового порта, стала точка в Кольском заливе Мурманского побережья, недалеко от финской границы. Географически Кольский залив можно рассматривать как самый восточный из крупных норвежских фьордов. Простираясь примерно на сорок шесть миль от открытого моря до слияния рек Тулома и Кола, залив действительно образует место, напоминающее фьорд прилегающего норвежского побережья своей глубиной, узостью и относительно свободным от льда состоянием в зимний период под действием теплого Гольфстрима. Но и здесь играла свою роль чрезвычайная удаленность от всех российских центров. В 1914 году отсюда до Центральной России можно было добраться только через Архангельск. Более того, по состоянию на этот год в Кольском заливе не существовало ничего похожего на город или порт, пригодный для обслуживания океанских перевозок. Маленькая деревня Кола была единственным населенным пунктом, претендующим на статус муниципального образования, но он совершенно не подходил для выбранной цели. Таким образом, возникала необходимость не только построить совершенно новый портовый город, но и соединить его с Россией новой железной дорогой, пересекающей 800 миль малонаселенного северного края, представляющего в основном болотистую тундру, лежащую между Кольским полуостровом и Петроградом. Несмотря на очевидную трудность реализации этого проекта в условиях изменившихся требований военного времени к российским ресурсам, он был – по настоянию британцев – мужественно осуществлен. Для города было выбрано место на восточной стороне фьорда, примерно в 40 милях от устья, в том месте, где крутые холмистые берега отходили от кромки воды, уступая относительно плоской, заболоченной котловине.
Строительство города и железной дороги началось в сентябре 1915 года. Работы велись поспешно и порой кустарными способами. В частности, строительство железной дороги сопрягалось с чрезвычайными трудностями. 25 процентов линии пришлось прокладывать по болотистой местности, при этом возникали серьезные технические проблемы, связанные с постоянно замерзающим грунтом. Во избежание еще большего процента заболоченного основания линии, 40 процентов дороги пришлось прокладывать в обход. Водные пути, которые предстояло пересечь, казались бесчисленными: уже после завершения работ выяснилось, что на каждые 1000 ярдов путей приходилось 16 ярдов мостов. Следует также учесть, что эти задачи решались долгой арктической ночью в то время, когда обеспечение мобильным электрическим освещением было невозможным. Рабочую силу, продовольствие и фураж для тягловых животных приходилось завозить с расстояния в сотни миль. Несмотря на эти препятствия, к весне 1917 года линия была доведена до такой степени, что стало возможным осуществлять ограниченное движение транспорта по непрочной, извилистой единственной колее. Этому достижению сопутствовало завершение строительства жилья и портовых сооружений на новой конечной станции на берегу, пусть и построенных в значительной степени из «подножного» сырья, но достаточных для того, чтобы сделать возможной погрузку и разгрузку океанских судов в скромных масштабах и осуществлять переброску грузов вглубь страны и обратно.
Нельзя сказать, что Мурманск 1917–1918 годов был привлекательным местом. Расположенный почти на самом полярном круге, на широте 69 градусов (примерно на такой же широте побережье Аляски смыкается с канадской границей), этот город наряду с близлежащим норвежским Киркенесом представлял собой самое северное из постоянных городских поселений. В то время Мурманск состоял исключительно из бревенчатых домов, деревянных бараков и складских сараев. Американцы считали, что он напоминает ранний американский лагерь лесорубов: здесь не было ни канализационной системы, ни мощеных улиц, а открытые места, как правило, оказывались заваленными строительным мусором. В течение долгой зимы эти замерзшие кучи росли все выше и выше только для того, чтобы снова растаять с наступлением поздней весенней оттепели и раствориться в песчаных трясинах, волей-неволей служивших улицами в теплое время года. Как и во всех арктических местах, в летний период здесь не заходило солнце, но воздух оставался прохладным, а небо слишком часто становилось темным от комариных туч, поднимающихся с бескрайних материковых болот.
Буквально со всех сторон ощущались отдаленность и запустение этого региона. Скалистые холмы по берегам фьорда, частично поросшие лесом недалеко от Мурманска, становились все более пустынными по мере продвижения вглубь материка. Покрытые снегом большую часть года, они оставались негостеприимным обиталищем как для зверя, так и для человека. Сами воды фьорда были глубоки и холодны – слишком холодны для купания даже в разгар лета. В устье реки, в шести милях от Мурманска, стояло древнее село Кола – бывший административный центр региона. Это маленькое поселение, выделяющееся издалека белокаменной церковью и цитаделью, сиротливо ютилось на большом бесплодном мысе, разделяющем устья двух рек, образующих фьорд в месте слияния. Кроме Колы, в радиусе сотен миль от Мурманска не существовало никакого другого человеческого сообщества. Даже море, к которому спускались стены фьорда, казалось пустым, холодным и унылым продолжением безмолвных пустошей Арктики.
Несмотря на такую крайнюю изоляцию, новый город Мурманск к зиме 1917/18 года превратился в довольно густонаселенное и оживленное место. Женщин, конечно, в нем было немного, полностью отсутствовали бытовые удобства, но к этому времени в нем уже проживало почти 5000 человек, включая 1800 моряков (в основном – военных) и еще большее число железнодорожников и портовых рабочих. В порту находилось несколько российских военно-морских судов, включая линкор «Чесма» и крейсер «Аскольд». К концу 1917 года деморализация российских вооруженных сил дошла до такой степени, что наиболее крупные военно-морские суда Северного флота утратили свою боеспособность. Их экипажи – праздные, беспокойные и возбужденные коммунистическими агитаторами – представляли собой главный источник волнений и общественных беспорядков.
Использование Мурманска в роли портового города началось в 1917 году после заходов в него ряда кораблей, доставлявших боеприпасы и другие товары военного назначения от западных союзников. Можно предположить, что этот порт функционировал бы не менее интенсивно зимой и весной 1918 года, пока Архангельск был скован льдом, если бы захват власти большевиками в Петрограде не остановил большую часть поставок. С другой стороны, весьма сомнительно, что железная дорога смогла бы успешно справиться с большим объемом перевозок, даже если бы поставки осуществлялись в соответствии с первоначальным планом. Наскоро построенная линия все еще оставалась слишком примитивной и непрочной, поэтому ее интенсивное использование представляло большие сложности. Поезда прибывали в Мурманск в течение всей зимы в среднем менее одного раза в неделю. Для пассажиров путешествие из Петрограда обычно занимало до девяти дней, а передвижение товарных составов осуществлялось еще медленнее. Но даже и эти минимальные достижения стали возможными только благодаря достаточной промерзлости почвы под полотном. Инженеры по техническому обслуживанию с беспокойством ожидали оттаивания грунта предстоящим летом.
Ввиду неадекватности российских военно-морских подразделений основная тяжесть морской обороны Мурманской области легла на Великобританию. В 1916 и 1917 годах английские корабли взяли на себя основную ответственность за противолодочное патрулирование и операции по разминированию у берегов Мурманска. Когда архангельский навигационный сезон 1917 года подошел к концу, небольшая британская военно-морская эскадра под командованием контр-адмирала Томаса У. Кемпа осталась зимовать в Мурманске. Она состояла из линкора «Глория» (флагман), крейсера «Виндиктив» и подразделения из шести минных тральщиков. Как предполагало британское Адмиралтейство, в задачи этих кораблей входило прикрытие архангельских складов от возможного нападения немцев, а также защита российских судов, действующих в Белом море, гражданских лиц стран-союзников и беженцев, использующих Мурманск в качестве порта выезда из европейской части России.
Учитывая роль британцев в развитии Мурманска и ту роль, которую они взяли на себя в морской обороне этого района, становится неудивительным, что они испытывали особое чувство ответственности за все, что там происходило, и считали, что, пока продолжается война, обладают правом голоса в портовых делах. Этот факт необходимо иметь в виду, если мы хотим понять события 1918 года в этом регионе.
Как и в случае с Архангельском, большевистская революция добралась до Мурманска не сразу. Город и прилегающий к нему регион главным образом исполняли военно-морскую функцию. Обширные полномочия находились в руках высокопоставленного военно-морского чиновника адмирала К.Ф. Кетлинского[6], умеренного и разумного человека, лояльно настроенного по отношению к союзникам, и Соединенным Штатам в частности. Ввиду высокой популярности среди рядовых военно-морского гарнизона ему было разрешено продолжать работу в первые недели после Октябрьской революции и исполнять по крайней мере часть своих обычных полномочий, однако под внешним благополучием уже скрывалось некоторое брожение. Местный Совет неуклонно шел к власти, и наиболее радикальные элементы, состоящие из политических лидеров военных моряков и местных железнодорожников, с каждым днем становились все более агрессивными и несговорчивыми. В мурманском сообществе, столь тесно связанном с военными действиями альянса, развитие политической ситуации не могло не стать источником тревожного беспокойства для местных представителей союзников.
В отличие от Соединенных Штатов, во время Октябрьской революции в Мурманске находились британские и французские представители различного ранга, поэтому очень сомнительно, что официальный Вашингтон много знал или сильно заботился о происходящем в этой отдаленной точке. Однако в зимний период 1917–1918 годов сила обстоятельств начала вынуждать американцев к определенному участию в делах порта. Краткий обзор возникновения этого участия может оказаться небесполезным в качестве иллюстрации преобладающей атмосферы и той небрежности, с которой американцы умудряются время от времени впутываться в неопределенные и деликатные политические ситуации.
В середине декабря 1917 года в Мурманск прибыли два судна с припасами для миссий американского Красного Креста в России и Румынии. Груз, предназначавшийся для России, состоял в основном из молочных консервов для детей Петрограда.
В отсутствие какого-либо американского представителя британцы приняли предварительные меры для доставки груза в док, но сразу же телеграфировали американцам в Петроград прислать представителя для контроля дальнейшей судьбы этой поставки. Глава миссии американского Красного Креста в Петрограде полковник Рэймонд Робинс сразу же поручил дело одному из своих младших помощников – майору Аллену Уордвеллу.
Этот выдающийся член нью-йоркской коллегии адвокатов был одним из самых полезных сотрудников миссии, и Робинс часто использовал его для решения текущих вопросов вдали от российской столицы. Энергичный, рассудительный, обладающий терпеливым и уравновешенным характером, Уордвелл тактично, но настойчиво выполнял свою работу, ухитряясь оставаться в стороне от политических и личных разногласий, часто сотрясающих американскую официальную колонию. При этом майор поддерживал достаточно хорошие отношения с советскими чиновниками, поскольку их расположение было необходимым условием выполнения поставленных задач. Дневник Уордвелла, содержательный и жизнеутверждающий, почти полностью состоящий из фактов, виденных или пережитых лично, является первоклассным информационным источником о действиях и переживаниях американцев в России 1918 года[7].
После некоторых приготовлений Уордвеллу удалось выехать к месту назначения 2 января 1918 года в великолепном частном железнодорожном вагоне, который Робинс целенаправленно выпросил у советских властей. Майор взял с собой месячный запас продовольствия, переводчика и матроса-большевика в качестве охранника. Это путешествие заняло пять дней и ночей. «Было так холодно, – записал Уордвелл в своем дневнике, – что ртуть в термометре Фаренгейта, вывешенного за окно вагона, угрюмо превратилась в маленький шарик внизу шкалы».
Поздним вечером 7 января Уордвелл прибыл в Мурманск. Над арктической тьмой лежал густой туман, а температура воздуха не превышала 30 градусов ниже нуля. Договорившись с вокзальным начальством, чтобы вагон поставили на запасной путь, майор отправился на розыски британских представителей, однако никто не имел ни малейшего понятия, где могут находиться англичане. Какой-то местный парень заявил, что знает адрес, по которому живут какие-то французы. Вместе они отправились в непроницаемую тьму. Пройдя около мили по глубокому снегу, проводник признался, что безнадежно заблудился, но, к счастью, путешественники все-таки наткнулись, скорее случайно, на бревенчатый дом, в котором, к огромному облегчению Уордвелла, обнаружились трое французских офицеров в компании дамы, азартно играющих в карты. Французы приняли Уордвелла с тем странным чувством братства, которое, кажется, связывает всех жителей Запада, оказавшихся в России, и отвезли его к британцам, живущим прямо на судне в гавани.
Туман, густой и пронизывающе холодный, который, как показалось Уордвеллу, прочно примерз к земле, держался еще два дня. Бегая по делам, майор спотыкался в этом мареве, имея лишь самые призрачные впечатления от окрестностей. Когда наконец мгла рассеялась, американец был ошеломлен зимней красотой фьорда и окружающих холмов, сверкающих в ясной холодной темноте во всем великолепии полярного сияния.
С большим трудом майор сформировал партию груза, большая часть которого к тому времени уже была выгружена. Сожалея, что не появился здесь раньше – уж слишком масштабными оказались хищения, после многодневных пререканий угроз, споров, уговоров и проверки выполнения обещаний (процесс, знакомый любому, кто когда-нибудь пытался осуществлять грузоперевозки через российскую транспортную систему в неспокойные времена) он наконец добился растаможивания британской поставки, ее укладки в товарные вагоны, постановки под надлежащую охрану и подготовки к отправке на юг.
Несмотря всего лишь на статус агента Красного Креста, в Мурманске майора приняли как первого американского официального представителя. Уордвеллу пришлось выступить на заседании Мурманского Совета и нанести визит вежливости Кетлинскому. Он не без удивления обнаружил, что адмирал оказался относительно нестарым мужчиной, живущим с женой и двумя маленькими дочерями в одной из немногих сносных частных резиденций, предложенных ему городским сообществом. Еще в 1900 году Кетлинский был откомандирован в Филадельфию, где наблюдал за строительством эскадренного броненосца «Ретвизан». У семьи будущего адмирала остались приятные воспоминания об этом опыте, и американский гость был встречен со всей теплотой и гостеприимством.
Наконец, ранним утром 14 января, после дикой ночной суматохи, продолжавшейся до самой последней минуты, Уордвелл отправил два поезда в Петроград. Его собственный вагон входил в первый состав, вагон переводчика – во второй. Уже 19-го числа – что считалось очень быстро в сложившихся обстоятельствах – майор гордо привел свой караван на заснеженную железнодорожную станцию Петрограда.
Тем временем американское посольство в Петрограде предприняло шаги, чтобы впервые направить в Мурманск постоянного представителя правительства Соединенных Штатов. Об отсутствии в то время в американских кругах политического интереса к Мурманскому региону свидетельствует тот факт, что этим официальным лицом был назначен не консульский представитель, а сотрудник паспортного контроля, чья функция (сходные функции аналогичных должностных лиц, находящихся в других портах англичан и французов) заключалась в оказании помощи и поддержки капитанам американских судов, слежке за американцами, проходящими через порт, и решения некоторых контрразведывательных задач, обычно выполняемых воюющими правительствами на дружественных или союзнических территориях. Не имея штатных офицеров, подготовленных для этой работы, посольство выбрало (бесцеремонно присвоив ему звание армейского лейтенанта) одного из своих специальных сотрудников военного времени – Хью С. Мартина из Меридиана (штат Миссисипи)[8]. Этот энергичный молодой человек с изысканным, но несколько сангвиническим темпераментом отличался личной храбростью и крайне старомодным южным красноречием.
Имея за плечами опыт работы в паспортном контроле Архангельска во время летней навигации 1917 года, Мартин вернулся в Петроград после замерзания порта. Ввиду предполагаемого прибытия американских судов в Мурманск предстоящей зимой в посольстве решили направить его в этот порт. По какой-то неясной причине советские власти воспротивились назначению Мартина и отказались выдать ему разрешение на проезд по Мурманской железной дороге. Официальное пояснение большевиков, что в Мурманске уже находятся британские и французские суда, трудно воспринимать всерьез. В любом случае Мартина было не так-то легко сбить с толку. Он вернулся по железной дороге в Архангельск, который покинул совсем недавно, поэтому его присутствие в городе не вызвало вопросов у советских властей. Оттуда Мартин продолжил путь, поочередно нанимая крестьянские сани, от деревни к деревне, преодолев таким образом около 250 миль по заснеженной арктической земле до маленького поселка Сорока на Мурманской железной дороге. Там, вдали от Петрограда и без разрешительных документов, он нашел место в товарном вагоне, следовавшем на север. Официальный американский представитель прибыл в Мурманск, преодолев в общей сложности около 1200 миль по замерзшему северу в начале февраля, то есть как раз к тому времени, когда между западными союзниками и большевистской властью в находящемся на особом положении Мурманске разразился первый серьезный кризис.
Как и Уордвелл, Мартин не получал никаких инструкций политического характера. Кроме того, у него не было ни личного опыта взятия на себя той или иной политической ответственности, ни прямой связи с Вашингтоном. Единственным источником информации служил военный атташе российского посольства, чья квалификация в этих вопросах едва ли была выше компетентности самого Мартина. Присутствие молодого сотрудника в Мурманске основывалось на безмятежной уверенности официального Вашингтона в невозможности политических контактов без специальных правительственных санкций. Тем не менее мурманские власти смотрели на Мартина как на полномочного представителя своего правительства, и он неоднократно оказывался в ситуациях, когда даже его молчанию придавалась политическая интерпретация. Отдадим дань уважения врожденным достоинствам американского характера, а не методологии американской дипломатии.
Глава 2
Осложнения в Мурманске
…Вы должны принимать любую помощь от союзных миссий и использовать все средства, чтобы воспрепятствовать продвижению [немцев].
Из обращения Троцкого к Мурманскому Совету от 1 марта 1918 года
Вскоре после отбытия Уордвелла в Мурманске возникли проблемы, связанные с личностью адмирала Кетлинского. Так уж получилось, что этот либерал фактически был социалистом по убеждениям. Еще до революции он проявлял живой интерес к благополучию подчиненных матросов и офицеров, поэтому и после октябрьских событий продолжал пользоваться симпатией и уважением рядового состава Мурманского военно-морского гарнизона. Одного этого, вероятно, было уже достаточно, чтобы навлечь на себя ревность и подозрительность коммунистических лидеров Петрограда. Особое негодование в большевистских кругах вызвала твердость, с которой несколькими месяцами ранее, будучи главой военно-морского трибунала, Кетлинский приговорил к смертной казни нескольких революционных моряков, пытавшихся взорвать его крейсер «Аскольд»[9].
Примерно в начале февраля из Петрограда было получено указание об аресте Кетлинского, однако в ходе расследования выяснилась дополнительная информация, что этот приказ был отдан в связи с инцидентом на «Аскольде». Местные моряки, сами принимающие решения через ревкомы, не испытывали никакого энтузиазма выполнять петроградское распоряжение. Они ограничились тем, что выставили охрану вокруг адмиральского дома, назначили Кетлинскому личного телохранителя, а через несколько дней даже и эти полумеры были сняты. Вскоре на одиноко прогуливавшегося в районе порта Кетлинского в безлюдном месте напали двое мужчин в форме матросов. Они хладнокровно в упор расстреляли адмирала и скрылись в темноте. Кое-как доковыляв до ближайшего жилья, он умер двадцать минут спустя.
Предполагалось, и не без оснований, что это покушение, совершенное посторонними лицами, стало следствием отказа местных моряков принять репрессивные меры против адмирала. Мурманский Совет, пребывая в явном смущении, назвал этот акт «провокацией» и предложил свою невероятную версию об участии «контрреволюционеров». Официальные лица союзников вместе с вдовой Кетлинского подозревали «немецкую руку», действующую через большевиков. В целом же эффект, произведенный на представителей союзников этим инцидентом, глубоко шокировал либеральные западные чувства и стал одной из предпосылок роста их неприязни и недоверия к советской власти.
Убийство Кетлинского повлекло за собой самые серьезные последствия. В частности, из-за него был отстранен от должности единственный советский чиновник, лично отвечающий за поддержание революционного порядка в регионе. Это стало тревожным сигналом для адмирала Кемпа и других британцев, усомнившихся в незыблемости местного Совета перед давлением Германии и других сил, враждебных союзникам. Прежде всего в самой острой форме встал неудобный вопрос: кто теперь будет осуществлять верховную власть?
К этому времени в Мурманске существовало целых три местных органа власти, без сотрудничества и внутреннего согласия между которыми упорядоченное управление было бы едва ли возможно. Первым из них был Мурманский Совет, который теоретически представлял все трудовые и социалистические элементы общества. Совет возглавлял человек, которому было суждено сыграть важную роль в разворачивании всей мурманской истории, – Алексей Михайлович Юрьев. Он, как и большинство других актеров этой драмы, был тогда новичком на мурманской сцене. С четырнадцати лет Юрьев работал кочегаром, сначала на судах Русского добровольческого флота, а позже, во время войны, на американских и британских транспортах. На некоторое время он оставался в Соединенных Штатах, где, по-видимому, устраивался на различные работы в разных частях страны (в 1918 г. он был способен понимать английский язык, хотя говорил на нем с трудом). Юрьев снова оказался в Мурманске в ноябре 1917 года, будучи кочегаром на русском торговом судне. До этого времени, анархист по убеждениям, он никогда не вступал в ряды РСДРП, а политические взгляды Юрьева были ограниченны и примитивны. Как и большинство российских радикалов, он видел в союзниках «империалистов» и относился к ним без какой-либо приязни или симпатии. Со слов Юрьева, однажды он был зверски избит на британском судне за отказ называть старшего помощника капитана «сэром», и этот инцидент сильно повлиял на его отношение к англичанам. Обладая достаточно практичным мышлением, будущий председатель Мурманского Совета не мог не признавать сильной зависимости города от союзнических продовольственных поставок и вооруженных сил стран альянса, играющих важную роль в вопросах обороны северного региона от возможного немецкого вторжения. Именно этот практицизм вкупе с политической неопытностью и запутанностью событий, о чем мы вскоре поговорим, привел Юрьева к более тесному сотрудничеству с западными союзниками, чем того требовали его собственные политические чувства, что, в конце концов, и привело к трагическому финалу[10].
К двум другим местным органам власти, значение которых не могло оставаться без внимания, относились профессиональные организации железнодорожников и военных моряков – «Совжелдор» и «Центромур»[11]. Враждуя с местным Советом из-за проблем административной юрисдикции, они были менее дружелюбны по отношению к союзникам, чем советские руководители.
Моряки, политически дезориентированные, недисциплинированные и даже неспособные поддерживать в рабочем состоянии собственные суда, представляли собой скверное зрелище. Естественно, они не могли не видеть презрения к себе со стороны относительно образованных, подтянутых и дисциплинированных экипажей иностранных военно-морских судов, стоявших в порту. К этому личному раздражению добавлялся и сильный политический оттенок, чему немало способствовали большевистские агитаторы, заполонившие русский флот. Что же касается Совжелдора, то он являлся всего лишь отделением П, ентрального совета Мурманской железной дороги, расположенного в Петрозаводске, полностью находился под его влиянием, придерживался убежденных большевистских взглядов и крайне негативно относился к влиянию союзников.
Через два дня после убийства Кетлинского адмирал Кемп и британский консул Холл негласно встретились с исполняющим обязанности начальника главного штаба Мурманского укрепрайона Г.М. Веселаго[12] и командующим войсками Мурманского края генерал-майором Н.П. Звегинцовым[13] для обсуждения возможных мер по обеспечению упорядоченного управления и военной безопасности. Только что до Мурманска дошла весть о срыве переговоров в Брест-Литовске, и возможность немецких действий в районе Петрограда повсеместно витала в умах общественности. Никто не сомневался, что в случае захвата немцами Петрограда Мурманск окажется отрезанным от поддержки с материка и станет полностью зависеть от любых поставок союзников и их оборонного потенциала. Всем четверым участникам совещания казалось очевидным, что существует настоятельная необходимость создания в Мурманском регионе какого-то упорядоченного правительственного органа, который мог бы сотрудничать с британскими военно-морскими силами в вопросах обеспечения безопасности[14]. Наконец, было принято решение обратиться ко всем трем местным органам власти – Совету, Совжелдору и Центромуру – с просьбой присоединиться к формированию так называемой Народной коллегии, взявшей бы на себя полномочия Кетлинского и с которой союзники и их вооруженные силы могли бы решать вопросы обороны. Об этом решении было сообщено только что прибывшему в Мурманск Мартину и начальнику местной французской военной миссии капитану де Лагатинери. Таким образом, неопытный Мартин с самого начала оказался погруженным в политические хитросплетения всего региона.
Новая коллегия была создана 16 февраля, а Веселаго стал ее исполнительным секретарем. Его полномочия незамедлительно подтвердил главнокомандующий русскими войсками Северной области в Архангельске Сомов, который теоретически пока обладал всей полнотой военной власти. Таким образом, отношения Народной коллегии с централизованной советской властью с самого начала не были четко определены.
Приблизительно 18 февраля ситуация еще более осложнилась в связи с получением известий о возобновлении немцами военных действий против России, что подтвердило наихудшие опасения как представителей союзников, так и российских официальных лиц в Мурманске. Это заставляло ожидать появления немецких войск на петроградском участке Мурманской железной дороги в любой момент. Общее ощущение опасности порождало чувство солидарности между русскими и союзниками, столь резко контрастирующее с антагонизмом и подозрительностью, которыми были отмечены отношения миссий альянса и большевистских лидеров в Петрограде.
Известие о предстоящем прибытии в Мурманск очередного судна «Дора» с продовольствием, предназначенным для американской миссии Красного Креста, побудило Робинса отправить Уордвелла в повторную экспедицию. Посланник отправился в Мурманск 15 февраля, снова в своем личном железнодорожном вагоне, куда и прибыл 20-го. Здесь он обнаружил, что британские власти, потрясенные убийством Кетлинского и возобновлением германских военных действий, развернули «Дору» назад, как только судно достигло мурманского побережья. Хотя позже британцы пересмотрели это решение и попытались отозвать его обратно, они не смогли выйти с «Дорой» на связь, и корабль продолжил возвращение в Англию.
Произошедшее оставило Уордвелла без серьезных дел. Он немедленно отправил отчет о сложившейся ситуации с вопросом о дальнейших действиях, однако к этому времени в Петрограде уже царили хаос и неразбериха. Робинс покинул город раньше, чем была получена телеграмма, и немедленного ответа не последовало. Таким образом, Уордвелл продолжил существование в вагоне на запасных путях железнодорожной станции. Вскоре к нему присоединились Мартин и представитель Американского отделения Ассоциации молодых христиан YMCA, преподобный Джесси Хэлси, которым не удалось найти подходящего жилья.
4 марта к их небольшой группе присоединился еще один член миссии Красного Креста, майор Томас Д. Тэчер в сопровождении большевика-переводчика Иловайского[15]. Как и Уордвелл, Тэчер занимал видное место в нью-йоркской коллегии адвокатов (впоследствии он стал президентом ассоциации адвокатов города Нью-Йорка и судьей Апелляционного суда штата Нью-Йорк) и относился к числу самых способных людей в штате миссии Красного Креста. Робинс отправил Тэчера в Мурманск, чтобы обеспечить ему положение, при котором он мог бы при необходимости покинуть Россию и передать Уильяму Бойсу Томпсону (бывшему главе миссии Красного Креста в России), находящемуся в Соединенных Штатах, отчет о последних событиях и его личных взглядах на ситуацию. Добравшись до Мурманска, Тэчер отправил Томпсону телеграмму с просьбой дать указания о своих дальнейших действиях. Ожидая ответа, он тоже поселился в вагоне, ставшем своего рода американской штаб-квартирой на колесах.
На железнодорожной станции, где проживали американцы, жизнь протекала весьма красочно. Время от времени с далекого юга прибывали поезда с беженцами. Космополитичный Петроград извергал из себя интернациональные элементы, не нашедшие места в мире большевизма. Поскольку свободные помещения в Мурманске отсутствовали, вновь прибывшим оставалось ютиться в товарных вагонах и даже на заснеженных дворах. На взгляд современника, это напоминало Лиссабон времен Второй мировой войны. «Сейчас здесь представлены почти все национальности, – писал Уордвелл в дневнике 5 марта, – это странная конгломератная толпа. Есть французы, итальянцы, англичане, несколько американцев, русские, румыны, чехи, китайцы, работающие на железной дороге, греки и финны… Между составами снуют французские офицеры и солдаты. Несколько итальянских певцов целыми днями исполняют арии в своих вагонах в истинно оперном стиле, а время от времени и перед публикой, отчаянно жестикулируя и стараясь сохранять приличия. Здесь же присутствует известный исполнитель цыганских песен, несколько русских авиаторов, пытающихся улизнуть из России в Америку, профессор математики и повар из американского посольства, приехавший из Вест-Индии и говорящий по-английски с французским акцентом».
Такое положение дел, периодически выправляемое за счет отправки эвакуационных судов, продолжалось в течение всего марта и части апреля. После отплытия очередного корабля с беженцами на станции и в порту становилось относительно тихо и пустынно, но через несколько дней все начиналось снова. 29 марта Уордвелл записал в дневнике: «Жизнь в нашей северной метрополии, куда этой зимой, похоже, стекается вся общественная жизнь России, особенно иностранцы, несколько поутихла после отплытия „Ханте Энд“, но с приближением очередного парохода снова начала закипать. Улицы переполнены аристократически одетыми мужчинами и женщинами, а импровизированные „полевые кухни“ снова приобретают популярность. Людям надоели консервы, приготовление пищи непосредственно в вагонах порождает духоту и беспорядок, поэтому плиты устанавливают между рядами вагонов, а еда готовится на открытом воздухе, хотя ртутный столбик указывает температуру значительно ниже нуля. Единственная опасность заключается в том, что вагоны могут поменяться местами и ужин, когда будет приготовлен, окажется далеко от столовой».
Так или иначе, несмотря на суету и неразбериху, отсутствие жилья, ужасные санитарные условия и суровый климат, жизнь в маленькой северной общине продолжалась. Дело даже доходило до организации своеобразных представлений, раскрывающих таланты русских и иностранных беженцев. Сам Уордвелл участвовал в одном из таких спектаклей, поставленном британским контингентом. Фактически он возглавил программу, сыграв на фортепиано «Офелию» Невина. Вспоминая об операх, балетах и концертах, часто посещаемых в Петрограде, Уордвелл вернулся в свой вагон, потрясенный художественной ограниченностью собственных соотечественников. «Только англосаксы могли всерьез воспринимать это действо, – записал он с содроганием, вспоминая представление. – Это худшее преступление, которое было совершено в России!»
Однажды (14 марта) Тэчер в сопровождении Иловайского присутствовал на заседании Исполнительного комитета Совета. По какому поводу состоялся этот визит и что на самом деле там было сказано, мы уже никогда не узнаем. Известно лишь, что Тэчера попросили высказать мнение о текущей ситуации (Иловайский выступал в роли переводчика). Х.Э. Дулиттл, американский вице-консул в Стокгольме, 13 сентября сообщал госсекретарю о беседе с капитаном Иловайским относительно встречи союзников с Мурманским Советом: «Иловайский долго говорил по-русски, предположительно переводя Тэчера, а в действительности цитируя Троцкого…» – в том смысле, что «Соединенные Штаты никогда не позволят произойти такой высадке и настаивают на быстрейшем признании Советов и их политики». Очевидно, Тэчер заподозрил, что его переводят неправильно, и возмутился. «Иловайский немедленно телеграфировал суть в штаб-квартиру большевиков и через их пресс-бюро передал эту информацию во все газеты как исходящую из замечаний майора Тэчера и как общее мнение всех аккредитованных американских представителей. Кроме того, Иловайский рассказывал Мэддину Саммерсу, генеральному консулу США в Москве, о нескольких случаях, когда он, Иловайский, и Рэймонд Робинс из миссии Красного Креста манипулировали большевистской прессой и «действовали исходя из своего понимания права, невзирая на то что могли бы войти в конфликт с политикой аккредитованных американских представителей».
Эта версия, какой бы ни была истина, неизбежно поднимает неудобный вопрос: сколько же еще раз американские представители, большинство из которых не знали языка окружающей политической жизни, были введены в заблуждение своими переводчиками, добавившими лишнюю путаницу и недоразумения, которых и без того хватало? Точного ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем, но то, что изложение американской позиции в целом в значительной степени могло искажаться русскими переводчиками, преследующими те или иные интересы, вряд ли вызывает сомнение.
В конце концов Тэчер получил телеграмму от Томпсона, в которой ему предлагалось отправиться в Лондон и проинформировать мистера Дуайта Морроу[16], что уловка Иловайского была направлена против британцев и, очевидно, вызвала у них сильное недовольство. Несомненно, Иловайский работал переводчиком в миссии Красного Креста с благословения советских властей и, следует предположить, являлся большевистским агентом. Но и сами британцы не были полностью безупречны в отношении очевидного желания Иловайского бросить яблоко раздора между ними и американцами. За два дня до встречи с исполнительным комитетом Уордвелл нанес визит в британское консульство вместе с Иловайским, после чего записал в дневнике: «Там было много англичан. То, что они говорили прямо в присутствии Иловайского, просто ужасно. У них совершенно нет чувства такта». Это не было первой жалобой американцев на нежелание англичан скрыть свое презрение и пренебрежительное отношение к ситуации в России.
Тэчер вернулся в Соединенные Штаты на судне, которое вышло из Мурманска 22 марта. Изначально Уордвелл предполагал покинуть Россию вместе с Тэчером, однако 16 марта он получил сообщение от Томпсона, в котором ему советовалось временно задержаться, поскольку у него может появиться важное поручение. Вскоре к этому сообщению прибавилась телеграмма от Робинса (ныне находящегося в Москве), в которой ему предлагалось вернуться в Петроград и закончить работу в миссии. Таким образом, Уордвелл оставался в Мурманске до 30 марта.
Однако вернемся к развитию политической ситуации на севере. Опасения официальных лиц союзников в связи с сообщениями об окончательном кризисе в Брест-Литовске в конце февраля усилились из-за одновременного поступления первых расплывчатых и искаженных сообщений о гражданской войне, разразившейся в Финляндии. Военные действия между белыми и красными силами в этой стране вспыхнули в середине января, когда финские коммунисты попытались захватить власть по всей Финляндии, следуя прецеденту, созданному большевиками в Петрограде. 28 января вооруженные формирования левых сил и коммунистов Финляндии захватили власть в Хельсинки и вынудили бежать некоммунистическое правительство. Будущий маршал Карл Густав Маннергейм, которому свергнутое правительство поручило защиту новой независимой республики от коммунистической экспансии, столкнувшись с безнадежным превосходством красных на юге, отправился в северо-центральную Финляндию и приступил к созданию в этом районе ядра национального сопротивления краснофиннам и поддерживающим их большевизированным русским воинским частям. Благодаря быстрым и смелым действиям Маннергейму удалось разоружить недовольные российские гарнизоны в непосредственной близости от его наспех импровизированной штаб-квартиры[17]. К середине февраля вся северо-центральная Финляндия, включая финско-шведский пограничный пункт Торнио-Хапаранда, расположенный в начале Ботнического залива, находилась в руках Маннергейма.
Не существовало объективных причин, по которым первоначальный успех Маннергейма мог бы встревожить русских и представителей союзников. Этот бывший царский офицер с длинным и достойным послужным списком не являлся ни сторонником Антанты, ни Германии: он был настроен чисто «профински». Изначально Маннергейм не имел никаких намерений обращаться к немцам за помощью и даже не предполагал, что в феврале 1918 года подобные обращения уже поступали из других финских кругов. Красные, которых решительно поддерживал новый советский режим в близлежащем Петрограде, обладали потенциальным численным преимуществом, поэтому решение задачи, стоявшей перед Маннергеймом в феврале 1918 года, а именно освобождение всей южной части Финляндии от коммунистического контроля, требовало крупной, но чрезвычайно опасной операции, которая, несомненно, повлекла за собой полную отдачу всех имеющихся ресурсов. Беспричинное принятие на себя каких-либо дополнительных и не связанных с этим предприятием обязанностей на другом направлении, например наступление на участке Мурманской железной дороги или на позиции союзников в этом регионе, было бы последним, что могло прийти Маннергейму в голову на начальном этапе гражданской войны в Финляндии, даже если бы у него и присутствовала политическая мотивация.
Ни для кого не секрет, что на момент возобновления немецкого наступления на Россию Маннергейм уже частично использовал (не исключено, что со временем мог бы использовать и полностью) подготовленный немцами финский егерский батальон, известный как Konigliches Preussisches Jagerbatallion 27. Это подразделение состояло примерно из 1800 молодых финнов, которые, стремясь освободить свою страну от российского владычества, прошли подготовку в немецкой армии в первые годы войны и были на короткое время задействованы немцами для ведения боевых действий на Восточном фронте под Ригой в 1916 году. После захвата власти большевиками в Петрограде и провозглашенной в конце года декларации независимости Финляндии[18] немцы незамедлительно согласились репатриировать это подразделение на родину вместе со всем вооружением. Около 60 егерей уже к середине февраля тайно вернулись на родину и скрытно поступили на службу к белофиннам. Следующий небольшой егерский контингент прибыл в Финляндию 17 февраля, а основные силы прибыли в Ваасу 25-го числа. По настоянию Маннергейма и к большому недовольству личного состава, подразделение не было допущено к действиям в качестве единой боевой единицы. Батальон был расформирован и распределен по вновь созданным армейским частям, причем главным образом егерей использовали в качестве офицеров-инструкторов и командиров. Будучи всем сердцем и душой преданы Финляндии, эти люди ни в коем случае не могли быть сторонниками германской военщины.
К егерям была прикомандирована часть немецких офицеров, занимающих высшие командные должности, для которых у финнов не хватало подходящих людей. Егеря, вероятно, носили форму, по крайней мере частично похожую на форму немецкой армии. Этого, вместе с примесью немецких имен, было, возможно, достаточно, чтобы у офицеров разведки союзников с самого начала сложилось несколько преувеличенное впечатление о степени участия Германии в финском белогвардейском движении.
Как будет показано в другой главе, некоторые отряды краснофиннов, вытесненные из Центральной Финляндии операциями Маннергейма, отступили в начале марта в зону Мурманской железной дороги, поскольку именно в это время здесь появились разведывательные отряды. Вполне возможно (хотя последующие заявления финского правительства и ставят это под сомнение), некоторыми этими разведотрядами белофиннов командовали егеря. В свою очередь, появились слухи, вскоре распространившиеся в Мурманске, что Мурманская железная дорога, да и сам город подвергаются нападениям или угрозам таковых со стороны «немецко-финских» подразделений под германским командованием. Трудно представить еще какое-нибудь основание подобных сплетен.
Другая предпосылка, которая, возможно, имела какое-то отношение к возникновению опасений союзников относительно действий Германии против Мурманска, заключалась в том факте, что именно в день убийства Кетлинского немецкое Верховное командование приняло решение направить регулярные немецкие вооруженные силы в Финляндию, обосновав это срывом переговоров в Брест-Литовске. Несмотря на то что подготовка войск к переброске проходила в режиме строжайшей секретности, слухи о ней достигли союзнических кругов весьма быстро.
Двойная цель Германии вытекала из стратегической логики ведения военных действий. Во-первых, немцы хотели создать военный плацдарм, с которого Германия могла бы противостоять и срывать любые действия союзников по использованию Мурманска в качестве базы для развития возобновленного военного сопротивления Германии на Восточном фронте. Очевидно, немецкие позиции в Финляндии, на фланге Мурманской железной дороги, сделали бы чрезвычайно уязвимым любое несанкционированное движение из Мурманска в южном направлении. Во-вторых, присутствие немецких войск в Финляндии создавало дополнительную угрозу Петрограду и, таким образом, увеличивало немецкие средства политического давления на непокорных большевиков, на чью добрую волю (с договором или без такового) германское Верховное командование не было склонно особенно полагаться. Первоначальные планы использования этих вооруженных сил не включали никаких наступательных намерений против самого Мурманска или даже против всей Мурманской железной дороги при условии отсутствия каких-либо действий союзников в направлении Петрограда.
Немецкие войска были десантированы на Аландские острова 7 марта, а на материковую часть Финляндии (полуостров Ханко) – 3 апреля. Несколько позже последовала еще одна высадка к востоку от Хельсинки. Все действия Германии сводились к оказанию помощи белофиннам по освобождению юго-западной и юго-центральной частей страны от коммунистического контроля. Немцы ни разу не приблизились к Петрограду ближе чем на 80 миль, не говоря уже о том, что оставались на расстоянии сотен миль от основных участков Мурманской железной дороги к востоку и северу от Ладожского озера.
Не существует свидетельств, что нападение немецких войск на Мурманск входило в планы Германии до высадки там первых регулярных британских вооруженных сил 23 июня 1918 года. Несколько позже, когда союзники уже стали располагать значительными военно-морскими силами в Мурманске, немцы проявили серьезный интерес к получению контроля над соседним Петсамо. К концу июня они безуспешно попытались оказать давление на большевиков, чтобы те, объединившись с белофинским правительством, осуществили совместную вооруженную экспедицию (естественно, под немецким командованием) по изгнанию союзников из Мурманского региона.
Здесь мы опять имеем хороший иллюстративный пример склонности воюющих держав преувеличивать намерения и возможности противника и приписывать ему намерения, выходящие за рамки того, что он на самом деле хочет осуществить, а затем предпринимать противодействие этим воображаемым планам и, таким образом, провоцировать именно такое поведение врага, которого изначально опасались. Ни в марте, ни в апреле серьезной угрозы нападения финнов под немецким командованием на Мурманск просто не существовало. Однако англичане и французы в течение нескольких недель вели себя так, словно такая опасность действительно присутствует.
Первые вводящие в заблуждение слухи и сообщения о немецкой угрозе начали доходить до Мурманска в конце февраля, как раз во время создания Народной коллегии и установления тесного сотрудничества между местными властями и представителями союзников в порту.
Последние дни февраля, отмеченные непрерывным потоком сенсационных и тревожных сообщений (как ложных, так и правдивых), что немцы наступают на Петроград, столица эвакуируется и правительство бежит в Москву и прочее, естественно, стали временем возникновения общественных беспорядков и, как следствие, волны арестов, прокатившейся по Мурманску[19]. В течение нескольких дней предполагалось, что Россия не примет немецкие условия и мира не будет, Мурманск, отрезанный от остальной России, вскоре окажется «сам по себе» и столкнется так или иначе с прямым нападением Германии. Советские власти в Петрограде на тот момент оказались слишком измотанными, чтобы достоверно информировать отдаленные аванпосты советского мира о происходящем или давать какие-либо подробные указания. В этих обстоятельствах не было ничего удивительного в том, что как союзники, так и российские власти в Мурманске предприняли независимые меры, призванные обеспечить возможность противостояния угрожающей опасности.
Со своей стороны в последние дни февраля Кемп телеграфировал в Лондон о необходимости немедленно направить в Мурманск военный контингент численностью 6000 человек. Адмирал проинформировал Мартина и, без сомнения, французского представителя об этой просьбе и попросил заручиться поддержкой собственного военного руководства. Британское правительство, испытывавшее трудности с поиском адекватных сил для Западного фронта в свете предстоящего немецкого наступления, не удовлетворило просьбу Кемпа, однако отправило в Мурманск второе военное судно – броненосный крейсер «Кокрейн», а также призвало французов и американцев последовать их примеру и направить в этот регион собственные военные корабли.
Этот призыв поступил правительству Соединенных Штатов в форме меморандума посольства Великобритании в Госдепартамент. На основании доклада адмирала Кемпа утверждалось, что… «там [в Мурманске] сложилась серьезная ситуация из-за настроя большевистского гарнизона против союзников и из-за сообщений о намерении финнов, действующих по наущению немцев, наступать на железную дорогу Петроград— Мурманск». Меморандум был представлен в неподходящий момент: 5 марта, то есть в то время, когда умы политического истеблишмента Америки были заняты кризисом, вызванным предложениями союзников о японской интервенции в Сибирь. Не имея ни должной предварительной подготовки, ни соответствующих разъяснений, этот призыв вызвал ожидаемую отрицательную реакцию Вашингтона (без сомнения, согласованную с президентом): в настоящее время ни один американский военный корабль не будет отправлен в Мурманск. В отличие от американцев, французы тут же ответили на меморандум немедленной отправкой на Русский Север тяжелого крейсера «Амираль Об», прибывшего в Мурманск в середине марта.
Мурманский Совет тем временем так же по-своему отреагировал на волнения последних дней февраля. 1 марта он отправил советским властям в Петроград телеграмму, возымевшую затем весьма серьезные последствия. Ее текст был следующим: «Возобновившееся нападение немецких империалистов и капиталистов дает основания для беспокойства за безопасность Мурманского региона и железной дороги. Мурманский Совет, озабоченный их защитой от любых нападений, создает социалистические вооруженные силы. Широко циркулируют слухи о возможном появлении финских белогвардейских и немецких партизанских отрядов в районе железнодорожных путей. Представители миссий дружественных держав – французской, американской и английской, – находящиеся в настоящее время в Мурманске, продолжают демонстрировать неизменно благожелательное отношение к нам и готовность оказать содействие, начиная от поставок продовольствия и заканчивая вооруженной помощью. Мурманский Совет, охраняя завоевания пролетариата, тем не менее не способен самостоятельно решить вопрос об обороне региона и железной дороги и запрашивает указания у центральной советской власти, особенно в части, касающейся форм, в которых может быть принята помощь дружественных стран. Чешские и французские отряды численностью около 2000 человек, репатриируемые сейчас во Францию, следуют в настоящее время по Мурманской железной дороге».
Представляется, что численность упомянутых в телеграмме чешских и французских отрядов сильно преувеличена. Скорее всего, после краха румынского фронта и германо-румынского перемирия имело место перемещение французских военных советников по техническим вопросам и, возможно, одного или двух артиллерийских подразделений через Россию во Францию, и некоторые из них по состоянию на 1 марта находились на пути в Мурманск. Не имеется никаких подтверждений тому, что в это время на железной дороге обнаружены какие-то чехи. Вполне вероятно, что речь шла об отряде сербов, также находящемся в процессе репатриации. Британский консул Холл 2 марта сообщал представителям Мурманского Совета, что отряд из 50 английских солдат находится в Кеми, то есть приблизительно на полдороге от Петрограда до Мурманска, а более крупный отряд ожидается через два дня. К чему это относилось, совершенно неясно, но других свидетельств чего-либо подобному просто не существует. Кемь – порт на Белом море. Если даже предположить, что сказанное Холлом относится к какому-то личному составу на британском судне, следует вспомнить, что Кемь, как и Архангельск, обычно в это время года полностью скована льдом. Все вышесказанное лишний раз иллюстрирует неразбериху и хаос того времени.
Характерным примером тогдашней путаницы может служить и то, что телеграмма Мурманского Совета дошла в Петроград до Троцкого почти одновременно с вводящей в заблуждение телеграммой Карахана из Брест-Литовска, которая заставила большевистских лидеров поверить в неудачу советской делегации, а также и в то, что немцев ничто не удерживало от продолжения марша на российскую столицу и, вероятно, на Москву. Ответ Троцкого в Мурманский Совет, отправленный вечером того же дня (то есть 1 марта), был, очевидно, составлен в тот короткий период, пока сохранялось недоразумение. Таким образом, Троцкий писал его, находясь под ошибочным впечатлением, что немецкое наступление вот-вот будет продолжено и падение Петрограда практически неизбежно. Первые же предложения телеграммы ясно это отражают. Сообщение, которому было суждено стать ключевым фактором в последующем развитии мурманской ситуации, гласило следующее:
«Мурманскому Совету, 1(14) марта, 21 ч 25 мин
СРОЧНО
Мирные переговоры, по-видимому, прерваны. Петрограду угрожает опасность. Были приняты все меры для защиты города до последней капли крови. Ваш долг – сделать все, чтобы защитить Мурманскую железную дорогу. Того, кто покидает свой пост без боя, считать предателем. Немцы наступают небольшими отрядами. Сопротивление против них возможно и обязательно. Ничего не оставлять врагу. Эвакуировать все, что имеет хоть какую-то ценность, в случае невозможности – уничтожить. Принимайте любую помощь от союзных миссий и используйте все средства, чтобы воспрепятствовать продвижению грабителей. Совет должен подавать пример мужества, твердости и эффективности. Мы сделали все возможное для установления мира. Сейчас на нас нападают бандиты, и мы должны спасти страну и революцию…
Народный комиссар Троцкий».
Поскольку это послание стало формальной основой для большей части последующих действий Мурманского Совета, приведших к установлению тесного сотрудничества с союзными державами и, в конечном счете, к полному разрыву с большевиками, неудивительно, что оно подверглось ожесточенным нападкам сталинистских историков и использовалось в качестве одного из инструментов разоблачения Троцкого. Собственная работа Кедрова представляет собой интересный пример прогрессирования искажений в трактовке личности Троцкого советскими историками по мере укрепления личной власти Сталина. Если в издании очерков «Без большевистского руководства» 1930 года логика и предпосылки отправки телеграммы в Мурманский Совет просты и понятны, то в статье 1935 года, посвященной пятнадцатой годовщине окончания Гражданской войны на севере, действия Троцкого в оскорбительной форме изображаются как совершенно недисциплинированный, крайне подозрительный и даже предательский акт («Правда» от 21 февраля 1935 г.).
В своей книге Кедров утверждал: «Телеграмма, составленная в несколько панических тонах, отражала преобладающее недоумение в советских кругах в связи с возобновлением немецкого наступления. Телеграмма, несомненно, была серьезной политической ошибкой, поскольку она 1) обязывала получателей принимать любое сотрудничество со стороны империалистов Антанты, а не ограничение этого принятия какими-либо условиями; 2) внесла путаницу в отношения между Советами Мурманска, Олонецкой и Архангельской губерний, поскольку уполномочила Мурманский Совет единолично вести переговоры с „союзниками“, взять на себя руководство обороной всего обширного региона и охранять всю Мурманскую железную дорогу, не проинформировав другие провинциальные центры о принятых мерах; 3) узаконила деятельность лиц, пытавшихся создать общий фронт с „союзниками“…»
Высказав эти соображения, Кедров перешел к рассмотрению господствовавшей в то время общей партийной линии в отношении принятия помощи от союзников, включая заявления самого Ленина и Троцкого, и продемонстрировал, что эта партийная линия никогда не предусматривала фактического приглашения иностранных вооруженных сил на территорию Российской Советской Республики. Таким образом, заключил Кедров, Троцкий, составляя эту телеграмму, «…немного отклонился вправо от линии, установленной Центральным комитетом, и это небольшое отклонение, мизерное само по себе, состоящее из единственного избыточного выражения „какую бы то ни было [помощь]“… без каких-либо изменений или исключений, имело чрезвычайно серьезные последствия, поскольку насаждало в сознании рабочих и крестьянских масс иллюзию возможности ведения революционной войны против германских империалистов бок о бок с разбойниками англо-французского империализма».
Едва ли можно сомневаться в том, что анализ Кедрова по существу верен, если рассматривать его применительно к общей политике Центрального комитета того времени. Нет никаких оснований полагать, что в условиях Брест-Литовского кризиса даже Ленин был бы склонен дать согласие на любое выдвижение регулярных войск союзников на территории, куда уже «положило глаз» советское правительство. Объяснялось это достаточно просто: Ленин смотрел на союзников как на ничуть не меньшее, а даже как на более грозное и опасное зло, нежели сами немцы. Главная его цель заключалась в получении «передышки» за счет уступок по Брест-Литовскому договору, в течение которой можно было бы укрепить советскую власть. В любом случае Центральный комитет не учитывал в своих директивах каких-либо непредвиденных обстоятельств, кроме согласия Германии на советскую капитуляцию. Таким образом, не могло существовать никаких общих политических предпосылок, согласно которым можно было бы обосновать ввод союзных войск на советскую территорию.
Несколько позже мы увидим, что и Троцкий, и Ленин могли бы зайти довольно далеко, пассивно соглашаясь с присутствием союзных войск на Мурманском побережье, хотя они всегда и придерживались формальной позиции протеста. Но это было в то время, когда высадка уже являлась свершившимся фактом, не поддающимся изменениям. Более того, советские лидеры имели причины не стремиться к слишком острому и окончательному конфликту с союзными правительствами[20].
На следующий день после получения телеграммы Троцкого Веселаго, не теряя времени, созвал новое заседание Народной коллегии с участием представителей союзнических миссий для выработки более конкретной программы совместной обороны региона. Следует отметить, что предполагаемая опасность заключалась в первую очередь в воображаемой угрозе со стороны Финляндии, а не в возможности продвижения немцев вверх по железной дороге с юга. На встрече со стороны союзников присутствовали адмирал Кемп, британский консул, и французский военный представитель капитан Шарпантье. Все закончилось одобрением так называемого «устного соглашения», которое после некоторой доработки в ходе одного или двух последующих заседаний включало следующие пункты:
1. Мурманский Совет следует считать верховной властью в Мурманском регионе.
2. Верховная военная власть должна находиться в руках Военного совета, состоящего из одного представителя Совета, одного британца и одного француза.
3. Французы и британцы не вмешиваются во внутренние дела региона, но должны надлежащим образом информироваться обо всех решениях Совета, имеющих общую применимость.
4. Французы и британцы делают все, что в их силах, для обеспечения региона продовольствием и другими материалами.
Это соглашение было принято адмиралом Кемпом при условии одобрения его правительством (было ли такое одобрение когда-либо получено, так и осталось неизвестно). В любом случае военное сотрудничество развивалось в предусмотренном русле, и Мурманский Совет считал соглашение полностью легитимным. Сразу же стоит отметить, что правительство Соединенных Штатов никоим образом не было к нему причастно.
Из книги Кедрова следует, что на заседании 2 марта Кемп сказал следующее: «Я передам своему правительству условия соглашения, при этом отмечу, что согласен с его положениями и готов оказывать помощь со своей стороны до получения ответа из Лондона». На следующий день адмирал заявил: «Я передал ваши условия, но пока не получил ответа на свою телеграмму. Могу уверить, что британское правительство готово оказывать помощь для обороны региона. Что же касается других мер, то я пока не получил каких-либо полномочий».
Содержание устного соглашения было кратко изложено в вышеупомянутой статье Кедрова в «Правде». В более поздней статье на эту же тему он заявлял, что Военный совет, ставший высшей военной инстанцией, был создан с согласия и ведома Троцкого. Этому утверждению не приводится никаких доказательств, поэтому его, вероятно, следует воспринять как преднамеренное пропагандистское искажение.
В последующие дни был официально сформирован Военный совет, первоначальными членами которого стали лейтенант В.Н. Брикке (старший офицер на «Аскольде») со стороны русских, капитан Фосетт со стороны британцев и капитан де Лагатинери со стороны французов. В самую последнюю минуту выступил Веселаго, выдвинув дополнительное условие обязательного присутствия на заседаниях Военного совета трех комиссаров, представляющих соответственно Мурманский Совет, Совжелдор и Центромур в качестве наблюдателей. Это требование, явно отражающее разобщенность среди русских, а также острую подозрительность, с которой моряки и более радикальные лидеры профсоюза железнодорожников по-прежнему относились к союзникам, хотя и крайне неохотно, было удовлетворено.
За созданием Военного совета последовало возобновление деятельности союзников в Мурманске. 7 марта сюда пришел британский «Кокрейн», а 19-го – французский «Амираль Об». Это значительно усилило военно-морские силы союзников (линкор и три крейсера)[21], не считая более мелких судов, и обеспечило им явное военное господство над местной ситуацией.
Что еще более важно, 6 марта, за день до прибытия «Кокрейна», адмирал Кемп высадил на берег небольшой контингент морских пехотинцев с «Глори», а примерно еще через день к ним присоединились и пехотинцы с самого только что прибывшего «Кокрейна». Установить точное количество личного состава не представляется возможным, но вся десантная группа, скорее всего, насчитывала не более 200 человек. Эти солдаты просто разошлись по прибрежным баракам для поддержки любых военных действий за пределами досягаемости корабельных орудий. По конфиденциальной информации Мартина, британский десант состоял из приблизительно 200 военнослужащих, которые не принимали никакого участия в управлении портом или в поддержке общественного порядка, хотя и были случаи, когда Кемпу приходилось угрожать, что они будут использованы, если местные власти не предпримут надлежащих действий. Другими словами, присутствие британцев в некотором смысле соответствовало присутствию отряда союзных легионеров славянской национальности (либо чехов, либо сербов)[22], расквартированных в Коле и находящихся под французским командованием. По-видимому, в условиях брест-литовского кризиса их пока держали в прибрежных казармах и не подвергали эвакуации, полагая, что наличие на берегу союзнических сил окажет некий стабилизирующий эффект.
В случае противостояния с немцами адмирал мог бы усилить оборону немалым числом «синих курток»[23], однако Кемп не имел права разделять исполнительное командование русскими войсками, а также и не забывал, что его главная задача заключалась в обеспечении безопасности русских военных кораблей, репатриации моряков и беженцев и в сохранении запасов союзников на складах Архангельска.
Высадка британских морских пехотинцев была проведена очень тихо и без фанфар. О ней не делалось публичных заявлений и, следовательно, никаких официальных разъяснений стоящих за этим мотивов также не последовало. Не сообщалось об английском десанте и в западной прессе, поэтому у нас нет никаких данных, когда именно про него стало известно советскому правительству. Полномочия адмирала Кемпа позволяли ему «использовать все силы, находящиеся под его командованием, для предотвращения беспорядков или анархии на местах, если интересы союзников затронуты или они находятся под угрозой». Предположительно он обладал правом предпринимать какие-либо действия под свою личную ответственность исходя из собственного суждения о местной ситуации. Однако разумно подозревать, что эти действия могли быть и связаны с новостями, дошедшими до британского правительства, касающимися перемещения немецких военно-морских сил на север к Аландским островам.