Читать онлайн Подросток Ашим бесплатно
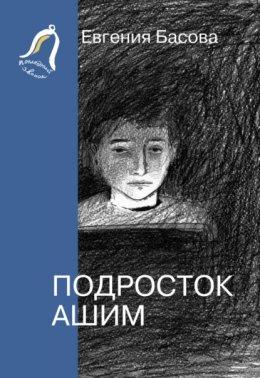
© Е. В. Басова, текст, 2016
© A.A. Веселов, оформление серии, 2016
© К. Толстая, иллюстрации, 2016
© ГРИФ, 2016
* * *
Мишка только пришёл в лицей, а уже стал администратором сайта. Кира Сергеева на перемене говорит:
– Ну, выскочка…
И все кивают ей, кто сразу, а кто поглядев на других. И Лёхич тоже кивает, а сам думает: «Но ведь всем предлагали, когда этого Мишки Прокопьева здесь ещё не было!»
Алла Глебовна, учительница информатики, оглядывала класс, останавливалась на лицах, смотрела долго, и Лёхичу боязно было, что она скажет сейчас: «Ну, раз никто не хочет, я назначаю Лёшу Михайлова». Но она только молча глядела, а потом переводила глаза, и уже соседу его, тоже Лёше, Ковригину, было боязно.
Девчонкам не надо было бояться. Алла Глебовна полагала, что администратором должен быть мальчик. Но если бы Кирка сама вызвалась, её бы, наверно, назначили.
Алла Глебовна говорила, что многие ребята идут примерно наравне, и она не знает, кого выбрать. И чтобы все ещё раз подумали.
А дальше начинала пугать, что сайтом придётся заниматься каждый день. И что делать всё надо будет чуть ли не с нуля. У лицея понятно, есть сайт, но мы переходим на другую платформу…
Лёхич не тупой, но он каждый раз представляет себе платформу – каменную плиту под ногами. Ноги его в высоких ботинках упираются в неё и пружинят.
Он слышит:
– Нам надо перейти на другую платформу.
Только иногда это парень говорит, его, Лёхича, друг, а иногда девчонка, и он вспоминает: «Да, у меня же подруга есть!» И в любом случае они будут долго ехать на поезде. Мимо них леса будут тянуться, и поезд будет громыхать, пролетая мосты над водой.
– Лёша, ты хочешь быть администратором сайта? – спрашивает Алла Глебовна. – Давай!
И он вскакивает и мотает головой, бормочет:
– Я не хочу…
Должно быть, очень счастливо он улыбался.
Новенький пришёл неулыбчивый, на учителей внимательно глядел.
Мальчишки на перемене стояли у окна, говорили про всякие игры. Он подошёл, на него посмотрели, и он начал, смущаясь:
– Я пробовал знаете как сделать…
Вроде, вообще про какую-то другую игру, невпопад. А дальше Лёхич понять не мог – выходило, что новенький сам хотел сделать игру. И Лёхич боялся переспросить у него, так это или нет. Все-то, получалось, поняли, а он только не понял. Он стоял рядом, думал: не зря классная говорила маме на прошлом собрании, что он типичный гуманитарий.
Мама в тот вечер, придя домой, по обыкновению бросила ему:
– Будешь на рынке стоять, как я!
Как будто он уехать никуда не сможет. Это в их городе – то ли на завод иди, то ли на рынок. Но мало ли как в других местах…
Он смолчал, а мама давай дальше, вперёд – попрекать его:
– Я убиваюсь, я выходных не вижу, ты хоть знаешь, каково мне с тобой вот так маяться?
У Лёхича никто не спросил, хочет ли он из школы в лицей. В каникулы после седьмого класса мама заставила приёмные экзамены сдать. Он сам не знал, как смог написать математику, и по физике он, как ни дрожал, на вопросы ответил. Учитель старенький был, у него в глазах слёзы стояли. Так бывает, что глаза сами слезятся. А Лёхичу казалось, что это учителю его жалко, что он такой несуразный.
Лёхич и не объяснил бы, откуда видно, что они все другие, не такие, как он. Ребята из очереди на собеседование пришли из какой-то другой жизни, в которой – хошь в Англию, хошь – в Америку на каникулы, где никто не кричит на тебя из-за денег. Вообще никто никогда не кричит.
Все мальчики были в отглаженных строгих костюмах. И Лёхичу мама тоже отгладила пиджак и штаны, а сначала долго чистила щёткой и говорила: «Ты сам уже должен, я уже не должна прикасаться…» И он был в специально купленной белой рубашке, но отчего-то ему казалось, что и рубашка на нём другая, и это всем видно…
Пока Лёхич стоял в очереди, ему хотелось убежать вон отсюда по коридору. У выхода за конторкой охранник сидел. Лёхич и мимо охранника не хотел, чтобы у всех на виду. Он за какой-нибудь из дверей в пустом классе бы пересидел, пока все разойдутся.
Так нет, стой ни живой ни мёртвый в толпе, не подпирай стенку, не слушай, кто что выучил, а что нет. Не обращай внимания, как в тебя страх входит, как нижняя губа начинает прыгать. Она всегда так, когда Лёхич волнуется.
– Там же одни мажоры, в этом лицее, – пытался он втолковать маме.
Мама переспрашивала:
– Кто-кто?
– Ну, богатые буратинчики, или как это называлось в твоё время? – попробовал объяснить Лёхич.
– Когда, в моё время? – переспросила мама, и он понял, что сплоховал.
Мама любила зацепиться за какое-нибудь слово и свернуть от него куда-нибудь не туда, в совсем другой разговор. И теперь она опять повторила:
– В моё время, да. Было ведь и моё время.
В голосе её он услышал слёзы. Она не любила вспоминать себя в его возрасте и потом, позже, когда ещё шло её время, её, а не тех, кто моложе на десять, пятнадцать, двадцать пять лет. И она не могла понять, когда это время вдруг оборвалось.
Ей и сейчас по утрам иногда с недосыпу казалось, что из зеркала на неё глянет её настоящее лицо – курносое, гладкое, с ярко прорисованными скулами. А брови тогда делали ниточками, тонкими-тонкими. На себя такую посмотришь, проверишь, всё ли в порядке – и сразу руками всплеснуть хочется и закружиться, и упорхнуть на улицу, чтобы не слушать про то, как мать старается, убивается ради тебя… Ведь всё же с утра до вечера тогда скучным казалось. Вот как и ему, наверно, теперь!
Она глянула на сына, и он ссутулился перед ней в ожидании крика. И в чём он сейчас виноват, думал Лёхич? Ну, напомнил ей, что её время ушло! Как будто она сама об этом всё время не говорит? Что если бы кто-то направлял её правильно, если бы кто-то давил не неё, твердил, что надо учиться, если бы кто-то ломал её, она бы сейчас не мыкалась так с дурнем Лёшкой.
Тут она запинается, вспоминает: «Твердили же мне!» И тут же говорит себе: «А разве так надо было со мной?!» Мать с бабушкой должны были просто запирать её в комнате!
Но зато сына она, если надо, запрёт и не выпустит никуда. И он будет учиться там, где она скажет, а если что – и ремень в доме есть, из его же штанов. И он может засунуть свои «хочу-не хочу» в задний карман, потому что этим, как их там, буратинчикам, мама с папой всё купят, они уже на сто лет обеспечены, но и его мама добьётся, чтобы он получал элитное образование.
И он не знал, отчего ему хуже – от этих криков по вечерам или оттого, что утром он идёт в лицей. Старенького-то учителя он обманул, что он такой же, как остальные, а классуха, математичка, сходу его раскусила.
И в классе тоже раскусили его, эта же Кирка. Уже третьего или четвёртого сентября. Классуха искала его в журнале, чтобы «трояк» поставить. Путалась:
– Кто ты у нас? Ярдьжов?
– М… – растерялся он. – М-михайлов… Я Лёша Михайлов…
Ну, что б не запомнить, когда человек сам называет себя? А Кирка решила вдруг уточнить, как его зовут. Он только попробовал подойти к ребятам в коридоре, да так и не подошёл, остановился в метре, ждал, когда на него внимание обратят.
Кирка повернулась к нему, спросила:
– Как бишь звать тебя?
– Лёхич, – ответил он, стараясь говорить как можно фамильярней и бодрее.
Он уже знал – в классе кроме него два Лёши были. А он будет Лёхичем – и его сразу отличишь от других. Он займёт свою нишу! Но получилось у него «Лёхич» так жалко, что несколько человек рассмеялись. Кто-то переспросил:
– Как? Хич?
И Кирка определила:
– Хичик!
В старой школе, по правде говоря, он тоже был Хичей, но не для всех. Только для троих или четверых человек, про которых учителя говорили, что их как бы и нет в этом классе, и успеваемость надо считать без них. И что таких не то, что в старшие классы нельзя – их бы и вообще в школу для ненормальных. А для остальных он и Лёшей-вторым был, ну и Лёхичем тоже.
Но теперь это ничего не значило, все стали звать его одинаково – Хича. Он думал – назовись он просто Лёшей, как двое других одноклассников, может, никто не догадался бы, что его звали Хичей. А может, стоило назваться бы Алексеем… Но теперь нельзя было всё открутить назад.
Он боялся, что одноклассники проведают и другую его тайну – что мамка на рынке стоит, и дома у него надо переступать через баулы с колготками и прочей женской ерундой. И главное, что мама по вечерам кричит и ногой пинает баулы:
– Я сама ничего этого не вижу, я не могу себе позволить!
«Так позволила бы, кто тебе не разрешает?» – мысленно отвечал ей Лёхич.
Только в мыслях он и мог ей ответить.
Когда Лёхич видел учительниц в пенящихся лёгкой тканью блузках, в пиджачках в талию, у него мамка вставала перед глазами – квадратная, в застиранных лосинах, в немыслимо натянутой футболке. Гляди – треснет на груди… Стриглась мама коротко и из кудельков делала электрощипцами кольца, а потом, чтоб они стояли, сбрызгивала лаком. Лёхич выходил из дому – и ему чудилось, что сладкий запах лака выходит с ним, что он с ним поедет в лицей – и одноклассники по запаху поймут всё про его маму.
И что ещё странно было – вот только случалось Лёхичу поговорить отдельно с какой-нибудь учительницей… Например, как на той неделе с Марией Андреевной, химичкой.
Он никогда толком не разбирался в молярных массах, а слово «моль» и вообще ненавидел. Когда надо было решить задачку, он искал формулу и подставлял в неё всё, что нужно. И ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь станет спрашивать у химички, откуда что взялось в этой формуле. Но так вышло само собой, он и не решался подойти – сразу подошёл, и Мария Андреевна всю перемену говорила ему про углеродные единицы. Он спрашивал:
– А почему выбрали именно углерод? Да ещё и решили поделить на двенадцать?
А она смотрела на него удивлёнными глазами – они вблизи тёмно-жёлтые были, янтарные. Он разглядел, что она хитро обвела их по контуру нежно-зелёным. И она говорила Лёхичу:
– Это же так удобно! Смотри, водород у нас весит одну двенадцатую от углерода. Считай, что люди договорились между собой, что основой для вычислений будет именно углерод…
И добавила:
– В науке не так уж редко люди договариваются между собой и устанавливают какое-нибудь общее число.
– Число Пи, например! – ляпнул невпопад Лёхич.
И она поглядела на него ещё удивлённее. Лёхич понял, что огорчил её.
– Что ты, Лёша. Пи – число постоянное, оно есть, и всё. Как горы, как воздух. И люди просто открыли его…
Он подумал тогда – вот ведь как, о чём-то договариваться нужно: «Адавайте придумаем то-то и то-то, чтоб легче было считать?» – а что-то надо просто открыть, потому что оно и так есть…
За столами рассаживался какой-то другой класс, а Лёхич с Марией Андреевной так и разговаривали до звонка. На алгебру он опоздал, влетел счастливый. Сидит и думает: «Выходит, со мной можно так говорить? Здесь, в лицее, вот так с учениками говорят…»
И вот после таких разговоров, или ещё после того, как его на уроке учителя хвалили – бывало и такое – мама по вечерам обрушивалась на него и попрекала базаром сильней обычного, точно хотела, чтоб он не забывал, как могут с ним дома разговаривать. Хотя он и не рассказывал ей, что сегодня в лицее было – откуда она знала?
Лёхич думал, что согласись он стать администратором сайта – ему придётся по вечерам сидеть за компьютером. И он будет как будто и не дома – вечерами вокруг него будет опять лицей. Он, может, освоит что-нибудь новое. Но позволит ли мама ему быть вечерами не дома? Она же привыкла, что может окликнуть его в любую минуту, что может отправить на кухню картошку чистить, или велит показывать, как у него рубашки в шкафу висят, как трусы сложены, всё ли в порядке. В уроках-то его она уже ничего не понимала, а контролировать детей надо, вот она и контролировала трусы.
Да и поймёт ли мама, что это у него хотя и не уроки, но тоже школьное, не станет ли опять попрекать его, точно он целый вечер играет в игру?
Алла Глебовна подбадривала всех, говорила: «Если вы что-то не умеете – учить будем!» И Лёхич уже совсем было надумал в следующий раз, когда предложат ему, согласиться. Но в следующий раз Алла Глебовна, ещё не дойдя до него, остановилась глазами на Мише Прокопьеве.
– Может быть, новенький будет у нас администратором сайта?
А новенький сразу и отозвался, сказал медленно:
– Д-да… Я – буду.
Кирка-то за глаза говорит про него «выскочка», а он подходит, как ни в чём не бывало, начинает рассказывать что-то. Лёхич сам себя считал отстающим, и он не сразу увидел, что и другие не понимают, о чём говорит новенький. А тот и сам не сразу почувствовал это. Оглянулся почему-то по сторонам, спросил:
– А что, здесь игры делать не учат?
Все даже заулыбались от неожиданности. Игры делать. Тут знай учи физику за два класса сразу, а дальше уже и вузовские учебники к программе добавятся. А по математике уже сейчас сколько всего дополнительного задают. В обычных школах такое никому и не снилось.
– Здесь учатся, чтобы поступить в крутой вуз, – как глупому, объяснил новенькому Лёша Ковригин.
– Я это знаю, – растерялся новенький.
И тут Кирка говорит ему:
– Слушай, я всё хочу понять, как тебя сюда приняли?
Он переспрашивает:
– А как – меня приняли? Я что, плохо учусь?
Ленка Суркова встревает:
– Приём-то давно окончен!
– Мы все на подготовительных курсах учились, а в мае сдавали экзамены, – говорит Кирка. – И вдруг в октябре ты приходишь…
– А я не знал раньше, – объясняет ей Мишка, – что есть лицей…
– А как узнал? – недобро спрашивает Кирка.
Мишка рассказывает:
– Мне наш математик новый сказал: «Тебе бы в лицей». Ну, я и попросил маму сюда сходить. Она пришла и договорилась. Только директор сказала, что мне отдельно устроят экзамены…
Про экзамены уже не слушает никто. Все говорят о чём-то другом. И Лёхич тоже настороже, чтоб, когда можно будет, словечко вставить. Он дома нарочно закачал несколько игр, чтоб было, о чём разговаривать в классе. Мама пришла с рынка и застала его на войне. Крику было…
– Я не дурочка, я понимаю разницу, когда учатся, а когда только время… просиживают!
Она на самом деле не так сказала, не «просиживают». Но зато Лёхичу есть теперь о чём с ребятами поговорить. Правда, они ещё про боулинг говорят и про пейнтбол. Оказывается, несколько человек ездили играть в выходные за город с папой Киры Сергеевой. Когда они обсуждают теперь, кто как выглядел после пейнтбола, Лёхич, понятно, себя чужим чувствует. И сразу ему вспоминается некстати, что мама велела после уроков взять справку из жилтоварищества.
– Я добьюсь для тебя бесплатного питания, – говорила она. – Кому же ещё питаться бесплатно, как не тебе?
Вчера Лёхич не успел взять справку. Какие-то люди лезли без очереди и передавали друг другу над головой у Лёхича свои бланки. Очередь в вестибюле стояла в несколько рядов, и эти ряды тесно касались друг друга. Лёхич сделал только маленький шаг – и оказался в другом витке очереди, человек на восемь вперёд или больше. Лёхич маленький, но его заметили, взяли за плечо, закричали, что как это он тихой сапой. Особенно одна женщина так кричала, точно увидала змею. А ещё одна частила высоким голосом:
– Он передо мной, передо мной стоял! Думает, здесь дураки, не заметят!
Так он и не успел взять справку. Мама опять, конечно, попрекала его, что сам он не зарабатывает, а знал бы цену деньгам – без мамы думал бы, как собрать документы.
И он думал, что сразу после школы надо будет за справкой бежать, в очередь становиться. А больше про такое вокруг него никто не думал.
На следующей перемене Кирка напоминала:
– Так что, объявим новенькому бойкот?
– А что он такого сделал? – спрашивал Игорь Шапкин.
Кирка пожимала плечами:
– Да выскочек я не люблю…
– Он же… это… У него, видно, связи, – осаждала её Ленка Суркова. – Его не со всеми приняли, когда приём уже кончился.
И Кира неохотно кивала:
– Да, если логически рассуждать, – он со связями… Надо выяснить…
Борька Иванов слышал её от своего стола и встревал:
– А у меня дедушка его маму знает! Он говорит – там мама такая, что горы сдвинет…
И тут Мишка входит. Он ещё плохо ориентировался на этажах, а никто не подходил к нему, чтобы идти на следующий урок вместе. И теперь он радовался, что нашёл нужный класс. Глядел на всех, улыбался…
Он точно не чувствовал, что его здесь обсуждают. И его маму тоже. Входя утром в класс, он бросал никому в отдельности, в воздух:
– Привет!
Как будто никто ему здесь был особо не нужен. Он выглядел углублённым в свою любимую математику, точней, утонувшим в ней так, что самого и не видать. Есть только задачки, о которых он говорит у доски. Или с математичкой на перемене. Лёхич глядел, как новенький машинально одёргивает на себе пиджак и улыбается.
– Прям Гагарин, – сказала однажды Кирка.
– А почему Гагарин? В космос возьмут, раз хорошо учится? – хмыкнула Ленка Суркова.
Кира ответила:
– Не, улыбается так.
Ленка сказала задумчиво:
– Он же, когда говорит про задачи – улыбается. А не когда про людей…
Кирка вдруг насторожилась:
– А ты что, слыхала, чтоб новенький про людей что-то говорил? Ну-ка, рассказывай!
Лёхич смотрит, а Элька Локтева уже – прыг от своего стола к девчонкам. И теребит Ленку:
– Да, да, он что-нибудь про нас говорил?
А сначала и виду не показывала, что ей интересно!
Ленка отодвигается от неё:
– Не, я ничего не слышала…
Прошло больше недели, а Мишку так и звали за глаза – «Новенький». Это потому, что Кирка его так звала. Кто может не слушаться Кирку, думает Лёхич. Ну, разве что, Иванов и Катушкин. Они сами по себе. Оба высоченные, подвижные, похожие друг на друга, хотя Иванов блондин, а Катушкин темноволосый. Они подходят к общему кругу, когда сами хотят. Послушают немного, и кто-то из них скажет:
– А-а…
Ты глянешь, – а оба они уже в конце коридора.
Котовым тоже никто не нужен, брату с сестрой. Они тоже похожие между собой, белоголовые, остролицые. Катя Котова на полголовы выше брата – она с Лёхича ростом. А Костя Котов на вид и вовсе как третьеклассник, только лицо всегда серьёзное, напряжённое – у маленьких так не бывает.
Первого сентября Катушкин увидел Котовых и даже охнул от изумления. Громко, нарочито охнул, приглашая всех поглядеть на такое чудо природы. А Иванов спросил на всю линейку:
– Вы что, близнецы?
Катя Котова подняла голову и поглядела на него с жалостью, как на больного.
– Ты разве не знаешь, что мальчик с девочкой близнецы – не бывает? Мы двойняшки!
И все оторопели, услыхав, как такая малявка может Иванову ответить. И впрямь чудо какое-то! А после все стали смеяться – и выходило, что над Котовыми смеются, не над Ивановым. Котовы были очень серьёзными, и это выглядело смешно. Поняв, что смеются над ними, они встали тесней, и по лицам не понять было, сильно их обидели или так, слегка. А тут и музыка заиграла, и директор начала говорить, в какой необыкновенный лицей они поступили. А Лёхичу и без того страшно было, как он здесь станет учиться, и он перестал думать про двойняшек Котовых.
Но потом он часто на них глядел и думал, как хорошо было бы родиться чьим-то двойняшкой. Или, например, близнецом. О том, как хорошо быть таким же высоким и лёгким, прыгучим, как Иванов или Катушкин, он и думать не смел.
И ещё новенький, Миша Прокопьев, не подходил на переменах стоять со всеми и слушать Кирку, и не старался, чтобы его пригласили в следующее воскресенье на пейнтбол. Но он как будто и не считался – на переменах он становился совсем незаметным. На уроках-то его вызывали к доске. Он отвечал совсем тихо. Но хотя бы видно его было – вон он, Прокопьев.
Алла Глебовна хвалила его перед всеми: Миша уже разместил на сайте устав лицея и список учителей. И всем делалось скучно: список, устав… Лёхич думал: хорошо, что в класс пришёл новенький и согласился всё это делать… А после ему пришло в голову, что, может быть, хорошо быть вот таким новеньким, которому всё равно, даже если по вечерам занимаешься какой-нибудь скукотенью.
Хотя ему, Лёхичу, тоже по вечерам скучно было, при том, что он не делал никакой сайт. Но зато в лицее все кое-как привыкали к новому классу. Лёхич думал – глядишь, всё станет так, как в его старой школе, когда вокруг тебя – люди как люди, и никто не думает, какой он особенный.
На перемене Иванов с Катушкиным начали возню. Катушкин прыгал через столы, как олень. А маленький Костя Котов уже подготовился к уроку, выложил из рюкзака и пенал, и два пособия, тонкое и толстое, и ещё калькулятор. Катушкин всё это и смахнул со стола неосторожным движением, удирая от Иванова. Котов тоже бросился догонять Катушкина, поймал за карман пиджака, уже в дверях, потянул к себе, стал выговаривать гневно, что надо глядеть по сторонам – пока сестрёнка собирала на полу разлетевшуюся мелочёвку.
Катушкин вопросительно глядел на Котова сверху вниз, пытаясь сообразить, что же теперь делать. Лёхич прочёл на лице у Катушкина испуг и даже мелькнувшую панику. И тут же Катушкин, вроде бы, что-то решил. Он резко нагнулся к Котову, поднял его за бока и ловким движением баскетболиста закинул на шкаф, усадил там.
Котов замер от неожиданности, окаменел. А потом дёрнулся, ткнулся макушкой в потолок, побелка сверху посыпалась, и он уже совсем белый стал там наверху.
Катушкин ободряюще кивнул Котову: сидишь, мол, там – и сиди. А сам вылетел в коридор.
Всем было весело, только сестрёнка Котова бегала внизу, как наседка, протягивая руки к брату.
Химичка Мария Андреевна, увидев Котова на шкафу, тоже подняла крик. В шкафу, оказывается, были какие-то особенные препараты, и вообще Котову было там опасно сидеть. Она заставила Катушкина и Полухина встать на стулья, причём две одноклассницы должны были эти стулья держать, и так, с предосторожностями, Катушкин с Полухиным сняли Котова. И пока его не поставили на пол, Мария Андреевна всё суетилась вокруг.
Ребята отворачивались, скрывая смешки, и только Лёхича будто толкнуло в грудь – так она поглядела на него мельком разочарованно. И всё сразу насмарку пошло – то, что он говорил с ней на перемене про углеродные единицы и про число Пи. Лёхичу казалось теперь: когда он про число Пи неправильно сказал, ещё ничего не разрушилось, а теперь всё разрушилось окончательно.
– Глядите, в пятницу будет родительское собрание! – пригрозила химичка.
И Лёхичу, как ни странно, полегче сделалось. Собрание-то будет – вместе со всеми учителями. Катушкина там станут ругать, видно, на все лады. И мамка Лёхичева послушает и поймёт, что её сын – ещё не совсем пропащий. Другим родителям куда как хуже приходится с детьми, хотя они и богатые буратинчики…
Он и в пятницу вечером думал, что ему опасаться нечего. Собрание долгим было, и он, когда сделал уроки и перемыл всю посуду, смог поиграть немного в одну игру, по сети, с одним австралийцем…
Мама вошла в комнату, еле ноги переставляя, и сразу села на стул.
На немом языке это значило, что она убивается у себя на работе, а Лёша опять огорчил её. И он пытался понять, чем. Что могли рассказывать о нём на собрании?
– Не дали, – наконец, выговорила мама.
– Что – не дали? – переспросил Лёхич.
– Питания тебе не дали, – с трудом произнесла мама. – Не самые мы с тобой бедные оказались.
Лёхич глядел на неё, не понимая. Она рассказывала, едва шевеля губами:
– Три места дали только на класс, чтобы питаться бесплатно. Ажелающих-то нашлось сразу человек семь… И все успели со справками, – прибавила она с досадой.
Лёхич думал, что сейчас ему попадёт из-за того, что он не сразу справки принёс. Но мама только бросила в сторону, неизвестно кому:
– Если такие нищие вы, то зачем было идти в элитную школу?
В Лёхиче всё росло и росло изумление. А сквозь него проступала тихая радость, в которую он боялся поверить.
– А к… кому дали? – спросил он, боясь поднять на маму глаза.
– Каталкину, вроде, – сказала мама. – И потом девочке ещё, я не помню фамилий…
– Может, Катушкину? – перебил Лёхич.
У них Каталкина не было.
Мама, не слушая его, продолжала:
– А третий – этот, ваш… Ты говорил, новенький пришёл к вам. Вроде, Прокопьев. Семеро у них там по лавкам, и отца нет. Умер, вроде, отец.
И снова сказала кому-то ещё, не Лёхичу:
– А ты, лахудра, думала, когда семерых заводила, что всякое может быть? Или заранее знала, что сможешь всюду ходить побираться: «Ах, у меня детей много!»
Он вздрогнул, услыхав, с какой ненавистью она говорит. И тогда она ему объяснила по-свойски, по-бабьи, точно своей подружке:
– Мамка там – пугало огородное, видал бы ты! Волосы вот так, в разные стороны… И на человека-то не похожа…
Лёхич как-то видел её – мама новенького приходила зачем-то в школу. Она и впрямь не похожа была на маму. И на человека не похожа была, скорей на какую-то птицу. Всклокоченная, с длинным носом. Ростом низенькая, и ещё сутулится. Руки она в карманах держала, и локти торчали назад, как будто крылья.
Но не было никаких сомнений, что она – чья-то мама, потому что за её куртку сбоку держалась какая-то малявка, Лёхич и не понял даже, мальчик или девочка. И эта малявка пищала:
– Мам… Ну, мам…
И новенький тоже, увидев её, вдруг улыбнулся и тихо сказал:
– А, мамка… – и побежал к ней.
Лёхича тогда зависть кольнула, только он не понял, что это зависть. Больно где-то внутри сделалось и очень одиноко. Сам он никогда не сказал бы про свою маму вот так: «А, мамка…» Чуть удивлённо и с проступающей сама по себе улыбкой…
– Я, если б была такая страшная, чёрная, сидела бы тихо, чтоб меня и не видать было, – горячилась между тем мама Лёхича. – А эта – выскочка, так и лезет вперёд, выпячивает своего сынка.
На собрании мама Прокопьева вела себя и вправду странно. Лёхичева мама глядела на неё и кривилась. Классная, Галина Николаевна, рассказывала, у кого как с математикой, хвалила двух ребят, что они стараются, а про всех остальных говорила скопом, что все позабыли, какие в лицее требования, и что надо было думать, прежде чем поступать…
– Больше я и не знаю, про кого доброе слово сказать! – разводила она руками, поворачиваясь так, чтоб её руки всем были видны.
И за одной партой лохматая, носатая женщина по-школьному, по-хулигански подсказывала ей громким шёпотом:
– Ещё Прокопьев! Миша Прокопьев!
Мама Лёши Михайлова оглядывалась на соседок, сама вертелась, как школьница, кивая всем на маму-Прокопьеву, приглашая всех молча осудить её. А той до них дела не было, лишь бы похвалили её сынка.
– Прокопьев – такой же разгильдяй, как и все! – отреагировала, наконец, математичка. – При его-то способностях, я вам скажу, он даже не вполсилы, он во-от на столечко учится.
Она показала двумя пальцами – на сколечко, и носатая вдруг расцвела. Всё-таки вытянула она похвалу своему разгильдяю – не учёбе, так хотя бы его способностям.
А после собрания, как ни расстроена была мама Лёхича, что ему не хватило бесплатных обедов, она остановилась в коридоре поговорить с другими родителями про то, как трудно сейчас учиться и как много денег надо сдавать – то на ремонт, то на какие-нибудь курсы-факультативы, то на поездку в театр.
– А всё потому, что здесь это… музыку учат, – изрекла чья-то бабушка со знанием дела.
– Как – музыку? – ахнули сразу несколько человек. – Здесь разве музыкальная школа? Здесь – физико-математическая…
Но бабушка не сдавалась.
– Внучка говорит, здесь такие… Слово такое, из музыки…
Все уставились на неё вопросительно, и тут мама Прокопьева, проходя мимо них к выходу, подсказала:
– Мажоры, что ли?
И бабушка закивала, а вслед за ней и мама Лёхича, и ещё чья-то:
– Да, так мой и говорил: одни, мол, мажоры здесь…
А за мамой Прокопьева уже дверь захлопнулась. И чья-то бабушка вздохнула, глядя в глухую дверь:
– Понятно, детей полный дом, бежит…
И мама Лёхича опять ощутила обиду: если у тебя дома один остолоп, и ты с ним одна-одинёшенька, никто тебе не посочувствует, знай сама корми-одевай и выводи в люди…
Мама Прокопьева пропустила один троллейбус – в давке ей не хотелось ехать, вошла в следующий и быстро плюхнулась на заднее сидение, пробормотала привычное: «Пускай хоть девяносто девять старушек…» Откинулась на спинку сидения и вытащила телефон.
– Хвалили тебя, да, а ты как думал, – говорила она. – Это не твоя заслуга, это удачный набор генов, в кого тебе тупым быть? Отец твой…
Миша слышал уже сто раз, что его отец мог бы стать кем угодно, хоть академиком, хоть президентом страны.
Отца не стало всего-то три года назад, а Мишка уже его подзабывать стал. И лучше всего Мишка помнил, что ему долго было ничего нельзя. Нельзя было зажигать верхний свет, а настольную лампу – только если не против папа. И немыслимо было впустить в дом друзей. Мишка, если к нему приходили, со всеми на лестнице разговаривал. И как-то мама вынесла на подносе в подъезд чашки с компотом. И сказала:
– Тсс, мальчики, Мишин папа уснул.
С братом и сестрой надо было говорить только шёпотом. И только не в комнате, где папа лежал. Туда и на цыпочках заходить не всегда разрешалось. А если вошёл – шмыгай скорее за занавеску, где их кровати стояли. Была бы у них в доме ещё одна комната, Мишка бы вообще к отцу не входил.
Отца Мишка всегда боялся. В памяти у него сохранилось глухое утро, похожее больше на ночь. Мягкая чернота, обволакивающая, засасывающая под одеяло, куда-то в самую тёмную и тёплую глубину.
И в эту глубину влезают ненужные тебе, ненавистные руки, берут тебя поперёк спины и трясут так, что и кровать двигается, и тянут тебя за ногу, и дёргают за нос. И грубый низкий голос, совсем не нужный здесь, всё повторяет и повторяет слова, значения которых Мишка не знает:
– Уже десять минут седьмого.
Трудно пошевелиться и трудно сказать что-то, но Мишка всё же выговаривает сквозь сон самое главное:
– Уйди! Уйди от меня!
Он понял, ещё не проснувшись: папа хочет отвести его в садик. Но ведь мама не ходит в садик, и Танька тоже не ходит.
– Я дома буду! – говорит Мишка.
И чувствует, что он уже не в кровати. Папа поднял его и несёт, и сажает в пустую ванну, прямо в пижаме. Начинает литься вода, горит яркий свет, Мишка кричит в испуге. И слышит – мама тоже кричит у отца за спиной, в дверях ванной. И отец говорит ей:
– Мне некогда. Хочешь – веди сама.
И Мишку поднимает вверх в мокрой пижаме.
– Проснулся? Это, мокрое, скидывай – и бегом одеваться.
Мишка натягивает колготки, и нога там в узкой трубе упирается во что-то, в какие-то складки. Его учили: колготки надо сначала собрать вот такими складками, как гармошкой, а уж потом – ногу туда просовывать. Так правильно, но так – хуже, чем когда просто запускаешь ногу в длинную узкую трубу. Почему бывает, что если правильно – то это хуже?
Мишка ничего понять не может. Он смотрит на смятые колготки, думает: «Там моя нога… А это мои руки…» Хочется замереть, чтоб почувствовать, что ты – это в самом деле ты. Тогда он, наконец, разберётся с колготками. Но папа уже одетый, в длинном тулупе в дверях стоит.
Во дворе метёт, и ветер кидает в тебя иголки. Совсем темно. Мишка вспоминает: он видел – другихдетей родители вносят в вестибюль садика на руках. Он думает об этом, пока идёт возле папиной ноги, представляет, что его несут, и ему тепло и не страшно. Пола папиного тулупа хлопает его по плечу. За длинный тулуп дети в группе прозвали его папу «почтальон Печкин».
Папа откуда-то знал об этом. Иногда он сам повторял: «Я почтальон Печкин», – и усмехался в усы.
У него усы были, да. Вспомнил.
Таньке, когда её записали в детсад, иной раз позволялось остаться дома. Папа говорил, что её надо баловать, она – будущая женщина. А Мишка – мужик и должен терпеть. А ещё папа не выносил, если мама обнимала и целовала Мишку.
Мишка сейчас думает задним числом: должно быть, в комнате вместе с папой жила смерть, когда он ещё жив был, когда лежал на тахте и надо было всё делать тихо. А сейчас смерть ушла, не глядит за ними, но мама уже редко целует Мишку, потому что он большой стал…
Болел папа долго. А когда он ещё здоров был, он всё время учился. Из кухни доносились голоса мамы и папы и плач Владика. А им с Танькой в комнате запрещалось шуметь. Мишка иногда подходил к закрытой кухонной двери, только чтобы услышать, как мама говорит:
– Вот, вот, здесь всё есть!
Она громко листала книгу, а потом, видать, находила нужную страницу, хлопала книгой об стол:
– Смотри сюда, вот этот абзац!
Мишка с Танькой стояли не дыша, как вдруг дверь резко раскрылась. Он еле успел отшатнуться. Это была мама, она обняла его одной рукой – другой она Владьку к себе прижимала. А Танька впереди них побежала в комнату, боясь, как бы отец не увидел, что они подслушивали.
– Я что придумала! – сказала им мама. – Только тихонько.
Она опустила уснувшего Владика в кроватку, открыла шкаф и вытащила небольшой мешочек из старой материи. Мишка с Танькой сидели на коврике, мама наклонилась и высыпала перед ними множество разноцветных пуговиц, больших и маленьких, с дырочками и с петельками, пластмассовых и деревянных, и железных, и сделанных из настоящих ракушек.
– Это старинные пуговицы, – сказала мама. – Ваша прабабушка любила шить. И бабушка тоже любила…
Танька онемела перед таким богатством. А мама сказала:
– Вот вам игра – сосчитать пуговицы. Кто насчитает больше, тот победитель.
И снова ушла на цыпочках в кухню.
Они сразу же стали сгребать пуговицы к себе, без счёта, и каждый старался захватить больше. Получились две примерно одинаковые кучки.
– Мои не считай! – на всякий случай велела брату Танька.
Мишка принялся считать свои, он сбивался и начинал снова, несколько раз. Один раз пришлось начать заново, когда почти всё уже было сосчитано. И, наконец, он объявил Таньке:
– У меня двести тридцать четыре!
И Танька парировала:
– А у меня сикстильон!
Мишка знал, что такого никак не может быть. Но чтобы доказать Танькину неправоту, он принялся пересчитывать и её пуговицы. Тоже сбился. И, наконец, догадался раскладывать их десятками. Так если даже забудешь, шестьдесят восемь сейчас должно быть или семьдесят восемь, посмотришь, сколько уже перед тобой десятков – и вспомнишь.
Мама, оказывается, глядела, как он раскладывал пуговицы на десятки, и теперь она обняла его сзади. Предупредила:
– Тихонько!
А после спросила шёпотом:
– А вы знаете, почему мы считаем десятками?
Они так и не смогли догадаться. Мама подсказывала:
– А как считают маленькие? По пальчикам. И наши дальние предки тоже учились по пальцам считать. А вот представьте, если бы у нас было на руках по семь пальцев, как бы мы считали? А если бы всего по четыре? Как мы бы стали считать эти пуговицы?
Мама опустилась с ними на коврик и сообщила таинственным голосом:
– Есть такие планеты, где у людей совсем не пять пальцев.
И они втроём чуть-чуть поиграли в инопланетян. Мишка раскладывал пуговицы так, будто на руках у него по семь пальцев, а Танька – будто всего четыре. А мама что-то отбрасывала в сторону и добавляла что-то. Потом папа вошёл в комнату и сказал маме:
– Куда ты пропала? Я думал, ты Владьку кормишь.
И они вместе в кухню ушли папины уроки учить.
Но зато когда Мишка «закончил» садик, это стала его мама в первую очередь. Он с ней теперь бывал дольше всех! В школе ведь как – до обеда отзанимались и по домам. И уж Мишка летел домой, чтобы Владьку носить на руках, пока мама варила борщ или печатала что-то на компьютере. Владьке главное видеть маму, тогда он спокойно сидел и трогал Мишкино ухо или за нос Мишку тянул, повторяя: «Бва, бва, бва, бва» – поди пойми, что хотел он сказать.
А если братишка начинал булькать – так он всегда разгонялся, чтобы пуститься в безудержный рёв – мама иной раз останавливала его простым: «Ну, ну…» И объясняла: «Мама денежку зарабатывает».
Отец до вечера на работе был, а им не надо было никуда выходить, потому что он сам приводил Таньку. Отец по вечерам хмурый был, маме он говорил: «Хозяюшка моя» и улыбался через силу, а в Мишку мог и тапочкой запустить, если Мишка с одного раза не слушался. Мишка отца боялся, и он видел, что мама тоже боялась, и говорила с отцом тихо-тихо. После ужина Мишка должен был Таньку с Владиком занимать в комнате, чтобы папа мог отдохнуть. Но папе не отдыхалось, из кухни долетали слова:
– Эти уроды хотят, чтобы я им всё делал бесплатно!
Папа гремел, а мама ворковала:
– Ну, не совсем же бесплатно… Мы жили на эти деньги, мои-то заработки – это копейки…
Потом были дни, когда папа с утра оставался дома, и Мишка думал: «Зачем вообще из школы домой ходить?»
Папа бесконечно рассказывал Мишке, что он, Мишка, не там поставил ранец и не так школьный пиджак повесил. Надо было перед папой стоять и это слушать. Аза едой папа изображал, как Мишка сутулится, и ахал, сколько он накрошил, и проверял у него в тарелке, хорошо или нет объедены косточки.
Мама уговаривала отца:
– Пожалуйста, Саша, помолчи, ну, пожалуйста…
Отец вскидывался:
– А ты меня не затыкай!
А если Владька в комнате просыпался от шума и тоже подавал голос, отец строго смотрел на Мишку, спрашивал:
– Ну, чего ждёшь?
Мишка должен был бежать к Владьке, совать ему под бок медведя и лису и колыбельную петь:
– Спать надо, Владя, баю-баюшки!
Брата было так сходу не уложить. А папка вскоре начал днём тоже спать, как детсадовец. Пообедает, отодвинет тарелку и скажет: «Ну что? Пойду-ка я в царство Морфея. Глядишь, время до завтра быстрей пролетит». Хотя непонятно было, зачем ему, чтобы скорее пришло завтра, потому что он опять оставался дома и укладывался в постель после обеда. И тогда Мишка должен был хнычащего Владьку выносить из комнаты в кухню и там всё время повторять ему: «Тихо, тихо…»
Однажды мама сказала Мишке, чтоб собирался гулять, и Владьку тоже одела. Втроём они поехали на бывшую папину работу. Это, вроде, уже во втором классе было. Когда начинают ставить оценки. А Танька последний год в садик ходила. Мишка успел понять к тому времени, что в садике гораздо интересней, чем в школе. Если бы только – тоже не спать, а после обеда сразу домой.
На математике ему уж совсем скучно было, и как-то раз он решил задачки в двоичной системе. Думал, учительница обрадуется – во всех тетрадках всё одинаково, а у него есть над чем покумекать. Но Людмила Юрьевна только помахала его тетрадкой перед классом и объявила:
– Прокопьев ленится решать задачи, у него в классной работе только единицы стоят, да ещё нули. Вот и получил он сегодня большую «единицу»!
Мишка не представлял, что бывает, когда приносишь домой «единицу». И он всё никак не мог выбрать момента, чтоб маме обо всём рассказать.
В длинном ангаре стояли станки. Люди оставляли работу и подходили к ним троим. Мама тушевалась, ковыряла кроссовкой бетонный пол. А после осторожно поставила Владьку на пол и велела Мишке его за руку держать. Сказала:
– Я к мастеру схожу.
Мишке стали показывать, куда в станок железка вставляется и куда потом нажимать. А нажимать надо было сразу и на кнопочку, и на рычаг, иначе станок не заработает.
– Это защита от дурака, – объяснили Мишке. – Ну, вот, чтоб ты ненароком вторую руку в станок не сунул.
И Мишка так понял, что это его дураком назвали. А ведь никто не знал про его «единицу». Он только было обиделся, как мама появилась с ним рядом. Весёлая. И потом она шла по улице из мастерской – чуть не прыгала, хотя и Владьку тяжёлого несла.
– Только не говори никому, что мы были здесь, только не говори! – твердила она Мишке. – Как же они без папки-то нашего, мастер Алексей Николаевич, тот пожилой, ты видел его, он и сам признал, что без папки-то как тяжело, он умница у нас, он столько умеет… И он не скажет, мастер-то, не скажет, что я здесь была. Лишь бы ребята ничего папке не сказали…
Папка опять стал ходить на работу и приходить домой только вечерами, а потом его и вовсе положили в больницу.
Мишка предвкушал, как вечерами мама станет им книжку читать, как они располагаться будут теперь все вместе на квадратном родительском диване – места хватит всем… Но оказалось, что маму теперь всегда жаль, мама стала на себя непохожей. И он тогда понял, что ему вовсе не нравится, когда папы по вечерам дома нет.
Папу то выписывали из больницы, то забирали снова. А когда он дома был, они шептались по вечерам с мамой, и он должен был уже в кухне с Танькой и Владькой играть. И ночью они тоже шептались. С этих времён Мишке запомнились слова, каких он никогда прежде не слышал: «Я буду служить тебе вечно». То ли снилось ему, то ли он в самом деле видел сквозь дрёму, как мама, сидя с краю постели, склонилась совсем к отцу, и тот, видно, жаловался. Слов не разобрать, печально выдыхал: «Бу-бу-бу-бу». Так жалуются. И тут совершенно отчётливо раздался мамин шёпот: «Я буду служить тебе вечно».
Растрёпанная, носатая, а у тени на стене нос ещё больше – вороний клюв. Лохмы болтаются по ночной рубашке.
Мишка только увидел маму сквозь сон, услыхал её голос – и снова заснул крепко, спокойно. Мама сказала, что будет служить вечно – но ведь не ему сказала, отцу. Отчего Мишке сразу легко стало? И теперь легче становится, когда он вспоминает тень на стене и мамин голос. Ведь, может, и не было ничего, может, снилось ему…
Мишка на уроках сидел, думал, сколько осталось, когда он, наконец, домой побежит. Людмила Юрьевна уж сколько раз поднимала его, начинала «гонять» по темам, чтобы воспользоваться его оторопелостью и «двойку» поставить вдобавку к его «единице». Но нет, он выкручивался. И в классе слыхали, как она жаловалась на переменке каким-то другим учителям:
– Глаза пустые-пустые. А вызовешь – ну, хоть «шестёрку» ставь…
Мишка в середине третьего класса открыл число «пи». Так мама ему сказала. Они ехали в маршрутке, и стёкла маршрутки были покрыты инеем. Мама царапала иней ребром монетки, и грела монетку в руке, и прикладывала плашмя, чтобы расширить окошко. И только в него стало можно глядеть, как промелькнула старинная церковь, и они стали говорить, как же хитро она построена, вовсе без углов. Острый конус крыши на цилиндре, сложенном из древних кирпичей. И это трудней, должно быть, чем когда строишь с углами. Но наши предки вполне себе справлялись…
Мама вдруг сказала:
– А представь, был бы вот у нас дома круглый пол и нам надо было его покрасить… Как ты узнаешь, сколько надо краски?
Мишка быстро ответил:
– Мы должны знать, сколько краски идёт на квадратный метр!
Мама кивнула ему:
– Это легко! На банке написано, на сколько квадратных метров её нам хватит. А дальше как?
Мишка пожал плечами:
– Мы должны знать, сколько квадратных метров у нас в комнате.
Мама накорябала на инее круг ребром денежки и велела:
– Узнай.
И вот Мишка глядел на этот круг справа и слева и трогал его, пальцы раздвигал сколько мог и ходил ими по холодным границам круга, и перепрыгивал с одной стороны круга на другую…
И, наконец, сдался и сказал:
– Мы можем измерить только в самом широком месте. Это два радиуса, да ведь? И вот, наверно, это должно сколько-то раз убираться в площади. И в длине края тоже, чтобы мы могли сделать плинтус…
– Укладываться должно, – поправила его мама, – не убираться. Так знаешь, оно и укладывается! Это расстояние укладывается в длине «пи» раз, и площадь надо считать через число «пи»…
Мама говорила, что если бы они к папе дольше ехали, Мишка бы и вычислил число «пи», как вычисляли его много лет назад древние люди в Египте и в Вавилоне.
– Есть числа, которые существуют сами по себе. Они придуманы Богом или высшими силами, или природой, – рассказывала в маршрутке мама, – а человеку остаётся их только открыть.
И Мишка, получается, тоже сделал открытие.
С мамой хорошо было ездить к отцу. Пока никто не мешал, они разговаривали про математику, и про строительство, и про картины.
Танька в том году в школу пошла, а Владька стал ходить в детский сад. А в школе как раз открылась продлёнка. Мишке повезло, что когда он был маленький, её не было. Мама говорила:
– Как хорошо, что младшие дети пристроены.
А Таньке не повезло. Она плакала по утрам и говорила:
– Мама, смотри, я кашляю! – хотя кашлять и не получалось.
Маленький Владька подначивал её:
– Ну, ну, ты кашляни!
Танька отталкивала его, просила маму:
– Ты договорись, чтобы меня опять в садик приняли!
Мама отвечала:
– Тебе же исполнилось семь лет. Кто тебя возьмёт обратно в детский садик?
А Танька её учила, как взрослая:
– Ты сразу не говори, что не получится! Надо сначала сходить, попробовать!
И снова пыталась кашлять: «Кхе-кхе», и всем было смешно.
А потом как-то раз у неё получилось как следует, правдоподобно кашлять, и её наконец-то не повели в школу. Но это уже после было, это – через год. Танька успела привыкнуть к школе, и во втором классе её только и знали хвалить, не то что Мишку. «Четвёрок» у неё, кажется, вообще не было, одни «пятёрки». И папка рассказывал, что всем на работе хвастается, какая умная у него дочь. Он к тому времени уже вылечился и опять стал в мастерскую ходить.
Владька спросил однажды ни с того ни с сего:
– Пап, а на твоём станке есть защита от дурака?
Отец поглядел на него, не понимая. И мама быстро сказала:
– Это я рассказывала ему, что так называют – когда сразу двумя руками включать надо…
И папа сказал:
– Есть.
А мама быстро сказала папе:
– Я выгладила тебе спортивный костюм. Тот, новый!
Потому что папа опять ложился в больницу. Мама улыбалась за ужином и обещала ему:
– Кто-то же вылечивается! Значит, и ты войдёшь в это число, даже не думай. И потом, там, в больнице, тихо. Никто не будет мешать тебе писать твой диплом!
– Дипломный проект, – поправил папа.
Мама кивнула с готовностью:
– Ну да! Сделают операцию – и лежи себе, и пиши спокойно! Выйдешь как раз к защите своего проекта! А после уже ты не вернёшься в эту мастерскую…
Папа с собой целую кучу учебников увёз, и Мишка с мамой ему ещё привозили.
А потом и Танька уговорила маму, чтобы её тоже взяли к папе.
Мишка с Таней вместе бежали домой, она не осталась на продлёнку. И она прыгала от радости так, что ранец бухал об спину, и дышала громко всю дорогу: «Хрум-хрум!» И кашляла на бегу, хотя не старалась кашлять. Мама, как поглядела на неё, сразу же кинулась вызывать врача из детской поликлиники. А врач, только послушав Таньку, сразу позвонила в «Скорую». Мама с Таней уехали в машине, а Мишка должен был в этот день сам Владьку из детсада забрать, а сначала к отцу съездить.
– Ты же помнишь дорогу? – спрашивала мама жалобно. – Мы же с тобой сколько раз ездили…
Как будто Мишка мог забыть, как они вместе ездили.
Он вёз папе борщ, и жаркое, и морс. И всё это было толсто замотано в шарфы, чтобы не разбилось и не остыло. А яблоки просто так были в пакете.
Он выбрался из маршрутки и пошёл через стоянку с тяжёлой дорожной сумкой, лавируя между автобусами, «газелями» и легковушками. Он уже видел, что с тротуара за ним следила ватага парней, человек шесть, были там и совсем малявки, такие, как Владик, но в основном – его возраста. От ватаги веяло опасностью. Мишка обошёл крупный автобус, чтобы со станции выйти на другой стороне улицы. Но ватага ждала его уже там.
Они двигались всей гурьбой в нескольких метрах позади него и говорили нарочно громко, чтобы он слышал:
– А какая большая сумка! Сразу видно – хозяйственная!
– Мамочке помогает мальчик, не видите?
Мишка неосознанно переложил сумку в другую руку – ноша и впрямь тяжёлой была. И это вызвало взрыв нарочитого громкого писклявого смеха.
Он двинулся быстрее, почти бегом.
– У-У-У-У-у! – завывал кто-то совсем близко. – Так он ещё и спортсмен!
И другой голос вторил:
– Тяжеловес!
Больница находилась на окраине посёлка, дальше станции. Мишка решил срезать дорогу. В конце улицы начинались гаражи. Мишка свернул в проход между гаражами, чтобы избавиться от преследователей. И только потом понял, что не сам свернул, его оттеснили. Кто-то из парней уже успел обогнать его, обойти по тротуару, толконув по дороге мимоходом, и получалось, что они были всюду, и кроме как в гаражи, идти было некуда. Здесь кругом всё было засыпано пушистым нехоженым снегом. Видно, машины в гаражах стояли на отдыхе до весны.
И здесь, на пушистом снегу, ватага, наконец, обступила его.
– Ну-ка, что мы несём? – спросил один из парней.
Мишка резко дёрнул сумку к себе. Но кто-то стукнул его под коленку сзади, так что от неожиданности он упал и выронил сумку. В ней зазвенело. Мишка вскочил на ноги. Увидел, что двое уже раскидывают и пинают по снегу лотки с обедом. Один детсадовец заверещал:
– Яблоки! Ой, яблоко мне!
И большой парень дал ему в лоб.
– Мобильник есть, что ли? – обратился другой большой к Мишке.
И ещё один кивнул на детсадовца:
– Нам скорую вызвать надо. Вот, его бабушке.
Мишке сколько раз говорила мама, и отец говорил: если будут отнимать у тебя деньги, мобильник, много на одного – отдай, не противься. Главное – чтобы ты сам целый был, а мобильник другой купим.
Но Мишка знал – так, сразу ему мобильник не купят, надо будет ждать ещё какого-нибудь поступления денег. А самое главное было в том, что они говорили – им скорую вызвать. Для бабушки. Хотя всем ясно было, что они врут.
Скорую для больной бабушки вызывать – хорошо. Получалось, что плохое они прикрывают хорошим. И Мишку просто захлестнула нелепость происходящего. У него сейчас отнимают его вещь, прикрываясь заботой о ком-то, кого, может, и на свете-то нет.
И уж дрался он в тот раз так, как никогда в жизни не дрался. А драться-то он не умел. И он царапал ногтями лица и в перчатки впивался зубами, и бил головой, и ногами бил, дрыгался, когда свалили его и он встать не мог. Потом он уже не мог сопротивляться, и больно уже не было, только ощущение потери и безнадёжности, ощущение, что всё рушится. Так бывает, оказывается, когда твоё тело пытаются разрушить нарочно, и нарочно стараются, чтобы тебе больно было.
Он чувствовал, что у него шарят в карманах. Потом было очень тихо. Он и очнулся-то от тишины, от того, что было невероятно тихо, спокойно, бело. Падал пушистый снег, и его было много. Только вокруг места, где он лежал, снег только ещё прикрывал следы, только начинал засыпать пятна.
Мишка не понимал, его была кровь или чья-то. Потом понял, что и во рту у него тоже кровь, сплюнул красным и стал есть снег. В снегу он увидел знакомую синюю крышку от пластикового лотка. Присел, удивился, что лоток так и оставался закрытым. Он был цел, и внутри было жаркое. Поселковые разбили банку с морсом, вылили борщ и унесли фрукты. Пустая сумка виднелась в снегу поодаль.
Мишка медленно пошёл среди гаражей, понёс отцу мамино жаркое.
Когда он добрался до больницы, нужная дверь была уже заперта, и ещё одна дверь тоже была заперта. Сбоку Мишка увидел звонок, но испугался и не позвонил. И у него не было мобильника, чтобы сказать отцу, что он здесь, под окнами, он принёс жаркое!
Отцовская палата была на втором этаже, на стекле был приклеен большой номер «7», и Мишка бросался снежками, пока не попал один раз, и потом второй. На второй раз за стеклом появилось чьё-то неоформленное, непрорисованное лицо. А потом и отец выглянул в окно, в узкую форточку, и велел к первой двери идти – отец договорился, чтобы Мишке открыли.
Он не спросил, почему Мишка только жаркое принёс, и почему не позвонил по мобильнику, и где мама – вообще ничего не спрашивал.
Ночью Мишку рвало, и мама «скорую» вызвала, чтобы по тёмному городу ехать в больницу. Мишка лежал на длинных носилках головой вперёд и точно въезжал в ночные огни, всё кругом мелькало. Мама сидела с Владиком на руках и говорила кому-то растерянно:
– Уже трое из семьи будут в больнице лежать…
Но всех троих быстро выписали. Мишка с Танькой опять стали в школу ходить, а папа стал лежать на диване, и когда мамы не было, надо было выносить тазик, в который его рвало, и после этот тазик споласкивать. А главное, надо было, чтобы всегда было тихо.
Мишка слышал, как Владька говорил маме:
– Давай снова попросим, чтоб папу приняли на работу?
А она отвечала:
– Да куда же сейчас – на работу? Раньше наш папка никому не сгодился, а теперь он вот такой…
Мишка не разобрал, что мама сказала дальше. В её голосе было столько горечи, что он вообще перестал что-нибудь понимать. Только машинально отметил, что мама, оказывается, и с Владькой тоже ходила за папу просить – без него, Мишки. Потому что когда они вместе в мастерской были, Владька ничего и помнить не мог.
Мишка ощутил подобие ревности оттого, что это, оказывается, был не только его с мамой секрет. А он и без того чувствовал, как всё привычное рассыпается на кусочки – как тогда, за гаражами ему казалось, что его тело сейчас рассыплется и перестанет быть.
Теперь всё, казалось, вот-вот перестанет быть, и он в такие минуты мамины слова повторял про себя на разные лады: «Я буду служить тебе вечно, вечно…»
Он и сейчас иногда вспоминает – не часто, чтобы слова не потеряли своей волшебной силы. Он их про запас держит. А самое плохое ему уже почти не вспоминается. Только начнёт наплывать огромное пространство с редкими группками людей и незнакомый человек с необыкновенно добрым лицом скажет: «Здесь наша могила, а ваша – вот, рядом», – как Мишка сразу головой помотает и начнёт думать о чём-то обычном, что у всех есть. Быстрей, быстрей – вспомнит, какой диск он у Толика взял, игра-то не идёт без диска… Да только и об игре думать надо было осторожно, чтобы не вспомнилось о том, что за компьютером сидеть сколько хочешь ему разрешили только когда не стало отца. Прежде надо было каждый раз спрашивать, даже чтобы домашнее задание сделать.
После уже мама разбирала в кухне бумаги, исчерканные тетради и распечатки, тоже исчерканные кое-как поверх аккуратных строчек.
– Это папины работы. Папины конспекты. И вот контрольная, так и не сдали… – говорила она им троим, сидевшим молча. А что-то она откладывала в стороны и объясняла:
– Это я ему писала. И это… Вот, это всё можно выбросить…
И было странно: если живой человек что-то писал, то можно выбросить, не дав никому прочитать. А если человек уже умер, то написанное приобретало особую ценность и все бумаги надо было запихивать в этажерку, и уминать, чтобы они не топорщились в разные стороны.
И тут мама перебила его мысли – сказала, что он может садиться за компьютер, когда ему будет нужно. А до этого он мог только у Борьки Сомова или ещё у кого-то из ребят поиграть немного, но нельзя было даже самому выбрать игру.
Мишкины родители использовали компьютер как печатную машинку, ну и для выхода в Интернет, им мало что было нужно, и Мишка теперь говорил маме, что ещё купить, писал на листочке, и мама всё покупала, не переспрашивая. И когда он открыл корпус, чтобы добавить оперативной памяти, мама тоже ничего не сказала, только заглянула вовнутрь с интересом. И он знал, что, само собой, он ничего не сломает, и было удивительно – что берёшь и делаешь именно то, что нужно, и никто не мешает тебе. Так удивительно, просто до этой затычки в груди, которая мешает тебе дышать.
У Мишки появлялась иногда… затычка. Как будто без причины. Мама про отца говорила, что он самый необыкновенный человек, которого она знала, и Мишку просто раздирало от желания узнать, что в его отце было такого особенного. Он теперь винил себя за то, что слыхал от отца в основном придирки и замечания. Что-то в Мишке не так было, если самый лучший, самый умный на свете человек не говорил с ним так, как всегда говорит мама. Потеря чего-то, чего он так и не узнал, была с Мишкой теперь всюду. Он думал о себе: «Я олух, я совсем никудышний человек», – хотя у него вдруг появилось много тем в разговорах и его все слушали.
И теперь можно стало друзей приводить.
Мишка показывал им свой первый мультик – как человек с головой Толика Петрова запускает мяч в густую крону дерева, и оттуда валится ещё один мальчик, Димка Моторин, и начинает за Толькой гоняться. Они спотыкаются об ещё одного из класса, он лежал на песке и теперь издаёт жуткий звук, вроде такого «Мяу!», а они оба летят кувырком, а после все начинают колошматить друг друга. Кулаки так и мелькают, и не поймёшь, где чей, и всё это под оглушительную барабанную дробь. Владька не спит, он в садике, и вообще – никто не скажет тебе: «Тихо, тихо…» Головы Мишка взял с общей фотографии класса, а туловища, ручки и ножки нарисовал сам, и было в самом деле смешно, все чуть ли не под столом ползали, и Петров с Моториным тоже, а потом, отсмеявшись, Моторин сказал:
– У меня папка запаролил компьютер, а мой нетбук в сейфе держит, из вредности…
И в его словах слышалась такая неприкрытая печаль оттого, что он не может в ответ сделать мультфильм про Мишку, что Мишка опешил – выходит, зря он старался и делал такой мультфильм?
В растерянности он спросил у Димки:
– А если вдруг твой папа умрёт?
Все сразу перестали смеяться и стало тихо, только по инерции Борька Сомов ещё хмыкнул разок. И Толька начал что-то говорить: «А вот, это…» – и не докончил. А через минуту все уже потянулись в коридор обуваться. Мишка понял, что сказал что-то не то, и что друзьям разонравилось у него в гостях.
«А всё потому, что я думаю про то, что он умер, – ругал себя Мишка. – Надо думать про то, что у всех бывает, не только у меня…»
Мишка самое страшное прогонял, но вспоминалось вокруг да около страшного. Как Владька подошёл к нему и спросил: «А нас не будут колоть?» И Мишка только потом понял, что это соседка, тёть Маша, маме зачем-то укол сделала. Та, которая учила её папе делать уколы.
И ему стоило огромного труда выговорить наугад: «Не, нас не будут».
А их и впрямь не кололи.
А после за столом родственник, отцовский двоюродный, всё лез к Мишке, всё повторял: «Ты старший теперь, да, за мужика остаёшься, да…»
Мишка отворачивался, а его с силой разворачивали обратно, чтобы в его лицо дышать. «Теперь ты повзрослеешь, – обещал родственник. – Взрослеют когда? Думаешь, когда в школах да в институтах отучишься? Нет, взрослеешь, когда похоронишь кого-нибудь из своих, да… Я вот, когда мать похоронил, тоже как ты был…»
Тут Мишку охватил настоящий ужас и он перестал слышать, что говорил дядя, а только глядел на маму и не знал, как защитить её. Ведь правда, вместо папы это могла быть мама. А вдруг она тоже умрёт? Мишке хотелось вскочить и кинуться к маме, поскорее дотронуться до неё, но родственники сидели за сдвинутыми столами плотно, не выберешься, Мишку с Танькой и Владькой задвинули в самый угол дивана, а мамина тарелка стояла на противоположном краю стола, и мама не сидела над тарелкой, а вскакивала, выбегала на кухню и что-то раздавала кому-то.
Мишка того дядю своего единственный раз в жизни видел, и теперь вспоминал – и его снова ужас охватывал, что мама может умереть.
Он часто, приходя, замечал, что мама без него плакала. Тётя Маша, медсестра, приходила из-за чего-то кричать на маму и называть её дурочкой, или же ласково, уже от дверей, обнимала её и увлекала за собой в кухню, точно она была хозяйкой, а мама гостьей. Объясняла: «Поговорить надо». Из кухни слышалось мамино всхлипывание и громкий голос тёть Маши, когда она теряла терпение: «Таких упёртых, как ты, свет ещё не видывал!» И бабушка тоже приходила и закрывалась на кухне с мамой и что-то от неё требовала, и говорила:
– Урод нам в семье не нужен. Не слушаешься меня – помощи моей даже не жди!
И Мишка, слыша её, думал, про кого она так – «урод», и боялся догадки строить.
Наконец мама усадила их троих на диван и объявила, что у них скоро будет сестра. Они и спросить ничего не успели, как мама сказала: новой сестре надо приготовить место, и надо вынести из дома всё лишнее, и надо покрасить двери и подоконники.
В магазине Танька потребовала купить розовой краски, а Владик – ярко-жёлтой, синей и белой. Тётя Маша привела к ним какую-то бабушку, у той был с собой валик. Валиком, как оказалось, надо было раскатывать краску, и обе гостьи ругали маму, что таких красок никто не покупает и надо было сперва посоветоваться.
Сестру назвали Сашей в папину память, и она была сестра как сестра. Мишка помнил, как Владик маленьким был, а теперь была точно такая же девочка, и непонятно было, отчего вокруг сплошные охи и ахи.
Доктор из поликлиники, разворачивая малышку в комнате на диване, говорила маме:
– Ну, я не знаю, как вам повезло. Папа-то у вас жил на лекарствах… А если бы девочка родилась… – тут доктор помедлила, – ну, скажем, без рук и без ног?
А мама отвечала, торопясь закончить разговор:
– Я знала, что мы везучие.
Мишка смутно вспоминал, что папе она тоже так говорила: «Мы везучие», а вышло всё иначе. Ему опять стало тревожно и захотелось спрятаться от всех. Он вышел в кухню. Там на полу возле батареи ещё громоздились папкины учебники.
Он машинально взял верхнюю книгу, открыл наугад, изумился, что вся страница была в формулах, подумал о том, что они могут значить. И сам не заметил, как погрузился в них и увяз. Непонятное не отпускало его. От вытащил из стопки толстый математический справочник, поглядел, как в учебнике называлась глава, стал искать что-то похожее в алфавитном списке, но ему никак не попадалось объяснение формул.
Мама заглянула к нему в книги. Оказывается, она успела проводить доктора, и на кухню пришла, чтобы сполоснуть соску-пустышку.
– Ты для начала возьми учебник только на один класс старше, – сказала мама.
Мишка и взял, для начала, в библиотеке. Позже, ближе к весне, сдал его и взял учебник на два класса старше.
В математику он каждый раз погружался, чтобы пройти новый путь. И иногда это был путь вверх по ступенькам, когда ты устал уже, а лифта нет. А иногда Мишка блуждал в лабиринте со множеством ответвлений и тупиков. Он видел, что проходит один и тот же участок уже не в первый раз, и соображал, что надо теперь повернуть не вправо, а влево.
Бывало и так, что Мишка преодолевал задачу одним прыжком. Это был то детский прыжок на одной ножке, то рискованный прыжок через расщелину. И всегда это было красиво, и он любовался, глядя на переписанное начисто решение, и радовался, что открыл его – точно задачу не люди придумали, составлявшие учебник, – точно она существовала всегда, как звёзды на небе, и как моря на земле, и как число «пи».
Мама, носатая и взъерошенная, сказала в лицее:
– Вы только посмотрите моего мальчика!
И его взяли, хотя приём был окончен.
Это было не по правилам – и Мишка видел, что в классе приняли его недружелюбно. «Нужно перетерпеть, – сказал он себе. – Скоро они узнают, что я нормальный и что меня взяли сюда по экзаменам».
Мишке нравился его новый класс, и Кирка нравилась, хотя и передавала ему Эля Локтева: «Кирка хотела тебе объявить бойкот». И тихая Лена Суркова однажды сказала ему то же самое.
И он пытался понять, почему. Кирка смотрела на одноклассников чуть насмешливо, требовательно и очень цепко, как это определил про себя Мишка. Если уж решила за тобой наблюдать, так и будешь целый день чувствовать на себе её взгляд. А если она заметит, что и ты на неё смотришь – поглядит в ответ вопросительно: мол, тебе что-нибудь нужно? Вот ты уже и в дураках.
Поэтому он её только украдкой и мог рассматривать. Кирка была темноволосая, с быстрыми и точными движениями. Казалось, ей доставляет удовольствие просто ходить и доставать книги из рюкзака, и поднимать руку на уроках.
Когда Кирка хотела, она могла быть необыкновенно убедительной. Она тянула руку и улыбалась, глядя на учителя прямо, в упор – и обычно учителя выбирали именно её руку из всех поднятых рук. И кто-то в классе выдыхал разочарованно.
Одного Михайлова – Хичика – спрашивали так же часто, как и Кирку. Особенно на физике – физичка словно пыталась всему классу показать, что он снова к уроку не готов. Так Мишкина первая учительница, Людмила Юрьевна, его старалась на уроках подловить. Но Мишке везло, а Хичику – нет.
Мишка глядит, как мается Хич у доски. Он уже написал две длинных строки формул и не представляет, что писать в третьей строке.
А он ведь учил, перед сном он два раза читал параграф! Дома всё было понятно, каждая новая формула вытекала из предыдущей сама собой… Ему хоть намекнули бы, что из этой, последней формулы должно появиться.
Он с мольбой оглядывает одноклассников. Мишка бы подсказал ему, но он не глядел на Мишку, он ждал помощи от тех, с кем учился с 1 сентября. И кое-кто уже шептал с места, и жестикулировал, и в воздухе рисовал что-то непонятное. Физичка стучала ногтем по столу, но оба Котовы чуть ли не в голос Хичу подсказывали, и он переспрашивал Костю Котова:
– Здесь – аш или джи? Аш?
И это «аш» у него вышло так громко, что он сам испугался, отпрыгнул скорей к доске, ударился ладонью об учительский стол и оттуда магниты с катушками смахнул. Один магнит упал прямо на ногу, а Лёхич был в тонкой сменке. Он смешно дёрнул ногой и полез под стол магниты собирать. Встал на четвереньки, повернулся задом… А на подошве, оказалось, бумажка у него прилипла, какой-то ценник из столовой. С ценником было ещё смешней. Физичка никак не могла ихутихомирить, все хохотали в голос. Катушкин кричал ему:
– Сколько ты стоишь, Хича?
Он, красный, вылез из-под стола и скорчил смешную рожу. Мол, нате вам! Борька Иванов икнул, согнулся на стуле, а со стула сполз на пол и скрючился там, под столом. И все покатывались уже глядя, как Иванов пытается выбраться из-под стола. Его длинные ноги застряли между передней панелью стола и стулом. И Мишка смеялся со всеми, и потом всегда улыбался, когда Лёхича спрашивали при нём:
– А помнишь, тогда, на физике?
Лёхич, ну, Хича – вообще такой. Мишка уже понял – на него поглядишь и смеяться тянет.
Учительница биологии объясняла им, что подростки растут не одинаково. Если, например, кто-то самый маленький в классе, то потом он возьмёт и та-а-ак вытянется – всех перегонит. А кто раньше всех вырос – тот, наоборот, притормозит и позволит себя обогнать.
– Притормозите оба! – кричали со всех сторон шёпотом Катушкину и Иванову. – Не растите, подождите, пока вас Котов обгонит!
– А Хича сам себе целый класс! – смеялась Кирка потом на перемене, в кругу девчонок.
И верно, он, как будто никак не решит, быстро ему расти или медленно. Сам он небольшого роста, а руки уже длинные – почти до колен. И лицо тоже длинное, вытянутое. Подбородок массивный, и нос такой, что из него два аккуратных носика вылепить можно. А лоб, наоборот, низенький, узкий. И глазки маленькие, посаженные глубоко. Всегда беспокойные, так и бегают.
– Мама у меня на визажиста учится! – веселилась Кирка. – И я показала ей нашу общеклассную фотографию, спрашиваю: «А если к тебе вот такой придёт? И скажет: сделайте, чтобы я красавчиком стал!»
И кучка девчонок закатывалась от смеха, разом, как по команде.
Мальчишки спрашивали:
– Хича, куда ты нос растишь?
И он тогда улыбается послушно и начинает дёргать себя за нос. И руку так держит, чтоб не видать было, что подбородок трясётся. Мол, не на подбородок – на нос смотрите! Тащу я, тащу свой нос, тащу-ращу, чтоб ещё больше стал. Такой вот я, мол, нелепый. Людей так и тянет над ним посмеяться, все ждут, что он сейчас им подыграет, и делать нечего – он подыгрывает.
А то заглянет в класс, когда все уже по местам расселись, и ещё с порога давай озираться:
– Какой урок сейчас? Химия, что ли? Аучилка не заболела?
И Мишка тоже смеётся. И только смутно вспоминает – вроде, Хич с Марией Андреевной раньше о чём-то разговаривал на переменах. Сам подходил и спрашивал что-то, и она принималась рассказывать ему и глядела по-доброму. А теперь вот – «училка не заболела?» – чтоб все смеялись. Отчего Хич теперь не любит Марию Андреевну? Оттого, что оценки ставит строже, чем в простой школе, за две ошибки уже у тебя «трояк»? Ну так и оставался бы у себя школе, а здесь – лицей!
Мишке нравилось, что учиться трудно – хоть до часа ночи не спи, а всё сделай. Он и сидел. На нём же ещё сайт был. На сайте он уже всё делал сам, без Аллы Глебовны. В его прежней школе домашнее задание было обычно только у пяти или шести учеников, всегда одних и тех же.
«Они поймут, что я такой, как они, – думал про своих новых одноклассников Мишка. – Правда, они все мажоры. Мажору легко умным быть, все кругом только и стараются, чтобы ты умным стал…»
В прежней школе Артём Енцов мог подойти после урока, спросить: «Договаривались же – алгебру сегодня никто не учит. А ты самый деловой, что ли?» Мишке и драться приходилось, расплачиваться за свои «пятёрки», а больше за чьи-то чужие «пары». Учителя, расписываясь в чьём-нибудь дневнике, пафосно спрашивали: «А почему Прокопьев готов к уроку? Значит, можно было бы подготовиться?» – не понимая, что именно они готовят сейчас Прокопьеву.
Енцов собирал компанию – зауча бить, как он говорил. «Завуча?» – переспрашивала Наташа Воронцова. – «Нет, зауча, – покровительственно объяснял Енцов. – Не знаешь, кто у нас в классе зауч?» Воронцова улыбалась Енцову. По ней видно было, что она понимает, что речь о Мишке – и всё равно спрашивает, и Мишка иногда размышлял, зачем…
Всегда можно было вспомнить Енцова или Воронцову, если почувствуешь себя неприкаянным, если охота с кем-нибудь поговорить, а не знаешь, к кому подойти на перемене… Здесь-то, на новом месте, у него скоро будут друзья! Он чувствовал, что попал, наконец, к своим. «Если бы я тоже ездил с Киркиным папой играть в пейнтбол, – думал он, – они бы подходили ко мне на переменах и говорили, куда поедем в следующий раз. Или ещё – хорошо было бы позвать какую-нибудь девочку в „Шоколадницу“».
Элька Локтева на перемене откидывалась на стуле и оглядывала класс:
– Мальчики, пригласите кто-нибудь в «Шоколадницу»!
Ленка Суркова хмыкала:
– Ты ведь и так живёшь там!
– А сама-то… – подавал голос ещё кто-нибудь.
Элька мерила Ленку уничижительным взглядом:
– С мальчиком пойти в кафе – это совсем другое!
И добавляла на весь класс:
– Ты лучше не демонстрируй, что ты ещё маленькая и глупая.
Ленку делалось жалко, она втягивала нижнюю губу, и без того тонкую, так что её губы становилось не видно. Всё в Ленке тонким и узким было – и пальчики, и спинка, и плечики – про таких людей говорят: «За швабру спрятаться может». И ножки у неё тонкие, кривоватые были. Мишка тогда как раз стал замечать, какие у девочек ноги. У Ленки такие были, что хоть что ей надень, кривизну не спрячешь. Ну разве что длинное платье, до пола. Он слышал, как девочки говорили: «Ленка, тебе везёт! Ты главная сладкоежка, а куда всё девается?»
Сам Мишка был в «Шоколаднице» только один раз. Мамка сказала, что они пойдут праздновать всей семьёй, когда его в лицей приняли. Там внутри играла тихая музыка и прямо на стене крутили мульфильмы про оленят. Официантка принесли им пять вазонов со взбитыми сливками и пять блюдец с бисквитами, на всех. Но Сашка не захотела сливок, и мама кормила её сама, прямо за столиком, только чуть повернувшись к стене, отгородившись от всех приподнятым локтем.
Он думал теперь, как это было бы странно – прийти в «Шоколадницу» ещё раз, но только уже без мамы, без сестёр и брата, с девчонкой. Кто бы это была? Он сразу подумал о Кирке. Она была самой заметной, даже когда молчала. Мама, когда приходила к нему в лицей за ключом, спросила тихонько: «Что это за девочка – вся такая ладненькая?»
В Кирке всё было правильно, всё было как надо. Но эта правильность и пугала Мишку. И ему становилось спокойней, когда он вспоминал, что не может никого позвать на свои деньги в «Шоколадницу».
Пришёл день, когда он объявил, что на сайте лицея теперь будет форум.
– А зачем? – сразу отозвался Катушкин. – Мало ли всяких форумов в Интернете?
– А тут у себя – пиши всякое «сю-сю-сю» под присмотром учителей! – подхватил Иванов.
– Ну, почему «сю-сю-сю»? – строго спросила Котова. Она всегда говорила строго. – Может, наоборот, кому-то что-то не нравится. Мы же там все анонимно будем!
Иванов озадаченно поглядел на неё:
– Это под никами, что ли?
И кто-то в кучке у стены запищал:
– Активная молодёжь, давайте свои предложения! Можете и анонимно!
Получилось похоже на завуча по внешкольной работе, Ирину Игоревну. Раздался смех, и Кирка сказала своим звонким голосом:
– Ага, как придём домой – так все и засядем писать!
В коридоре Алла Глебовна вывесила объявление о форуме, чтобы о нём узнали все классы. Но Мишка думал: если из тех классов на форуме кто-нибудь и зарегистрируется, то ему-то от этого что? Главное – свои над тобой только смеются!
После шестого урока всех повели в актовый зал, и там им рассказывали о каком-то физико-математическом интернате – Мишка не слушал толком, только глядел на слайды с улыбающимися как по команде ребятами крупным планом и с нереально красивой водой в бассейне. Ирина Игоревна ходила по залу, между рядов, и повторяла:
– Нам всем интересно, как живут наши сверстники…
Мишка с утра думал, что сможет ещё поиграть в хоккей в своём дворе, с прежними одноклассниками. А теперь выходило, что пока он доберётся домой, все уже разойдутся. Их продержали весь седьмой урок.
Уходя, он всё же взял распечатки вступительного задания – поглядеть, приняли бы его в тот интернат или нет.
Задание, на его взгляд, оказалось необычным. «Или нет, не обычным, – поправил себя Мишка. – Но тогда каким? Сначала немного трудным, а потом… Смешным, что ли?»
Он подивился юмору и фантазии тех, кто составлял его. Решение примеров растягивалось на целые страницы, и в самой последней строчке Мишка, ещё не веря себе, выводил что-то совсем простое, как в первом классе.
– Вот так! – от удивления он стукнул ребром ладони по столу и рассмеялся.
– Что у тебя там? – полезла к нему Танька. – А, формулы… Много тебе ещё?
В этот день была его очередь мыть посуду. Словом, было уже довольно поздно, когда он зашёл на лицейский сайт. И он сначала почувствовал, а потом увидел: на сайте зарегистрировался первый пользователь! Он взял себе ник Снежинка. Правда, на общем форуме пользователь Снежинка пока ничего не написал. Но зато он прислал Мишке личное сообщение. Мишка поскорее открыл его.
«Я буду с тобой встречаться, если ты обещаешь, что об этом никто не будет знать».
Танька сидит напротив Мишки за столом и видит, что его лицо резко сморщилось. Он поспешно закрыл сообщение. «Как – вот так?» – крутилось у него в голове. Он не сказал бы, что огорошило его сильнее – то, что других сообщений не было, ни от кого, или вот это чужое слово «встречаться» – вот оно и вошло в его жизнь? А он совсем не ждал, что оно войдёт сегодня. Он хотел, чтобы сегодня форум заработал, чтобы появилось множество разных голосов и интонаций, и каждый, кто заглянет сюда, погружался бы в них, как в муравейник. Все бы рассказывали что-то про себя, новые реплики на мониторе возникали бы каждую секунду, и сам ты мог бы поболтать здесь, с кем захочешь. А вместо всего этого – «если никто не будет знать».
У Мишки ближайшие друзья были во дворе. А в классе друзей всё не появлялось. У Киры Сергеевой не вышло тогда с бойкотом, но Мишке казалось, что ему объявили полубойкот. К нему подходили, спрашивали, какой ответ в задаче и почему, но никто не обнимал его за плечи и не говорил: «А помнишь, как на физре ты делал „берёзку“? Я чуть не умер!» Никто не лупил его неожиданно по спине, как Иванов Катушкина – и не пускался удирать. Не было у него с этими ребятами ничего, кроме общих уроков.
– Ну, хочешь, я на форуме писать буду, как будто я ваша? – сказала Танька.
И он отмахнулся:
– Ты что?
Сестра, на два года младше, она хотя бы представляет, какие в лицее девочки? Танька донашивает его рубашки и даже не комплексует, что там застёжка не на женскую сторону. Ей не до того. Ей надо бездомных котят спасать. Домой она притащила двух – больше мама не разрешила. Котята вертлявые, быстрые. Они хватают всех за босые ноги, и уроки можно учить только в тапках, иначе тебе не дадут спокойно сидеть. И можно случайно вступить в дымящуюся свежую кашку – вроде бы, рыжий уже ходит в лоток, а серый никак не приучится, или наоборот. И Таньку звать бесполезно: «Эй, кто говорил, что убирать будет!» Потому что Танька, что ни день, берёт с собой Владьку, берёт пару-тройку подруг и обходит этажза этажом все квартиры:
– Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вам не нужен котёнок?
В подъезде-то ещё трое осталось.
– Миш, ты в своём классе спроси, вдруг кто-то котёнка возьмёт! – просит она. – Я у своих уже спрашивала, Кате разрешили забрать одного…
А Мишка не представляет, чтобы в лицее кто-то спрашивал про котят. Он слыхал – Сурковой какого-то особенного котёнка купили, и столько отдали за него – он сперва не поверил, а после увидел, что, вроде, цена никого, кроме него, не удивила. Одно слово – мажоры у него в классе. Поди пойми, как они живут…
– Мам, а Мишке на форум никто не написал! – кричит в дверях кухни Владик.
И мама в ответ ему весело кричит из комнаты:
– Ха, так ведь не всё сразу! Он только открыл этот форум!
Назавтра пользователь Снежинка снова дал о себе знать. Мишке пришло личное сообщение: «Что, так и будешь молчать?» И стыд отчего-то захлестнул его, такой сильный, что надо было срочно удалить это сообщение – он и удалил его. И только тогда понял, что не дышал – задержал дыхание, а теперь вдохнуть может.
И сразу же на форуме появилась новая запись. Пользователь, назвавшийся Центурионом, спрашивал: «Почему нигде не сказано, как зовут учительницу по биологии, которая вчера заменяла Наталью Антоновну?».
Мишка не знал биологичку Наталью Антоновну и понятия не имел о том, кто в каком классе её замещал. У них биологию всегда вела Алла Павловна – может быть, речь о ней? Хотя, если это был, например, третий урок, то она вела его в Мишкином восьмом физмат классе.
Мишка ответил Центуриону чрезвычайно подробно, и скопировал ссылки на список учителей, на личные странички Аллы Павловны, Натальи Антоновны и ещё третьей биологички, чтобы Центурион мог определить по фотографии, кто у них замещал. А после подумал и пригласил Центуриона спрашивать обо всём, что ему ещё непонятно будет.
Тотчас же возникли пользователи Буба и Биба.
Буба написал: «Дурацкий сайт! Кто будет здесь что-то спрашивать?»
А Биба подхватил: «Только какие-нибудь убогие».
И Мишке в открытую написал на форуме: «Хоть ты и стараешься, Прокопьев, а всё равно получается у тебя…» И дальше на целую строчку забор из заглавных X, крестиков, скрывавших то, что хотел сказать Биба.
И Мишку обожгло ещё сильнее, чем когда ему написала Снежинка.
«Почему – ХХХХХХХХ?» – спросил он.
И Биба ответил:
«Всё-таки у нас культурный лицей, не хочется выражаться».
Миша тогда написал Бибе в личку: «Что ещё надо сделать на форуме?»
Он думал, они сейчас с Бибой выяснят – всё не так плохо, просто надо добавить ещё какие-нибудь разделы, про которые Мишка забыл. Он подумал и открыл новую тему – «Кто как проводит свободное время?»
Биба всё не отвечал. Хотя он был здесь, на сайте! И Мишка ждал!
Мама в комнате, за открытой дверью, уже укладывала младших. Перед сном читали вслух, и по обрывкам фраз, которые долетали до него, он понял – это были эскимосские сказки. Старая книжка, мама начинала читать её вслух, когда отец ещё был жив. А Сашки, наоборот, не было. А потом книжка куда-то задевалась, и вот, выходит, нашлась…
Мишка думал: «Неужто я когда-то это слушал? И мне было хорошо, когда мама читала? Вот как им…» И Сашка, и Владька-первоклассник, и даже Танька, – все лежали тихо, и только когда возникал в сказке злой дух Тунгак и начинал строить козни против добрых людей, охотников и оленеводов, в комнате раздавалось чьё-нибудь нетерпеливое, чуть слышное «А-а-а-а…»
«Зачем люди растут? – думал Мишка. – Я не могу бояться тунгаков, как они, потому что у меня есть лицей и есть форум… И я уже не помню, как там дальше в сказке, и не могу вместе со всеми бояться… Ну, почему так?»
Биба не откликался.
Наутро Мишка проснулся от мысли: «Я ведь администратор сайта! Я главный! И значит, я могу удалить с форума и Бубу, и Бибу!»
Он резко сел и только теперь понял, что он у себя в постели, на втором этаже двухэтажной кровати. Как сюда забрался, он не помнил. Вряд ли его кто-то сюда принёс – он ростом уже с маму. Должно быть, его поднимали со стула и вели в комнату, и уговаривали, и придерживали, пока он залезал по лесенке.
Мишка скорее спустился на пол и кинулся к компьютеру, на кухню.
И ему не сразу удалось разобраться в хитросплетениях реплик и ответов кого-то кому-то. Он и не сразу сосчитал, сколько пользователей появилось за ночь. Кто-то под именем Майракпак писал Бибе:
«Пришли-ка мне ссылку на свой сайт».
Биба переспрашивал:
«На какой?»
«Ну, который ты сам сделал».
И через минуту прибавлял: «Чтобы сравнить».
Дальше до полвторого ночи никто ничего не писал – и вдруг сообщения пошли одно за другим. И Мишка удивился, как долго не спят его одноклассники. Пользователь Лютый спрашивал у пользователя Майракпак:
«Ты что, не понял, что Биба – законченный балабол?»
Пользователь Майракпак отвечал:
«Я не понял, я поняла».
Буба писал заглавными, кричащими буквами:
«БОЙКОТ ЭТОМУ САЙТУ!»
И Биба вслед за ним тоже кричал:
«БОЙКОТ!» И добавлял: «Сами вы все балаболы! Кто ещё будет здесь писать, тот ХХХХХХХ!»
Пользователь Леди Ночь, видно, тоже девчонка, как и Майракпах, писала:
«А я вот буду, мне этот форум нравится».
И обещала:
«Я буду указывать в разделе „Свободное время“, где собираемся в выходные».