Читать онлайн Разделенные бесплатно
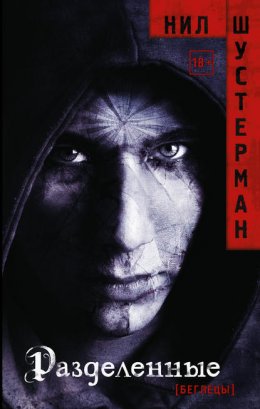
Neal Shusterman
UNWHOLLY
Печатается с разрешения Simon and Schuster Books for Young Readers, подразделения Simon and Schuster Children’s Publishing Division
Серия «#YoungThriller»
© 2012 by Neal Shusterman
© Перевод О. Глушковой
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Посвящается Шарлотте Руфи Шустерман.
Я люблю тебя, мама!
Благодарности
Я и представить себе не мог, что роман «Беглецы» когда-нибудь превратится в трилогию, но странный мир, разросшийся на страницах первой книги, захватил меня и не желает отпускать. Я глубоко обязан Дэвиду Гэйлу, Наве Вульф, Джастину Чанде, Анне Зафиан и другим редакторам издательства «Саймон энд Шустер» и не могу подобрать слов, чтобы достойно выразить свою благодарность. Мне также хочется сказать спасибо Полу Крайтону и Лидии Финн за организацию рекламной кампании и туров с целью продвижения книги, Мишели Фадлалла и Ванессе Вильямс, – за работу на школьных и библиотечных конференциях, Кэтрин Грувер – за организацию редакционного процесса, Шаве Волин – за предпечатную подготовку, и Хлое Фолья – за дизайн издания.
Благодарю моих детей за бесконечное терпение, с которым они дожидались, пока отец вернется из очередного путешествия в себя. Спасибо моей помощнице Марсии Бланке за то, что я все еще не сошел с ума и местами даже ухитряюсь не выбиваться из графика. Огромное спасибо Венди Дойл и Хайди Столл за неустанный труд над новостной рассылкой Shustermania. Спасибо Венди и еще раз спасибо моему сыну Джареду, которые расшифровывали и набирали отрывки, записанные под настроение на диктофон. Спасибо группе критиков Fictionaires, помогавшей мне выдерживать единый стиль. В особенности я благодарен Мишель Ноулден за восхитительную совместную работу над рассказом UnStrung, а также моей «старшей сестренке» Патриции, которая неизменно помогала мне подняться каждый раз, когда я падал.
Я в неоплатном долгу перед всеми учителями, которые используют мои книги в образовательном процессе, и перед многочисленными поклонниками, рассказавшими мне о том, как повлияли на них мои истории, – такими, как Вероника Кныш, которая прислала мне письмо, заставившее меня расплакаться и вспомнить, зачем я вообще начал писать.
Спасибо Андреа Браун, Тревору Энгельсону, Шепу Розенману, Ли Розенбауму, Стиву Фишеру, а также Дебби Дюбл-Хилл – моим «ангелам-хранителям», направляющим мою карьеру твердой и верной рукой (и не позволившим мне разрушить ее в одночасье). Спасибо Марку Бенардо, Кэтрин Киммел, Джулиану Стоуну и Шарлотте Стаут, чья непоколебимая вера в ценность первой и второй книг трилогии определенно приведет к тому, что фильм, снятый по ним, будет великолепен!
И напоследок я хотел бы поблагодарить своих родителей – Милтона и Шарлотту Шустерман – за то, что они всегда оставались со мной, даже когда это было невозможно.
А теперь правильный ответ…
Коль скоро в мире, описанном в первых двух книгах трилогии, все перевернуто с ног на голову, чем еще можно заинтриговать читателя, как не ответом, появляющимся перед глазами раньше, чем прозвучал вопрос? Читайте ответы и проверяйте себя – сколько правильных вопросов к ним вы сможете поставить самостоятельно?! Чем больше вопросов вы подберете, тем больше у вас будет шансов отменить запрос на собственную разборку! (Внимание: не стоит пропускать эту игру, иначе потом вдруг почувствуете, что в процессе чтения вас самих слегка разобрали…)
Процесс расчленения человека на части для последующего использования их в качестве трансплантов в телах других людей. По закону 99,44 % тканей и органов разобранного подростка должно быть использовано для трансплантации, чтобы обеспечить ему продолжение жизни в телах других мужчин и женщин.
Что такое разборка?
Вторая Гражданская война в Америке (известная так же как Хартланская война) закончилась после того, как армии сторонников и противников разборки заключили соглашение. По этому соглашению жизнь ребенка считается неприкосновенной до тринадцати лет. Однако, если ребенок, достигший этого возраста, демонстрирует признаки, позволяющие классифицировать его как «трудного подростка», родителям выдается ордер на так называемую «ретроспективную аннуляцию».
Что такое «Соглашение о Разборке»?
Этим словом принято называть детей, оставленных биологическими родителями. Если мать не желает сохранить новорожденного, в соответствии с законом она может оставить ребенка на пороге чьего-нибудь дома. В этом случае ребенок официально переходит под опеку людей, проживающих в доме.
Кто такие подкидыши?
Ввиду того, что органы и ткани тела после разборки по большей части остаются формально живыми, разобранный человек официально считается не умершим, а продолжающим жить в этом состоянии.
Что такое состояние распределенности?
Это официальные заведения, в которых подростков, предназначенных родителями для разборки, готовят к переходу в разобранное состояние. Каждое учреждение подобного рода отличается своими особенностями, но все ставят своей целью подготовить детей к предстоящей разборке в максимально позитивной обстановке.
Что такое заготовительные лагеря?
Это заготовительный лагерь на севере Аризоны, в городе, названном в честь своего основателя – веселого дровосека Джека. В недавнем прошлом лагерь пришлось закрыть по причине террористического акта.
Что такое «Веселый Дровосек»?
Этим жаргонным выражением подростки называют разборочную клинику, расположенную в заготовительном лагере.
Что такое «Лавка мясника»?
Эти юные террористы вводят в кровеносную систему химикат, не поддающийся обнаружению и превращающий кровь во взрывчатое вещество. Такое прозвище они получили потому, что взрывчатое вещество в крови детонирует от сильного хлопка в ладоши.
Кто такие «Хлопки»?
Так обычно называют приставов, работающих в Национальном комитете по делам несовершеннолетних. В их задачи входит переправка подростков в заготовительные лагеря.
Кто такой инспектор по делам несовершеннолетних?
Лишить человека сознания, введя в организм химическое вещество, содержащееся в специальных пулях или дротиках. Этим способом пользуются инспекторы по делам несовершеннолетних при необходимости усмирить подростка, так как стрелять в детей боевыми патронами считается не только незаконным, но и расточительным: пули причиняют вред органам, снижая ценность генетического материала.
Что значит «вырубить»?
Вполне возможно, что этот термин связан с выражением «пушечное мясо». Так называют новобранцев или крепких подростков, избравших службу в армии.
Кто такие «мясные телята»?
Это словечко появилось в армейской среде для замены длинного и громоздкого выражения «отсутствовать в расположении части без увольнительной». В последнее время чаще всего его применяют в отношении подростков, сбежавших по дороге в заготовительный лагерь.
Что такое «самоволка»?
Эта организация борется с разборками, спасая подростков от заготовительных лагерей. Считается, что в ее рядах царит жесткая дисциплина, однако на самом деле это не так.
Что такое «Сопротивление»?
Это секретное (хотя, как показали последние события, не такое уж и секретное) место, которое представляется землей обетованной каждому подростку, ушедшему в самоволку. Оно расположено на обширной территории кладбища списанных самолетов в Аризонской пустыне.
Что такое Кладбище?
В глазах общественного мнения этот беглый подросток из Огайо, в настоящее время считающийся погибшим, – главный зачинщик террористической атаки на лагерь «Веселый Дровосек».
Кто такой Беглец из Акрона?
Этим словом в древности обозначали тех, кто был обречен на заклание. Теперь так называют тех, кому с рождения предопределено отправиться на разборку (как правило, по религиозным соображениям).
Кто такие «предназначенные в жертву»?
Этот мальчик, предназначенный в жертву родителями, стал Хлопком, но не хлопнул в ладоши, когда должен был это сделать. В результате он стал кумиром Сопротивления.
Кто такой Лев Калдер?
Эту фамилию по традиции присваивают детям без родителей, воспитывающимся в государственных интернатах.
Кто носит фамилию «Сирота»?
Бывшая воспитанница государственного интерната, спасшаяся от разборки после теракта в заготовительном лагере «Веселый Дровосек». Прикована к инвалидному креслу по причине паралича нижней части тела, потому что отказалась от трансплантации части позвоночника, заготовки из тела подростка, попавшего на разборку.
Кто такая Риса Сирота?
Пусть эта книга лишит вас покоя и сна! Читайте, грызите ногти и размышляйте над судьбами персонажей!
Нил Шустерман
Часть первая
Нарушители
«Единственный способ жить свободным в несвободном мире – освободиться настолько, чтобы само твое существование стало бунтом».
Альбер Камю
1
Старки
Когда за ним приходят, ему снится кошмар.
Гигантские волны захлестывают землю, а посреди всемирного потопа его рвет когтями медведь. Но он не столько напуган, сколько раздражен. Темные глубины его подсознания явно перестарались: как будто одного потопа недостаточно, так еще и этот злобный гризли!
Но тут его кто-то хватает и тащит ногами вперед из челюстей смерти и из пучины водного Армагеддона.
– Подъем! А ну вставай живо! Пошли!
Он открывает глаза. В спальне, где сейчас должно быть темно, горит яркий свет. Два инспектора по делам несовершеннолетних заламывают ему руки, пресекая любую попытку к сопротивлению, хотя куда ему сопротивляться – он еще даже не проснулся толком!
– Нет! Перестаньте! В чем дело?
Наручники. Сначала на правую руку, затем на левую.
– Встать!
Его вздергивают на ноги рывком, словно он пытается упираться, – а впрочем, он бы и упирался, если бы его не захватили врасплох.
– Отпустите меня! Что вам нужно?
Но в следующую секунду до него уже и так доходит, что им нужно. Его похищают. Хотя нет… похищением назвать это нельзя, коль скоро документы подписаны в трех экземплярах и все происходит строго по закону.
– Вы – Мэйсон Майкл Старки? Подтвердите устно.
Один инспектор – мускулистый коротышка, второй – высокий, но тоже мускулистый. Наверное, были мясными телятами, собирались воевать, да передумали и пошли конвоирами в Инспекцию по делам несовершеннолетних. Чтобы работать конвоиром, мало быть просто безжалостным, как все сотрудники Инспекции, – нужно родиться вообще без души. Осознав, что его сейчас увезут на разборку, Старки приходит в ужас, но решает не выказывать страха: он знает, что конвоирам приятно смотреть, как дергается перепуганная жертва.
Коротышка, который, похоже, в этой паре за главного, наклоняется к Старки.
– Подтвердите устно, что вы – Мэйсон Майкл Старки!
– А с какой стати я должен это делать?
– Парень, – вступает в беседу второй конвоир, – по доброй воле или силком, но ты с нами пойдешь.
Высокий говорит тише и мягче, и Старки обращает внимание на его губы – наверняка чужие. Явно принадлежали раньше какой-то девушке.
– Ничего сложного от тебя не требуется. Просто делай, что мы тебе скажем.
Он говорит так, словно Старки заранее должен был знать, что они придут. Но разве кто-то предупреждает подростков, что их отправят на разборку? Даже если кто-то подозревает, что к тому идет, в глубине души все равно верит, что у родителей хватит ума не поддаваться рекламе в сети, на телевидении и на уличных щитах, назойливо твердящей: «Разборка: разумное решение».
Но кого он пытается обмануть? Даже без всей этой рекламы Старки оставался потенциальным кандидатом на разборку с той самой минуты, как его нашли на крыльце перед домом. Удивительно еще, что родители ждали так долго!
Лицо коротышки придвигается совсем близко.
– В последний раз повторяю: подтвердите устно, что вы…
– Да я это, я. Мэйсон Майкл Старки. Отодвинься, у тебя изо рта воняет.
Получив необходимое устное подтверждение, второй конвоир – тот, что с девичьими губами, – достает три цветных бумажки: белую, желтую и розовую.
– Так вот как вы это делаете? – дрожащим голосом спрашивает Старки. – Арестовываете меня? А в чем я виноват? В том, что мне шестнадцать исполнилось? А может, просто за то, что я живу на этом свете?
– Молчи-а-не-то-мы-тебя-вырубим, – скороговоркой отвечает коротышка.
В глубине души Старки был бы не прочь, если бы его вырубили пулей с транквилизатором: тогда он уснет, и, если повезет, никогда уже не проснется. По крайней мере не придется страдать от унижения из-за того, что его вырывают из жизни так бесцеремонно, посреди ночи. А впрочем, нет: он хочет посмотреть в глаза родителям. Вернее, даже не так: он хочет, чтобы родители посмотрели ему в глаза, а если его вырубят, все сойдет им с рук слишком легко.
Конвоир с девичьими губами, поднеся ордер на разборку к глазам, начинает зачитывать позорный девятый параграф «Отказ от ответственности».
– Мэйсон Майкл Старки! Подписав этот ордер, твои родители и (или) законные опекуны подвергают вас ретроспективной аннуляции, задним числом датируемой шестым днем после зачатия, в результате чего вы автоматически становитесь нарушителем Кодекса о существовании № 390. В свете вышесказанного Калифорнийская инспекция по делам несовершеннолетних передает вас в заготовительный лагерь для последующей разборки.
– Бла-бла-бла…
– Все гражданские права, которыми вы были наделены от имени округа, штата и федерального правительства, с настоящего момента считаются официально и окончательно отозванными.
Дочитав, инспектор складывает ордер и убирает его в карман.
– Поздравляю, мистер Старки, – произносит коротышка, – вы больше не существуете.
– Тогда зачем ты со мной разговариваешь?
– Больше не буду.
Его начинают подталкивать к двери.
– Ботинки я могу надеть, по крайней мере?
Его отпускают, но не сводят с него глаз.
Старки зашнуровывает ботинки, стараясь протянуть время. Затем его выводят из комнаты на лестницу и вниз, к входной двери. Инспекторы обуты в тяжелые сапоги, и деревянная лестница испуганно дрожит под их шагами. Грохот стоит такой, словно по дому проходит стадо коров.
Родители ожидают в прихожей. На часах три утра, но отец и мать одеты. Они не спали всю ночь, ожидая прихода инспекторов. На лицах у них – страдальческие гримасы, хотя, быть может, это и облегчение, трудно сказать. Старки старается держать себя в руках, скрывая чувства за натянутой улыбкой.
– Привет, мам! Привет, папа! – жизнерадостным тоном говорит он. – Знаете, что сейчас случилось? Даю вам двадцать попыток, попробуйте угадать!
Отец набирает полную грудь воздуха, собираясь произнести Великую Речь перед Разборкой, которую каждый родитель трудного подростка готовит заранее. Даже если речь так и не приходится произнести, родители все равно репетируют ее, раз за разом повторяя слова, пока торчат в пробках или слушают очередную чушь, которую несет их начальник по поводу курсов акций, или какую там еще белиберду принято обсуждать на собраниях в офисе.
Что там говорит статистика? Старки однажды слышал цифры в теленовостях. Каждый год мысль о разборке приходит в голову одному из десяти родителей. Из этого количества каждый десятый задумывается о разборке всерьез, а из них, в свою очередь, каждый десятый принимает решение отдать свое чадо в заготовительный лагерь. В семьях с двумя или тремя детьми вероятность, естественно, удваивается и утраивается. Если перевести эту сложные расчеты на человеческий язык, получится, что на разборку попадают двое из тысячи подростков в возрасте от тринадцати до семнадцати – и это за один только год. Причем информация по питомцам государственных интернатов в статистику не входит.
Отец, не делая попытки подойти к нему, начинает речь:
– Мэйсон, неужели ты не видишь, что у нас нет другого выхода?
Конвоиры крепко держат парня под руки, но на улицу не выводят. Им известно, что родители имеют право на прощальную отповедь: своего рода виртуальный пинок под зад, изгоняющий из дома проблемное чадо.
– Драки, наркотики, угнанная машина… и тебя опять исключили из очередной школы. Что будет дальше, Мэйсон?
– Да черт его знает, пап! На свете так много всякой дряни, которой я еще не попробовал!
– Ну уж нет, на этом точка. Мы заботимся о тебе. И мы покончим с твоими дурными привычками прежде, чем они покончили с тобой.
Услышав это, Старки не выдерживает и начинает смеяться.
Вдруг сверху раздается чей-то голос:
– Нет! Нельзя с ним так поступать!
Это его сестра Дженна – родная дочь его родителей. Она стоит на верхней площадке в пижаме с игрушечными медвежатами, слишком уж детской для тринадцатилетней девочки.
– Возвращайся в постель, Дженна! – командует мать.
– Вы отдаете его на разборку, потому что он – подкидыш, а это нечестно! Да еще и в канун Рождества! А что, если бы подкинули меня? Вы бы и меня на разборку отдали?
– Обсудим это позже! – рявкает отец под аккомпанемент рыданий, которыми разражается мать. – Немедленно в постель!
Но Дженна не уходит. Сложив руки на груди, она садится на ступеньку и продолжает наблюдать за происходящим. Вот и хорошо: пусть знает, с кем имеет дело.
Мать рыдает совершенно искренне, но непонятно, плачет ли она по Мэйсону или от огорчения за дочь.
– Все, что ты вытворял… Все говорили, что это твой крик о помощи, – произносит она. – Но почему ты не позволил нам помочь тебе?
Вот теперь Мэйсону и вправду хочется кричать. Как можно объяснить что-то людям, которые просто отказываются понимать? Да разве они могут почувствовать, что это такое – прожить шестнадцать лет нежеланным ребенком, невесть откуда появившимся на крыльце перед домом, в котором живут люди с кожей такой белизны – ни дать ни взять вампиры? Когда ему было три года, мать под воздействием болеутоляющих лекарств, которые ей пришлось принимать после родов, закончившихся кесаревым сечением, отвела его в депо к пожарным и умоляла их забрать его в государственный интернат. И он, Мэйсон, прекрасно это помнит. Да разве могут они знать, каково это, проснувшись рождественским утром, понимать, что подарок ему куплен не по желанию, а по обязанности? И что его день рождения на самом деле вовсе не день рождения, потому что никто не знает настоящую дату: он всего лишь отмечает день, когда его нашли на коврике с надписью «Добро пожаловать» – приглашением, которое его биологическая мать, похоже, восприняла всерьез?
А дети, дразнившие его в школе?
В четвертом классе Мэйсон столкнул одноклассника с верхушки гимнастической лестницы в спортзале. Парень сломал руку и получил сотрясение мозга, а родителей Мэйсона вызвали к директору.
– Зачем ты это сделал, Мэйсон? – спросили его родители прямо в директорском кабинете. – За что ты столкнул его?
Он рассказал, что дети дразнят его подкидышем и этот мальчик начал первым. По наивности Старки думал, что родители защитят его, но те пропустили его слова мимо ушей.
– Ты мог убить мальчика, – отчитал его отец. – И, спрашивается, за что? За то, что он тебе что-то сказал? Слова не могут ранить.
Отец солгал Мэйсону, и ту же великую ложь слышат от родителей миллионы других мальчиков и девочек. Слова могут ранить – еще и как! Порой они причиняют боль посильнее физической. Мэйсон с удовольствием ходил бы с сотрясением мозга и сломанной рукой, лишь бы его никогда больше не дразнили и не называли подкидышем.
В итоге его перевели в другую школу и предписали в обязательном порядке ходить на консультации к психологу.
– Подумай над тем, что ты натворил, – напутствовал его директор прежней школы.
И Мэйсон послушался, потому что был хорошим маленьким мальчиком. Он как следует подумал и решил, что нужно было скинуть того парня с большей высоты.
И как это все можно объяснить – тем более теперь, когда времени уже не осталось? Как объяснить, что его жизнь была полна несправедливости и заканчивается под конвоем инспекторов по делам несовершеннолетних, выводящих его за дверь? Ответ прост: не стоит и пытаться.
– Прости, Мэйсон, – говорит отец, и в глазах у него тоже стоят слезы, – но так будет лучше для всех. Включая тебя.
Старки осознает, что ему никогда не достучаться до понимания, но право на последнее слово у него никто не отнимал.
– Да, кстати, мам… Папа говорил, что задерживается на работе. Так вот, на самом деле он не на работе был в это время. Он был у твоей подруги Нэнси.
Но прежде чем он успевает насладиться выражением ужаса на лицах родителей, ему приходит в голову, что грязная тайна, которую он хранил, могла стать его козырем в игре с отцом. Если бы он сообразил это раньше и намекнул отцу, что знает о его похождениях, то получил бы стопроцентный иммунитет против разборки! Он был просто идиотом, раз не подумал об этом, когда все еще можно было изменить!
Но теперь оставалось лишь горько улыбаться своей небольшой запоздалой победе, пока конвоиры выводят его на улицу в холодную декабрьскую ночь.
Реклама
В вашей семье есть трудный подросток? Он не находит себе места? Апатия чередуется со злостью? Он часто ведет себя импульсивно и бывает опасен для себя и окружающих? Вам кажется, что ребенок не может найти общий язык даже с самим собой? Вполне вероятно, это не просто подростковый бунт. Не исключено, что ваш ребенок страдает нарушением функционирования биосистемы, иначе – НФБ.
Мы знаем, как вам помочь!
Компания «Хэвен Харвест Сервис» располагает сетью пятизвездочных заготовительных лагерей по всей стране, в которых самые опасные и склонные к насилию подростки, страдающие НФБ, находят успокоение и максимально безболезненно переходят к существованию в телах других людей.
Позвоните сейчас и получите бесплатную консультацию – наши менеджеры ждут вашего звонка!
«Хэвен Харвест Сервис»: если вы любите свое дитя так сильно, что готовы его отпустить.
Старки сажают на заднее сиденье, отделенное пуленепробиваемым стеклом, и машина отъезжает от дома. Коротышка сидит за рулем; второй конвоир, тот, что с девичьими губами, держит в руках объемистую папку и перелистывает подшитые документы. Старки и представить себе не мог, что на него набралось такое толстое досье.
– Здесь сказано, что у тебя были отличные отметки по всем экзаменам в средней школе, – замечает инспектор.
Сидящий за рулем напарник пренебрежительно качает головой.
– Стоило так напрягаться.
– Да нет, отчего же, – возражает конвоир с девичьими губами, – ваши умные мозги послужат людям, мистер Старки.
От этих слов у Мэйсона по спине бегут мурашки, но он не подает вида.
– Клевые у тебя губки, брат, – говорит он. – А зачем они тебе? Жена сказала, что с женщиной целоваться приятней?
Коротышка усмехается; обладатель женских губ никак не реагирует.
– Хотя ладно, не будем о пластической хирургии, – говорит Старки. – Ребят, вы есть не хотите? Я бы съел чего-нибудь, даром что ночь на дворе. Может, заскочим за гамбургерами? Что скажете?
Конвоиры не отвечают. По правде говоря, Старки ответа и не ожидал. Просто приятно предложить служителям закона нарушить должностные инструкции и проследить за тем, как они отреагируют. Если ему удастся взбесить их, он выиграл. Как там говорил Беглец из Акрона? Ах да: «Клевые носки у тебя». Просто, элегантно и всегда помогает выбить из колеи любого персонажа, облеченного сомнительной властью.
Да, Беглец из Акрона… Он погиб во время теракта в «Веселом Дровосеке» уже почти год назад, но легенда о нем жива. Старки многое бы отдал, чтобы прославиться так же, как Коннор Лэсситер. Сейчас ему кажется, что призрак Коннора Лэсситера сидит рядом с ним и одобряет все, о чем он думает и что делает, – даже не просто одобряет, а ведет его руки в наручниках вниз, к левой ноге, помогая выудить из носка спрятанный нож. Старки держал его при себе на экстренный случай, и вот такой случай наступил.
– Я бы, пожалуй, от гамбургера не отказался, – внезапно соглашается конвоир с девичьими губами.
– Классно, – отзывается Старки, – здесь как раз есть закусочная. Сюда, налево. Мне двойной острый и картошку с острым соусом. Зверски острым, потому что я и сам зверь, – добавляет он, с удивлением наблюдая, как автомобиль сворачивает с дороги и выруливает к круглосуточной закусочной. Когда они оказываются у окошка выдачи, Старки чувствует себя мастером тонкого внушения, хотя особо тонким это внушение не назовешь. Но какая разница? Главное, конвоиры у него под контролем… вернее, ему так кажется до тех пор, пока они, заказав еду себе, не берут ничего для него.
– Эй, что за дела? – возмущается он, упираясь плечом в стекло, отделяющее заднее сиденье от переднего.
– Тебя покормят в заготовительном лагере, – отзывается коп с девичьими губами.
Только сейчас до Старки наконец доходит, что пуленепробиваемое стекло отделяет его не только от инспекторов – это барьер между ним и всем остальным миром. Ему больше не поесть любимых блюд. Не побывать в любимых местах. По крайней мере, не в оболочке Мэйсона Старки. Неожиданно его начинает нестерпимо тошнить: кажется, будто все, что он съел за свою жизнь, начиная от шестого дня после зачатия, вот-вот фонтаном вырвется наружу.
За кассой стоит девчонка, знакомая по предыдущей школе. При виде ее Старки охватывает целая буря эмоций. Что делать? Вжаться в сиденье и надеяться, что она не заметит его в темном салоне? Но нет, это слишком жалко. Если уж ему суждено исчезнуть, то пусть все запомнят, как он это сделал!
– Эй, Аманда, пойдешь со мной на выпускной?! – кричит он, чтобы девочка услышала его сквозь толстое стекло.
Аманда, сощурившись, старается различить, кто сидит на заднем сиденье, и, узнав его, презрительно морщит нос, словно в гамбургер попала тухлая котлета.
– Не в этой жизни, Старки.
– Почему?
– Во-первых, ты не в выпускном классе, а во-вторых, ты неудачник, которого везут на заднем сиденье полицейские. А что, в исправительной школе выпускного нет?
Господи, ну до чего она тупая.
– Ну, как видишь, я уже закончил школу.
– Прикуси язык, – требует конвоир с девичьими губами, – или я тебя прямо здесь разберу на бургеры.
Аманда начинает понимать смысл происходящего, и на лице ее появляется виноватое выражение.
– Ой! Прости, Старки. Мне очень жаль…
Но жалости в свой адрес Старки не потерпит.
– А чего тебе жаль? Да ты со своими друзьями всегда нос от меня воротила. А теперь жалеешь? Не стоит.
– Ну, мне жаль… в смысле… ну, это… жаль…
Вздохнув от огорчения и злясь на себя, Аманда сдается и замолкает, передавая конвоиру бумажный пакет с едой.
– Кетчуп нужен?
– Нет, спасибо.
– Эй, Аманда! – кричит Старки, когда автомобиль трогается, – если действительно мне сочувствуешь, скажи всем, что я не сломался, когда меня взяли! Скажи им, что я – как Беглец из Акрона.
– Скажу, Старки, – соглашается Аманда. – Обещаю.
Старки почему-то кажется, что к утру она обо всем забудет.
Через двадцать минут автомобиль останавливается у окружной тюрьмы. Никто не входит и не выходит из нее через главный вход, а уж те, кого определили на разборку, и подавно. В тюрьме имеется отделение для несовершеннолетних, а в самом конце отделения – двойная камера, в которую помещают на передержку будущих постояльцев лагерей. Старки не раз бывал в тюрьме для малолеток и отлично понимает: стоит попасть в эту камеру – и все, каюк. Пиши пропало. Даже смертников не охраняют так тщательно.
Но он-то еще не там. Он еще здесь, в машине, ожидает, пока конвоиры отведут его внутрь. Здесь, снаружи, этих дураков-охранников меньше всего, и если уж пытаться бежать, то здесь, по дороге от машины до служебного входа окружной тюрьмы. Пока эти олухи готовятся «проводить» его в камеру, Старки пытается сообразить, есть ли у него шанс. Раз уж даже родители пытались заранее прикинуть, как вести себя в эту ночь, он-то и подавно загодя разработал с десяток безумных планов спасения. Он буквально грезил побегом наяву, но проблема в том, что каждый раз в этих бредовых фантазиях, полных тревоги и страха, его ловили, всадив пулю с транквилизатором, а просыпался он уже на операционном столе. Да, говорят, никого не разбирают на следующий день, но Старки в это не верит. Никто на самом деле не знает, что происходит за стенами заготовительных лагерей, – точнее, тех, кому это известно, уже нет на свете, и поделиться знаниями они не могут.
Конвоиры выводят Старки из машины и встают по обе стороны, крепко схватив его за предплечья. Да, к «проводам» им не привыкать. Тот, что с девичьими губами, держит в свободной руке толстую папку с делом Старки.
– Так что, – спрашивает его Старки, – в этом досье описаны мои увлечения?
– Наверное, – рассеяно соглашается конвоир, явно не придавая значения вопросу.
– Возможно, тебе стоило внимательней его почитать. Там есть кое-что любопытное, – продолжает Старки, ухмыляясь. – Видишь ли, я неплохо владею магией.
– Да что ты? – спрашивает конвоир, иронически улыбаясь в ответ. – Жаль, что ты не умеешь исчезать.
– Кто сказал, что не умею?
С этими словами Старки жестом, достойным самого Гудини, поднимает правую руку, не скованную более наручниками. Они висят на левом запястье. Пока конвоиры таращатся, разинув рты, Старки выхватывает из рукава перочинный нож, которым открыл замок, и полосует лезвием по лицу конвоира с девичьими губами.
Тот вскрикивает. Кровь хлещет ручьем из длинного разреза на щеке.
Коротышка цепенеет – вероятно, впервые за все время, проведенное на службе. Наконец он тянется к кобуре, но Старки уже бежит по темной улице широкими зигзагами, чтобы не дать конвоиру прицелиться.
– Эй! – орет ему вслед коротышка, – Тебе же хуже будет!
Но что они могут с ним сделать? Накажут, прежде чем разобрать? Улица резко сворачивает влево, затем вправо, и все это время Старки бежит вдоль массивной кирпичной стены окружной тюрьмы. Но, в конце концов, свернув в очередной раз, он замечает вдалеке другую улицу. Старки припускает еще быстрее, но, выбежав на улицу, сталкивается нос к носу с коротышкой, который как-то умудрился его опередить. Старки удивлен, но понимает: надо было это предвидеть. Едва ли он первый, кто пытался сбежать отсюда. Наверняка они специально соорудили здесь настоящий лабиринт, чтобы беглецы петляли, теряя время, а конвоиры получали преимущество.
– Все, Старки! Отбегался!
Коротышка хватает Мэйсона за руку и заставляет опустить нож, воинственно потрясая заряженным и готовым к бою пистолетом с усыпляющими пулями.
– На землю, или влеплю тебе пулю в глаз!
Но Старки не спешит падать на землю. Он не станет унижаться перед этим убийцей на службе у государства.
– Стреляй! – кричит Старки, – Давай, прямо в глаз, а потом расскажешь в лагере, почему ты подпортил их собственность.
Коротышка, резко развернув, прижимает его к стене так сильно, что Мэйсон ударяется лицом о кирпич, царапая и сдирая кожу.
– Ты меня достал, чертов подкидыш, – рычит коротышка.
Кровь вскипает в жилах Мэйсона. Развернувшись, он с размаху бьет коротышку в живот и вцепляется в его пистолет.
– Я тебе покажу подкидыша.
Коротышка сильнее, но ненависть, наполнившая Старки до краев, превращает его в дикого зверя.
Теперь пистолет зажат между ними. Ствол направлен в щеку Старки… затем в грудь… и вот уже в ухо коротышки, потом – ему под подбородок. Пальцы борются за курок, и вдруг – бабах!
Отдача отбрасывает Мэйсона к стене. Кровь! Кровь повсюду! Он чувствует во рту ее металлический привкус, перемешанный с кислым запахом пороха…
В пистолете были не усыпляющие пули. Настоящие боевые патроны!
Мэйсону кажется, что от смерти его отделяет несколько мгновений, но неожиданно он понимает, что кровь не его. Коротышка все еще стоит напротив, но его лицо превратилось в красное кровавое желе. Обмякнув, он валится на землю, и…
«О Господи, пуля настоящая! Почему инспектор носил с собой пистолет, заряженный боевыми патронами? Это же незаконно!»
Из-за поворота доносится чей-то топот. Перед Старки лежит мертвый полицейский, и нет сомнений, что звук выстрела разнесся по всей округе. Теперь все зависит от того, что он сделает дальше.
Теперь они с Беглецом из Акрона как братья, и ангел-хранитель всех беглецов смотрит из-за плеча Старки, выжидая, что он предпримет. Как бы на его месте поступил Коннор?
В этот момент из-за поворота появляется новый инспектор – этого Старки никогда раньше не видел и знакомиться с ним желанием не горит. Подняв пистолет коротышки, он жмет на курок и превращает несчастный случай в двойное убийство.
Убегая, он думает о том, что вкус крови на губах – это и есть вкус победы. И еще – о том, что призрак Коннора Лэсситера остался бы доволен.
Реклама
Ваш ребенок плохо успевает в школе? Учит уроки часами, но отметки не становятся лучше? Вы нанимали ему частных учителей, пробовали сменить школу, а результата все нет? Долго еще вы собираетесь мучить своего ребенка?
Наш ответ – ни единым днем больше! У нас есть решение!
Естественное улучшение познавательных способностей при помощи нашей патентованной Нейрозаплатки.
Расширение объема памяти при помощи Нейрозаплатки – это не какое-нибудь сомнительное лекарственное средство для улучшения работы мозга. И это не внедренный в голову чип. Это настоящий фрагмент живого человеческого мозга с заложенными в него знаниями по предмету, который не может выучить ваш ребенок. Алгебра, тригонометрия, биология, физика – с каждым днем доступных специализаций все больше! Мы разработали для вас удобные кредитные программы, поэтому нет нужды дожидаться очередного четвертного табеля с плохими оценками. Начните действовать прямо сейчас! Позвоните в Институт Нейропрограммирования и получите информацию о скидках и бесплатных программах. Мы гарантируем стопроцентный результат, в противном случае вы получите назад все до последнего цента.
Институт Нейропрограммирования: когда образование бессильно, мы превратим вашего ребенка в круглого отличника!
Одно дело – просто уйти в самоволку, и совсем другое – убить двух полицейских. На поиски Старки отправили гораздо больше стражей порядка, чем за обычным беглецом… Казалось, весь мир вышел за ним на охоту. Первым делом Старки изменил внешность – перекрасил свою всегда лохматую каштановую шевелюру в рыжий цвет, и коротко постригся, от чего стал похож на зубрилу из библиотеки, а жидковатую остроконечную бородку, которую любовно растил с тех пор, как перешел в старшие классы, сбрил не дрогнувшей рукой. Случайным встречным его лицо может показаться знакомым, но они так и не вспомнят, где его видели: теперь Старки не похож на преступника, чья фотография с обещанием награды за поимку висит на каждом столбе. Скорее на одного из тех пай-мальчиков, которых изображают на пачках кукурузных хлопьев для завтрака. Кожа у Старки смуглая, и рыжие волосы выглядят в сочетании с ней странновато, но смешанное происхождение, не раз выручавшее его в прошлом, сослужило хорошую службу и на этот раз. Старки всегда был хамелеоном, способным сойти за человека любой национальности, так что рыжие волосы не так уж много добавили к общей неразберихе.
Покинув город, он не задерживается на одном месте больше двух дней. Считается, что на северо-западе Тихоокеанского побережья население лучше относится к беглецам, чем на юге Калифорнии, поэтому Старки направляется туда.
Он прекрасно приспособлен выживать, потому что всю жизнь провел настороже. «Никогда никому не доверяй, даже собственной тени, и всегда преследуй только собственные цели». Друзья всегда уважали его четкую жизненную позицию, понимая, чем она хороша для них. Старки готов был сражаться за друзей до смерти… если это, конечно, не противоречило его интересам.
«У тебя корпоративная душа», – сказала ему однажды учительница. Она хотела его обидеть, но Старки воспринял эту фразу как комплимент: ведь корпорации очень влиятельны и способны делать много полезного – если захотят.
Женщина принадлежала к вымирающему виду учителей математики, и на следующий год ее уволили: для чего нужны математики, когда есть возможность поставить Нейрозаплатку? Разве только для того, чтобы продемонстрировать окружающим, насколько сложно плыть против течения.
Теперь, впрочем, Старки и сам попал в категорию тех, кто плывет против течения: именно такие люди оказываются в рядах Сопротивления, организации, которая разыскивает и прячет подростков-беглецов. Если ему посчастливится встретиться с ними, он спасен, но обнаружить их не так-то просто.
– Я в бегах уже почти четыре месяца, и никакого Сопротивления в глаза не видел, – делится с Мэйсоном уродливый мальчишка с лицом бульдога. Старки столкнулся с ним на заднем дворе какой-то забегаловки, куда они оба пришли в надежде, что с черного хода рано или поздно вынесут объедки. В обычной жизни Старки не стал бы общаться с таким парнем, но сейчас, когда обычная жизнь свелась к дням и часам, украденным у судьбы, приоритеты изменились.
– Я все еще на свободе, потому что не ведусь на ловушки, – добавляет мальчишка.
Старки известно, о каких ловушках идет речь. Если вдруг находишь подходящее место, где можно спрятаться, и оно кажется слишком уж удобным и привлекательным, скорее всего, это ловушка. Заброшенный дом с забытым комфортным матрасом; незапертая фура, полная консервов. Все это ловушки, расставленные инспекторами на беглецов. Существуют даже замаскированные инспекторы, работающие под людей из Сопротивления.
– Копы теперь стали предлагать награду тем, кто наведет их на беглецов, – продолжает парень с бульдожьим лицом, когда они наелись остатками курицы до отвала. – А еще есть охотники за головами. В общем, пираты. Отлавливают беглецов на продажу. На вознаграждение от копов им плевать – тех, кого поймали, продают на черном рынке. И если ты считаешь, что в правительственном лагере плохо, о том, что творится у пиратов, лучше даже не задумываться.
Бульдог заглатывает, не жуя, такой огромный кусок, что видно, как тот спускается по пищеводу. Точь-в-точь, как у змеи, проглотившей мышь.
– Раньше пиратов не было, – добавляет он, – но когда законом запретили отправлять на разборку после семнадцати, частей тела стало не хватать, и на черном рынке цена на беглецов выросла.
Старки качает головой. Когда издали закон, запрещающий отправлять в заготовительные лагеря подростков, достигших семнадцати, предполагалось, что примерно каждого пятого из тех, кого родители решили отправить на разборку, удастся спасти. Вот только на деле родители просто стали принимать решение быстрее. Интересно, а его родители могли бы передумать, если бы у них была возможность отложить решение еще на год?
– Хуже пиратов никого нет, – продолжает Бульдог. – У них и ловушки хуже, чем у копов. Я слыхал об одном охотнике, которому нечем стало промышлять, когда всем запретили носить меха. Так он взял самые страшные капканы на диких животных и переделал их, чтобы ловить беглецов. Знаешь, если у тебя нога в такой капкан попадет, можешь с ней попрощаться.
Для пущего впечатления Бульдог ломает пополам куриную кость. Услышав хруст, Старки невольно ежится.
– Да, есть и другие истории, – говорит Бульдог, облизывая грязные жирные пальцы. – Вот, например, рядом со мной жил парень. Его родители были полными лузерами. Конченые наркоманы, их надо было самих на разборку отправить. В общем, они подписали разрешение прямо на его тринадцатилетие и ему рассказали.
– А зачем ему рассказали?
– Чтобы сбежать мог, – объясняет Бульдог. – Но, понимаешь, они знали, где он будет прятаться, – ну, все секретные места. И сказали одному пирату, где его искать. Ну, тот парня и поймал, продал, а деньги разделил с родителями.
– Вот сволочи!
Бульдог, пожав плечами, отбрасывает в сторону куриную кость.
– Да того парня все равно им подкинули, так что невелика потеря, верно?
Услышав это, Старки на мгновение перестает жевать, затем, ухмыльнувшись, решает оставить свое мнение при себе.
– Да уж, невелика потеря.
Вечером парень с бульдожьей физиономией отводит Старки в канализационный туннель, где он прячется, и оба ложатся спать. Убедившись, что Бульдог уснул, Старки берется за дело. Он отправляется в соседний район и оставляет бумажное ведерко из-под курицы на крыльце первого попавшегося дома. Затем нажимает кнопку звонка и бросается прочь. В ведерке нет курятины, зато лежит нарисованная на листе бумаги карта с сопроводительной запиской: «Деньги нужны? Тогда отдайте эту карту копам и получите солидное вознаграждение. Хороших выходных!»
Перед рассветом появляются копы. Старки наблюдает с крыши, как они тащат из туннеля парня с бульдожьим лицом, словно застрявшую в ухе здоровенную серную пробку.
«Поздравляю, придурок, – шепчет себе под нос Старки, – я тебя подкинул».
Реклама
«Когда родители подписали разрешение на разборку, я испугался. Я не знал, что со мной будет. „Почему я? – спрашивал я себя. – За что меня так наказали?“ Но когда я попал в заготовительный лагерь „Большое небо“, я понял, что все к лучшему. Я встретил других ребят, и они приняли меня таким, какой я есть. Я понял, что каждая часть моего тела прекрасна и ценна. Благодаря работникам лагеря „Большое небо“ я больше не боюсь разборки».
«Разборка? Ух ты! Это же так интересно!»
Все беглецы – воры. Этим аргументом обычно пользуются представители власти, когда хотят убедить общество в том, что отправленные на разборку ребята – существа, гнилые до мозга костей, что хулиганство и воровство – часть их натуры, и перевоспитать их невозможно – можно только разобрать.
Однако на деле воровство для беглецов – не криминальная страсть, а жизненная необходимость. Дети, не укравшие за всю прежнюю жизнь ни цента, обнаруживают, что к рукам, вдруг ставшим ужасно липкими, словно сами собой прилипают всякие вещи: еда, одежда, лекарства – словом, все то, что нужно для выживания. А те, кому воровать уже не в новинку, просто начинают делать это чаще.
Старки не новичок по части криминала, хотя раньше его преступления диктовались лишь сознательным желанием нарушить дисциплину. Воровство для него было актом протеста. Старки выносил что-нибудь из магазина только тогда, когда продавец начинал смотреть на него с подозрением. Непристойными цитатами из самого себя он украшал только те здания, которые символизировали что-то ему ненавистное. Машину у соседа он угнал только потому, что тот всегда загонял детей домой, если видел, что Старки вышел погулять. На этой машине Старки от души покатался с приятелями. Кайф получили все. По дороге Старки вскользь задел крылом целый ряд припаркованных машин, что стоило соседскому автомобилю двух колесных колпаков и переднего бампера. Поездка закончилась, когда они с ходу перемахнули бордюр и в полете сшибли ни в чем не повинный почтовый ящик на ножке. Машину пришлось списать как не подлежащую ремонту, но именно этого Старки и добивался.
Все знали, что угнал машину он, хотя доказать этого не удалось. Он и сам считал, что это не самый благовидный поступок, но чувствовал, что просто обязан сделать какую-нибудь гадость человеку, считавшему, что его дети слишком хороши, чтобы дышать со Старки одним воздухом.
Впрочем, все эти детские шалости бледнели по сравнению с тем, что он совершил при побеге. Теперь он – настоящий убийца. Хотя нет – не надо думать о себе как об убийце. На самом деле он – простой пехотинец в армии, воюющей с разборками. Солдату, уложившему противника, положена медаль, не так ли? И даже если порой, в минуты слабости, воспоминания о том вечере возле тюрьмы жгут его изнутри, большую часть времени его совесть чиста, в том числе и когда он облегчает карманы прохожих.
Когда-то Старки, вообразив себя крутым иллюзионистом, удивлял друзей и пугал взрослых исчезающими с запястий часами и неожиданно пустеющими карманами. Фокус был несложным, но чтобы довести его до совершенства, пришлось потратить на тренировки немало времени. Впрочем, теперь это умение пригодилось ему в реальной жизни. Чтобы завладеть кошельком или дамской сумочкой, необходимо было руководствоваться тем же принципом: умело отвлечь человека и действовать храбро и решительно, ну а остальное – ловкость рук.
Этим вечером Старки заприметил пьяного, который, шатаясь, выходил из дверей бара. Засунув в карман пальто внушительного размера бумажник, мужчина направился к машине, хлопая себя по бокам в поисках ключей. Старки бесшумно подкрадывается сзади и врезается в мужчину – несильно, только чтобы выбить из рук ключи, – но пьяный едва держится на ногах, и оба валятся на землю.
– Прости, дружище, – говорит Старки мужчине, подбирая ключи и подавая ему. В суматохе тот и не почувствовал, как пальцами другой руки Старки незаметно пробрался ему в карман и выудил бумажник. Старки поднимается и, насвистывая, неторопливо уходит. Мужик уже будет на полпути домой, прежде чем поймет, что бумажника нет; но и тогда решит, что просто оставил его в баре.
Только завернув за угол и убедившись, что его никто не видит, Старки открывает бумажник. В ту же секунду через него проносится разряд электричества. Ноги подкашиваются, и Старки в полуобмороке валится на землю, дергаясь в конвульсиях.
Бумажник с электрошоком. До этой минуты он никогда не видел их в действии, хотя слышал немало.
Спустя несколько секунд рядом оказывается тот самый пьяный мужик, который, как выяснилось, не так уж и пьян, а с ним еще три человека, чьи лица Старки разглядеть не в состоянии. Подняв Мэйсона, они засовывают его в багажное отделение припаркованного на стоянке фургона.
Двери закрываются, и машина срывается с места. Лежа на полу, Старки с трудом различает лицо пьяного (хотя, на деле, совершенно трезвого) мужчины, у которого он забрал бумажник. Склонившись над Старки, тот смотрит на него сверху вниз.
– Ты беглец, беспризорник или просто ворюга? – спрашивает он.
– Ворюга, – отвечает Старки, с трудом шевеля резиновыми губами.
– Прекрасно, – соглашается мужчина. – Зона поиска сужается. Так беглец или беспризорник?
– Беглец, – мямлит Старки в ответ.
– Чудесно, – снова соглашается мужчина. – Вот теперь понятно, что ты беглец, и я знаю, что с тобой делать.
Старки рычит от бессилия и злости и слышит в ответ женский смех где-то за пределами его поля зрения.
– Да ты не удивляйся. У всех беглецов в глазах есть что-то такое, чего нет ни у малолетних преступников, ни у обычных беспризорников. Мы могли бы тебя и не спрашивать, потому что знали ответ заранее.
Старки силится встать, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой.
– Не надо, – говорит девушка откуда-то из-за спины. – Не дергайся, а то придется тебя еще раз шарахнуть, а это будет посильнее разряда из бумажника.
Старки становится понятно, что он попал в одну из ловушек, расставленных охотниками за головами. Он считал себя умнее, а теперь только и остается, что крыть собственную неосторожность… Эти мысли не дают ему покоя до тех пор, пока мужчина, у которого он украл бумажник, не решает снова заговорить.
– Тебе понравится в этом убежище, вот увидишь. Хотя воняет там будь здоров.
– Ч-что?
Все, кто находится в фургоне, – то есть еще человек пять – заливаются смехом. Зрение возвращается к Старки постепенно, и точно понять, сколько вокруг него людей, он пока не может.
– Нравится мне смотреть на них в такие моменты, – говорит девушка, появляясь перед Старки и улыбаясь ему. – Слыхал о том, как ловят львов, сбежавших из зоопарка? Стреляют в них усыпляющими пулями, чтобы они себе проблем не нажили? – спрашивает она. – Ну вот, сегодня ты вроде льва.
Социальная реклама
«Привет, ребята! С вами говорит сторожевой пес Уолтер. Держите ухо востро и нос по ветру! Не каждый рожден сторожевой собакой, как я, но вступить в мой Клуб Сторожевых Щенков может каждый! Вы получите полный набор Сторожевого Щенка, и раз в месяц в ваш дом будет приходить письмо с играми и советами, как очистить ваш район от преступников. Я научу вас распознавать подозрительных незнакомцев и находить места, где прячутся от опасности беглецы.
Когда за дело возьметесь вы, у беглецов и преступников не останется ни малейшего шанса! И помните, Сторожевые Щенки: ухо востро и нос по ветру!»
Спонсор ролика – «Гражданская оборона Инкорпорейтед».
Убежище оказывается насосной станцией городской канализации. Автоматической насосной станцией. Рабочие сюда не заходят – только ремонтники могут нагрянуть, если случится авария.
– К запаху привыкнешь, – говорят Старки сопровождающие.
Сначала ему кажется, что привыкнуть к такой вони невозможно. Но в какой-то момент обоняние понимает, что выиграть битву с такой вонью нереально, и попросту сдается. Кроме того, Старки и вправду здесь нравится – вернее, нравится то, что он сюда попал.
Убежище напоминает чашку Петри, наполненную концентратом злобы и тоски, в котором плавают дети, отвергнутые родителями. Хуже этой тоски быть уже не может. Она наполняет души бессильным отчаянием и выливается в ежедневные драки и ругань.
Старки был прирожденным лидером: он всегда умел подчинять себе трудных подростков и самых отъявленных маргиналов. И в убежище его способности проявились так же, как и везде, – он быстро поднимается вверх по ступеням сложившейся иерархии. Дело облегчалось тем, что слухи о его героическом бегстве уже давно достигли убежища и Старки с удивлением обнаружил, что стал живой легендой.
– Правда, что ты убил двух копов?
– Ага.
– А правда, что тебе пришлось отстреливаться во время побега?
– Ну да, а что?
И что самое приятное, подкидыши, которых даже здесь, в среде беглецов, раньше считали существами второго сорта, с его появлением превратились в элиту. Старки сказал, что подкидыши получают еду первыми? Значит, они получат ее первыми. Старки сказал, что они сами выбирают себе лучшие места для сна, подальше от вонючих вентиляционных шахт? Значит, они спят на лучших местах. Его слово – закон. Даже взрослые, заправляющие здесь всем, понимают, что он – самая серьезная фигура в убежище, и стараются, чтобы ему было хорошо. Ведь если он сделается их врагом, то на его сторону встанут все беглецы без исключения.
Предполагая, что здесь он и просидит до своего семнадцатилетия, Старки начинает обживаться. Но однажды, посреди ночи, люди из Сопротивления поднимают их по тревоге и, основательно перетасовав, развозят по другим убежищам.
«Таковы правила», – говорят им. Ротация, как понял Старки, нужна по двум причинам. Во-первых, детей постепенно перемещают все ближе к какой-то конечной точке назначения, какой бы та ни была. А во-вторых, начавшие складываться коллективы постоянно перемешивают, не давая им сформироваться окончательно. В общем, это что-то вроде разборки, только разбирают не человека, а компанию.
Впрочем, Старки и тут стал своего рода исключением, ломающим правило: в каждом новом убежище он сразу оказывается на почетном месте. Повсюду он встречает парней, считающих себя местными альфа-самцами, и всякий раз выясняется, что на деле они всего лишь беты, ожидающие по-настоящему достойного вожака. В каждом новом месте Старки бросает им вызов, побеждает и занимает верхнюю ступень в иерархии. А потом все повторяется: полуночный сбор и поездка в неизвестном направлении – в общество новых беглецов, в новое убежище.
И всякий раз борьба за роль лидера обогащает Старки каким-нибудь новым навыком, помогающим быстрее подчинить себе очередную толпу испуганных, раздраженных ребят. Постепенно Старки понимает, что для него эти переезды – самая лучшая школа, о какой только можно было мечтать.
А потом появились гробы.
Последнее убежище, в которое их привезли, оказалось битком набито гробами: лакированными деревянными ящиками с обивкой из роскошного атласа. Многие напуганы, но Старки только посмеивается.
– Полезайте! – требуют доставившие их охранники из Сопротивления, больше похожие на этот раз на спецагентов. – Вопросов не задавать, полезайте в гробы. По двое в один гроб! Живо!
Некоторые ребята продолжают стоять, сомневаясь, а те, что поумнее, принимаются искать партнеров, как будто внезапно объявили парный танец. Никто не хочет оказаться в тесном ящике со слишком высоким, слишком жирным, немытым или слишком склочным партнером, потому что все эти недостатки во тьме и тесноте усилятся стократ. Разбившись по парам, ребята начинают укладываться в гробы – но лишь после того, как Старки кивком побуждает их к действию.
– Если бы нас хотели похоронить, – говорит он ребятам, – давно бы уже похоронили.
Слова Старки оказываются самым убедительным аргументом, перед которым меркнет даже присутствие вооруженных охранников.
Мэйсон решает разделить тесное пространство гроба с крошечной девушкой, которой, похоже, до головокружения приятно, что он остановил выбор на ней. Не то чтобы девушка ему особенно нравилась, просто она такая маленькая, что уж точно не займет много места. С трудом поместившись в гробу, для чего им пришлось изогнуться и прижаться друг к другу, Старки и девушка получают баллон с кислородом. Затем крышку закрывают, оставив их в кромешной темноте.
– Ты мне всегда нравился, Мэйсон, – заявляет девушка, чье имя он вспомнить не может. Удивительно, что она знает, как его зовут: попав в убежище, он практически отказался от имени. – Изо всех ребят, кого я встречала в убежищах, только с тобой я чувствую себя спокойно.
Старки, воздержавшись от ответа, молча целует ее в затылок. Ее признание ему лестно: любому мужчине приятно чувствовать себя защитником и покровителем.
– Мы можем… ну, ты понимаешь, – еле слышно выдыхает девушка.
Старки напоминает ей о том, что сказали охранники из Сопротивления в качестве напутствия: «Никаких лишних движений. Иначе израсходуете кислород раньше времени и умрете». Неизвестно, правда это или ложь, но у Старки появился прекрасный повод для отказа. Впрочем, даже если среди ребят и нашелся бы безумец, решивший проверить тезис о нехватке кислорода на практике, в гробах так тесно, что нет возможности даже шевельнуться, не говоря уже о движениях известного рода, так что вопрос отпадает сам собой. Интересно, думает он, может, вся эта перевозка в гробах – такая изощренная шутка над переполненными гормонами подростками? Заключить их попарно в тесные коробки и лишить всякой возможности двигаться, только дышать.
– Я бы с удовольствием задохнулась, если бы это произошло вместе с тобой, – признается девушка.
Старки снова польщен, хотя от этих слов последний интерес к девушке пропадает.
– Как-нибудь в другой раз, – обещает он, зная, что никакого следующего раза не будет (по крайней мере, с ней), но надеясь на то, что она примет его слова за чистую монету и приободрится.
Методом проб и ошибок им удается найти подходящий ритм дыхания: Старки вдыхает, когда выдыхает девушка, и наоборот: так им обоим не приходится давить друг другу на грудь.
Через некоторое время снаружи доносится какая-то возня. Обнимая девушку за талию, Старки прижимает ее к себе чуть крепче. Он чувствует, как она успокаивается, и сам начинает бояться чуть меньше. Потом возня прекращается, и возникает чувство, что они начинают двигаться с ускорением, как это бывает в разгоняющейся машине. Но затем угол движения меняется, и Старки понимает, что это не автомобиль.
– Мы в самолете? – спрашивает девушка.
– Думаю, да.
– И куда нас везут?
Старки не отвечает, потому что не знает ответа. У него начинает кружиться голова, и, вспомнив о баллоне с кислородом, он слегка откручивает вентиль. Раздается тихое шипение.
Крышка гроба плотно закрыта, и без кислорода они бы неизбежно задохнулись. Через несколько минут девушка, измученная страхом и вконец измотанная, засыпает, а Старки остается бодрствовать. Где-то через час самолет неожиданно садится, и девушка просыпается, почувствовав толчки и удары от соприкосновения с землей.
– Где мы?
Старки раздражен от лежания в тесном гробу, но старается этого не показывать.
– Скоро узнаем, – отвечает он.
В ожидании проходит минут двадцать. Затем, наконец, замки отпирают, и крышка открывается – воскрешение из мертвых завершилось.
Над ними с улыбкой наклоняется парень со скобами на зубах.
– Привет, – говорит он весело. – Меня зовут Хайден, и сегодня я ваш персональный спаситель. Ух ты! Никто даже не обделался. Здорово!
С трудом переступая затекшими ногами, Старки присоединяется к процессии. Все бредут, покачиваясь, по направлению к выходу из грузового отсека. Выглянув наружу и дождавшись, пока глаза привыкнут к яркому свету, он видит картину, напоминающую, скорее, мираж, нежели пейзаж из реального мира.
Перед ним пустыня, а на песке рядами выстроились десятки аэропланов.
Старки слыхал о таких местах – кладбищах старых самолетов, предназначенных для вечного хранения списанной техники.
Ребят окружают и пытаются построить в колонну подростки с автоматами в военной форме цвета хаки, чем-то похожие на охранников, возивших их из убежища в убежище, только гораздо моложе.
К толпе приближается джип. Ясно, что везут кого-то важного – человека, который, возможно, расскажет, зачем они здесь.
Подъехав, джип резко останавливается. Из него выходит ничем особо не примечательный парень в камуфляже голубого цвета. Он ровесник Старки, может быть, чуть старше. На правой щеке шрамы.
Разглядев, ребята узнают его, и в толпе поднимается возбужденный ропот. Парень поднимает руку, чтобы утихомирить толпу, и Старки замечает на ней татуировку с изображением акулы.
– Не может быть! – восклицает толстяк, стоящий рядом со Старки. – Ты знаешь, кто это? Это Беглец из Акрона! Это Коннор Лэсситер.
– Да не пори чушь, – насмешливо бросает Старки в ответ, – Беглец из Акрона мертв.
– Да нет, как видишь! Это точно он!
От слов толстяка в кровь Старки выплескивается такая волна адреналина, что даже затекшие руки и ноги сразу отходят. Но – нет, этого не может быть. Глядя на юношу, старающегося контролировать ситуацию в суматохе после высадки, Старки понимает, что Коннором Лэсситером тот быть не может. Этот парень просто не того типа. У него взъерошенные волосы, а не зачесанная назад и уложенная гелем шевелюра цвета воронова крыла, а ведь Старки всегда представлял себе Беглеца именно таким. У парня слишком простое и открытое лицо. Конечно, он не похож на невинного младенца, но с трудом сдерживаемой ярости, которая просто обязана присутствовать на лице настоящего Беглеца из Акрона, в нем нет и в помине. Единственная деталь, которая с большой натяжкой вписывается в имидж Коннора Лэсситера, нарисованный воображением Старки, – это легкая ухмылка, которая, похоже, никогда не сходит с его лица. В остальном же этот парень, стоящий перед ними и пытающийся внушить им уважение, ничего собой не представляет. Ровным счетом ничего.
– Позвольте приветствовать вас на Кладбище, – произносит он начало дежурного спича, который, очевидно, слышат все новоприбывшие. – Мое полное имя – Элвис Роберт Муллард… но друзья называют меня Коннором.
Эти слова вызывают восхищенные крики в толпе беглецов.
– А я тебе что говорил! – восклицает толстяк.
– Это ничего не доказывает, – цедит в ответ Старки сквозь стиснутые зубы.
– Вы попали сюда, потому что всех вас отправили на разборку. Благодаря усилиям многих и многих людей из Сопротивления вы добрались сюда. Это место станет вашим домом до тех пор, пока каждому из вас не исполнится семнадцать, после чего отправить вас на разборку будет уже невозможно. Это хорошая новость…
По мере того как речь продолжается, сердце Старки сжимается все сильнее и сильнее. Он, наконец, уверился, что перед ним и впрямь Беглец из Акрона – и тот вовсе не похож на великого героя из легенд. И, похоже, вообще ничем не примечателен.
– Плохая новость заключается в том, что Инспекция по делам несовершеннолетних знает о нашем существовании. Они знают, где мы находимся и чем занимаемся, но пока что нас не трогают.
Старки поражен несправедливостью ситуации. Как такое может быть? Почему великий специалист по побегам и герой всех беглецов оказался каким-то заурядным парнем?
– Кто-то из вас просто хочет дожить до семнадцати, и винить вас в этом я не могу, – продолжает Коннор. – Но мне также известно, что многие из вас готовы рискнуть чем угодно ради того, чтобы разборки исчезли навсегда.
– Да! – громко выкрикивает Старки, стараясь отвлечь всеобщее внимание от Коннора. – «Веселый Дровосек»! «Веселый Дровосек»! «Веселый Дровосек»! – начинает скандировать он, хлопая в ладоши над головой. Часть толпы подхватывает клич. – Мы взорвем к чертовой матери все лагеря!
Хотя ему и удалось завести часть толпы, одного холодного взгляда Коннора хватает, чтобы она утихомирилась.
– Простите, если я вас разочарую, говорит Коннор, пристально глядя на Старки, – но Лавки мясника мы взрывать не будем. Нас и так считают бешеными, а полиция манипулирует всеобщим страхом, чтобы разборки и дальше существовали на законных основаниях. Нельзя лить воду на их мельницу. Мы не Хлопки и заниматься неорганизованным терроризмом не будем. Будем думать, а потом уже действовать…
Отповедь Коннора не производит на Старки впечатления. Да кто он такой, чтобы затыкать ему рот? Коннор продолжает говорить, но Старки его больше не слушает, потому что Коннору нечего ему сказать. Но другие слушают, и это Старки бесит.
А потом под бормотание этого такого называемого Беглеца из Акрона в голову ему закрадывается важная мысль. Он убил двоих полицейских. Он сам уже стал легендой, и в отличие от Коннора, ему для этого даже не пришлось прикидываться мертвым.
Не сдержавшись, Старки улыбается. На этом кладбище самолетов – сотни беглецов, но в конечном счете все станет так, как было во всех предыдущих убежищах. Как всегда, его встретил очередной бета-самец, ждущий своего альфу вроде Старки, который укажет ему, где его место.
2
Мираколина
Всю свою сознательную жизнь девочка знала, что ее тело уготовано в жертву Господу.
Она всегда помнила о том, что после тринадцатого дня рождения ее ожидает священный обряд: тело ее будет разобрано, а душа станет виртуальной, чтобы существовать одновременно повсюду, как страница во всемирной паутине. Впрочем, сравнение неудачное, так как одушевленные машины встречаются только в кино. Ее же душа будет жить в каждом теле, в которое попадет частица ее разделенной плоти. Кто-то скажет, что это ничем не отличается от смерти, но девочка так не считает. По ее мнению, в состоянии распределенности есть нечто мистическое, и эта вера наполняет каждый уголок ее сердца.
«Я думаю, узнать, что такое жизнь в состоянии распределенности, нельзя, пока сам не попробуешь», – говорил ее духовник. Ей казалось странным, что священник, который всегда придерживался церковных догм, испытывал явную неуверенность каждый раз, когда речь заходила о жертвоприношении.
«Ватикан до сих пор так и не определил свое отношение к заготовительным лагерям, – объяснял духовник, – а значит, пока их не благословили или не прокляли, я имею право сомневаться, сколько захочу».
Девочка всегда краснела, когда он говорил так, словно жертвоприношение и разборка – одно и то же. Но ведь ничего подобного! На разборку отправляют проклятых и нежеланных, а любимых и благословенных приносят в жертву. Процесс, возможно, один и тот же, но цели разные, а в этом мире главное – цель.
Девочку зовут Мираколина, и с итальянского это слово переводится как «чудо». Ее так назвали, потому что смысл ее жизни заключается в спасении брата. В возрасте десяти лет у Матео, ее брата, обнаружили лейкемию. Ради лечения семья переехала из Рима в Чикаго, но даже в чикагском банке органов найти костный мозг для пересадки не удалось: слишком редкой оказалась группа крови. Оставалось только создать человека, во всем похожего на Матео, что ее родители и сделали. Через девять месяцев, когда родилась Мираколина, врачи взяли костный мозг из ее бедра, и брат был спасен. Вот такое простое чудо. Теперь ему двадцать четыре, и он учится в университете. И все благодаря Мираколине.
Еще до того как девочка поняла, что такое быть уготованной в жертву, ей рассказали, что она – одна из десяти. «Нам предложили десять эмбрионов на выбор, – рассказала мать однажды, – но лишь один полностью совпадал с Матео физиологически. Ты появилась у нас не случайно. Мы выбрали тебя».
Девятью оставшимися эмбрионами распорядились по закону: родителям пришлось заплатить девяти женщинам, ставшим для них суррогатными матерями. Выносив детей, эти женщины получали право поступить, как им заблагорассудится, – оставить младенцев себе или подбросить каким-нибудь обеспеченным людям. «Но, как бы трудно нам ни было, мы считаем, что это прекрасно – то, что у нас есть и Матео, и ты», – сказали родители.
Теперь, когда час жертвоприношения близок, Мираколине приятно сознавать, что где-то в мире живут девять ее братьев и сестер и, как знать, быть может, частица ее распределенного тела поможет кому-нибудь из них в трудную минуту.
Однако принести ее в жертву родители решили вовсе не потому, что двое детей – слишком большая обуза для семьи.
«Мы заключили соглашение с Господом, – объяснили Мираколине родители, когда она была еще маленькой. – Мы пообещали: если ты родишься и Матео будет спасен, в благодарность мы принесем тебя в жертву и таким образом вернем Ему». Хотя Мираколина была тогда совсем еще малышкой, она поняла, что такое соглашение не так-то просто нарушить.
Правда, по мере того как до рокового дня оставалось все меньше и меньше времени, родители все больше нервничали. «Прости нас, – умоляли они снова и снова, – за то, что мы сделали». Мираколина всегда прощала их, хотя и приходила от просьбы в смущение. Ей всегда казалось, что жертвоприношение сродни избранничеству: зная о том, что ее ждет, она никогда не испытывала сомнений по поводу смысла жизни и своего предназначения. Так почему же родители извиняются за то, что подарили ей цель в жизни?
Быть может, они чувствовали себя виноватыми за то, что не устроили ей пышные проводы? Но, в конце концов, она ведь сама так решила. «Во-первых, жертвоприношение должно пройти скромно и без шумихи, – сказала она родителям. – Во-вторых, кто захочет прийти на такую вечеринку?»
И это было совершенно логично. Чаще всего дети, предназначенные в жертву, происходили из богатых общин и посещали храмы, где жертвоприношение – дело обычное. Мираколина же выросла в рабочей семье, а в этой среде относятся к жертвоприношению без энтузиазма. Одно дело, если ты из богатых и тебя окружают единомышленники, – и совсем другое, если все вокруг считают подобный повод для праздника по меньшей мере сомнительным. Мираколина не хотела провести последний вечер в семье в такой обстановке.
Поэтому, когда приходит этот последний вечер, сидя у камина вместе с родителями, она пересматривает то один, то другой эпизод из любимых фильмов. Мама приготовила ее любимое блюдо ригатони «Аматрициана». «Острые, но классные, – говорит мама, – совсем как ты».
Потом Мираколина спокойно засыпает, и дурные сны ее не мучат, – по крайней мере, утром она ничего подобного припомнить не может. Она рано просыпается, одевается в белое, точно так же, как обычно, и говорит родителям, что пойдет в школу. «За мной не приедут раньше полудня, так какой смысл терять день?»
Хотя родители предпочли бы, чтобы девочка осталась дома, сегодня ее слово – закон.
В школе Мираколина высиживает все уроки, ощущая некоторую отстраненность, похожую на сон. В конце каждого урока учитель отдает ей все накопившиеся за время обучения классные работы и табели с оценками, заполненные ранее.
«Да, видимо, это последний раз», – как будто пытается сказать каждый из учителей. Похоже, что большинству из них трудно находиться с ней в одном помещении. Добрее всех оказывается физик.
– Моего племянника принесли в жертву несколько лет назад, – рассказывает он. – Хороший был мальчик. Мне его ужасно не хватает. – Сказав это, он делает паузу и о чем-то задумывается. – Мне говорили, что его сердце досталось пожарному, спасшему десяток людей из горящего здания. Не знаю, правда ли это, но хотелось бы верить.
Мираколине тоже хотелось бы в это верить.
Одноклассники ведут себя так же странно, как учителя. Некоторые решают, что нужно сказать ей что-нибудь на прощанье. Кое-кто даже неловко обнимает ее, но большинство старается держаться на расстоянии, словно боятся подхватить от нее какую-то заразу. Но есть и другие, – те, кто считает нужным продемонстрировать жестокость.
– Надеюсь увидеть тебя как-нибудь по частям, – говорит кто-то за спиной во время обеда.
Раздаются смешки. Мираколина оборачивается, а сказавший гадость мальчик старается спрятаться за спинами приятелей, считая, что в толпе таких же потных придурков ему удастся остаться незамеченным. Но Мираколина узнает его по голосу. Протолкнувшись сквозь толпу ребят, она встает прямо перед ним, холодно глядя мальчику в глаза.
– О нет, ты меня по кускам не увидишь, Зак Расмуссен… но если какая-нибудь моя часть увидит тебя, я обязательно дам знать.
Лицо Зака приобретает легкий зеленоватый оттенок.
– Иди к черту, – бормочет он, – отправляйся на свое жертвоприношение.
Теперь под налетом идиотской бравады заметен страх.
Отлично, думает Мираколина. Надеюсь, кошмары ему обеспечены.
Она учится в большой школе, где полным-полно учеников, и среди них есть еще четверо ребят, тоже одетых с головы до ног в белое. Раньше их было шестеро, но двоих, самых старших, уже нет. Оставшиеся четверо и есть ее настоящие друзья, с которыми ей действительно хочется попрощаться. Как ни странно, они все очень разные. Все из семей сектантов, но каждая секта исповедует свою религию. Общее у них одно: все относятся к самопожертвованию очень серьезно. «Забавно, – думает Мираколина. – Эти секты веками враждуют из-за различий в обрядах, а вот в жертвоприношении все сходятся».
– От всех нас требуют, чтобы мы отдавали себя другим. Чтобы мы были милосердными и самоотверженными, – говорит Нестор, один из ее приятелей, предназначенных в жертву. Нестор и Мираколина – одногодки, но мальчик немного моложе, и день его обряда наступит только через месяц. Тепло прощаясь с Мираколиной, он хлопает ее по ладони. – Раз уж технология дошла до такого, что у нас появился еще один способ отдавать себя другим, что в этом плохого?
Все верно, вот только на свете немало людей, которые так не считают. И с каждым днем их все больше. Среди них и тот мальчик, которого, как и Мираколину, должны были принести в жертву, а он стал Хлопком, и теперь люди сделали из него символ. И что он теперь чувствует? Если кто-то готов превратиться в живую бомбу, лишь бы его не принесли в жертву, это же все равно, что красть медяки из кружки нищего на паперти! Хуже этого ничего и быть не может.
После уроков Мираколина, как обычно, отправляется домой. Свернув на свою улицу, она замечает у дома припаркованную машину брата. Сначала ей это кажется удивительным – брат учится в университете в другом городе, до которого пять часов езды. Но потом удивление сменяется радостью: она понимает, что Матео приехал с ней попрощаться.
Еще только три часа, и за Мираколиной должны приехать через час, а родители уже плачут. Это расстраивает девочку: она хотела, чтобы родители относились ко всему стоически, как она или Матео. Брат между тем вспоминает разные приятные моменты, которые им довелось пережить.
– А помнишь, когда мы ездили в Рим, ты захотела поиграть в прятки в Музее Ватикана?
Вспомнив, Мираколина улыбается. Она спряталась в ванну Нерона – огромный котел из темно-красного камня, в котором легко поместился бы даже слон.
– Охранников чуть удар не хватил! Я думала, они меня отведут к Папе, а он меня отшлепает. Пришлось бежать.
Матео смеется.
– Тебя не было, наверное, час. Мама с папой просто места себе не находили.
Да нет, наверное, нельзя сказать «тебя нет» о человеке, который потерялся в музее. Просто его до поры до времени скрывают стены. Мираколина вспомнила, как бродила среди толпы туристов, приехавших в Ватикан, пока не оказалась посреди Сикстинской капеллы, украшенной фресками Микеланджело. В центре была чудесная сцена: небеса почти соприкосались с землей. Рука Адама была так близка к руке Господа! И оба так хотели прикоснуться друг к другу! Но неодолимая сила земного тяготения не давала Адаму дотянуться до небес.
Мираколина долго стояла там, задрав голову и глядя на эту сцену. Она совсем забыла, что играет в прятки, да и как можно играть таком в месте, где приподнимается покров над великой тайной? Там ее и нашли родители с братом, среди сотен туристов, любующихся величайшей картиной, какую когда-либо создавала рука человека, – этим символом отчаянной тяги человека к совершенству.
Мираколине было только шесть лет, но и тогда образы, запечатленные на фреске, говорили с ней, и она как будто понимала, что они хотят сказать. Ей казалось, что она сама – прекрасная капелла, и если кто-нибудь зайдет внутрь, то увидит величественные фрески, которыми расписаны своды ее души.
Микроавтобус, который должен забрать ее, приезжает на десять минут раньше и паркуется у дома.
На стенке фургона красуется яркий логотип с подписью «Заготовительный лагерь “Лесная лощина”! Место, где живут подростки!»
Мираколина заходит в свою спальню, чтобы взять вещи – небольшой чемоданчик с несколькими комплектами белой одежды и скромным набором необходимых пожитков. Родители рыдают и без конца умоляют простить их. И Мираколина впервые не выдерживает.
– Если вы чувствуете себя виноватыми за то, что принесли меня в жертву, это не моя проблема, – говорит она, – потому что я отношусь к этому спокойно. Пожалуйста, возьмите себя в руки, хотя бы из уважения ко мне.
Ожидаемого действия слова не производят. Слезы по-прежнему льются потоком.
– Ты чувствуешь себя спокойно потому, – говорит отец, – что мы тебе это внушили. Это мы во всем виноваты. Все это из-за нас.
Взглянув на родителей, Мираколина пожимает плечами.
– Так передумайте, – предлагает она. – Нарушьте слово, данное Господу, и не приносите меня в жертву.
Родители смотрят на нее так, словно Мираколина преподнесла им чудесный подарок – последнюю возможность выбраться из ада, в который они сами себя загнали.
– Да, так мы и сделаем! – восклицает мать. – Мы же еще не подписали окончательное разрешение. Мы еще можем передумать!
– Хорошо, – говорит Мираколина. – Ты уверена, что вы этого хотите?
– Да, – говорит отец с заметным облегчением. – Да, мы уверены.
– Определенно?
– Да.
– Прекрасно, значит, вы можете не чувствовать себя виноватыми, – заключает Мираколина, поднимая чемодан. – Но независимо от того, чего вы хотите, я все равно ухожу. Потому что так хочу я.
Обняв мать, отца и брата, она уходит, не оглядываясь и даже не сказав ничего на прощание: люди прощаются, когда знают, что всему конец, а больше всего на свете Мираколина Розелли хочет верить, что после обряда все только начинается.
Рекламный ролик
«Когда Билли стал вести себя так, что мы начали опасаться за свою безопасность, мы решили прибегнуть к единственному гуманному способу. Мы отправили его в заготовительный лагерь, чтобы в разобранном состоянии он обрел покой. Но теперь, когда закон запрещает отправлять в лагеря подростков, достигших семнадцатилетнего возраста, мы бы уже не смогли воспользоваться этой возможностью. На прошлой неделе семнадцатилетняя девочка, живущая по соседству, напилась, разбила машину и задавила двоих ни в чем не повинных людей. Разве могло бы такое случиться, будь у ее родителей возможность отправить ее в лагерь? Как вы считаете?
Голосуйте за 46-ю поправку! Помогите покончить с Законом о защите семнадцатилетних и снять ограничения, наложенные на возможность отправлять детей в лагеря!
Спонсор ролика: ассоциация «За безопасное будущее».
До лагеря «Лесная лощина» – три часа езды. Кресла в минивэне обиты кожей и мягким плюшем, а из дорогущих динамиков доносится популярная музыка. За рулем – мужчина с седеющей бородкой, широкой улыбкой на лице и таким запасом благодушия, с которым настроение, похоже, не испортить ничем. Просто Санта-Клаус в отпуске.
– Хорошо повеселилась вчера? Как прошла вечеринка? – спрашивает Шофер-Клаус, отъезжая от дома, где остались родители, которых Мираколина больше уже не увидит.
– Да и нет, – отвечает Мираколина. – День прошел хорошо, но вечеринки не было.
– О-о-о… жаль. А почему?
– Потому что жертвоприношение – не праздник.
– А, – отвечает шофер, явно не зная, что еще сказать. Ответ Мираколины – просто идеальное окончание светской беседы, чего она и добивалась. Ей совершенно не хотелось рассказывать о своей жизни этому мужчине, каким бы веселым он ни был.
– В холодильнике полно напитков, – сообщает он. – Угощайся.
Минут через двадцать, вместо того чтобы свернуть на федеральную трассу, они через ворота въезжают на территорию элитного поселка.
– Должен забрать кое-кого еще, – объясняет Шофер-Клаус. – Во вторник пассажиров мало, так что после этого – сразу в лагерь. Надеюсь, ты не против.
– Нет, не против.
Особняк, у которого останавливается фургон, раза в три больше, чем дом Мираколины. У двери ожидают мальчик в белом и его родители. Чтобы не смотреть, как они прощаются, Мираколина отворачивается к окну на другой стороне. Наконец Шофер-Клаус распахивает дверь, и в салон забирается мальчик с прямыми, аккуратно подстриженными черными волосами, голубыми глазами и мраморно-белой кожей – как будто его специально укрывали от солнца всю жизнь, чтобы принести в жертву таким же чистым и нетронутым, каким он был, когда только-только родился.
– Привет, – застенчиво здоровается мальчик. Его белая ритуальная одежда сшита из переливающегося на солнце атласа, окантованного богатой золотой тесьмой. Родители явно не жалели на него денег. Платье Мираколины сшито из простого шелка, специально небеленого, чтобы не выделяться из толпы. По сравнению с ним наряд мальчика напоминает сияющую неоновую рекламу.
Кресла в салоне минивэна установлены лицом друг к другу – очевидно, с целью подтолкнуть пассажиров к знакомству. Мальчик садится напротив Мираколины, думает несколько секунд, затем протягивает руку для пожатия.
– Меня зовут Тимоти, – представляется он.
Мираколина пожимает протянутую руку. Та оказывается влажной и холодной, как после урока физкультуры в школе.
– Мираколина.
– Ух ты, какое сложное имя! – восклицает мальчик и тут же неловко откашливается, как человек, жалеющий о том, что не сдержался. – А как тебя называют знакомые? Мира? Лина? Может быть, есть какой-то вариант покороче?
– Меня зовут Мираколина, и никаких сокращений.
– Ладно, отлично. Приятно познакомиться, Мираколина.
Микроавтобус трогается, и Тимоти, обернувшись, машет родителям, все еще стоящим у дома. Те машут в ответ, но ясно, что через затонированное стекло им ничего не видно. Петляя между домами, минивэн пробирается к выезду из поселка, и хотя они еще не выехали за ворота, по лицу мальчика ясно, что ему уже не по себе, как будто прихватило живот. Понятно, что не желудок его беспокоит, а нечто другое: он не успел еще смириться с мыслью, что до обряда осталось совсем недолго. Может быть, дома мальчик не чувствовал тревоги, а навалилась она только после того, как за ним закрылась дверь машины, отрезав его от прошлой жизни. Хотя элитный поселок и сияющее одеяние мальчика произвели на Мираколину отталкивающее впечатление, ей становится жаль парня. Его страх висит, как дым, в салоне минивэна, такой густой, что, кажется, его можно потрогать руками. «Это неправильно, – думает девочка. – Нельзя отправляться на священный обряд в таком настроении».
– Значит, нам ехать часа три или вроде того? – спрашивает Тимоти дрожащим голосом.
– Да, – жизнерадостно отзывается Шофер-Клаус. – В салоне есть мультимедийная система, в нее закачаны сотни фильмов, так что время пролетит незаметно. Включайте!
– А, ну да, конечно, – соглашается Тимоти. – Только попозже, наверное.
Несколько минут он сидит молча, погрузившись в свои мысли, а затем снова поворачивается к Мираколине.
– Говорят, к таким как мы в лагере лучше всех относятся. Как ты думаешь, это правда? Слышал, что там классно, и много других ребят, таких же, как мы, – говорит мальчик и снова откашливается. – Говорят, даже день можно выбрать, когда… в смысле… ну, ты понимаешь…
Мираколина тепло улыбается в ответ. Обычно мальчики вроде Тимоти прибывают в лагерь в лимузинах, но ей понятно, почему Тимоти решил этого не делать. Ему не хотелось ехать одному. Что же, раз судьба свела их вместе в этот знаменательный день, а ему требуется общество, она постарается ему помочь.
– Мне кажется, в лагере все будет так, как ты сам захочешь, – говорит она, – и день ты выберешь сам, когда поймешь, что готов. Поэтому нам дают возможность выбирать. Это должно быть наше собственное решение.
Тимоти внимательно смотрит на нее, как будто стараясь проникнуть ей в душу проницательным взглядом своих прекрасных глаз.
– Значит, тебе не страшно?
Мираколина решает ответить вопросом на вопрос.
– Ты когда-нибудь летал на самолете? – спрашивает она.
– Что? – переспрашивает Тимоти, пораженный тем, как легко она сменила тему. – Ну да, много раз.
– А в первый раз тебе было страшно?
– Ну да, наверное.
– Но ты же полетел. Почему?
– Хотел попасть туда, куда мы летели, – объясняет Тимоти, пожимая плечами. – Мы летели всей семьей, и родители сказали, что все будет хорошо.
– Что ж, – улыбается Мираколина, – вот и ответ.
Тимоти смотрит на нее таким наивным взглядом, каким она не смотрела на мир даже в детстве.
– Так значит, тебе не страшно?
– Да нет, страшно, – признается Мираколина, вздыхая. – Очень страшно. Но когда ты уверен, что все будет хорошо, со страхом можно смириться. Можно обратить его себе на пользу, вместо того чтобы мучиться и страдать.
– А, я понял, – кивает Тимоти, – это как в фильме ужасов, да? Смотришь и не боишься, потому что знаешь, что все это неправда, как бы страшно тебе ни было. Правда, разборка – это не какая-то там выдумка, – добавляет он, подумав. – После нее мы вряд ли выйдем из кинотеатра и отправимся по домам. И в Диснейленд после самолета я не попаду.
– Знаешь, что? – перебивает Мираколина, пока мальчик не успел погрузиться обратно в пучину отчаяния. – Давай посмотрим фильм ужасов! Это прочистит нам мозги, пока мы еще не доехали до лагеря.
Тимоти послушно кивает.
– Да, давай попробуем.
Изучив список роликов, хранящихся в памяти системы, Мираколина убеждается, что фильмов ужасов там нет. Есть только фильмы для семейного просмотра и комедии.
– Ну и хорошо, – замечает Тимоти. – Честно говоря, мне фильмы ужасов не нравятся.
Через несколько минут фургон выруливает на федеральное шоссе и набирает скорость. Тимоти находит утешение в компьютерной игре, которая отвлекает его от черных мыслей, а Мираколина надевает наушники и включает сборник, записанный в ее собственном плейере, вместо того чтобы слушать слащавую попсу, хранящуюся в памяти автомобильной мультимедийной системы. В ее подборке – 2129 песен, и она собирается прослушать их все, прежде чем ее разберут.
Часа за два Мираколина успевает прослушать около тридцати, и тут фургон сворачивает с шоссе на живописную дорогу, проложенную посреди густого леса.
– Через полчаса доедем, – объявляет Шофер-Клаус. – Быстро сегодня!
Неожиданно, преодолев очередной поворот, он резко нажимает на тормоза, и фургон с оглушительным визгом останавливается.
Мираколина снимает наушники.
– Что случилось?
– Никуда не выходите, – нахмурившись, приказывает Шофер-Клаус и выскакивает из автобуса.
Тимоти, сидит, прижавшись лицом к стеклу, чтобы лучше видеть.
– Что-то тут неладно.
– Точно, – соглашается Мираколина.
Возле шоссе в кювете лежит точно такой же минивэн из лагеря «Лесная лощина», но перевернутый, вверх колесами, – и трудно сказать, как давно он слетел с дороги.
– Наверное, покрышка лопнула или что-нибудь такое, вот он и перевернулся, – предполагает Тимоти, хотя на вид все колеса у минивэна целы.
– Надо бы позвонить в службу спасения, – говорит Мираколина, но тут же вспоминает, что телефона ни у нее, ни у Тимоти нет: в лагерь телефоны не берут.
И тут снаружи начинается суматоха. С полдюжины людей в черной одежде и скрывающих лица масках для катания на горных лыжах неожиданно выскакивают со всех сторон из-за деревьев. Водитель, получив пулю с транквилизатором в шею, валится на землю, как тряпичная кукла.
– Надо запереться! – кричит Мираколина и, не дожидаясь ответа Тимоти, сама бросается к двери. Ей приходится оттолкнуть мальчика, чтобы прорваться к незакрытой двери, из которой выпрыгнул водитель, – но все бесполезно, она не успевает. Дверь распахивается, и один из нападающих бьет кулаком по кнопке, приводящей в действие центральный замок. Все двери теперь открыты, и неизвестные в масках вытаскивают ребят наружу. Судя по слаженности действий, нападающие явно проделывают это не в первый раз. Тимоти начинает кричать, но, как он ни вырывается, цепкие руки вытаскивают его на улицу. Мираколине приходит в голову, что Тимоти сам сплел паутину из своих страхов. Не хватало только пауков, но вот они появились и схватили его.
Двое нападающих тянутся к Мираколине, и она сползает на пол, отбиваясь ногами.
– Не трогайте меня! Не трогайте меня!
Страх, который она так долго и так тщательно сдерживала, вырвался наружу, как поток раскаленных газов после взрыва. Она, конечно, боялась, пока ехала в лагерь, но тогда, по крайней мере, было понятно, что ее ждет. Теперь же, когда ее путешествие прервали так неожиданно и грубо, стало по-настоящему страшно – страшно от неизвестности. Мираколина молотит в воздухе руками и ногами, даже пытается кусать нападающих, но все напрасно: до ее ушей доносится шипящий звук выстрела. Пуля со снотворным впивается в руку, и вокруг раны тут же начинается нестерпимое жжение. Голова кружится, все быстрее и быстрее, и мир перед глазами уносится прочь по раскручивающейся спирали. В наступившей темноте сознание улетает туда, где нет ни пространства, ни времени, – туда, куда отправляются все души под воздействием слишком большой дозы снотворного.
Рекламный ролик
«Мы с вами не знакомы, но среди тех, кого вы знаете, есть люди, похожие на меня. Я должен был учиться в Гарварде, но в тот день, когда мне пришло уведомление о приеме в университет, врачи обнаружили у меня цирроз печени. Сначала мы с родителями подумали, что в этом нет ничего страшного, но, поговорив с врачом, узнали, что банк органов у нас есть, но печень получить не так-то просто. Мне сказали, что придется встать в очередь. Прошло три месяца, а очередь все еще не подошла. Что же делать с учебой в университете? Боюсь, ее придется отложить.
И вот теперь те же люди, которые протолкнули закон о понижении возраста, допустимого для отправки в заготовительный лагерь, настаивают на том, чтобы родителей, решивших подписать разрешение на разборку, заставляли в обязательном порядке обдумывать окончательное решение в течение полугода – на случай, если они передумают. Полгода? Да меня уже в живых не будет!
Промедление смерти подобно! Голосуйте за 53-ю поправку!»
Спонсор ролика: организация «Родители за позитивное будущее».
Приходить в себя после дозы транквилизатора – ощущение не из приятных. Голова просто раскалывается, и вкус во рту ужасный. И в довершение всего кажется, будто у тебя что-то украли.
Мираколина очнулась от того, что кто-то рядом плакал и просил его пощадить. Голос кажется знакомым – похоже, это Тимоти. Да, он явно не из тех, кого готовят к подобным испытаниям. Но Мираколина его все равно не видит, потому что глаза закрыты повязкой из плотной непроницаемой ткани.
– Все хорошо, Тимоти, – говорит она. – Что бы там ни случилось, все будет хорошо.
Услышав ее, Тимоти прекращает рыдать и лишь тихонько всхлипывает и шмыгает носом.
Мираколина решает пошевелиться, чтобы понять, где она и что с ней. Оказывается, она сидит, и у нее болит шея, потому что она просидела так все время, пока была без сознания. Руки связаны за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. Не туго, но достаточно крепко.
– Отлично, – произносит некто, стоящий перед ними. Судя по голосу, это подросток. – Снимите повязки.
Свет не слишком яркий, но все равно режет глаза. Сощурившись, Мираколина ждет: заново привыкает к свету.
Они находятся в помещении с высоким потолком, похожем на бальный зал. Хрустальные канделябры, картины на стенах… наверное, в таком же дворце ожидали казни французские аристократы. Правда, сам дворец – в ужасном состоянии. В крыше зияют дыры, сквозь которые свободно влетают и вылетают голуби. Краска на картинах растрескалась от сырости, и воздух стоит тяжелый запах плесени. Понять, где они находятся и как далеко их увезли, невозможно.
– Извините, что пришлось с вами так поступить, – говорит подросток, сидящий напротив. На французского дворянина он совсем не похож. Да что там, даже на слугу дворянина! Парень одет в джинсы и светло-голубую футболку. Волосы – светло-каштановые и довольно длинные: такое впечатление, что он не стригся уже давно. Скорее всего, они с Мираколиной ровесники, но мальчик кажется старше из-за кругов под глазами, оставшихся в память о бессонных ночах: как будто он видел в своей жизни больше, чем положено подростку. И еще он выглядит больным, хотя Мираколина не понимает, что ее навело на эту мысль.
– Мы боялись, что вы причините себе вред, да и нельзя было раскрывать, куда вас везут. Только так мы могли спасти вас.
– Спасти? – переспрашивает Мираколина, решившись наконец подать голос. – Вот как вы это называете?!
– Сейчас, может, вы так не думаете, но мы вас спасли.
Внезапно Мираколина понимает, кто перед ней, и ее накрывает волна омерзения и злобы. Неужели среди всего, что может случиться с человеком, для нее не нашлось ничего лучшего? За что ее так наказали? Почему она должна была попасть в руки именно ему? Злобу и ненависть, охватившие ее, и так не назовешь душеспасительными, а уж теперь, когда священный обряд так близок… но, как ни старайся, от эмоций не избавишься.
Тимоти издает удивленный возглас, и его мокрые от слез глаза удивленно распахиваются.
– Это ты! – восклицает он с воодушевлением, которое мальчики его возраста обычно проявляют, встретив звезду спорта. – Ты тот парень, уготованный в жертву, который стал Хлопком! Ты – Левий Калдер!
Стоящий напротив подросток кивает и улыбается Тимоти.
– Да, но друзья зовут меня просто Лев.
3
Кам
Запястья. Колени. Шея. Связаны. Чешутся. Чешутся ужасно. И не пошевелиться.
Руки и ноги опутаны сверху донизу, руки туго притянуты к бокам и почти не сгибаются. Удается немного почесаться, совсем чуть-чуть, но от этого становится только хуже.
– Ты очнулся, – произносит чей-то голос, который кажется ему знакомым и в то же время незнакомым. – Очень хорошо. Просто замечательно.
Он с трудом поворачивает шею. Никого. Одни только белые стены.
Где-то рядом скрипнул стул. Еще раз, но ближе. И еще раз, но уже совсем близко. С трудом сфокусировав глаза, он различает женскую фигуру. Женщина переставила кресло, чтобы ему было ее видно, и села, положив ногу на ногу. Кажется, она улыбается, а может быть, и нет.
– А я все думала, когда же ты придешь в себя.
На ней темные брюки и блузка. На ткани узор, но различить его он не в состоянии. Не может даже понять, какого она цвета.
– Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, – произносит он вслух, вспоминая. – Желтый. Голубой.
Нет, все не то.
Его одолевает кашель. Горло пересохло, и слова выходят наружу с трудом.
– Трава. Деревья.
Опять не то.
– Зеленый, – подсказывает женщина. – Ты это слово пытаешься вспомнить, не так ли? У меня зеленая блузка.
Неужели женщина прочла его мысли? Вряд ли. Наверное, просто догадалась. У нее интеллигентная речь, и говорит она вполголоса. С акцентом. Легкий британский акцент, или что-то в этом роде. Почему-то акцент вызывает у него доверие к женщине.
– Ты меня узнал? – спрашивает она.
– Нет. Да, – медленно произносит он, стараясь понять. Мысли едва ворочаются, голова словно стянута стальным обручем, таким же тугим, как путы, которыми он связан по рукам и ногам.
– Неудивительно, – замечает женщина, – для тебя все как в первый раз. Страшно, наверное.
До этого момента молодому человеку и в голову не приходило, что ему должно быть страшно. Но раз эта женщина в зеленом, сидящая возле него, положив ногу на ногу, говорит, что он должен испытывать страх, значит, ему должно быть страшно. Приступ страха, начавшись, вызывает прилив сил, и он снова пытается освободиться, обдирая руки и ноги, которые начинают болеть еще сильнее. В голове кружит вихрь разрозненных воспоминаний, похожих на осколки стеклянной мозаики, никак не складывающиеся в общую картину. Ему хочется выкрикивать вслух беспорядочные обрывки фраз, возникающие из ниоткуда.
– Рука на раскаленной печке. Удар пряжкой… Нет, мама, нет! Упал с велосипеда. Руку сломал. Нож. Он меня ножом ударил!
– Больно, – подсказывает женщина, продолжающая сидеть в той же невозмутимой позе. – Это слово ты пытаешься вспомнить.
Слово производит магическое действие, – услышав его, он успокаивается.
– Больно, – повторяет он, прислушиваясь к забытым звукам собственной речи, срывающихся с одновременно знакомых и как будто чужих губ. Он прекращает попытки освободиться, и нестерпимая боль превращается в просто режущую, а потом и вовсе исчезает; только зуд ощущается в тех местах, где путы натерли кожу. Но мысли, вернувшиеся, как только ушла боль, продолжают роиться в голове. Все эти воспоминания – ожог, разъяренная мать, сломанная рука и драка на ножах, которой вроде бы как не было, но, в то же время, как будто и была. Неясно когда и каким образом, но все это случилось с ним.
Он бросает взгляд на женщину, которая все так же невозмутимо следит за ним. Теперь, приглядевшись, он различает орнамент на ткани, из которой сшита ее блузка.
– Огор… огр… огер…
– Продолжай, – подбадривает его женщина. – Ты знаешь это слово.
Голова разрывается от напряжения. Юноша старается изо всех сил. Думать – все равно что участвовать в соревнованиях по бегу. На самую длинную дистанцию на Олимпийских играх. Как же она называется? Слово начинается на букву «м».
– Огурцы! – восклицает он с видом триумфатора. – Узор называется «огурцы»! Марафон!
– Да, могу себе представить, как тяжело было вспомнить. Но, ты прав: действительно, марафон, – соглашается женщина, дотрагиваясь до воротника. – Трудно, но оно того стоило! Этот узор, ты прав, называется «огурцы»! – Женщина улыбается, на этот раз уже вполне искренне, и касается лба юноши кончиками пальцев. Ногти у нее короткие, или кожа на лбу лишена чувствительности. – Я же говорила, ты все знаешь.
Лихорадочный бег мыслей постепенно замедляется, и молодой человек все больше укрепляется в мысли, что эта женщина ему знакома. Но кто она, и как они познакомились?
– Кто? – спрашивает он. – Кто? Где? Когда?
– Как, что и почему – подхватывает женщина, улыбаясь. – Вот теперь полный набор.
– Кто? – снова требует ответа он, не оценив шутку.
– Кто я? – переспрашивает женщина, вздохнув. – Можно сказать, что я – твоя отправная точка в этом мире. В каком-то смысле я – твой переводчик, потому что я тебя понимаю, а это мало кому дано. Я – специалист по металингвистике.
– Мета… мета…
– Это суть языка, на котором ты говоришь. Метафоры и ассоциации. Но, мне кажется, это только больше все запутывает. Тебе не стоит сейчас об этом задумываться. Меня зовут Роберта. Ты этого не знал, потому что я никогда не говорила, как меня зовут, когда мы встречались.
– Мы встречались?
Роберта кивает.
– Тебе может показаться, что мы встречались однажды, но на самом деле мы встречались много-много раз. Ты что-нибудь об этом помнишь?
Поиски подходящего слова снова напоминают очередной утомительный затяжной марафон.
– Голлум прячется в пещере. Найди ответ, или не сможешь пересечь мост. Что это за штука, такая черно-белая и с красным?
– Думай, – говорит Роберта. – Я знаю, ты можешь вспомнить.
– Загадка! – восклицает юноша. – Да, это как марафон, но оно того стоит! Это слово – загадка!
– Очень хорошо, – соглашается Роберта, нежно касаясь его руки.
Теперь он внимательно изучает ее лицо. Она уже немолода. Симпатичная, какими бывают мамы. Светлые волосы с каштановым оттенком у корней. Минимум косметики. Глаза совсем молодые и ярко выделяются на лице. Но эта блузка…
– Медуза, – говорит он. – Старая карга. Ведьма. Гнилые кривые зубы.
– Ты считаешь меня уродливой? – спрашивает Роберта, напрягаясь.
– Уро-о-одливая! – тянет парень, пробуя слово на вкус. – Нет, не ты! Уродливые – зеленые огурцы.
Роберта облегченно смеется, окидывая взглядом узор на блузке.
– Ну, знаешь, на вкус и цвет… Тут каждый считает по-своему, не так ли?
Считать! Счетовод! Мой отец был счетоводом! Нет – полицейским. Нет – рабочим на заводе. Нет – юристом, строителем, фармацевтом, зубным врачом, безработным, а может быть, он умер.
Каждая мысль кажется одновременно истинной и ложной. Закоулки ума похожи на лабиринт, из которого никогда не выбраться. Теперь понятно, что имела в виду Роберта, говоря, что ему должно быть страшно. Чувства вновь переполняют его, и он снова пытается порвать путы. Впрочем, возможно, это вовсе и не путы – по крайней мере, некоторые из них напоминают бинты.
– Кто? – снова спрашивает он.
– Я же тебе уже сказала, – отзывается Роберта. – Ты разве не помнишь?
– Нет! Кто? – снова спрашивает он. – Кто?
Роберта понимающе приподнимает брови.
– А-а! Кто ты?
Он с тревогой ждет ответа.
– Это самый важный вопрос, не так ли? Кто ты? – произносит Роберта, задумчиво дотрагиваясь до подбородка кончиками пальцев. – Комитет пока не решил, как тебя зовут. Конечно, у каждого есть свое мнение, все они любят надувать щеки, показывать свою важность. Но, в общем, пока они там рассуждают, ты можешь придумать себе имя сам.
– Придумать?
Но почему он должен придумывать себе имя? У каждого есть имя, и у него должно быть. Он мысленно перечисляет мужские имена, приходящие ему на ум: Мэтью, Джонни, Эрик, Хосе, Крис, Алекс, Спенсер… Некоторые из них кажутся знакомыми, но ни одно не вызывает той радости узнавания, которая просто обязана возникать у человека, услышавшего свое имя. Он трясет головой, надеясь вспомнить хоть что-нибудь о себе и о том, кто он такой, но толку от этого немного, только голова начинает болеть.
– Аспирин, – говорит он. – Тайленол, аспирин, потом считать овец.
– Да, думаю, неудивительно, что ты устал. Сейчас ты получишь обезболивающее и уснешь. Поговорим завтра.
Похлопав его по руке, женщина медленно выходит из комнаты и гасит свет, оставляя его наедине с осколками мозаики, которые никак не хотят складываться воедино даже при свете, а уж в темноте и подавно.
На следующий день (по крайней мере, ему кажется, что это следующий день) он не чувствует себя таким усталым, и голова уже не болит так сильно, но мысли путаются, как прежде. Он начинает подозревать, что белая комната, которую он принял за больничную палату, – вовсе не палата. По некоторым архитектурным особенностям можно предположить, что он – в частном доме, переоборудованном в подобие клиники для единственного пациента.
С улицы доносится звук, который слышно, даже когда окно закрыто. Непрерывный ритмичный грохот, сопровождаемый шипением. Только через сутки он понимает, что это. Грохочут волны, разбивающиеся о берег. Где бы он ни находился, этот дом стоит на морском берегу. Ему ужасно хочется посмотреть на море. Он просит об этом Роберту, и она соглашается.
Сегодня он впервые встанет с постели.
Роберта приходит в сопровождении двух охранников в униформе. Они отвязывают его и помогают подняться, придерживая под руки.
– Не бойся, – говорит Роберта, – ты можешь встать.
Оказавшись на ногах, он испытывает приступ головокружения. Из-под бледно-голубой больничной рубахи торчат только пальцы ног, и ему кажется, будто они до них ужасно далеко – несколько километров. Он делает несколько шагов, каждый из которых дается с трудом.
– Хорошо, – поощряет его Роберта, идущая рядом. – На что это похоже?
– На прыжок с парашютом.
– Гм, – тянет Роберта, обдумывая его ответ. – Это так же опасно или так же волнующе?
– Да, – отвечает он. Юноша повторяет про себя оба прилагательных, запоминая. Каждое новое слово он будто выбирает из огромной нерассортированной кучи и расставляет по местам, как книги на стеллаже. Куча еще огромная, но мало-помалу ему удается разложить кое-что по полкам.
«Ты все их знаешь, – не раз говорила ему Роберта, – нужно только вспомнить».
Он делает еще несколько неуверенных шагов; охранники по-прежнему поддерживают его. Оступившись, он чувствует, как пальцы их сжимаются крепче.
– Осторожнее, сэр.
Охранники всегда называют его «сэр». Это должно означать, что он внушает им уважение, но почему, понять трудно. Он завидует им, потому что они могут просто «быть»: им не приходится прилагать для этого специальные усилия.
Роберта ведет их в коридор, до конца которого, как и до кончиков ног, несколько километров; по крайней мере, ему так кажется, хотя на самом деле выход – всего в нескольких шагах. Наверху, в углу на потолке, установлена машинка с линзой, которая наводится на него, как орудие. Такая же машинка установлена в его комнате, и она тоже без конца молча наблюдает за ним. Электрический глаз. Око циклопа. Он знает, как называется эта штука; слово вертится на языке.
– Скажи «сы-ы-р»! – произносит он. – Тебя снимают. Приготовились… мотор… Одноразовый «Кодак».
– Слово, которое ты ищешь, начинается с «к», и больше я тебе подсказывать не буду, – говорит Роберта.
– Ка… ка… кадавр. Кабана. Кавалерия. Канада.
– Нет, ты способен на большее, – комментирует Роберта, недовольно поджав губы, но вскоре, вздохнув, сдается, не желая расстроить его. На данный момент ему и с ходьбой-то справиться трудно, не то что идти и думать одновременно.
Пройдя через дверь, они оказываются в месте, которое находится одновременно внутри и снаружи.
– Балкон! – вспоминает он.
– Правильно, – соглашается Роберта. – Видишь, как легко получилось.
С балкона открывается вид на безбрежный океан. Волны сверкают и переливаются в лучах теплого солнца.
Перед ними – два стула и небольшой стол. На столе стоит стеклянный кувшин с какой-то белой жидкостью и лежит печенье. Он должен знать, как называется белая жидкость.
– А вот и угощение, – говорит Роберта. – Награда за долгое путешествие.
Они садятся за стол друг напротив друга. Охранники стоят рядом, наготове, на случай, если понадобится их помощь, или если он вдруг решит спрыгнуть с балкона на острые скалы внизу. На скалах стоят солдаты с тяжелыми черными винтовками в руках. Они защищают его, объясняет Роберта. Он думает, что, если спрыгнуть вниз, солдаты, сидящие на скалах, тоже назовут его «сэр».
Роберта разливает белую жидкость в прозрачные граненые стаканы, сверкающие на солнце и отбрасывающие блики во все стороны. По плитке, которой замощен пол балкона, пляшут солнечные зайчики.
Он берет печенье и откусывает кусочек. Оно шоколадное. Неожиданно вкус шоколада пробуждает целый сонм воспоминаний. Он видит мать. Потом снова мать, но уже другую. Обед в школе. Вспоминает, как обжег губу, откусив кусок свежеиспеченного «Толл-хауса». Мне нравится горячее сдобное тесто. Хорошо, когда печенье чуть-чуть не пропеклось. Нет, мне нравится слегка пригоревшее, твердое печенье. У меня аллергия на шоколад. Больше всего на свете я люблю шоколад.
Он понимает, что все эти утверждения верны. Но как они все могут быть верны? Если у него аллергия, откуда такие приятные воспоминания о шоколадном печенье?
– Марафонская загадка продолжается, – говорит он вслух.
Роберта улыбается.
– Ты сейчас сказал почти правильное предложение. На, пей.
Она протягивает ему стакан с прохладной белой жидкостью, и он принимает его.
– Ты придумал себе имя? – спрашивает Роберта.
Он делает глоток – и как только пахучая жидкость, размочив крошки печенья, уносит в пищевод, в голове поднимается новый вихрь беспорядочных мыслей, но комбинация вкуса печенья и белой жидкости действует на них, как вода – на песок в лотке золотоискателя. Она смывает всю грязь – и на дне остаются крупицы золота.
Электронный прибор с глазом-линзой. Он знает его название! И белый напиток – его дают коровы, верно? Коровий сок. Слово на букву «м». Глаз-линза.
– Кам!
Коровий сок.
– Му-у!
Роберта смотрит на него со странным выражением.
– Кам… му… – повторяет он.
В глазах Роберты загорается искра понимания.
– Камю?
– Кам. Му.
– Камю! Какое прекрасное имя. Ты превзошел самого себя!
– Камера! – в конце концов вспоминает он. – Молоко!
Но Роберта его уже не слушает. Она витает где-то в облаках.
– Камю, философ-экзистенциалист! «Живи до слез». Слава тебе, мой друг! Молодец!
Юноша понятия не имеет, о чем она говорит, но раз это ее радует, то и ему должно быть хорошо. Приятно, что он смог ее удивить.
– Тебя будут звать Камю Композит Примус, то есть Первый, – сообщает она с улыбкой, безбрежной, как океан. – Комитет лопнет от злости!
Рекламный ролик
«Устали от диет? От занятий фитнесом болят мышцы, а толку никакого? Мы знаем, что вам нужно! Всем известно, что здоровое сердце – залог успеха, и мы предлагаем вам отличное новое сердце, с которым вам захочется подойти к тренажеру! Вы сразу похудеете и почувствуете себя другим человеком! Мы не просим поверить нам на слово! Спросите своего кардиохирурга!»
Ролик снят по заказу Международного сообщества кардиохирургов. Результат не гарантирован.
Каждый день после разговора с Робертой на балконе начинается и заканчивается терапией. Болезненные процедуры по растяжке и подъему тяжестей, похоже, специально изобретены для того, чтобы причинить ему адскую боль.
«Лекарства могут многое, – говорит ему физиотерапевт, накачанный мужчина с низким голосом, носящий легкомысленное и не подходящее имя Кенни. – Но остальное зависит от тебя».
Иногда ему кажется, что Кенни просто нравится наблюдать, как он мучается.
Благодаря Роберте все, кто не ограничивается обращением «сэр», теперь называют его Камю, а сам он, услышав это имя, почему-то вспоминает большого черно-белого кита.
– Кита зовут Шамю, – объясняет Роберта за завтраком, – а тебя – Камю. Эти имена рифмуются, но начинаются с разных букв.
– Кам, – повторяет он, не желая носить имя, похожее на имя морского млекопитающего. – Пусть будет Кам.
Роберта, приподняв бровь, обдумывает его предложение.
– Что ж, пожалуй, это неплохо. Пусть так и будет, я думаю. Нужно будет всем рассказать. Ну, Кам, как поживают сегодня твои мысли? Уже не так разбегаются?
– У меня в голове есть темные пятна, – отвечает Кам, пожимая плечами.
Роберта вздыхает.
– Может и так, но я все равно вижу прогресс, хотя ты этого можешь и не замечать. Твой мыслительный процесс стал четче и улучшается с каждым днем. Ты научился формировать сложные предложения и понимаешь почти все, что я говорю, не так ли?
Кам кивает.
– Понимание – первый шаг на пути к свободному общению, Кам, – объясняет Роберта и продолжает через секунду, – Comprends-tu maintenant?
– Oui, parfaitement, – отвечает Кам, не успев даже осознать, что слова, сорвавшиеся с языка помимо его воли, как-то отличаются от тех, что он использовал прежде. Осознав разницу, он понимает, что в лабиринте сознания приоткрылась еще одна дверца, за которой скрывается очередной таинственный коридор, ведущий в неизвестном направлении.
– Отлично, – замечает Роберта с хитрой улыбкой, – но давай пока говорить на одном языке, ладно?
В распорядке дня появляются новые пункты. Тихий час после обеда, к которому он уже привык, передвигается на более позднее время, а после полудня он проводит час, сидя за столом перед монитором компьютера, в памяти которого хранится множество цифровых фотографий: красная машина, какое-то здание, черно-белый портрет – и десятки других изображений.
– Перекладывай в свою папку фотографии предметов, которые кажутся тебе знакомыми, – говорит Роберта, когда он впервые усаживается за компьютер, – и называй первое слово, которое приходит тебе в голову.
– Скантрон? – спрашивает ошеломленный Кам.
– Нет, – возражает Роберта, – это не тест, это упражнение, которое позволит понять, что ты помнишь, а что еще предстоит вспомнить.
– Нет, – возражает Кам. Потому что ее объяснение является описанием сути этого теста. – Это Скантрон.
Глядя на картинки, он выполняет указания Роберты, подтягивая к себе те, что кажутся ему знакомыми. Портрет: «Линкольн». Башня: «Эйфелева». Красная машина: «Грузовой пожарник. Нет. Пожарный грузовик». И так далее, снова и снова. Стоит отложить одну картинку, ее место тут же занимает другая. Некоторые ему хорошо известны, с другими не связано никаких воспоминаний, а есть и такие, которые кажутся знакомыми, но подобрать слова, чтобы описать то, что смутно мерцает где-то на периферии сознания, он не может.
Когда тестирование, наконец, заканчивается, на него накатывает усталость, еще более сильная, чем после физиотерапии.
– Раздавленный, – говорит он, – как раздавленная бумага в корзинке.
– Ты хочешь сказать, что чувствуешь себя так, словно тебя каток переехал, – поправляет Роберта, понимающе улыбаясь.
– Каток переехал, – повторяет за ней Кам, стараясь запомнить новое сравнение.
– Это неудивительно – занятие не из легких, но ты с ним неплохо справился, да? И ты заслужил награду!
Чувствуя, что вот-вот заснет, Кам кивает.
– Мне дадут орден.
Каждый день занятия становятся все сложнее и сложнее, как с физической, так и с психологической точки зрения, но цель их по прежнему не ясна, и никто не стремится ее объяснить.
– Твои успехи сами по себе прекрасны, – повторяет Роберта. Но как можно наслаждаться успехом, когда его степень не с чем сравнить?
– Кухонная раковина! – говорит он однажды Роберте за завтраком, за которым они сидят, как всегда, вдвоем. – Кухонная раковина! Немедленно!
Роберта, интуитивно понимает, что он пытается ей сказать.
– В свое время ты узнаешь все, что хочешь о себе знать. Но сейчас еще не время.
– Нет, время!
– Кам, этот разговор окончен.
Он чувствует, как откуда-то изнутри поднимается волна гнева и злобы. Он понятия не имеет, что делать с этими чувствами, и не может подобрать подходящих слов, чтобы их выразить.
Шальная волна, пройдя по телу, ударяет в руки, и прежде чем он успевает сообразить, что происходит, на другой конец комнаты уже летит брошенная им тарелка, за ней еще одна, потом еще и еще. Роберте приходится пригнуться, чтобы не попасть под плотный огонь из летящих тарелок, ложек и стаканов. Спустя мгновение к нему подбегают охранники и, оттащив в спальню, привязывают к кровати, чего не делали уже неделю.
Злоба не отпускает его, кажется, целую вечность, но, в конце концов он устает и успокаивается. Входит Роберта. На лице у нее кровь. Всего лишь царапина над левым глазом, но размер не имеет значения. Это сделал он. Он виноват.
Неожиданное раскаяние, которое оказывается куда сильнее обуревавшего его только что гнева, застит все остальные чувства.
– Разбил свинью-копилку сестры, – плача, говорит он. – Папину машину разбил. Плохой. Плохой.
– Я вижу, что ты раскаиваешься, – говорит Роберта, которая, похоже, чувствует себя не лучше, чем он. – Но и ты прости меня тоже, – просит она, нежно поглаживая его по руке. – Тебя отвяжут утром, – добавляет женщина. – Это наказание за срыв. Ты должен понимать, что у поступков бывают последствия.
Он понимающе кивает. Хочется смахнуть слезы, но руки привязаны к кровати. Роберта делает это за него.
– Ну, по крайней мере, мы знаем, что ты действительно такой сильный, как мы думали. И это правда, что ты был питчером, когда играл в бейсбол.
Кам начинает копаться в памяти в надежде найти что-нибудь, связанное с бейсболом. Разве он в него играл? Его память похожа на недособранную мозаику, поэтому отыскать в ней что-то непросто, но понять, чего в ней нет, все-таки можно.
– Я не был питчером, – говорит он. – Никогда.
– Ну конечно, – тихо соглашается Роберта, – я сама не знаю, что говорю.
День ото дня, по мере того как мысли в голове постепенно приходят в порядок, Кам начинает сознавать свою пугающую уникальность. На дворе вечер, и после сеанса физиотерапии он впервые почувствовал не усталость, а некоторое возбуждение – но разве не об этом говорил ему физиотерапевт Кенни?
«Ты сильный, но разные группы мышц никак не могут найти друг с другом общий язык».
Кам понял, что Кенни просто пошутил, но в каждой шутке есть доля правды, и случайно сказанная фраза застряла в голове, как, бывало, в горле у него застревал кусок пищи. Случалось, во время еды глотка отказывалась принимать пищу, и ее приходилось проталкивать языком.
«В конце концов тело поймет, что оно должно примириться с собой и помочь всем частям договориться друг с другом», – сказал Кенни, словно тело Кама – какая-то фабрика, где работают люди, которые, чуть что, сразу объявляют забастовку, или, что еще хуже, группа рабов, которых силой заставляют выполнять нелюбимую работу.
Позже внимание Кама привлекают тонкие шрамы, опоясывающие запястья, как браслеты. Теперь, когда бинты сняты, их хорошо видно. Толстый, как веревка, шрам, разделяет пополам грудь и уходит вниз, разветвляясь над отлично развитыми, скульптурными кубиками пресса. Он похож на скульптуру. Его фигура как будто высечена из мрамора рукой ваятеля, стремившегося достичь совершенства, и облечена в телесную оболочку. Этот дом на утесах, как теперь кажется Каму, – не более чем галерея, и единственный выставленный в ней экспонат – это он. Возможно, он должен чувствовать свою исключительность, но он испытывает лишь одиночество.
Подняв руку, юноша ощупывает лицо, трогать которое ему запретили. В этот момент входит Роберта. Ей известно, что он изучал свое тело: она наблюдала за ним через монитор, на который транслируется изображение с камеры, спрятанной в углу. С ней два охранника. Они уже поняли, что Кам в таком состоянии, когда в любой момент может разразиться гроза.
– В чем дело, Кам? – спрашивает Роберта. – Расскажи мне. Подбери слова.
Едва касаясь пальцами лица, которое составлено, как ему кажется, из кусков с разнородной текстурой, он не решается дотронуться до него по-настоящему, потому что боится в гневе изорвать его в клочья.
Подбери слова…
– Алиса! – говорит он. – Кэрролл! Алиса!
Слова совсем не те, он это знает, но ничего лучшего для описания того, что он хочет сказать, подобрать не удается. Ухватить смысл, исчезающий в бесконечной вселенной собственного ума, не получается, и остается лишь бесконечно кружить по орбите вокруг этого смысла в тщетной попытке приблизиться к нему.
– Алиса! – повторяет он, указывая на дверь в ванную. – Кэрролл!
Один из охранников понимающе ухмыляется, хотя на самом деле ни черта не понимает.
– Может, он вспоминает прежних подружек.
– Молчать, – обрывает его Роберта. – Продолжай, Кам.
Закрыв глаза, парегь изо всех сил старается придать форму неуловимой мысли, но единственная форма, которую ему удается подобрать, слишком абстрактна, да к тому же еще и смешна.
– Морж!
Нет, все это бесполезно. Как же он себя презирает!
– И Плотник? – неожиданно спрашивает Роберта.
– Да! Да! – отзывается он, уставившись на нее. Два совершенно абстрактных понятия, слившись воедино, вдруг обретают безукоризненный смысл.
– «Морж и Плотник», – повторяет Роберта. – Абсурдная поэма, в которой смысла еще меньше, чем в том, что ты говоришь!
Кам выжидающе смотрит на нее, надеясь, что она проведет хотя бы еще несколько линий от точки к точке и поможет ему решить головоломку.
– Ее написал Льюис Кэрролл. Автор…
– Алисы!
– Да, автор «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в За…»
– В Зазеркалье! – восклицает Кам, указывая рукой в сторону ванной. – «Алису в Зазеркалье»!
Он даже помнит, что слово – не совсем то, которое он искал. Есть более точное…
– Зеркало! – кричит он. – Лицо! В зеркале! Лицо!
В доме нет ни одного зеркала, по крайней мере, в тех комнатах, куда ему разрешено входить. Нет даже ни одной отражающей поверхности. Вряд ли это случайность.
– Зеркало! – продолжает кричать он в экстазе. – Я хочу посмотреть! Покажите мне!
Такого ясного и недвусмысленного заявления не прозвучало с тех пор, как он очнулся, еще ни разу. Ему еще ни разу не удавалось проявлять способность к коммуникации такого высокого уровня. Уж это точно понравится Роберте!
– Покажите мне! Ahora! Maintenant! Ima!
– Достаточно! – прерывает его Роберта. Она говорит спокойно, но в то же время непреклонно. – Не сегодня. Ты не готов!
– Нет! – возражает он, касаясь руками лица, на этот раз с большей силой. Прикосновение вызывает боль. – Это Доже в железной маске, а не Нарцисс в пруду! Возможность видеть облегчит ношу, а не сломает спину верблюду!
Охранники готовы наброситься на него и связать и только ждут приказа Роберты. Они снова привяжут его к кровати, чтобы он не навредил себе. Но приказа нет. Роберта колеблется. Размышляет.
– Иди за мной, – наконец произносит она.
Развернувшись, женщина медленно направляется к выходу из комнаты. Кам и охранники следуют за ней.
Процессия покидает крыло здания, переоборудованное под клинику, и попадает в какое-то новое помещение. Полы здесь из теплого дерева; они не застелены холодным линолеумом, как в его «палате». Во всех комнатах, где ему довелось побывать раньше, стены были сплошь белые и пустые, а здесь на них висят картины в рамах. Оставив охранников у двери, Роберта ведет Кама в гостиную. Там сидят люди: Кенни и кое-кто из терапевтического персонала. Есть и другие, которых Кам не знает: видимо, специалисты, работающие за пределами его мирка. Увидев его, они поднимаются с кожаных диванов и кресел и переглядываются в тревоге.
– Все в порядке, – говорит им Роберта. – Оставьте нас ненадолго.
Оставив свои занятия, люди торопливо покидают гостиную. Каму хочется спросить Роберту, кто они, но он уже знает. Эти люди подобны ждущим у дверей охранникам, и тем, кто дежурит внизу, на скалах, и человеку, убирающему его комнату, и женщине, смазывающей лосьоном его шрамы. Все они – обслуживающий персонал.
Роберта подводит его к высокому, от пола до потолка, зеркалу, прикрепленному к стене. В нем Кам видит себя с ног до головы. Сняв больничный халат, он остается в одних трусах и окидывает себя взглядом. Тело его прекрасно: идеальные пропорции, развитая мускулатура. На мгновение ему кажется, что он все-таки Нарцисс, погруженный в самолюбование, но, подойдя ближе, Кам различает шрамы. Он знал об их существовании, но увидеть их все сразу – это было слишком. Увиденное потрясло его: куда ни глянь, всюду огромные, уродливые рубцы. И в особенности – на лице.
Это лицо из кошмарного сна.
Разноцветные куски кожи, бесформенные, как куски газеты на маске из папье-маше. Не только лицо, но и кожа под легким пушком волос, чуть отросших с тех пор, как он очнулся, напоминает лоскутное одеяло, собранное из клочков кожи разного цвета и текстуры. Смотреть на это без слез невозможно.
– Почему? – спрашивает он, слишком потрясенный, чтобы подбирать какие-то другие слова.
Отвернувшись, юноша утыкается носом в собственное плечо, словно ищет в нем защиты от этого невыносимого ужаса.
Роберта нежно и осторожно касается его руки.
– Не отворачивайся, – говорит она, – имей силы смотреть на то, что вижу я.
Заставив себя повернуться к зеркалу, Кам снова видит на лице одни лишь шрамы.
– Чудовище! – восклицает он. Слово настолько точно описывает его чувства, что на этот раз даже не приходится напрягаться, чтобы отыскать его в глубинах памяти. – Франкенштейн!
– Нет! – резко обрывает его Роберта. – Никогда так не говори! То чудовище было сделано из мертвой плоти, а ты соткан из живой! Существование Франкенштейна нарушало законы природы, а ты, Кам, – новое чудо света!
Теперь она вместе с ним смотрит на отражение в зеркале, указывая рукой на разные части тела.
– Твои ноги принадлежали чемпиону по бегу, – объясняет она, – а сердце – мальчику, который наверняка стал бы призером Олимпиады по плаванию, если бы его не отправили на разборку. Руки и плечи раньше служили парню, который играл в бейсбол лучше, чем кто-либо из ребят, когда-либо попадавших в заготовительный лагерь. А пальцы? Они владели гитарой – редкий и великий талант!
Встретившись с ним взглядом в зеркале, женщина улыбается.
– А глаза принадлежали мальчику, который мог растопить женское сердце одним только взглядом.
В ее голосе слышится определенная гордость – гордость за него, Кама. Вот только он пока не в состоянии разделить ее чувства.
– Но самое лучшее находится здесь! – произносит Роберта, прижав палец к его виску.
Роберта начинает водить пальцем по коже его головы, как по глобусу, время от времени задерживаясь на той или иной части черепа.
– В левой фронтальной доле хранятся аналитические и счетные способности семерых отличников, получивших высший балл на тестах по математике и физике. В правой фронтальной доле собраны творческие способности почти дюжины поэтов, художников и музыкантов. В затылочную долю имплантированы цепочки нейронов, взятых у несчетного количества ребят, обладавших фотографической памятью. Речевой центр содержит информацию по девяти языкам. Нужно только активировать эти знания.
Взяв Кама рукой за подбородок, Роберта заставляет его повернуться к ней лицом. Ее глаза, которые были достаточно далеко, когда смотрели на него через зеркало, оказываются совсем рядом. Ее взгляд гипнотизирует, подчиняет.
– Anata wa randamu de wa nai, Кам, – произносит она. – Anata wa interijentoni sekkei sa rete imasu.
И он понимает, что означают эти слова: «Ты отличаешься от людей, родившихся по воле случая, Кам. Ты создан целенаправленно и мастерски».
Он не знает, на каком языке она говорит, но понимает его.
– Каждая часть твоего тела и разума прошла тщательный отбор и взята у самых лучших и умнейших, – продолжает Роберта, – и я присутствовала на всех операциях, чтобы ты слышал и видел меня. Чтобы ты узнал меня еще до того, как все части соберутся воедино. – Роберта на секунду умолкает и, вспомнив что-то, грустно качает головой. – Эти бедняги были слишком неорганизованы, чтобы понять, как распорядиться данными им талантами. И все же, пусть в разобранном состоянии, они реализуются через тебя!
При слове «разобранный» в голове Кама тут же взметнулись обрывки воспоминаний.
Да, он ее видел!
Она стояла у операционного стола, причем без маски, с неприкрытым лицом, потому что смысл ее нахождения там состоял именно в том, чтобы ее увидели и запомнили. Но ведь она не один раз стояла в операционной? Четкие воспоминания из нескольких десятков мест сохранились у него в памяти.
Но ведь это не его память, верно?
Это их память.
Всех одновременно.
Они кричат.
Пока еще остается голос молить.
И в тот самый момент, когда «я есть» переходит в «меня нет»…
…из его груди вырывается долгий, клокочущий вздох. Теперь каждое из этих последних воспоминаний стало частью его натуры, сотканной из разрозненных кусков чужих душ, как лицо – из кусков чужой кожи. Кажется, носить в себе все их страдания одновременно невозможно, и все же Кам это делает. Только теперь ему становится понятно, каким сильным нужно быть, чтобы хранить в себе воспоминания сотни попавших на разборку ребят и не взорваться при этом, разлетевшись на тысячу кусков.
Роберта просит его оглянуться и еще раз оценить роскошь покоев стоящей на утесах виллы.
– По тому, что тебя окружает, ты можешь догадаться, что у нас влиятельные покровители, которые делают все, чтобы ты рос и процветал.
– Покровители? Кто?
– Не имеет значения, кто они. Друзья. Не только твои, но и того мира, в котором все мы хотим жить.
Хотя многое для него стало понятным, и в том числе его собственное существование, остается еще одна вещь, которая пугает его.
– Мое лицо… оно ужасно…
– Не стоит об этом волноваться, – говорит Роберта. – Шрамов скоро не станет. По сути, результат косметических процедур уже налицо. Вскоре рубцы исчезнут, останутся только тончайшие линии в тех местах, где соединяются фрагменты ткани. Ты можешь поверить мне на слово: я видела множество моделей твоей будущей внешности, Кам, и это восхитительно!
Он проводит рукой по лицу, ощупывая шрамы. А ведь они не так хаотичны, как ему показалось сначала: в их расположении есть определенная система. Симметрия и даже рисунок. Орнамент.
– Мы намеренно решили объединить в твоем облике элементы всех рас: от чистейших представителей белой расы до коренных африканцев, черных, как смоль. И всех, кто между ними: испанцев, азиатов, полинезийцев, американских индейцев, австралийцев, индийцев, семитов… Твое лицо – фантастическая мозаика, сложенная из частиц всего человечества! Ты – истинный человек мира, Кам, и это отражено на твоем лице. Поверь, когда заживут шрамы, ты станешь новым эталоном красоты! Ты будешь сияющим путеводным маяком, величайшей надеждой человечества.
От этой мысли сердце начинает биться быстрее. Кам задумывается: а сколько частиц разных людей различных рас и национальностей соединено в этом сердце? К примеру, он ничего не помнит о том, как был чемпионом по плаванию, но сердце подсказывает, как здорово было бы сейчас нырнуть в бассейн. Оно снова хочет биться в ритме заплыва на скорость, точно так же, как ноги его мечтают снова коснуться беговой дорожки.
Однако в настоящий момент ноги отказываются служить ему, и он, сам не понимая, как это случилось, неожиданно обнаруживает, что лежит на полу.
– Слишком большая нагрузка для одного дня, – кивает Роберта.
Двое охранников, маячивших все это время в дверях, подбегают, чтобы помочь ему подняться.
– С вами все в порядке, сэр? Позвать кого-нибудь на помощь, мэм?
– В этом нет необходимости. Я позабочусь о нем.
Охранники подводят Кама к бархатному дивану. Его бьет дрожь, но не от холода, а от усилий, которые ему пришлось приложить, чтобы принять правду о себе, открывшуюся так внезапно. Роберта укрывает его пледом, регулирует температуру в комнате, чтобы ему было теплее, и садится рядом, как мать – у постели больного ребенка.
– У нас на тебя большие надежды, Кам. Но беспокоиться об этом сейчас не нужно. В данный момент твоя задача – развить тот огромный потенциал, которым ты наделен: связать воедино части разума, остающиеся разрозненными, и научить все части тела взаимодействовать друг с другом. Ты – дирижер живого оркестра, и музыка, которую ты создашь, будет прекраснее всего на свете!
– А если нет? – спрашивает он.
Роберта, наклонившись, нежно целует его в лоб.
– Этого не может быть.
Рекламный ролик
«Когда я лишился работы, в почтовом ящике начали копиться счета, а в банке – долги, и я не знал, что делать. Мне казалось, что заботиться о семье я больше не могу. Я даже подумывал о том, не отправиться ли мне в нелегальный заготовительный лагерь, чтобы отдать тело на органы и оплатить расходы, но черный рынок меня пугает. А теперь вот предложили поправку, хотят узаконить нелегальную разборку взрослых, – и я увидел в этом хорошую возможность раздобыть деньги для семьи. Вы только представьте себе! Я мог бы перейти в разобранное состояние, зная, что в каком-то закоулке сознания сохранится память о том, что я позаботился о семье! К тому же, благодаря новому закону исчезнет черный рынок. Голосуйте за 58-ю Поправку! Помогите моей семье и семьям таких, как я: положите конец продаже органов на черном рынке».
Спонсор рекламы: Национальный союз доноров.
Когда Кам засыпает, сознание его не отключается полностью. Он всегда понимает, что спит, и до сих пор все сны, которые он видел, ужасно его расстраивали. Они не подчинялись обычной логике сна – да и вообще никакой логике: просто раздробленные, никак не связанные друг с другом отрывки, сгустки случайных мыслей, запутавшиеся в паутине спящего разума. Словно поток данных, движущийся слишком быстро: достигнув очередного узла, он всякий раз уходил дальше, не дожидаясь, пока вычислительная система декодирует хотя бы один байт. Это сводило его с ума! Но теперь, когда завеса тайны над его сущностью приоткрылась, Кам наконец оседлал волну своих сновидений.
Сегодня ему снится, что он ходит по дому. Не по тому особняку с видом на океан, где он находится в действительности, а по другому, воображаемому. При переходе из комнаты в комнату меняется не только обстановка, но и мир, в котором он живет. Вернее, меняется не сам мир, а жизнь, которую он в нем проживает. В кухне Кам видит малолетних детей, сидящих за столом в ожидании обеда. В гостиной отец задает ему вопрос на незнакомом языке, и Кам не может ответить.
Потом он идет по коридорам – длинным коридорам с дверями по обе стороны. За каждой дверью – люди, смутно ему знакомые. В эти комнаты ему никогда не войти, и находящиеся в них люди навсегда останутся лишь призрачными фигурами в ловушках комнат. Возможно, более подробные воспоминания о них где-то и сохранились, но определенно вне фрагментов чужого серого вещества, из которых составлен его мозг.
Миновав очередную комнату или свернув в следующий коридор, Кам всякий раз ощущает чувство утраты, накатывающее волнами. Но каждый раз печаль оставляет его, сменяясь интересом к новым бессчетным комнатам и коридорам, ожидающим его впереди.
Под конец сна он проходит сквозь дверной проем на балкон, не огражденный перилами. Встав на край, он смотрит вперед и вниз, на клубящиеся под балконом облака, а те, как будто повинуясь причудам некоего разумного ветра, беспрерывно меняют очертания, разрываясь и вновь смыкаясь по его прихоти. Внутри гремит разом целая сотня голосов – это все те, кто стал его частью. Они говорят с ним, но не все слова можно разобрать: часть из них сливается в мерный неразборчивый гул. Но все-таки он понимает, что они хотят ему сказать: «Прыгай, Кам, прыгай! Мы знаем, что ты можешь летать!»
Утром, все еще чувствуя себя странно после сна, Кам отдает все силы физиотерапии, выкладываясь как никогда, и, наконец, чувствует, что мышцы уже болят сильнее, чем заживающие шрамы.
– Смотрю, ты сегодня в ударе, – говорит Кенни, прикладывая к суставам Кама то горячий, то холодный компресс. Кенни, как успел уже выяснить Кам, был ведущим тренером НХЛ, но могущественные «друзья», о которых говорила Роберта, наняли его личным тренером к единственному подопечному, предложив Кенни неслыханную зарплату.
«Сумма повлияла на решение, – признался Кенни. – Да и не каждый день тебе предлагают стать свидетелем того, как созидается будущее».
«Так вот, кто я, – думает про себя Кам. – Часть будущего». Он пытается представить себе, как школьники заучивают в классе его имя – «Камю Композит Примус». Но у него ничего не получается. Проблема в имени, которое звучит как-то уж слишком по-научному, словно оно – лишь материал для эксперимента, а не результат. Нужно его сократить. Камю Комп-При? Перед глазами возникает образ вереницы машин, набирающих скорость после поворота. Гран-При. Точно! Камю Компри. Выбросить лишнее «п», и получается необычное имя, такое же загадочное, как он сам!
Поморщившись от ледяного компресса, который Кенни как раз приложил ему к плечу, Кам понимает, что даже это неприятное ощущение сегодня его не раздражает.
– Пирожковый марафон, и никакой корзинки! – восклицает он, а затем, откашлявшись и дождавшись, пока слова, отстоявшись, примут удобоваримую форму, поясняет свою мысль. – Этот марафон, который я бегу, теперь кажется совсем неутомительным. И я уже не устаю так сильно.
– Разве я не говорил тебе, что будет легче? – спрашивает Кенни, посмеиваясь.
В полдень они с Робертой сидят на балконе за ланчем, который подают на серебряных тарелках. С каждым днем еда становится все более разнообразной, но порции всегда небольшие. Салат-коктейль из креветок. Салат из свеклы. Курица карри с кускусом. Разнообразная еда стимулирует вкусовые рецепторы, вызывая воспоминания о том, что он пробовал то или иное блюдо раньше. Это упражнение помогает восстановить связь между нервными окончаниями и центрами мозга, отвечающими за восприятие вкуса и запаха.
– Все это часть лечения, – объясняет Роберта, – и твоего развития.
После завтрака они садятся за компьютер, чтобы совершить ежедневный ритуал – просмотреть картинки, стимулирующие развитие визуального восприятия. С каждым днем картинки все сложнее; времена, когда ему предлагалось отличить Эйфелеву башню от пожарной машины, остались позади. Теперь картинки представляют собой иллюстрации к литературным произведениям без указания названий, и Кам должен их опознавать – если не само произведение, то хотя бы автора. Главным образом, сцены из пьес.
– Кто эта женщина?
– Леди Макбет.
– Что она делает?
– Не знаю.
– Тогда придумай что-нибудь. Используй фантазию.
На картинках изображены люди в различных жизненных обстоятельствах, и Роберта просит Кама представить, кем они могут быть. О чем они могут думать. Она не позволяет ему говорить до тех пор, пока он не подберет нужные слова.
– Мужчина едет в поезде. Думает о том, что будет сегодня дома на обед. Он не любит курицу.
Среди разложенных на рабочем столе картинок Кам замечает фотографию девушки, которая привлекает его внимание.
Роберта, проследив за тем, на что он смотрит, немедленно пытается стереть файл с картинкой, но Кам, схватив ее за руку, не позволяет ей это сделать.
– Нет. Я хочу посмотреть.
Роберта неохотно убирает руку от мыши. Кам открывает файл и поворачивает изображению на девяносто градусов. Похоже, девушку сняли, не спросив разрешения – снимок сделан под странным углом. Возможно, скрытой камерой. Кам что-то помнит об этой девушке. Что-то связанное с поездкой в автобусе.
– Этой фотографии здесь быть не должно, – неохотно говорит Роберта. – Может быть, продолжим?
– Нет, не сейчас.
Где сделана фотография, точно определить невозможно. Где-то на улице. В месте, где много пыли. Девушка играет на пианино, стоящем под темным металлическим навесом. Она красива.
– Подрезанные крылья. Падение с неба.
Закрыв глаза, Кам вспоминает наказ Роберты – подбирать правильные слова, а уже потом начинать говорить.
– Она похожа… на ангела, пострадавшего при падении на землю. Она играет, чтобы вылечить себя, но от ее травм лечения нет.
– Очень хорошо, – соглашается Роберта, но голос ее звучит как-то неуверенно. – Давай продолжим.
Завладев мышью, Роберта снова пытается ближе к себе.
– Нет. Останется здесь.
То, что фотография чем-то раздражает Роберту, лишь подстегивает его любопытство.
– Кто она?
– Неважно, – отвечает Роберта, но по ее тону ясно, что она говорит неправду.
– Я с ней встречусь.
– Очень маловероятно, – возражает Роберта с коротким грустным смешком.
– Посмотрим.
Развивающие занятия продолжаются, но мысль о девушке не оставляет Кама. Когда-нибудь он узнает, кто она, и познакомится с ней. Он выучит все, что ему необходимо знать, – или, точнее, соединит разрозненные отрывки воспоминаний. Тогда он сможет говорить с девушкой уверенно и своими собственными словами сможет спросить, почему у нее такой грустный вид, и по какой нелепой прихоти судьбы она оказалась в инвалидном кресле.
Часть вторая
Уцелевшие
«Тридцать четыре подростка были брошены родителями в больницах штата Небраска накануне внесения поправок в закон, разрешающий передавать несовершеннолетних в возрасте до 17 лет на попечение штата».
Нэйт Дженкинс, «Ассошиэйтед Пресс», 14 ноября 2008 годаЛинкольн, штат Небраска
Власти штата Небраска назначили на грядущую пятницу слушание по внесению поправок в уникальный закон, позволяющий родителям отказываться от детей в возрасте до 17 лет, передавая их на попечение штата. Неожиданным последствием этого решения стало появление в больницах сразу целой группы из тридцати с лишним брошенных родителями детей в возрасте до 17 лет.
Накануне принятия поправки, вечером в четверг, в больнице города Омаха был обнаружен пятилетний мальчик. Ранее в другой больнице Омахи неизвестная женщина оставила двух подростков, однако одна из них, семнадцатилетняя девушка, сбежала. Власти предпринимают меры к ее розыску.
К полудню пятницы в общей сложности уже насчитывалось 34 брошенных ребенка.
В свое время Небраска последней из всех штатов приняла закон, позволяющий передавать детей на попечение государства, однако, в отличие от аналогичных актов в других штатах, принятый в Небраске закон не содержал конкретного ограничения по возрасту.
В результате некоторые обозреватели истолковали закон как применимый ко всем несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.
4
Родители
Они открывают дверь вместе. Отец и мать, оба в пижамах. Осознав, кто к ним пришел, они тревожно морщат лбы, не понимая, почему ожидаемые визитеры явились невовремя. Оба заранее знали, что к ним придут, и все же это оказалось неожиданностью.
На пороге стоит инспектор по делам несовершеннолетних, за его спиной толпятся рядовые сотрудники в форме без опознавательных знаков. Инспектор, возглавляющий группу, слишком молод. Допустимый возраст рекрутов становится все ниже.
– Мы пришли в соответствии с предписанием. Где мы можем найти объект номер 53-990-24? Кто здесь Ной Фалковски?
Родители тревожно переглядываются.
– Вы пришли на день раньше, – замечает мать.
– Расписание поменялось, – объясняет старший по группе. – В соглашении есть пункт, согласно которому мы имеем право на изменение даты исполнения предписания. Не могли бы вы указать нам, где находится объект?
Отец делает шаг вперед, чтобы прочесть фамилию, написанную на табличке на груди инспектора.
– Послушайте, инспектор Муллард, – произносит он громким шепотом, – мы не готовы отдать вам сына прямо сейчас. Как сказала моя жена, мы ожидали вас только на следующий день. Вам придется вернуться за ним завтра.
Но на Роберта Мулларда подобные заявления, похоже, не действуют. Он врывается в дом; группа поддержки следует за ним по пятам.
– Боже правый! – восклицает отец. – Имейте совесть!
– Совесть? – переспрашивает Муллард, презрительно фыркнув. – Да что вы знаете о совести?
Он отворачивается, разыскивая взглядом коридор, ведущий к спальням.
– Ной Фальковски! – громко зовет он. – Если ты там, выходи немедленно.
Из-за двери спальни показывается голова пятнадцатилетнего мальчика. Взглянув на пришедших, он тут же исчезает в комнате и захлопывает дверь. Муллард подает знак самому крепкому громиле из группы поддержки.
– Он твой.
– Я им займусь.
– Останови их, Уолтер! – умоляет женщина мужа.
Уолтер, на которого теперь обращены все взгляды, поворачивается к Мулларду, в глазах его светится ненависть.
– Я хочу поговорить с вашим начальством.
Муллард в ответ достает пистолет.
– Вы не в том положении, чтобы что-то требовать.
Пистолет наверняка заряжен пулями с транквилизатором, но Уолтер с женой не собираются это проверять: очевидно, вспомнили нашумевший инцидент с инспектором, убитым из своего собственного боевого оружия.
– Сядьте, – приказывает Муллард, кивком указывая на вход в столовую. Родители Ноя колеблются. – Я сказал: сядьте!
Двое из команды Мулларда силой заставляют мужчину и женщину опуститься на стоящие возле стола стулья. Отец, по всей видимости, разумный и воспитанный человек, понимает, что имеет дело с таким же разумным молодым профессионалом, как он сам.
– Это действительно необходимо, инспектор Муллард? – спрашивает он более спокойным и дружелюбным тоном.
– Мое имя не Муллард, и я не инспектор по делам несовершеннолетних.
Неожиданно отец понимает, как очевидно это было с самого начала. Он же видел, что юноша слишком молод для такой ответственной работы. Изборожденное шрамами лицо придает ему слегка… скажем… бывалый вид, и все же, он слишком молод. Уолтер изумляется, как же легко он поддался на обман. Разве что-то в лице юноши не показалось ему знакомым? Разве он уже не видел его раньше, в новостях? От удивления и расстройства Уолтер лишается дара речи: такого неожиданного проявления непрофессионализма он от себя никак не ожидал.
5
Коннор
Самая приятная часть любой миссии – наблюдать, как меняются в лице родители, осознав, что их бьют их же собственным оружием. Мужчина и женщина не находят в себе сил оторвать взгляд от дула направленного на них пистолета, неожиданно понимая, что подписанное ими разрешение на разборку – не более чем клочок бумаги.
– Кто вы такие? – спрашивает отец. – Что вам нужно?
– Нам нужно то, что больше не нужно тебе, – отвечает Коннор. – Твой сын.
Трейс, самый крупный парень из его команды, которого он послал за Ноем, как раз выходит из спальни, волоча за собой упирающегося мальчика.
– Теперь и замков на двери в спальню не ставят, – замечает Трейс, приблизившись.
– Отпусти! – вопит Ной. – Отпусти меня!
Коннор подходит к нему, а Хайден, также пришедший в составе группы, достает свой пистолет на случай, если кто-нибудь из родителей решит поиграть в героя.
– Ной, твои родители собирались отдать тебя на разборку, – говорит Коннор парню. – За тобой должны были приехать завтра, но мы, к счастью, успели раньше.
Мальчик испуган. Он энергично трясет головой, как будто отметая даже намек на такую возможность.
– Ты врешь! – Отвернувшись от Коннора, он смотрит на родителей. В его взгляде уже нет той уверенности, которая переполняла его еще секунду назад. – Ведь он врет?
Коннор не дает родителям ответить.
– Говорите правду – он это заслужил.
– Вы не имеете права! – визжит мать.
– Правду! – требует Коннор.
– Да, – признается отец со вздохом, – все так и есть. Прости, Ной.
Окинув родителей полным ярости взглядом, Ной поворачивается к Коннору. Его глаза мало-помалу наполняются слезами.
– Что ты с ними сделаешь? – спрашивает мальчик.
– А ты хочешь, чтобы я с ними что-то сделал?
– Да. Да, хочу.
– Прости, – отвечает Коннор, качая головой, – но это не входит в наши планы. И когда-нибудь ты скажешь нам за это спасибо.
– Нет, не скажу, – возражает Ной, опуская глаза.
Трейс отводит уже не сопротивляющегося мальчика назад в спальню, чтобы тот мог собрать в рюкзак кое-какие мелочи – то немногое, что ему удастся оставить на память о пятнадцати с небольшим годах жизни.
Остальные члены группы обходят комнаты, чтобы убедиться, что в доме больше нет никого, кто мог бы вызвать полицию или еще каким-нибудь образом помешать миссии. Коннор подает отцу ручку и блокнот.
– Зачем это?
– Ты запишешь причины, заставившие вас отдать сына на разборку.
– И какой в этом смысл?
– Ясно, что у вас были свои причины, – объясняет Коннор, – и понятно, что они дурацкие. И все-таки, какими бы никудышными и эгоистичными они ни были, это причины. По крайней мере, мы будем знать, что собой представляет этот ваш Ной, и, может, поладим с ним лучше, чем ты.
– Ты все время говоришь – «мы», – спрашивает мать. – Кто это – «мы»?
– Мы – это люди, спасающие жизнь вашему сыну. Жизнь, которую вы ему испортили. Больше вам ничего знать не нужно.
Отец грустно смотрит на лежащий перед ним маленький блокнот.
– Пиши, – приказывает Коннор.
Пока Трейс провожает Ноя к машине, отец и мать сидят, не поднимая глаз.
– Ненавижу вас! – кричит он им. – Я и раньше это говорил, но тогда это была ерунда, а сегодня я вас правда ненавижу.
Похоже, для этих родителей слова сына острее ножа. По крайней мере, Коннору так показалось. Но уж точно не острее скальпеля в Лавке Мясника.
– Возможно, когда ему исполнится семнадцать, он захочет вас простить. Если доживет, конечно. Если это случится, советую не упустить шанса.
Родители встречают его слова молчанием. Отец, не отрывая глаз от блокнота, продолжает скрипеть пером по бумаге.
Закончив писать, он передает блокнот Коннору. Текст не похож на сбивчивый манифест – все претензии классифицированы и поделены на пункты. Коннор зачитывает вслух заголовки, как обвинитель, перечисляющий статьи обвинения. Вот только звучат они так, словно обвиняемый здесь – не Ной, а сами родители.
– «Неуважение и непослушание».
Этот пункт всегда встречается в первых строках. Если бы все родители отдавали детей на разборку, руководствуясь только этим, человечество давно бы вымерло.
– «Разрушительное поведение по отношению к самому себе и вещам».
Этот пункт хорошо знаком Коннору на примере собственной жизни: он и сам уничтожил немало добра в моменты, когда на него накатывала депрессия. Но ведь подобное случается со многими детьми, не так ли? Его всегда удивляло, насколько люди склонны искать наименее затратный и самый быстрый выход из ситуации даже в таком серьезном деле, как разборка.
Вникнув в суть третьего пункта, он не может удержаться от смеха.
– «Недостаточная забота о личной гигиене?»
Жена хмуро смотрит на мужа: зачем он внес это в список.
– О, а это мне еще больше нравится! – восклицает Коннор. – «Недостаточно амбициозные планы на будущее». Попахивает собранием биржевых брокеров!
Коннор зачитывает «обвинения» каждый раз, когда группа отправляется спасать кого-нибудь из ребят, и каждый раз думает – отличается ли список о того, который составили бы его собственные родители?
Дойдя до последнего пункта, Коннор слегка запинается.
– «Наш собственный провал в роли родителей».
Этот пункт приводит его в бешенство. Нет, эти родители не заслуживают ни малейшего сочувствия! Если они сами признают собственный провал, почему расплачиваться за него должен сын?
– Завтра, когда за ним придут полицейские, скажете им, что он сбежал, и куда пошел, вы не знаете. О нас и о том, что здесь сегодня произошло, вы никому ничего рассказывать не будете. Если начнете болтать, мы об этом узнаем: мы прослушиваем полицейскую волну.
– А если мы не подчинимся? – спрашивает отец, выказывая непослушание, в котором только что обвинил сына.
– На случай, если вы захотите рассказать полиции, что здесь случилось, мы приготовили отличный сюрприз для вас обоих, который и выложим в интернет, если понадобится.
После этих слов уныние в глазах родителей сменяется тревогой.
– Что еще за сюрприз?
Отвечает им Хайден, чуть не лопаясь от гордости, потому что идея принадлежит ему.
– Мы выложим в интернет небольшой вирус, – объясняет он, – и ваши имена и цифровые отпечатки пальцев станут ассоциироваться с десятком известных группировок Хлопков. Понадобятся годы, чтобы убедить Управление по борьбе с терроризмом от вас отвязаться.
Отец и мать нехотя кивают.
– Ладно, – говорит Уолтер, – мы обещаем не болтать.
Угроза выложить персональную информацию в интернет всегда оказывалась действенной. Кроме того, уходят дети с Коннором или отправляются на разборку – не так уж важно. В любом случае родители получают то, чего хотели: их неуправляемые дети перестают быть их проблемой. А если рассказать полиции о налете Коннора и его шайки, Ной вернется к ним и снова станет их проблемой.
– Вы должны понять, что мы были в отчаянии, – начинает объяснять мать с выражением полной уверенности в собственной правоте. – Все убеждали нас в том, что заготовительный лагерь – лучший выход из положения. Буквально все.
Глядя ей в глаза, Коннор разрывает листок с объяснениями и бросает обрывки на пол.
– То есть ты хочешь сказать, что вы решили отдать сына на разборку, не выдержав психологического давления?
Родители сломлены. Видно, каким тяжелым оказалось неожиданно свалившееся на них бремя стыда. Отец, который еще недавно защищался, неожиданно начинает рыдать как ребенок. Только мать находит в себе силы предпринять еще одну последнюю попытку оправдаться перед Коннором.
– Мы старались быть хорошими родителями, но всему есть предел, и у нас просто не хватило сил.
– Нет никакого предела, – чеканит в ответ Коннор и уходит, оставив родителей наедине с самым жестоким и суровым наказанием – необходимостью жить дальше с тем, что они совершили.
Коннор и его команда садятся в неприметный фургон с фальшивыми регистрационными номерами и уезжают. Ной Фальковски молча, с мрачным видом, что в его положении вполне объяснимо, в последний раз смотрит в окно на родную улицу, которая вскоре исчезает за поворотом. Похоже, он не понимает, кто за ним приехал, и Коннор рад, что мальчик не узнал его. Хотя Беглец из Акрона и пользуется заслуженной популярностью в определенных кругах, его лицо мелькало в новостях гораздо реже, чем лицо Льва. Кроме того, раз уж его считают погибшим, оставаться неузнанным ему проще.
– Расслабься, – говорит Коннор Ною. – Мы – твои друзья.
– У меня нет друзей, – парирует Ной, и на этот раз Коннор решает ему не возражать.
Ночью Кладбище идеально соответствует своему названию. Хвосты самолетов возвышаются над землей, такие же тихие и монументальные, как памятники усопшим. Между самолетами расхаживают часовые с винтовками, заряженными пулями с транквилизатором, но если бы не они, никто бы не догадался, что это место стало домом для семисот с лишним беглецов.
– Ну, и куда же мы приехали? – спрашивает Ной, пока фургон, замедляя ход, катится по центральному проходу между самолетами – своего рода главной и самой оживленной «улице» Кладбища, по обе стороны от которой стоят самые большие самолеты. Каждый из них носит имя, данное кем-то из давно покинувших лагерь беглецов, и вместе они составляют основной «жилой микрорайон» Кладбища. Главное общежитие для девочек называется «Крэш-Мама»; уцелевший со времен Второй мировой бомбардировщик, переоборудованный в компьютерный центр и пункт связи, носит имя «Ком-Бом». Фургон останавливается у лайнера, который называют МЧ, что означает «Международное чистилище», – место, где новички вроде Ноя живут до тех пор, пока им не подберут работу и не интегрируют в сообщество.
– Мы на Кладбище. Здесь ты будешь жить, пока тебе не исполнится семнадцать, – объясняет Коннор.
– Черта с два я до этого доживу, – возражает Ной. Так отвечает большинство новичков, и Коннор привычно игнорирует его реплику.
– Хайден, раздобудь ему постельное белье и отведи в Чистилище. Утром посмотрим, что он умеет.
– Так что, я теперь вонючий бродяга? Беглец? – спрашивает Ной.
– Беглецами нас называют они, – объясняет ему Хайден, – а мы предпочитаем называть себя Уцелевшими. Что касается вони, то тебе и вправду стоит посетить нашу баню при первой возможности.
Ной свирепо фыркает, как раздраженный бык, что вызывает у Коннора улыбку.
Термин «Уцелевшие» придумал Хайден, потому что слова «беглец» и «трудный подросток» ничем не отличаются от ярлыков, которые навешивает на ребят враждебный мир.
«Тебе бы в политики податься», – предложил тогда Коннор. В ответ Хайден заявил, что от политики его тошнит.
Из ребят, сидевших вместе с Хайденом, Коннором и Рисой в убежище у Сони, уцелела лишь эта троица, и то, что им пришлось пережить, сплотило их так, будто они дружили с детства и вместе росли.
Ной с Хайденом отправляются в Чистилище, и на долю Коннора выпадает несколько драгоценных мгновений тишины и покоя. Он смотрит на «Дос-Мак» – самолет, в котором живет Риса. За иллюминаторами темно, как и в других самолетах, но еще пару минут назад ему почудилось, что Риса выглянула на шум подъезжающего фургона, чтобы убедиться, что Коннор вернулся и с ним все в порядке.
– Даже и не знаю, как назвать эти твои миссии – благородством или глупостью, – сказала она ему однажды.
– Может быть, это и то и другое? – предположил он.
Но на самом деле он участвует в этих вылазках только потому, что спасать ребят, каждого по отдельности, ему приятней, чем встречать самолеты с группами из убежищ или руководить Кладбищем. Эти миссии не дают ему сойти с ума.
Когда его оставили за старшего, подразумевалось, что это временно. Члены Сопротивления собирались подобрать достойную замену для Адмирала. Они искали человека, который в глазах общества мог бы сойти за хозяина свалки старых самолетов. Но потом стало понятно, что это никому не нужно. Перед въездом на территорию и так стоит трейлер, служащий офисом Кладбища, и в нем работают люди, которые ведут всю необходимую документацию. Коль скоро Коннору удается справляться с жителями лагеря, работа по демонтажу самолетов продолжается, ребята не голодают и ведут себя тихо, Сопротивлению нет нужды нанимать кого-либо еще на роль владельца бизнеса.
– Обозреваешь владения?
Коннор оборачивается и видит приближающегося Трейса.
– Это не мои владения, это моя работа, – отвечает он. – Новичка заселили?
– Ага. Такой капризный. Говорит, одеяло слишком грубое.
– Привыкнет. Все привыкают.
Трейс Ньюхаузер не беглец. Он служил рядовым в ВВС, но дезертировал, чтобы примкнуть к Сопротивлению, когда родители отдали на разборку его сестру. Он в самоволке уже полгода, но остается мясным теленком во всех смыслах этого слова: громадный парень, накачанный стероидами и не интересующийся ничем, кроме боевых искусств.
Коннор никогда не любил армейских. Возможно, потому, что они четко понимают свое предназначение в жизни и обычно неукоснительно ему следуют. Встретив очередного солдата, Коннор часто испытывал чувство собственной бесполезности. Однако один из них стал его близким другом, и это означает, что люди меняются. Трейсу двадцать три, но он, очевидно, не испытывает неудобства от того, что приказы ему отдает семнадцатилетний подросток.
– В субординации не прописаны возрастные ограничения, – сказал он однажды. – Даже будь тебе шесть, а не семнадцать, я бы все равно выполнял твои приказы, если бы ты был старше по званию.
Может быть, именно это Коннору в нем и нравится; если уж такой человек уважает его как командира, может, он не такой уж и плохой начальник.
Утро начинается как обычно. Адмирал называл эту бесконечную борьбу с неприятностями, явными и потенциальными, «фронтовой рутиной». «Командир прежде всего должен следить за состоянием сортиров, – сказал он однажды. – Этим можно пренебречь, только если ты на передовой. Тогда он должен сделать все, чтобы команда уцелела. И та, и другая работа одинаково неприятна».
Группа ребят уже собралась у стоящего вдоль основного прохода лайнера, переделанного в развлекательный центр. Одни смотрят телевизор, другие играют в компьютерные игры. Большинство работают – снимают детали с самолетов или ремонтируют их согласно заказам, поступившим из офиса. Иногда Коннору кажется, что жизнь в лагере течет сама собой и не зависит от него, и ему становится легче.
Однако стоит ему появиться на главной улице, его тут же начинают донимать вопросами.
– Эй, Коннор, – говорит подбежавший парень, – я не то чтобы жалуюсь, но, слушай, тут никакой еды получше нет? В смысле, я понимаю, мы тут все не в том положении, чтобы выбирать, и все такое, но если я еще раз поем жаркого с ароматизатором под говядину, в котором никакой говядины нет, меня точно стошнит.
– Да, и тебя, и всех остальных, – отвечает ему Коннор.
– Мистер Акрон, – обращается к нему девочка, которой на вид лет четырнадцать или около того.
Коннор никак не может привыкнуть к тому, с каким преувеличенным уважением относятся к нему многие жители лагеря, особенно те, кто помоложе, считая при этом, что Акрон – его фамилия или что-то в этом роде.
– Не знаю, слышали ли вы об этом, – продолжает девочка, – но вентиляторы в «Крэш-Маме» почему-то не работают, и ночью слишком жарко.
– Я пришлю кого-нибудь починить их, – обещает ей Коннор.
Еще один мальчик жалуется, что мусора слишком много и он не может с ним справиться.
– Я все время думаю: как жаль, что я не осьминог, – говорит Коннор Трейсу. – По крайней мере, у меня бы хватило рук, чтобы справиться с горой мусора, которая скоро завалит все Кладбище.
– На самом деле у тебя и так куча рук, – напоминает ему Трейс. – Просто нужно толком их использовать.
– Да-да, – кивает Коннор. Он уже не раз это слышал. По идее, не следовало бы сердиться на Трейса: ведь потому он его и держит при себе, что Трейс то и дело подсказывает ему, как руководить. Коннор уже смирился с тем, что неожиданно стал командиром, но, как верно заметил Адмирал, работа эта крайне неблагодарная.
Когда Адмирал передал ему командование, у Коннора уже имелась в лагере собственная иерархия, которая, теоретически, должна была облегчить ему задачу управления Кладбищем. В сущности, все в лагере делились на три группы: ближний круг, ребята, которым доверяют люди из ближнего круга, и все остальные. И поддержанием жизни в убежище, по идее, должны были заниматься члены ближнего круга: заботиться о том, чтобы не прекращались поставки продовольствия, чтобы санитарный уровень был на высоте и так далее. В конце концов, у Коннора есть дела поважнее – к примеру, следить за тем, чтобы никто из них не попал на разборку.
– Когда встречусь с человеком из Сопротивления, – уже не в первый раз говорит он Трейсу, – созову совещание и распределю обязанности.
– Может быть, сначала следует подумать, кто и чем должен будет заняться? – возражает Трейс.
Раньше Коннору и в голову бы не пришло, что он когда-нибудь возьмет на себя такую ответственность. И теперь он нередко жалел, что времена, когда ему приходилось отвечать только за себя, остались в прошлом.
Благодаря Льву и его неудавшемуся теракту, который он сам же и сорвал, Коннор не попал на разборку, но с тех пор каждый божий день ему казалось, что на самом деле его все-таки разобрали на части.
6
Риса
На Кладбище живет единственный инвалид. С тех пор как государство запретило трогать детей-инвалидов, разборка им больше не грозит, так что и среди беглецов их не встретить. Это отличный пример избирательности человеческого сострадания, похожего на швейцарский сыр с дырками. Тем, на кого оно распространяется, ничто не угрожает, но тех, кого общество не считает достойными сострадания, оно ставит вне закона.
Риса – инвалид по собственному выбору. Она отказалась лечь на операцию по пересадке части позвоночника, потому что имплантат нужно было взять из банка органов, то есть пришлось бы воспользоваться фрагментом тела ребенка, попавшего на разборку.
Раньше, до развития трансплантации, такие травмы, как у Рисы, считались необратимыми и пострадавший оставался прикованным к постели до конца своих дней. Риса часто размышляет о том, что легче: жить, понимая, что ты калека на всю жизнь, или знать, что последствия травмы можно устранить, но не идти на это сознательно.
Риса живет в старом «Макдоннел Дуглас МД-11», к люку которого ребята приделали спиральный пандус, чтобы она могла спускаться и подниматься в инвалидной коляске.
После постройки пандуса самолет стали называть «Доступным Маком», или попросту «Дос-Маком». Время от времени сюда подселяют других ребят с легкими травмами ног, вроде растяжения лодыжки. Сейчас в «Дос-Маке» обитает человек десять.
Салон самолета поделен на секции, отгороженные занавесками, чтобы создать иллюзию отдельных комнат. Риса живет за перегородкой, в бывшем салоне бизнес-класса, в передней части фюзеляжа. Преимущество этого помещения – в том, что оно значительно больше остальных, но Рисе неприятно, что из-за этого она автоматически становится не как все. Достаточно и того, что весь этот самолет со специальным въездом для инвалидов подчеркивает, как она непохожа на других ребят; и хотя свою травму она заработала в бою, это никак не меняет того факта, что Риса на всю жизнь обречена на особое положение.
На Кладбище есть еще один самолет с пандусом для инвалидной коляски – в нем располагается больница, которой Риса заведует. В другие помещения она попасть не может и потому проводит свободное время на улице, когда не слишком жарко.
Каждый день в пять часов Риса ждет Коннора, укрывшись в тени «Стелса», который они прозвали «Щенком». Каждый день Коннор опаздывает.
Тень от широких крыльев бомбардировщика надежно укрывает Рису от солнца, а специальная, защищающая от излучения радаров краска, которой окрашен фюзеляж самолета, поглощает тепло. Под крыльями «Стелса» всегда прохладно, и это одно из самых приятных мест в лагере.
Коннор, наконец, появляется. Он носит голубой камуфляж, и в лагере больше ни у кого такого нет, так что Риса безошибочно узнает его издалека.
– Я уж решила, что ты не придешь, – говорит Риса, когда Коннор ныряет под крыло «Щенка».
– Я наблюдал за снятием двигателя.
– Да, – Риса криво улыбается. – Все так говорят.
Даже эти ежедневные встречи с Рисой не помогают Коннору стряхнуть напряжение, которое стало частью его с тех самых пор, как на него свалилось управление Кладбищем. Он нередко повторяет, что встречи с ней – единственный момент за весь день, когда он чувствует себя по-человечески. Но на деле он все равно не может расслабиться. Риса даже не уверена, что он вообще на это способен. И хуже всего – то, что оба они – живые легенды. Легенды, отделившиеся от своих героев и обретшие собственную жизнь. Истории, которые рассказывают о Конноре и Рисе, давно укоренились в фольклоре беглецов по всей стране. Это и неудивительно – что может быть романтичнее, чем сказка о мальчике и девочке, оказавшихся вне закона? Они стали Бонни и Клайдом новой эры; их имена печатают на футболках и автомобильных наклейках.
Странно даже подумать, что такая слава досталась им, в сущности, даром – всего лишь за то, что они выжили после взрыва в «Веселом Дровосеке». Всего лишь за то, что Коннор стал первым беглецом, которому удалось выйти живым из «Лавки Мясника». Официально Коннор считается погибшим, а Риса – пропавшей без вести и, скорее всего, тоже мертвой, хотя кое-кто утверждает, будто она скрывается где-то за границей, в стране, не выдающей беглых подростков (если, конечно, существует такая страна). Неизвестно еще, какое развитие получила бы эта легенда, знай люди, что Риса находится здесь, в пыльной, выжженной солнцем аризонской пустыне.
Под брюхом «Щенка» дует легкий ветерок, поднимая пыль, которая постоянно норовит попасть в глаза. Риса смаргивает.
– Ты готова? – спрашивает Коннор.
– Всегда готова.
Коннор, опустившись на колени, массирует ей ноги, стараясь восстановить кровообращение в тех местах, которые полностью утратили чувствительность. Такова часть ежедневного ритуала, сопровождающего их встречи. Этот физический контакт целомудрен, как прикосновения врача к пациенту, и все же в нем есть что-то необыкновенно интимное. Однако сегодня мысли Коннора блуждают где-то далеко.
– Что-то тебя беспокоит, – замечает Риса. Это не вопрос, а простая констатация факта. – Давай, рассказывай.
Вздохнув и глядя на нее снизу вверх, Коннор выпаливает то, что не дает ему покоя:
– Почему мы все еще здесь, Риса?
Риса обдумывает его вопрос.
– Это философский вопрос? Почему мы, люди, все еще живем на Земле? – переспрашивает она. – Или ты хочешь спросить, почему мы торчим здесь вдвоем, на виду у тех, кто может заинтересоваться, чем мы занимаемся?
– Да нет, пусть смотрят, – отвечает Коннор, – мне все равно.
Похоже, ему действительно все равно, потому что для всех, кто обитает на Кладбище, тайна личной жизни – недопустимая роскошь. Даже в небольшом самолете, который Коннор выбрал в качестве штаб-квартиры, на иллюминаторах нет занавесок. Нет, понимает Риса, его вопрос не имеет отношения ни к их ежедневному ритуалу, ни к существованию человеческого рода. Он спрашивает о другом.
– Я имею в виду, как так получилось, что мы с тобой все еще здесь, на Кладбище? Почему полицейские до сих пор не пришли и не переловили всех нас, усыпив транквилизаторами?
– Ты же сам говорил – они не видят в нас угрозы.
– Но этого не может быть, – объясняет Коннор, – они же не дураки… А значит, по какой-то причине они не хотят уничтожать это место.
Риса, нагнувшись, гладит Коннора по плечу, ощущая, как напряжены мышцы.
– Ты слишком много думаешь.
Коннор улыбается.
– Помню, когда мы только познакомились, ты обвиняла меня в том, что я вообще не думаю.
– Значит, сейчас ты пытаешься наверстать упущенное.
– Разве после того, что нам пришлось пережить… после того, что мы видели, меня можно в этом упрекнуть?
– Ты больше нравишься мне в роли человека действия.
– Действия необходимо тщательно обдумывать. Этому ты меня научила.
– Да, наверное, – со вздохом соглашается Риса. – Похоже, я создала чудовище.
Внезапно ей приходит в голову, что после катастрофы в «Веселом Дровосеке» они оба кардинально изменились. Риса привыкла считать, что их дух закалился, как сталь, прошедшая горнило, но иногда ей кажется, что огонь лишь навредил им, спалив дотла. И все же ей приятно, что она выжила и может наблюдать отдаленные последствия того дня. Такие, как «Поправка о семнадцатилетних».
Еще до происшествия в «Веселом Дровосеке» в Конгрессе обсуждалась поправка об ограничении возраста, по достижении которого подростков уже нельзя отдавать на разборку. В соответствии с предложенной поправкой планировалось снизить допустимый порог на целый год – с восемнадцати до семнадцати лет. Однако до теракта в «Веселом Дровосеке», получившего широкое освещение в прессе, никто и не рассчитывал, что поправку примут – люди даже не знали о ее существовании. Об этом заговорили только тогда, когда лицо бедняги Левия Калдера появилось на обложках всех известных журналов: невинное лицо юноши в белых одеждах. Со школьного снимка глядел аккуратно подстриженный улыбающийся мальчик с ясными глазами. Вопрос о том, как это примерный ребенок мог стать Хлопком, заставил всех родителей призадуматься: раз такое могло случиться со Львом, кто может поручиться, что их собственные дети однажды не закачают в кровь убийственную взрывчатку и не взорвут себя в приступе безумного гнева? То, что Лев в последний момент удержался от этого шага, поразило родителей еще больше. Именно это не позволило им махнуть на него рукой, как на обычного выродка, и забыть о нем. Пришлось признать, что у этого юноши есть душа – и разум; а значит, в том, что Лев стал Хлопком, отчасти виновато общество. И тут вдруг, словно для того, чтобы усугубить чувство вины, и без того терзавшее многих, Поправка о семнадцатилетних прошла слушания в Конгрессе и стала законом. Подростков, достигших возраста семнадцати лет, отдавать на разборку стало нельзя.
– Ты снова думаешь о Льве? – спрашивает Коннор.
– Да, а почему ты так решил?
– Потому что каждый раз, когда ты о нем думаешь, время для тебя как будто останавливается. Выражение лица становится такое, словно ты блуждаешь по обратной стороне Луны.
Риса, наклонившись, касается его замершей руки, и Коннор, вспомнив о том, чем он был занят, снова принимается растирать ее неподвижные ноги.
– Ты же знаешь, Поправку о семнадцатилетних приняли из-за него, – говорит Риса. – Интересно, что он об этом думает?
– Наверное, его мучают кошмары.
– Гм, – не соглашается Риса, – возможно, он видит в этом и светлую сторону.
– А ты? – спрашивает Коннор.
– Иногда, – признается Риса со вздохом.
Поправка о семнадцатилетних должна была стать для подростков благом, но не оправдала надежд. На следующий день после того как она была принята, многие торжествовали нежданную победу, особенно когда в новостях показали толпы семнадцатилетних ребят, выпущенных из заготовительных лагерей. Это была победа людского сострадания, великий день для тех, кто выступал против разборок. Но этот частичный успех ослепил людей, и те перестали видеть всю проблему в целом. Разборки как были, так и остались, а благодаря принятой Поправке многие решили, что теперь их совесть чиста.
А потом в дело вступили средства массовой информации, обрушив на людей целое море социальной рекламы, «напоминающей» о том, насколько «лучше» пошли дела у человечества с того дня, как вступило в силу Соглашение о заготовительных лагерях.
«Заготовительный лагерь – естественное решение», – говорилось в рекламе. Или: «У вас трудный подросток? Если вы любите ребенка, отпустите его». Ну и, конечно же, любимый ролик Рисы: «Познай мир за пределами самого себя – выбери состояние распределенности».
Риса вскоре поняла: слабая сторона человечества – в том, что люди верят всему услышанному. Возможно, не сразу, но если повторить даже самую безумную мысль сто раз, рано или поздно ее станут принимать как данность.
Подумав об этом, Риса мысленно возвращается к вопросу, поднятому Коннором. Действительно, в ситуации, когда после принятия той поправки в заготовительных лагерях чувствуется нехватка материала, а люди привыкли к тому, что банки органов всегда к их услугам, почему полицейские не нападают на Кладбище? Почему они, беглецы, все еще здесь?
– Мы все еще здесь, – говорит Риса Коннору, – потому что мы здесь. И должны сказать спасибо за то, что нас пока никто не трогает. – Нежно потрепав его по плечу, девушка дает понять, что сеанс массажа можно заканчивать. – Я, наверное, вернусь в больницу. Там, как всегда, хватает синяков, ссадин и заложенных носов, так что без дела не останусь. Спасибо, Коннор.
Сколько бы ни продолжался их привычный ритуал, по его окончании Риса неизменно испытывает смущение, тем более сильное, что она сознает, насколько ей приятен этот ежедневный сеанс массажа.
Раскатав штанины ее свободно сидящих брюк защитного цвета, Коннор одну за другой ставит неподвижные ноги на подножку инвалидного кресла.
– Не стоит благодарить парня за то, что он тебя ощупал с ног до головы.
– Ты меня не с ног до головы ощупал, – смущенно поправляет его Риса.
Коннор отвечает хитрой улыбкой, выражающей все, что он мог бы на это сказать.
– Наши ежедневные встречи нравились бы мне гораздо больше, если бы ты на них присутствовал по-настоящему, – замечает она.
Коннор поднимает правую руку, чтобы погладить ее по лицу, но, неожиданно вспомнив что-то, быстро опускает и касается щеки Рисы другой рукой – той, с которой он был рожден.
– Да нет, это, наверное, ты… подсознательно пытаешься наверстать упущенное время. Я понимаю. Но ты не представляешь, как я мечтаю, чтобы наступил день, когда мы сможем быть вместе без этих черных мыслей. Когда мы будем знать, что победили.
Взявшись за колеса, Риса направляет коляску в сторону больницы, аккуратно маневрируя между глубокими трещинами, покрывающими рассохшуюся землю. Она никому не разрешает толкать коляску, и если ей нужно куда-то добраться, всегда делает это самостоятельно.
7
Коннор
На следующий день, ближе к полудню, в лагере появляется представитель Сопротивления – на три дня позже даты, назначенной им самим. Представитель – толстый взъерошенный человек – обливается по́том.
– И это еще не жара, – замечает Коннор, намекая на то, что знойное аризонское лето не за горами. Люди из Сопротивления должны понимать, что к лету нужно хорошенько подготовиться, не то бунта на Кладбище не избежать. Если, конечно, все они не передохнут от жары еще раньше.
Коннор и его гость сидят в бывшем президентском лайнере, служившем раньше жилищем Адмиралу, а после его отъезда превращенном в конференц-зал. Мужчина представляется как Джо Ринкон, но тут же добавляет: «Просто Джо. В Сопротивлении формальности не приняты». Сев за стол для переговоров, он достает блокнот и ручку, чтобы делать заметки по ходу беседы. За разговором Джо постоянно поглядывает на часы, как будто ему уже пора быть в другом месте.
У Коннора накопился обширный список жалоб от жителей лагеря. Почему доставка продуктов производится так редко и еды привозят так мало? Где запасы медикаментов, на которые они подавали заявку? Что с запчастями для кондиционеров и генераторов? Почему их не предупреждают о прилете очередного лайнера с беглецами? И, раз уж на то пошло, почему группы новоприбывших стали такими малочисленными? Пять, в лучшем случае десять человек в группе, – а ведь раньше на борту каждого самолета было не менее пятидесяти человек. По правде говоря, пока запасы продовольствия так скудны, эти цифры вполне устраивают Коннора, но вопрос все равно остается. Если людям из Сопротивления удается найти все меньше беглецов, это значит, что инспекторы по делам несовершеннолетних – или, еще того хуже, бандиты с черного рынка – находят их раньше.