Читать онлайн В тот день… бесплатно
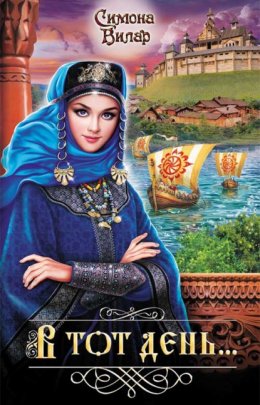
© Гавриленко Н. Г., 2020
© DepositPhotos.com / milagli, kakofonia, alexsol, aspendendron, ggaallaa, ValeryBocman, dominojazz@mail.ru, edb3_16, Virus961, kefirm, Prokrida, Violin, обложка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2021
Пролог
Киев-град, лето 988 года
Бледная половинчатая луна отражалась в широких водах Днепра-Славутича. Легкие облачка порой закрывали ее, а затем, когда они уходили, мерцающий свет вновь лился на реку, на киевские склоны, на городские постройки, где еще кое-где мигали огоньки. Бревенчатые городни[1] на киевских возвышенностях казались призрачными и огромными, а на тесно застроенном ремесленном Подоле[2] светло было только на широкой площади Житного рынка. И можно было разглядеть силуэты людей, столпившихся возле древней церкви Святого Ильи. Исстари стояла она на Подоле, еще при Игоре Старом возвели ее, чтобы иноземцы-христиане могли тут возносить свои моления по приезде во град на Днепре. А вот разрослась и украсилась Ильинская церковь уже при княгине Ольге, которая покровительствовала верующим во Христа и сама стала христианкой. Позже, при ее сыне-воителе Святославе, церковь велено было снести: как отпели Ольгу, так и разобрали церковное строение. А вот когда уже сын его Ярополк вокняжился, снова поднялась Ильинская церковь. Ибо, как поговаривали, князь Ярополк тоже склонялся к христианству. Да только сам он сюда, по сути, не хаживал. Умалчивал, во что верил. Ярополк вообще был скрытным и замкнутым. Потому не любили его в Киеве-граде. И как погиб он в противостоянии с братом Владимиром, так и мало кто о нем горевал-печалился.
А вот при Владимире жить стало весело. Умел новый князь люд потешить, повеселить, умел навести порядок. Как и умел устроить славные пиры-братчины, на которых пировал с верной дружиной, и всякого мог принять, выслушать, а то и помочь, если считал, что надо было. Вот и полюбили князя Владимира в Киеве, называли его ласково – Красно Солнышко. Пели о нем песни, славили его за удачные походы, за умение ладить с народом.
Ильинскую церковь на Подоле Владимир не тронул. Не обижал он и христиан – как заезжих, так и тех местных, кто решил уверовать в Иисуса Христа. Он вообще подумывал сам принять веру не здешнюю, а такую, какие по миру разрастались и славу свою ширили. А ведь как только вокняжился Владимир в Киеве, то изначально о таком не думал, старался блюсти обычаи. Потому приказал соорудить в Киеве стольном большое капище на Горе[3]. Перуна Громовержца там установили, посеребрив его голову и позолотив усы, еще Хороса солнечного, Даждьбога плодородного, Стрибога ветряного и Семаргла, что растения охраняет, а еще Макоши изваяние поставили, покровительницы судьбы, помощницы в хозяйских делах. Люди сперва валом валили на капище, но потом перестали. А чего им к главному капищу толпой идти, если требы там такие брали, что и без последней шапки останешься. Куда лучше пойти по малым капищам – там с тебя три шкуры не сдерут, можно обычной курицей отделаться или шкуркой беличьей. Волхвы с малых капищ неприхотливы были, не то что на Горе. Правда, люди поговаривали, что толку все равно от них мало. Молишь богов о помощи, молишь, и волхвы, приняв подношения, важно обещают помощь от небожителей, а на деле то град побьет посевы, то мор случится в киевских предместьях, селища окрестные даже затронет. А богам хоть бы что.
Но весть, что их князь подумывает о новой вере, будоражила людей. Сказывали, что, мол, магометане к нему являлись и князь к ним прислушивался. Ходили также слухи, будто то иудеи его соблазняли своей верой, то христиане западные, то христиане ромейские[4]. С ромеями оно больше всего понятно было. Ведь не единожды к ним в державу плавали русские купцы, а потом рассказывали, как живут в Византии той. Да и не забылось еще, что Ольга прославленная тоже к византийской вере склонялась. Так что, когда Владимир, вернувшись из похода на ромеев в Таврии[5], вдруг объявил, что стал христианином, многие восприняли эту весть спокойно.
Другое дело, что люд поразился, когда князь их пресветлый повелел порушить капище, им же некогда возведенное, да покидать идолов в Днепр. Это многих напугало. Страшно жить без покровительства небожителей, страшно, когда привычных богов так оскорбляют. Того же Перуна, ранее почитаемого, катили по Боричеву увозу[6], как какое-то полено ненужное, да еще били железными прутами, словно показывая, что ничего он в отместку сделать не может, что деревяшка он обыкновенная. А как скинули идола с берега в реку и понесло его по волнам, то многие стали рыдать, шли следом и молили божество выплыть. Деревянный Перун и выплыл у дальних склонов, но и там его догнали дружинники князя, изрубили на куски и остатки снова в воду скинули. В Киеве еще рассказывали, что у дружины тогда стычка с волхвами вышла. Волхвы защищали свое божество деревянное, кидались на дружинников, но те здорово их плетками отстегали, говорят, что и до булавы дело дошло. А там скрутили волхвов, потащили неведомо куда.
Люди же, оставшись без небесных покровителей, с перепугу потянулись в Ильинскую церковь – она все же привычна. Да и многие уже отметили, что посещавшие ее христиане удачливыми и небедными слывут, все больше среди них купцы да княжеские дружинники. Может, это христианский Бог им помогает? И все же открыто ходить в храм на Подоле простой люд еще не решался, а больше к поздней ночной службе подтягивался. Все в Ильинскую церковь поместиться не могли, вот и стояли неподалеку, слушали, как ладно поют внутри, под тесовой высокой кровелькой с крестом на шесте, какие звуки службы доносятся из-за ее побеленных стен. По старинке в это время Даждьбога плодородного отмечали, но как отмечать[7], если его изваяние повалили и порубили? А новый Бог… Кто знает, может, он и ласковым окажется. Вон какое жито нынче уродилось, хлеба стоят высокие, ветви в садах от плодов гнутся, огороды щедро взросли. Лепо как!
Ну, во что бы люди в Киеве ни верили, а старые обычаи так легко не отмирают. И когда часть градцев пошла к церкви Святого Ильи на Подоле, нашлись и такие, кто отправился за срубные укрепления, чтобы поучаствовать в старинном обряде, чествуя Даждьбога плодородного. Жатва уже началась, так почему же и не выполнить давний проверенный обряд, как исстари делали?
Вот и повели собравшиеся коло вокруг разукрашенного венками большого снопа.
– Ай, Даждьбог славный! Ай, Даждьбог милостивый! – выкрикивали. – Слава тебе, слава и почет с сего дня и во веки веков!
Песнопения божеству плодородия ранее были более слаженные и долгие, но сейчас собравшиеся будто торопились отгулять. Как правильно творить заклинания и заговоры, многие не знали, а волхвов, служителей Даждьбога, нынче где-то под стражей содержали. Вот люди сами и старались справиться, как получится. Установили сноп на закате, украсили лентами, теперь пировать стали. Расстелили скатерти, выложили на них вареные яйца и мед в сотах, жареных птиц и пучки зелени. Только хлеба не было. Жито еще предстояло скосить, поэтому никто не решался старыми дарами внимание плодородного бога отвлекать от только предстоящих хлебных яств.
В основном в поля пришли старики, больше иных преданные старым верованиям. Хотя и из молодежи кое-кто явился. Последних сюда привлек древний обычай, по которому полагалось сойтись страстно и полюбиться возле пашен, чтобы Даждьбог прибавил плодородную силу, да и просто побаловаться тоже хотелось. Это не как на Купалу, когда всяк всяка любить может и выбирает себе пару, – тут порой и не ведаешь, кого в полюбовники возьмешь. Ибо по старинке в этот праздник женщины прятали лица под венками и берестяными личинами, в которых оставляли только прорези для рта, носа и глаз. Даждьбог – божество мужчин-пахарей, женщины в это время лишь помощницы при них. Вот они и скрывали свой облик, но не скрывали голых ног, задирали подолы рубах, приманивая тех, кто глянулся, на край поля за высокую пшеницу. То там, то тут любились парочки… Не так их много нынче, вздыхали старики, оставшиеся у разложенного на скатерти угощения, раньше вся земля была под телами полюбовников. И все же старый обряд и ныне не позабыли. Вон даже кое-кто из дружинников самого князя после заката решил поискать любовных утех. И пусть они, почитай, все были крещеные, но кровь-то молодецкая играет.
Явился на праздник и младший брат богатого купца Дольмы, известного в Киеве христианина. Правда, нынче раскрасавчик Радко выглядел невеселым, сидел с опущенной головой, кудрявой и темноволосой, занавесив чубом глаза. От льнувших к нему баб в берестяных масках-личинах отмахивался. Думал о чем-то своем.
И все же одна из соблазнительниц приманила его. Стараясь держаться неподалеку, она то камешком кидала в Радко, то смеялась игривым русалочьим смехом. Потом и вовсе задрала подол выше пупа, оголив длинные ноги, пушок меж ними, гладкий белый живот. Вот Радко и не удержался, пошел за ней.
Сошлись они быстро и страстно. Женщина в маске, казалось, торопилась, не хотела ласк, а желала поскорее заполучить всего парня. Молчалива была, только дышала бурно. А когда Радко застонал сладострастно и затих успокоенно, она тут же выбралась из-под него и поспешила прочь. Радко привстал, переводя дыхание, смотрел, как ее светлый силуэт в длинной беленой рубахе растворяется во мраке. Полюбовница почти бежала, неслась туда, где за легкими рощами угадывались срубные башни Копырева конца[8]. Радко и забыл бы о ней вскоре, однако, когда из зарослей рощи у истоков ручья Кудрявца раздалось нетерпеливое лошадиное ржание, все же пригляделся. А затем услышал топот копыт. В потемках особо и не рассмотришь, но конь под ней явно не из последних, вон какой большой, быстрый, да и всадница на нем хорошо держится. Теперь она была в темной накидке и направлялась в сторону киевских городен.
Тут опять луна выплыла, осветила окрестности, и можно было заметить, что задние ноги скакуна были белые почти до колен.
– Вот это да! – почти выдохнул Радко. И повторил, подскочив: – Вот это да!
А потом зашелся громким торжествующим смехом.
Ясный месяц постепенно вышел из-за тучи. А как появился он полностью, то осветил площадку близ церкви Святого Ильи на Подоле. Служба в храме уже подходила к завершению, стали выходить прихожане. Один из них, высокий статный муж, обернулся к входной арке и широко перекрестился, поклонившись. Потом надел на голову опушенную мехом шапочку, шагнул в толпу. И тут же окликнул двоих:
– Эй, вы чего тут околачиваетесь? Или тоже уверовали?
Те приблизились. Один – крепкий молодец с пышными усами и растрепанной гривой волос, второй – худощавый плешивый мужичок с вызывающе торчащей вперед бороденкой.
– Так любопытно же нам, – молвил плешивый, разводя руками. – Всем интересно, вот и мы тоже решили…
– Решили они. Гм. Хотя… Может, и правильно, что пришли.
– Конечно, правильно, сударь наш Дольма досточтимый, – низким рокочущим басом подтвердил усатый богатырь. – И песнопения христианские нам любо послушать, да и вас проводим до дому. А то как нападет еще… кто. Народу нынче в Киев понаехало – как осы на мед слетелись. Мы же вас оградим, подсобим, чтоб не обидел никто. Ночка вон нынче какая темная, а мы… Уж мы-то!..
– Это меня-то кто-нибудь обидит? – хмыкнул названный Дольмой. – А это ты видел?
И, откинув полу легкого корзно[9], показал рукоять меча. При этом добавил:
– Глуп ты, Бивой, как горшок необожженный. Чтобы я за себя не постоял? Ну да ладно. Раз явились, составите мне свиту. – И к плешивому обратился: – А вот ты, Жуяга, зря брата моего Вышебора оставил. Тебе подле него службу нести сегодня. Ну а как понадобится ему что? А тебя нет.
Названный Жуягой плешивый засопел, перебирая концы кушака.
– Не хватится. Он же прошлую ночь развлекался, тешил себя, а сегодня целый день раны старые его мучили. Потому заботливая Яра и подлила ему макового отвара в пиво. Так что спит нынче наш господин Вышебор, как медведь в зимнюю пору. Его и ударами била теперь не разбудишь.
Сказанное не понравилось Дольме. Остановился, стоял хмурый, вздыхал тяжело, словно бремя какое нес. А то вдруг обозлился, заворчал, что больно много воли ключница его Яра взяла, раз чуть что поит его хворого брата настоями. И заторопился. Да только не больно торопиться у них получалось. Маленький Жуяга постоянно отставал. То оплетка у него на ноге развязалась и он просил обождать, пока перемотает, то засмотрелся на резное украшение чьих-то ворот и другим указывал, а в тени под горой Хоревицей[10] вообще оступился и свалился в речку Глубочицу[11]. Пришлось вытаскивать нерадивого. Долго провозились. Дольма хоть и посмеялся над своим челядинцем, но в то же время стал ворчать, что, дескать, так они до рассвета провозятся, а им еще предстоит подъем осилить на гору, на которой его дворище находилось. Вроде и не так уж трудно это, однако и не сказать, что легко. Надо было миновать заросли под горой, потом крутой подъем. На коне было бы легче. И только Дольма помянул про коня, так сразу и услышал, как за спиной быстро проскакал верхом кто-то из спешивших на Хоревицу. Во тьме не разглядеть. А тут еще Жуяга, которого только что вытянули из воды, опять рухнул в речку. Пришлось вновь вытаскивать.
Купца Дольму это уже не веселило. Схватил Жуягу за шиворот, тряхнул, подзатыльник отвесил. И голос у самого суровый:
– Не нарочно ли ты уже дважды искупался в Глубочице, песья твоя кровь? Гляди, еще раз свалишься, я не то что тебя вытаскивать не стану, а сам потоплю, чтобы не морочил нам с Бивоем голову.
Здоровенный Бивой даже хохотнул.
– Вы только прикажите, хозяин, я сам этого плута на корм русалкам отправлю.
Дольма уже шагнул в тень зарослей под Хоревицей, но тут оглянулся.
– Не болтай глупости, Бивой. Русалки – это всего лишь выдумки невежд. Чтобы больше от тебя подобного не слышал. А теперь идемте, сказал!
Ночь уже вступала в свою вторую половину. Душно было. Даже там, где у причалов в гавани Притыке[12] покачивались струги со спущенными парусами, овеваемые легким ветром с Днепра, дыхание ночи не освежало. Корабли чуть поскрипывали снастями, почти соприкасаясь бортами; хлюпала вода, на носу одной из ладей горел фонарь и был виден силуэт заснувшего стражника. А у оснований мачт то там, то тут виднелись пестрые палатки, в которых почивали те из ромейских гостей, которые предпочли не селиться в княжеских хоромах или кому просто не хватило места.
Один из них, позевывая, вышел из палатки, посмотрел по сторонам. Выплывшая луна осветила его длинное темное одеяние, пышную бороду, под которой блеснул металлический крестик. Священник из тех, кто прибыл на Русь, дабы обучать новой вере местных жителей.
Сейчас он стоял, закинув голову, любовался лунными бликами на воде, прислушивался к отдаленным голосам сторожей-обходников дворов Подола, перекликавшихся между собой. Потом широко перекрестился и стал шептать молитву. Но не успел докончить, дернулся, вскинул руки и стал оседать, пока не рухнул на палубу. Из его груди торчала длинная оперенная стрела.
В предрассветный час стало совсем тихо. Даже собаки, что порой побрехивали по дворам, и те угомонились. Тучи разошлись, луна скатилась за киевские возвышенности, лишь сверчки стрекотали во влажных от росы зарослях на склонах. Именно в это время по спуску с горы Хоревицы осторожно сошел закутанный в широкую накидку человек. Островерхий башлык его был надвинут на самый кончик носа, скрывая лицо, а через плечо был перекинут тяжелый мешок.
Шел человек осторожно, озирался при спуске, а когда спустился на низинный Подол, каждый раз выглядывал из-за частоколов дворов киевских ремесленников, прежде чем шагнуть дальше. Так, украдкой, он миновал изгороди и заборы, вышел к самому Днепру и, скинув свою ношу, начал спешно отвязывать одну из привязанных к колышкам лодок. Замирал порой, опять оглядывался и почти приник к земле, когда показалось, что сторожа направляются в его сторону. Но те прошли мимо, и таинственный путник втянул в лодку свою ношу. При этом мешок чуть шевельнулся, послышался глухой, полный муки стон. И тут же в руке мужчины появился длинный нож, он ударил им по мешку раз, еще раз. Звук был глухой, чуть хлюпающий. В следующий миг лодка отчалила, быстро пошла по водам Днепра к виднеющимся вдали островам, заросшим кудрявым кустарником. И там, уже на середине реки, мужчина скинул мешок в воду. Тот потонул мгновенно. Все, теперь убийца уже не переживал, перевел дыхание, забормотал что-то глухо. И поплыл назад, неспешно, как человек, выполнивший свою работу.
Глава 1
Ювелиры из Константинополя недаром считались лучшими в мире мастерами своего дела. Умели делать украшения в Византии! И эта диадема с шлифованными рубинами и изумрудами, блестящей эмалью по золоту и скатным жемчугом, свисающим подвесками… Да и само золото ажурной работы. Красота! А если подобное диво венчает темноволосую головку молодой женщины, то вообще глаз не отвести!
Вот князь Владимир и не мог насмотреться на свою раскрасавицу-жену Анну, царевну византийскую. Она сидела перед зеркалом из полированного серебра, вдевала в ушки ажурные мерцающие серьги, но заметила в отражении замершего у арки входа Владимира и вспыхнула; опустила длинные ресницы. В уголках ее маленького сочного рта появились милые ямочки – Анна старалась удержать улыбку, довольная тем, как восхищенно смотрит на нее супруг, но и растеряна была. Не привыкла еще, что муж входит к ней запросто, без положенного церемониала – взял и вошел.
Но если царевна смолчала, то ее женщины сразу всполошились. Заметались, заахали, старшая зоста[13] даже попыталась преградить Владимиру путь к Анне.
– Не время, не время, архонт[14]! – замахала она руками на князя. – Порфирогенита[15] еще не готова к выходу.
Что ж, эта тучная величественная женщина уже весьма неплохо изъяснялась на местном наречии, но то, что она говорила, совсем не понравилось князю. Когда же эти прибывшие с Анной служители поймут, что он тут главный?
Когда уразумеют, что их порфирогенита тут прежде всего его супруга?
– Я буду ждать жену в гриднице, – только и сказал князь Владимир, выходя.
Сам же подумал: пора уже услать добрую половину этих квочек обратно в Царьград[16], нечего им тут командовать да лезть в его семейные дела с Анной.
А спустившись в обширную гридницу[17] княжеского терема, увидел и прибывших с Анной из Византии ее спутников-ромеев – все нарядные, в длиннополых одеждах, в складчатых хламидах, сколотых на плечах. Они почтительно склонились перед правителем Руси, но потом, выпрямившись, смотрели точно с вызовом. На своих базилевсов[18] эти придворные прихлебатели так бы не пялились. Но тут, на Руси, они считали себя лучшими людьми, вот и возомнили, что смогут влиять на князя Владимира. И опять подумалось князю: услать их всех надо побыстрее к лешему… вернее, к их базилевсу, который был для Владимира так же незнаком и непонятен, как леший из глухих чащ. Пусть он и считался крестным отцом русского князя, пусть при крещении Владимир получил имя своего крестного императора – Василий.
Князь давно подумывал о крещении, но окончательно принял веру, когда захватил в Таврии ромейский город Корсунь[19] и посватал сестру византийских правителей Василия и Константина[20]. Такого никогда еще не бывало, чтобы рожденная в пурпуре царевна становилась женой иноземца, – законы ромейские подобного не позволяли. Однако Владимир настоял – и у него вышло. Так отчего же эти надменные ромеи смотрят на него как на варвара, которому стыдно поклоняться?
Владимир шел прямо на них, видел, как они косятся на его пурпурные сапоги, будто князь Руси не должен был рядиться в царственный пурпур. А вот и должен! Он теперь родня базилевсов и имеет право на царственное облачение, как и может наряжаться в длинные одеяния золотой парчи, к которым уже начал привыкать и которые особо ценил, когда следовало подчеркнуть свое высокое положение. Да и Анне так больше нравится.
При мысли об Анне настроение сразу стало лучше, спина выпрямилась. Владимир гордо прошел мимо расступившихся ромеев, как ладья сквозь болотную ряску, направился к своим верным боярам. А те тоже вырядились по ромейской моде – все парча да бархат, шелковые накидки, пояса, украшенные самоцветами. Правда, шапки, опушенные мехом, носили по местному обычаю. А почему нет? Меха – самая большая ценность Руси. Торги пушниной немало богатства в казну княжескую добавили, ведь известно, что на рынках Царьграда за них отменную цену дают. Правда, жарковато сегодня для мехов-то. Ну да ничего, пар костей не ломит. А на парчовых шапках собольи и куньи меха только богаче смотрятся.
Впрочем, Добрыня, дядька князя, все еще ходил в льняной одежде местного кроя, разве что плащ пестрый на плечо накинул. Но зато в такой одежке ему не так жарко по липневому[21] пеклу. А свои длинные, с легкой проседью волосы Добрыня просто стянул в конский хвост. И все равно величавостью своей худощавый, жилистый дядька князя не уступит иным собравшимся. Вон как почтительно с ним держатся нарочитые люди[22] князя – и боярин Волчий Хвост, и воевода Блуд, и витязи Светлоок и Ясень, и даже обряженный в византийскую парчу известный купец Дольма.
Владимир приблизился к Добрыне, улыбнулся приветливо.
– Где наш поп Анастас? Готов ли провести службу?
– Уже дожидается, государь. Чтобы наш Анастас да не справился!
И глаза у самого заблестели задорно.
Глаза у них с Владимиром были похожи, темно-карие, а вот в остальном дядя и племянник имели мало сходства: Добрыня был смуглый, темноволосый, а Владимир и впрямь Красно Солнышко – светлый ликом, русые волосы выгорели до пшеничного оттенка, только бородка, небольшая, холеная, немного темнее. Встретив уже тридцатую весну, Владимир был дивно хорош собой – статный, широкоплечий, рослый, его воинскую выправку не мог скрыть даже блистающий парчовыми узорами дивитисий[23] ромейский. И улыбка у него была хорошая – ясная, белозубая, светлая. Сколько женских сердец взял князь в полон своей чарующей улыбкой! Но сейчас в ней чувствовалась и некая насмешка. Он ждал, как отреагируют все эти прибывшие с Анной из Византии ромеи на то, что князь Руси сам выберет себе служителя их Бога. Хотя… теперь это Бог и самого Владимира, и его ближайшего окружения, его дружины, его сыновей. А патрикиям[24] и служителям церкви, присланным от базилевсов, все кажется мало. Они прибыли, чтобы проследить и позже доложить в Царьграде, что возлюбленная сестра императоров попала в по-настоящему христианскую страну. Как и нужно убедиться, что Русь считается с требованиями Царьграда.
Последнее особо напрягало Владимира. Ему было хорошо оттого, что он наконец определился с верой. Он постигал ее тонкости, начал принимать ее душой… а тут эти дела политические. Политика. Ишь какое слово придумали греки, чтобы объяснять свое давление на князя. Думают, что раз отдали ему порфирогениту по требованию, то теперь пришел их черед проявлять волю и ставить условия. И так наседают, словно имеют право увезти назад царевну, если варвар Владимир их не послушает. Ну да жменю ветра они получат в ладонь, а не Анну! Да и сама царевна уже не пожелает вернуться… Так хотелось верить князю, учитывая, какие отношения сложились у него с его венчанной у алтаря женой.
А ведь и ранее у него были жены – четыре водимых[25] супруги имел Владимир, когда поклонялся старой вере. И это не считая полюбовниц без числа, каких собирал отовсюду, где какая на очи ему попадется. Целый терем заселил князь любушками своими в загородном имении Берестове, да только все это до Анны было. Теперь же, как и положено у христиан, одна у него жена, одна царица… раз уж титул княгини она ниже своего достоинства считает. Ну и пусть ее так кличут. Ей – утеха, Владимиру – слава.
Анна наконец появилась на высокой лесенке. Сходила, будто плыла. Покачивались длинные подвески, блистал каменьями лор[26], диадема вон та же цареградская. Ей поклоны все отвешивали, а она и не глянет, идет, горделиво вскинув голову на длинной, как стебель цветка, шее.
Владимир шагнул к своей царице. И подумалось: ранее, когда жил тут куда проще, он мог бы запросто обнять свою жену за плечи, шагнуть с ней вместе под расписную арку выхода навстречу лучам солнца… как и ныне выходил бы какой-нибудь счастливый купец со своей ладой милой, как он сам некогда выходил с другими любушками… с Рогнедой.
Но о бывших думать сейчас не стоило. Особенно о Рогнеде. Да и не должен он, носящий пурпур, уподобляться простым смертным. Он выше. И сам это понимал, и Анна так поясняла. Владимир соглашался с ней. Теперь его удел будет особым. Поэтому лишь протянул царице руку, посмотрел, как маленькая, мерцающая каменьями перстней ручка легко легла на его сильное запястье.
Княжий дворец был из камня, еще бабкой Владимира княгиней Ольгой возведенный на Горе киевской. Арка выхода на крыльцо, красиво расписанная узорами, как исстари любили на Руси терема украшать, притягивала взор, но была довольно низкой – уж как построили. А как выйдешь – солнце так и освещает, бьет в глаза. А если прищуриться, то первое, что видно, – это расставленные по двору бронзовые изваяния, какие Владимир привез из завоеванного им Корсуня. Больше всего ему нравилась квадрига летящих коней в бронзе. Скакуны как живые получились, только Владимир все еще не решил, тут ли оставить или водрузить на какое иное место. Но не сейчас же думать об этом!
Вслед за Владимиром и его царицей выстраивалось шествие, тиуны[27] учтиво указывали нарочитому люду, кому где стать в процессии, но приближенные и так уже знали каждый свое место, не толкались, как ранее бывало. Впереди же шли ромейские священники с блистающими на солнце крестами, хоругвями, кадилами, окуривая путь венценосной четы ароматом ладана. Сладко пел хор, сперва юные мальчишеские голоса, потом солидно подпевали дьяконы. Пышной процессией вышли они из ворот княжеского подворья, двинулись по мощенному плахами проходу между дворами туда, где на широком месте на возвышенности должна была проходить церковная служба. Народу вокруг собиралось немало, и хотя киевляне уже стали привыкать к пышным выходам князя и его свиты, присутствовать при молебнах Владимира им нравилось. Празднично, красиво, нарядно. Всем любо было поглядеть, как это оно, новую веру вводить.
В сей день служба должна была пройти на месте бывшего капища старых богов. Сейчас там возвышался высокий деревянный крест. Светлое выструганное дерево в лучах солнца казалось золотистым, верующие христиане украсили его свежими цветами. Владимир сказал всем, что здесь будет церковь во славу святого Василия, именем которого он был окрещен. Неподалеку уже лежали штабеля досок и каменные блоки для постройки. Но пока построят, можно и под синим небом провести службу во славу истинного Бога, перед высоким деревянным крестом.
Владимир сам не очень понимал, что чувствует, глядя на крест. Но что трепет в душе был куда сильнее, чем когда на идолов поглядывал, – несомненно. Хотелось разобраться в этом чувстве, понять, что так волнует душу. Но отвлекало мирское. Как отнесутся все эти ромеи заносчивые, когда увидят, что службу проведет не их епископ Иаков, а назначенный для этого Владимиром Анастас Корсунянин. Тот, кто еще в завоеванном Корсуне объяснял Владимиру все, что касалось новой веры, поучал, давал советы, исповедовал. И Владимир хотел, чтобы главой его церкви в Киеве стал выбранный им священнослужитель.
Анастас вышел вперед, худощавый, темноглазый, в белой камилавке и темном длинном облачении, на котором сиял серебряный крест на цепи. Он поклонился и начал вести службу, не обращая внимания на легкий ропот стоявших за князем византийцев. Зычно звучал его голос, пел хор, в воздухе плыли завитки ладана. Анастас подготовился отменно, к служению не придерешься. И ромеи постепенно умолкли, склонили головы. Даже Анна подле Владимира заулыбалась. Сказала мужу, чтобы он понял ее по-русски:
– Лепо. Ох, лепо мне.
Что ж, если сама царица довольна, то и другие ромеи не будут пенять.
Однако те все-таки пеняли. Уже после службы и последовавшего за ней пира, когда кажется, что на сытое брюхо и ворчать не будешь, эти все же разошлись.
– Кто таков этот Анастас? Отчего его возвысил, отринув тех пресвитеров, каких отобрали для служения в самом богохранимом Константинополе?
– Такова моя воля, – мягко, но решительно ответил Владимир.
– Чтобы проводить службу для царицы, кого попало выбирать нельзя.
Анна сидела в позолоченном кресле подле супруга, прямая, внешне вполне спокойная, но Владимир слышал ее учащенное дыхание.
Князь чуть склонился к ней:
– А ну скажи, чтобы твои угомонились. Иначе со мной разговор короток: посажу под белы руки на челны – и пусть отправляются восвояси.
Сказал это, обращаясь к жене, но так, чтобы слышали все.
Вперед вышел состоявший в свите Анны евнух Евстахий.
– Сиятельный архонт, мы не можем покинуть Киев и Русь, пока не убедимся, что оставляем порфирогениту в христианской стране. Можешь погубить нас всех, ты тут властелин, однако мы не сядем на корабли, пока не удостоверимся, что тобою были выполнены обещания и привнесен свет истинной веры в эту страну.
Владимир бросил колючий взгляд на евнуха. Ишь ты, рожа оплывшая. Евнух. Гм. Владимиру уже рассказали, что с такими еще в детстве сотворяют, евнух и не мужик после этого вообще. Да и голос у него, как у бабы иной, – тонкий, противный. Но знает ведь, убогий, чем подколоть. Не может Владимир выгнать их в три шеи, не порушив тем самым недавно налаженные отношения с Византией и новоявленной цареградской родней.
Князь опустил глаза, вздохнул несколько раз глубоко, успокаиваясь, и заговорил миролюбиво:
– Что вас не устраивает, ромеи достославные? Разве мало сделано для того, чтобы вы видели, как держава моя принимает христианство? Я сам крестился, дружинники мои веру Христову приняли еще в Корсуне. Вы все тому свидетели. А здесь, в Киеве, разве мало моих бояр вы видели на службе во славу Всевышнего? Всегда так начинается: сперва лучшие люди принимают веру, а затем, глядя на них, уже и народ подражать начинает. Жен у меня было много, в том признаюсь, но, обвенчавшись с Анной-красой, я от связей с ними отказался: кого отпустил восвояси, но большинство выдал замуж за хороших людей, за христиан. Так и говорил: которая крестится, той приданое дам немалое. Так что теперь я следую обычаю иметь только одну жену, и бояре мои это же приняли, выслав полюбовниц и меншиц[28], оставшись только с венчанными супругами. Неужто этого мало? И не вы ли присутствовали, когда я окрестил всех своих сыновей у ручья в долине[29], сделав христианами своих наследников и явив тем пример своим людям?
– Ты говоришь только о знати, архонт, – подал голос епископ Иаков, обиженный, что Владимир не желает назначить его митрополитом в Киеве, а явно готовит это место для Анастаса Корсунянина. – Знать – это лишь малая часть людей в державе. Мы же ждем, когда народ свой начнешь крестить.
Этот епископ, сам родом из Корсуня, хорошо говорил на языке Руси. Да и люди в его свите тоже знали местное наречие. Вот они и сообщали Иакову, какие настроения в Киеве по поводу смены религии. Он знал, что многие из русичей по-прежнему чтут старые божества, а также имеют у себя в домах их маленькие изваяния, коим поклоняются, и даже отмечают старые языческие действа с воспеванием местных бесов. А потому сказал, что еще прошлой ночью на поле за городскими укреплениями творилось невесть что.
«Наверняка на гуляния Даждьбога какие-то глупцы собрались», – отметил про себя Владимир. Он слушал спокойную речь преподобного Иакова, велеречивую, но снисходительную, и чувствовал, как в душе его закипает гнев. Но когда заговорил, то едва не улыбался – научился князь у ромеев их почти душевной манере высказываться.
– Владыко, мне рассказывали, что христианская вера не сразу и в Константинополе прижилась. Отчего же вы требуете, чтобы я совершил чародейство и в единый миг сделал всех своих подданных верными непривычной им новой религии? Вон тот же Анастас Корсунянин говорил, чтобы мы милосердно вводили новые христианские законы, общались с киевлянами мирно, постепенно прельщая их истинной верой. Он сам так поступает, и у него получается, клянусь в том крестом, в который верю!
Но тут евнух Евстахий сообщил новость, к какой Владимир не был готов. Оказывается, прошлой ночью убили до этого мирно проповедовавшего в Киеве священника отца Нифонта. Он был найден пронзенным стрелой в ладье, на которой ночевал.
Рядом с Владимиром тихо ахнула Анна. Сам он задышал бурно и тяжело. Он знал этого священника – заросший бородой, коренастый и приветливый, Нифонт ходил по Киеву без опаски. И киевлянам он вроде нравился.
– Я прикажу вызнать, кто совершил подобное, – произнес глухо Владимир. – И накажу за это злодеяние.
– Ой ли? – всплеснул пухлыми ручками евнух. – Мне говорили, что у вас есть пословица: «Ветер в поле не поймать».
– Лови ветра в поле, – поправил князь. Но смысл был тот же. Владимир и сам понимал, что разыскать в многолюдном Киеве того, кто мог сразить стрелой несчастного священнослужителя, по сути невозможно.
Епископ Иаков широко перекрестился – все последовали его примеру, – а потом сказал:
– Теперь вы сами видите, высочайший Владимир, что ваш народ, некрещеный и не обученный истинной вере, будет творить зло христианам. Пока вы не подчините своих людей, пока будете… прельщать их, как вы сказали, нам опасно оставлять тут порфирогениту и ее слуг.
«Ну, Анне-то ничего не грозит, я за нее и град сожгу», – подумал Владимир. И вдруг заявил:
– Клянусь своей душой, что и пары седмиц[30] не минует, как я крещу каждого, кто ходит под моей рукой, – будь то воин, смерд или мастеровой с Подола. Даю вам мое княжеское слово в том!
– Ну, это ты зря им такое пообещал, сестрич[31], – сказал позже Добрыня, когда они вечером сидели в светлице терема у раскрытого окошка. – Слыханное ли дело, крестить толпу, когда у многих того и на уме еще нет.
– Я слово дал, – угрюмо произнес князь. А потом стукнул кулаком по оконному наличнику. – Я подчинил весь Киев, когда брал эту землю, и никто даже пикнуть против моей воли не посмел! Неужто теперь, будучи в такой силе, я не смогу загнать киевлян в воду да крестить по своей воле?
Добрыня перестал играть рукоятью ножа, замер на миг, о чем-то размышляя, а потом усмехнулся.
– А ведь это хорошая мысль – согнать народ к реке и отдать всем скопом под волю Иисуса Христа. Подобное наверняка произведет впечатление. Однако и сопротивляться многие будут. И чем яростнее, тем больше потом станут выказывать свое недовольство ромеи.
Владимир молчал, дышал бурно.
– Придумай что-нибудь, Добрыня. Ты всегда мог найти выход там, где его даже не было.
В голосе великого князя неожиданно прозвучали почти молящие интонации. Как в те времена, когда он был совсем юнцом и во всем полагался на силу и смекалку верного дядьки. Добрыня даже удивленно выгнул брови: давно он не слышал такой мольбы от вошедшего в силу самоуверенного сестрича. Ну да Владимир – сокол, когда битв и походов касается, тут у него умение не хуже, чем у его родителя Святослава. А вот когда дела непростые государственные возникают, бывает, что он теряется. Как, к примеру, сейчас, когда к дядьке своему с просьбой обратился. Ну как тут отказать?
И Добрыня сперва поведал, что недаром по его приказу всех волхвов в округе схватили и отправили подалее – держат в заточении в пещерах, какие исстари зовутся Варяжскими. Сделано это для того, чтобы служители старых богов не мутили народ, не настраивали против христиан, не грозили карами от былых небожителей. И если не будет в толпе истовых почитателей Перуна и других покровителей, остальные не сильно и противоречить станут, опасаясь гнев властей на себя накликать. Хотя… Нашлись же такие, кто попа ромейского сгубил, не побоялся. Но сделано это было тайно, исподтишка. Значит, особой силы за ними нет. Зато сила есть у князя и его дружины, в которой, почитай, все уже крестившиеся.
И если дружинники выйдут в назначенный день в полном вооружении да начнут теснить простой люд к реке, кто посмеет бузу устроить? Сдержались же киевляне, когда идола Перуна катили по Боричеву увозу к реке. Ну порыдали, попричитали, тем все и кончилось.
Но одно дело – силу показать, а другое – милость. А потому не мешало бы выбранный для крещения день сделать праздничным. Пусть глашатаи кричат на каждом лобном месте, что гуляние великое для крещеных состоится, что одарят их из княжеской казны в честь принятия новой веры. И пусть не поскупится князь Владимир, который, впрочем, никогда не был в скупости уличен, – о том сейчас по всей Руси весть идет и песни поют.
– Да разве я когда жалел что-то для людей своих!.. – даже привстал с места князь, улыбнулся.
Но Добрыня был сосредоточен. Сказал, что надо, чтобы все дни до срока крещения священнослужители рассказывали людям о новой вере, учили их, а то и выгоду поясняли. Пусть втолкуют, что быть под защитой единого Бога – это как оказаться под рукой сильного князя-защитника. Да и вообще вселюдное крещение – это и праздник, и развлечение для людей. А еще пусть пояснят, что после того, как крестились, старые боги им уже не будут покровителями, а значит, надо верность новой вере хранить. И тогда добрый Христос их защитит.
– Еще важно, чтобы кто-то собой пример явил, первым вступив в воду для крещения, – добавил, поразмыслив, Добрыня. – Кто-то почитаемый во граде и окрестностях. Вон тот же боярин Блуд говорил мне, что готов со своим семейством при всем честном народе провести обряд крещения в водах. А как увидят люди, что Блуд с родней и челядинцами с готовностью идет принимать новую веру, то и потянутся следом.
– Блуда в Киеве не больно жалуют, – пощипывая бородку, молвил князь.
Боярин Блуд еще при отце его князе Святославе возвысился, потом и Ярополку служил. А как пришел Владимир, то сразу к нему переметнулся. Правда, о его измене Ярополку изначально мало кто ведал. Блуд вроде как при прежнем князе остался, но именно он уговорил его покинуть Киев и перебраться в более южную крепость Родню. Родня хоть и невелика, но насыпи там высокие, тын крепкий, с ходу захватить трудно. Однако Владимир не стал захватывать эту крепость. Просто окружил своим войском и держал в осаде, что привело к страшному голоду в Родне. Люди даже говорили: «Беда, как в Родне».
Тогда Блуд опять помог Владимиру: он убедил Ярополка встретиться с братом Владимиром и переговорить обо всем. Когда же ворота открыли, туда первыми зашли наемники-варяги, которые сразу ворвались в княжий терем, а Блуд даже захлопнул за ними створки дверей, чтобы никто не смог оказать помощь оставшемуся внутри Ярополку. Так что когда Владимир прибыл в Родню, все было кончено. Блуд тогда первый сказал, что теперь у Владимира нет более противника, и указал на окровавленное тело его брата.
Владимир после этого возвысил оказавшего ему помощь Блуда. А вот в Киеве того невзлюбили. Не так дорог был киевлянам Ярополк, как само предательство вызвало неприязнь к боярину. И пусть при дворе Владимира Блуд отныне и был в чести, а все же молва о нем в народе шла недобрая.
– Не пойдут люди за Блудом, – помолчав, повторил князь. – Не люб он им.
– Ну тогда пусть Дольма окрестится. Этого в Киеве почитают.
– Да он же и так христианин, причем давно, – удивленно заметил Владимир.
Добрыня лишь хмыкнул. Откинулся на бревенчатую стену, улыбнулся.
– Что с того, что Дольма христианин, если семья его и ближники все некрещеные. Пускай он первый и выйдет, являя пример, да поведет за собой родню на обряд. Поверь, Владимир, Дольма не станет отказывать тебе в такой услуге. И уж если этот любимец киевский покажет, что делов-то всего ничего, то многие ему подражать начнут. Даже если тот же Блуд на крещение выйдет, люди не за ним, а за Дольмой пойдут, я уверен.
Владимир глубоко вздохнул. Смотрел в окошко. С высокого терема было видно, как золотятся в закатных лучах заднепровские дали, как привольно течет река, огибая острова с кудрявыми зарослями. Под самой Горой еще шумел Подол, мерцал множеством огней, ясно вспыхивали алым отсветом заката петушки на крышах богатых дворов. Сверчки вечерние уже начали стрекотать, собаки вдали взлаивали, девичий смех доносился. Но скоро все стихнет, люди начнут укладываться, еще не зная, что судьба их – будущих христиан – уже предрешена.
Князь смотрел на свой город, а думы его были лишь об одном человеке, о Дольме, прозванном в Киеве соляным купцом. Происходил этот Дольма Колояров сын из старого киевского рода, даром что его прадед был варягом, пришедшим сюда с севера вместе с Олегом Вещим. Потом варяг этот женился на киевлянке, тут потомки его родились, тот же Дольма, любимец киевский.
Дольма всегда был приветливым и щедрым с местным людом. Он скупал мед по окрестным землям, отвозил его на юга, до самого Корсуня Таврического, где продавал ромеям, а оттуда его ладьи возвращались в Киев нагруженные солью. Соль в этих краях всегда пользовалась спросом, Дольма же цену не ломил, его богатств хватало, чтобы быть милостивым и не драть в три шкуры. И хотя сам по себе Дольма был не очень общителен, но на положенных пирах-сходках купеческих всегда щедро выставлялся и был внимателен к старостам городских концов[32], к почтенным старым боярам. Так что, даже будучи христианином, Дольма пользовался расположением киевского люда. Да и собой соляной купец был хорош, а жена его вообще слыла первой красавицей во граде. Брат младший его Радомил – или Радко, как все называли, – слыл известным бузотером, однако и его люди любили за удаль и незлобивый нрав. Про старшего же брата Дольмы Вышебора всякое поговаривали – и недобрый он, и в походах лютовал. Ну так то в походах, не у себя же во граде. После того как Вышебор покалечился в схватке с дикими вятичами, слухи о нем вообще сошли на нет. О Дольме же всегда говорили с почтением, считали его честным торговцем, даже не пеняли, что он открыто посещал христианскую церковь Святого Ильи на Подоле.
– Ладно, – произнес Владимир. – Пусть все готовятся ко дню крещения. И будет великое гуляние в этот день.
Добрыня поднялся, оправил пояс.
– Добро. С Дольмой я сам поговорю. Не откажет же он мне.
На том и порешили.
Глава 2
И началась подготовка. По всему Киеву, по теремам Горы, по застроенному тесно Подолу, по заселенным возвышенностям Хоревицы и Щекавицы, по урочищам Гончары и Кожемяки, даже по Оболони низинной[33] – везде ходили люди Владимира, кто с дружинниками, кто со священниками, кто просто с толпой нарядных княжеских ближников. И не просто ходили, а угощали медами да винами заморскими, не забывая при этом нарядами похваляться, ссылаясь на свое везение, какое от милости доброго Христа получили. От него, Всевышнего, их благосостояние и удача – так говорили. А кто сомневался, то пояснять начинали, убеждать, а когда и спорить о новой вере.
Сновали в толпе и другие люди от князя, неприметные, нешумливые, – эти просто слушали, что народ болтает, особенно там, где священники растолковывали собравшимся суть постулатов христианских. К каждому из священников были приставлены толмачи, чтобы переводить сказанное. Кто выслушивал внимательно и с интересом – новые сказы всегда людям любы, – а кто и возмущаться начинал. Дескать, какой такой чужой Бог надобен, когда и своих хватает? Ведь исстари так жили.
– Но повалили же ваших богов-истуканов, – возражали княжьи засланцы. – Все видели, как самого Перуна опрокинули. И что? Не побил молниями Перун Киев-град, не случилось никакого ненастья и беды.
– Ну, это еще посмотрим. Помстится еще за себя Перун Громовержец!
– А разве вы ждете этой мести? Похоже, вам хоть бéды да нелады, только бы на своем настоять. А вот истинный Бог учит: прощайте врагов своих. Живите в ладу. А где лад – там и клад. Хорошо заживем, когда смиритесь, и Создатель всего сущего пошлет вам благо и мир.
Чужой Бог казался киевлянам уж слишком милосердным, но при этом – хитрым. Судачили, что, мол, от добра добра не ищут. Спорить начинали. Поэтому люди князя, слушавшие подобные рассуждения, отмечали самых упорных, к ним особое внимание было. Обижать не обижали, но уговаривали и прельщали постоянно. Если же чересчур непримиримые попадались или кто-либо злобу проявлял, то всегда находился повод услать такого, а то и намекнуть… припугнуть.
Вечером докладывали: к вере христианской все больше молодежь склоняется. Молодым-то всегда новое любо и интересно, а за молодежью будущее. Поэтому особенно щедро угощали таких, нахваливали и заявляли, что именно им, молодым да рьяным, грядущее строить, да еще с милостью от князя. «А как же старые наши игры, праздники?» – интересовались парни и девушки. Всем им было любо на Купалу жечь костры и купаться в потемках, на Масленицу печь блины и кататься на санях, в темные ночи Корочуна[34] рядиться в личины духов и требовать угощение по дворам. На это отвечали: «Старые обряды никто не отменяет, будет вам веселье, но с условием, если потом к молитве прибегнете. Так что гуляйте и веселитесь сколько душе угодно. Главное, чтобы старые верования близко к сердцу не принимали».
Но если молодых предстоящие перемены привлекали и вдохновляли, то старики упорно держались за старые верования. Сложно им было, пройдя свой век, сроднившись с привычными обычаями, вдруг столь круто менять уклад жизни. Вот и злились старики, спорили. Однако и они от угощения с княжеского двора не отказывались. Владимир Красно Солнышко – щедрый князь, так почему бы и не угоститься? А вот в кого верить они будут… Это еще как поглядеть.
Везде только и разговоров было, что о новой вере, – и в мастерских, и в теремах, и в лавках, и в лачугах. И все больше ширилась по граду весть, что в определенный день их всех созовут к речке Почайне, какая текла к Днепру по застроенному избами Подолу к гавани Притыке. Готовясь к предстоящему, все суда из гавани отвели, и теперь они стояли рядами вдоль островов и берегов Днепра, упершись птицеобразной грудью в песок побережья. А все для того, чтобы установить на берегу Почайны множество помостов, на которых будут стоять священники и вершить обряд. На возвышенностях же соберутся уже крещеные градцы, дабы наблюдать, как остальной народ обретет истинную веру. Сообщалось, что надо будет войти в воду по грудь, окропиться и крестное знамение совершить. «Какое еще знамение?» – спрашивали несведущие. Им показывали, и многие повторяли, коснувшись сперва лба, потом груди, а затем плеч. «Всего-то и делов? – удивлялись. – Ну а потом к столам пиршественным позовут?» – «Всенепременно», – заверяли их. Как тут было не согласиться? Ведь в Киеве будет такое гуляние, какого еще отродясь не было!
При этом же сообщалось, что, если кто заартачится и не выйдет в назначенное время к Почайне, тот на милость князя пусть не надеется, таких и выгнать из града могут. Пусть тогда разыскивают по лесам и болотам старые капища, где волхвы живут, ожидая новых подношений, чтобы, как и ранее, дурить люд своими гаданиями и предсказаниями пустыми.
«Если предсказания ведунов пустые, отчего вы их так опасаетесь? – спрашивали. – Отчего ни одного служителя старых богов во граде не видно?» – «Так не любы они князю, – отвечали. – И если не хотите судьбу их повторить, идите к Почайне, когда бирючи[35] огласят о крещении. Всяк туда пойдет – и бояре нарочитые, и торговцы именитые, и ремесленный люд, какому выгодно и в дальнейшем на Подоле дела свои продолжать, жить и трудиться в Киеве, да еще и с благословения сильного единого Бога. Один Бог – это как один князь. Всякого защитит, всякого выслушает. Вспомните, как раньше князья воевали друг с другом, а простому люду от того было одно разорение и горе. Так и боги ваши каждый себе требы желал, подарки и подношения требовал, а то и человеческую жизнь. Сейчас же милость Всевышнего на каждого распространится, кто защиту от святого креста получит. А крестики вам подарят, едва из воды крестильной выходить станете. Всякий, кто на себя его наденет, получит оберег такой силы, что никакие старые боги и духи ему уже нипочем станут. Так что и душу свою спасете, и после смерти отправитесь в райские сады небесные, жить там вечно будете новой радостной жизнью».
Что значит жить вечно, люди не понимали. Но сама мысль о дивном будущем после ухода за кромку тешила и была интересна. Однако смущало иное: если под нового Бога идти, то как же пращуры, ушедшие раньше некрещеными? Неужто их теперь и блазнями[36] прозрачными не удастся встретить?
«Можно подумать, что вы раньше с уже ушедшими пращурами виделись после их ухода, – отвечали сомневающимся. – А так каждый крещеный на том свете под защитой самого Создателя будет, и кто знает… Он ведь добр, он всякого услышать может».
И опять пересуды шли по граду, страхами люди делились, но и надеждами.
А потом настал тот день.
Казалось, само небо желало, чтобы все прошло как можно лучше: солнечно и ясно было под синим небом, но не жарко, не душно, тепло. Весь мир сиял ясным светом, музыка играла, гусляры и дудошники устроились на помосте, а там подошли нарядные по такому случаю те из киевлян, кто уже крест на себе носил. Вскоре загудела сурьма[37] и к берегам Почайны с Горы сошли сам князь со своею царицей. На голове Владимира сияла диадема, увенчанная сверху сверкающим алмазным крестом. Такой же крест был и у Анны Византийской. Они ступили на высокий помост, а отроки в белых одеяниях держали над ними навес, украшенный пышными перьями диковинных птиц. Слышалось пение торжественное, священники кадили ладаном.
Анастас, епископ киевский, Иаков Корсуньский и множество иных священников стояли в сияющих облачениях у самой воды и читали положенные молитвы. Киевляне же собирались шеренгами, поглядывали друг на друга – все в новых белых рубахах, босые, чтобы ступить в воду. И много их было – и с подольских улиц шли, и с Горы по спускам шествовали.
Кто-то указал на боярина Блуда – этот всю семью привел, а еще воинов из своей дружины, челядь домашнюю, рабов. Рабам обещали свободу после крещения, говорили, что никто их после принятия новой веры продавать и менять больше не станет. А там и купец Дольма Колояров сын со своими показался. Люди на него смотрели, перешептывались: мол, чего это он тоже к реке идет, ведь крещеный уже?
Дольма шел, точно плыл, – степенно, неторопливо, важно. Кто-то сказал, что этот киевлянин похож на те изображения на иконах, какие попы людям показывали: худощавое лицо, длинные гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор, небольшая бородка, брови темные над ясными глазами. В белой рубахе он смотрелся проще, чем когда разгуливал по граду в пестром корзно и обшитой мехом шелковой шапочке. Купец Дольма привел с собой всю родню некрещеную – и жену Мирину, красавицу писаную, длинные косы которой ниспадали почти до колен; и младшего брата Радомила, или Радко, как того в Киеве называли. Обычно это был шумный, дерзкий парень, известный на всю округу своими проделками, однако сейчас он, как никогда прежде, был серьезен и сосредоточен. А затем все обратили взоры на старшего из их рода, покалеченного дружинника Вышебора, угрюмого и замкнутого, которого катили в кресле на колесах. Он и сейчас смотрел исподлобья, но не перечил, когда Дольма оглянулся и что-то сказал ему, повелев при этом двигавшему кресло холопу подкатить увечного брата к самой воде. Слуг с ним явилось немало – богатый двор у Дольмы на горе Хоревице, да и на Подоле немало людей служат в его лавках. И всех он привел с собой к Почайне.
Собравшиеся киевляне расположились рядами вдоль берега, переминались с ноги на ногу и озирались, будто ждали приказа. Дольма повернулся туда, где выше по течению стоял воевода Блуд с родней. Кивнул тому, словно подбадривая, и сам шагнул к воде.
– Дольма сын Колояров плохого киевлянам не посоветует, – слышалось в толпе.
И когда соляной купец ступил в речку Почайну, толпа колыхнулась, люди стали следовать его примеру. Тут уж и Блуд засуетился, схватил двоих стоявших по бокам сыновей, крикнул невесткам, державшим на руках младенцев, и сам почти бегом кинулся в реку. Статный и тучный, он ворвался в воду, словно могучий степной тур, подняв брызги и едва волну не пустив. Как будто хотел показать, что его дело первое и не Дольме с Хоревицы ему пример являть.
В толпе послышались смешки, но люди уже входили гурьбой в Почайну. У толпы свои правила, и уж если люди стали веселиться, то и самые хмурые в итоге заулыбались. Экое творится на белом свете! Всем народом купаться в теплый день приходится!
Дольма же широко перекрестился, уже стоя по грудь в воде. Поднял руки, призывая своих ближних, проследил, чтобы и увечного брата завезли в воду, улыбнулся. Его родня окружила, а следом и другие пошли. Шумно было, весело. Но в то же время торжественно от пения псалмов, от важности на лицах князя и Анны его, от вскинутых в благословляющем жесте рук священнослужителей. Кто-то успевал прикоснуться губами к крестам в руках попов, а кто и так вошел; плескались, еще не зная, когда выходить. Вся Почайна колыхалась от движения, светло было от множества белых одежд.
Стоя на возвышении, князь Владимир с улыбкой наблюдал за происходящим. При этом он отметил, как величаво и милостиво собрал вокруг себя людей Дольма, как торопливо вел себя Блуд: завистлив воевода, не хотел Дольме первенство уступать. Но главное, что эти двое – Блуд и Дольма – явили пример, не случилось толкотни, люди веселы, улыбаются, плещутся в воде. Где-то ребенок заплакал, но в основном на лицах людей улыбки.
– Слава Господу! – с облегчением перекрестился князь.
Кажись, все идет как надо. Даже стоявшим поодаль стражникам с кнутами и дубинками приходилось только смотреть. Тоже стояли и улыбались. Ладно-то как!
И тут, когда князь уже готов был расслабиться, что-то произошло.
Сперва было непонятно, кто начал кричать. Там, где в окружении родни и плескавшихся в воде киевлян находился Дольма, началась какая-то толкотня, послышались крики, бабий визг, а потом вдруг народ кинулся из реки обратно к берегу, истошно вопя.
– Убили! – кричали люди. – Убили Дольму нашего!
Владимир едва сам не соскочил с помоста. Но натолкнулся на быстрый взгляд Добрыни и замер на месте. А тот уже подсуетился: его дружинники вмиг оказались в толпе, сдержали напор, а там по знаку и музыка громче грянула. И видел Владимир со своего места, что там, где Блуд и находившиеся выше него по берегу киевляне все еще спокойно стояли в реке, обряд вроде продолжался, а там, где Дольма… Тело соляного купца плавало на поверхности лицом вниз, кто-то из родичей подхватил его, пытался поднять. И было видно, как алая кровь заливает белую рубаху.
– Перун покарал христианина! – уже заверещал кто-то.
Толпа качнулась. Удержат ли ее стражники?
Какой-то смуглый богатырь уже тащил тело Дольмы к берегу, народ шарахался, а смуглый выл, рычал горестно. На берегу рухнул на тело купца, но кто-то уже накинулся на него, стали избивать. Этот ли убил? Вон как пинают, даже длиннокосая жена Дольмы замахнулась. Затем подоспели дружинники, растащили всех, кто толпился на берегу, удерживали, стараясь успокоить. А народ вокруг то шарахался, то, наоборот, пытался насесть да поглядеть. Поди угомони их теперь.
И тут – Владимир даже не успел заметить – его царица Анна спешно сошла с помоста и двинулась туда, где происходило столпотворение. Ее расшитая золотом алая накидка и сверкающий венец ярко выделялись среди толпы в белом – словно райская пестрая птица попала в стаю лебедей. И люди, как бы ни были взволнованы и потрясены, расступились, дали ей пройти, стали успокаиваться.
– Оберегайте царицу! – приказал Владимир своим ближникам, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться в толпу. Благо, что стоявший за ним евнух Евстахий неожиданно сильно схватил князя.
– На тебя весь люд смотрит, архонт! Не поддавайся панике. Остальное в руках Господа!
Вот князь и смотрел. Наблюдал за тем, как его порфирогенита прошла туда, где уже в стороне положили тело купца Дольмы. Анна опустилась на колени и, сбросив свою роскошную накидку, накрыла его тело. Сама же осталась коленопреклоненной, сложила в молитве руки. И люди смотрели, успокаивались, указывая на то, что сама супруга их правителя отдает почет и дань погибшему христианину.
– Своего оплакивает, – произнес кто-то.
– Для такой, как она, все христиане свои.
А рядом кто-то сказал, что, мол, идти надо в реку, вон иные не испугались же.
И все продолжилось.
Дольму вскоре унесли от берега за частоколы ближайших усадеб Подола, так что подходившие со стороны новые градцы даже не ведали, что тут случилось, ибо по-прежнему играла музыка, пели священники, выходящие из воды крещеные в мокрых рубахах смеялись и обнимались, поздравляя один другого, хотя сами еще не совсем понимали с чем. Вокруг царило праздничное настроение, люди после омовения шли туда, где чашники князя угощали их сладким вином из ковшей, медовухой поили – тут кому что больше по душе.
– Каждый крещеный иди на пир к князю на широкий двор! – выкрикивали бирючи. – Князь Красно Солнышко всякому собрату по вере будет рад.
И опять плеск в воде, белые одежды, улыбающиеся лица.
Владимир перевел дыхание, поднял руки, приветствуя новообращенных. Иных и окликал по имени, кого узнал. Но осекся, когда увидел вернувшуюся к нему на помост Анну. Он и не ожидал, что у его райской птички может быть такое гневное, непримиримое выражение лица. На щеках ни кровинки, только темные глаза полыхают под сурово сведенными бровями. И голос тверд, как сталь булатная:
– Разберись в этом, муж мой. Сам дьявол тут намутил, чтобы не пустить славян к Богу! Пусть вызнают да накажут жестко и прилюдно того, кто был рукой дьявола.
Ну, дьявол, не дьявол, а кто-то из местных татей[38] уж точно. Об этом и думал Владимир, когда уже вечером, покинув шумное застолье, осмотрел острый шип, какой вынули из гортани Дольмы. Тяжелая игрушка, величиной с ладонь, острая, как жало, на одном конце, на другом округлая, чтобы легче ухватить. Метнуть такой… Не хуже броска ножа получится. А еще шип этот вполне в рукаве можно упрятать. Рубахи крестильные все с длинными рукавами, так что можно схоронить.
– И кто такие кует? – поинтересовался Владимир у Добрыни.
Был он от стола сытый, довольный, диадему давно снял, волосы растрепаны, и на лице румянец после выпитого. Однако голова работала ясно, потому сразу и задал правильный вопрос. Но только ответ на него…
– Да кто угодно, – развел руками Добрыня. – Такие из остатков болотной руды любой кузнец может выковать на продажу, чтобы добро не пропадало. А там и какой-нибудь покупатель сыщется – за такое не сильно дорого берут. Я уже послал людей и к кузнецу Вавиле, и к Гостеславу, и к хазарину Язиду. Мало, что ли, умельцев на Подоле! Делают порой такие цацки, чай, не кистень с шипами. Вещица вроде и не особо нужная, не всякий витязь позарится, а вот простой люд берет охотно. Все же какое-никакое оружие. И в умелой руке…
– Ну, подле Дольмы явно был умелец метать. И как думаешь, воткнули или метнули?
– Да разве поймешь? Там такая толпа была. Но кто на самого Дольму покусился, я постараюсь выяснить. Рядом с ним вроде только свои были. К тому же такой шип издали не бросишь, да еще в толпе мельтешащей. А вот то, что праздник нам едва не сорвали, плохо. Слышал, небось, что в толпе начали кричать? Дескать, сам Перун его поразил.
– Поймали тех крикунов?
Добрыня опустил голову. Под глазами усталые тени: это у князя пир горой на весь град, с кем только не чокался чашей и кого только не поздравлял, а Добрыня весь день улаживал все и выспрашивал.
– Любой ведь мог крикнуть со страху, – произнес он. – Людям втолковали, что теперь они под рукой Христа и старые боги им уже не в помощь. Однако привычное верование так просто не отпустит. И если бы не царица твоя, поразившая люд своей кручиной по убиенному, то еще неизвестно, что бы началось. Молодец она у тебя, княже.
Владимир откинул волосы с чела, взглянул на Добрыню как-то странно.
– Она-то молодец. Но и условие поставила. А желает царица, чтобы мы нашли того, кто убил христианина Дольму во время обряда.
Казалось, князь ожидал, что Добрыня удивится, начнет оправдываться да объяснять, что-де в таком столпотворении и неразберихе… Но тот молчал. Стоял, припав спиной к растянутой на стене волчьей шкуре, покусывал травинку и о чем-то размышлял. Владимир, глядя на него, добавил:
– Они все этого хотят – и Анна, и ее приспешники византийские. Говорят, что раз такое противостояние в Киеве творится, то им опасно оставлять тут порфирогениту. Она же… слова за целый день не молвила. С пира рано ушла, все молится перед образами.
– Она напугана, княже, – вынув изо рта изжеванную травинку, молвил Добрыня. – Она же сделала все, что могла, для этого крещения – сюда из самого Царьграда прибыла, с тобой обвенчалась, иконы привезла, мастеров, чтобы храмы строить, книги ученые для будущих христиан. А все, выходит, зря. Так что права твоя суложь[39] христианская: надо будет разобраться да выяснить, кто задумал такое злодеяние совершить в сей великий день, кто христианина Дольму жертвой избрал, едва не сорвав обряд. И как найдем такого – казним прилюдно. Чтобы наука была, чтобы никто более не посмел.
– Ты думаешь, что Дольму порешили для того, чтобы сорвать крещение?
– Ну, мало ли… Может, и так. А может, иначе все.
Добрыня вздохнул глубоко, потянулся всем телом. Потом шагнул к Владимиру, посмотрел в глаза.
– Все что угодно может быть, княже. Дольма ведь удачлив был, у такого враги всегда найдутся. Но нам обязательно надо найти злоумышленника, чтобы народ успокоить. Явного убийцу или того, кто скорее всего таким может выглядеть. И доказать его вину надо основательно, чтобы все о том узнали. А потом этого головника[40] надо выставить перед всем народом, разъяснить, что и как, да казнить прилюдно. Чтобы знали – всякий крещеный под особой защитой князя и мстить за убийство чада Христова он будет строго.
Они оба какое-то время молчали. Из-за дверей донеслись веселые голоса, смех, потом в створку постучали. Раздался зычный голос боярина Блуда:
– Княже, иди к нам! Там скоморохи такое вытворяют! Ты должен на это поглядеть.
Владимир резко открыл дверь, что-то негромко сказал Блуду, но, видимо, столь значимое, что тот перестал улыбаться, ушел.
– Блуд сегодня герой, – молвил, повернувшись, князь. – Там, куда он людей увлек, все гладко прошло, вот и гордится собой, веселится. Может, это его люди порешили Дольму? Ну, чтобы Блуд нынче гоголем расхаживал.
– Навряд ли, – покачал головой Добрыня. – Блуд рисковать зря не стал бы. Да и далеко он был, его люди при нем и все в стороне. А вокруг Дольмы кого только не было. Но чтобы такое убийство совершить, – Добрыня опять взял в руки тяжелый металлический шип – всю ладонь воеводы он занимал, – надо рядом находиться. Вот и следует начать расспросы, может, кто и видел что-либо.
– Это в такой-то толпе? Думаешь, до того людям было?
Но сам призадумался. А затем стал говорить о том, что со своего помоста успел углядеть. Владимир хорошо видел, как Дольма зашел в реку, а с ним братья его. Сбоку от купца его жена Мирина была. Кто-то толкал кресло с Вышебором… Там еще челядинцы были, много, человек восемь-десять. А следом и другие люди подтянулись. Дольма же, когда зашел, повернулся лицом к берегу, стал махать, подзывая остальных… Все вокруг плескались теплой речной водой, лес рук, как водоросли. Потом Дольму загородили от князя, он уже и не смотрел.
– Так, говоришь, вокруг в основном родичи и челядинцы купца соляного были? – уточнил Добрыня. – Это уже что-то. Ведь чтобы шип метнуть, да так метко угодить в самое горло, надо стоять где-то поблизости. Думаю, что и впрямь кто-то из своих метал, не из толпы. Ладно, разберемся, – сказал Добрыня и шагнул к выходу.
Но князь удержал его:
– Ты, что ли, со всем этим разбираться будешь, вуй[41]?
Добрыня медленно повернулся. Рот его кривился в усмешке.
– У меня что, дел больше нет? Найду, кто лучше моего все вызнает. Дело ведь непростое.
– Вот-вот, непростое, – даже притопнул ногой Владимир. – Анна, она ведь не дурочка из чащобы. Ей, знаешь ли, нужно, чтобы все разумно и доказательно было. Она в любую жертву, нами указанную, не поверит. А еще хуже будет, если евнух этот заартачится и начнет придираться, требовать разъяснений. Так что головник наш должен быть представлен как сама истина непреложная.
– Значит, так и сделаем, – уже взявшись за дверное кольцо, произнес Добрыня.
Но, видимо почувствовав на себе взгляд сестрича, не ушел, вернулся.
– Ты помнишь волхва Озара, княже? Того разумника, что уже не единожды нам в непростых делах помогал. Помнишь, как у твоего воеводы Волчьего Хвоста коня увели, да так, что никто в городе этого не заметил? Знатный был конь, целое стадо коров пегих стоил, вот Волчий Хвост и лютовал тогда сильно. А волхв Озар, помнится, порасспросил люд да сам присмотрелся, что к чему, и указал, кто мог коня так ловко вывести под носом у всех. Люди говорили, что Озар – великий ведун, а он, как выяснилось, просто сметливым да наблюдательным оказался.
Владимир чуть усмехнулся:
– Я помню то дело. Озар по остаткам на земле определил, что в усадьбу Волчьего Хвоста немало дегтя принесли, а на момент поисков его почти не осталось. Вот и вышло, что светло-рыжего скакуна боярского перекрасили и как вороного вывели за город. Купцы булгарские тогда на такое решились. Насилу их догнали уже за Вышгородом да отобрали скакуна.
– А помнишь, когда требы с капища всех богов стали исчезать, то именно он, порасспросив служителей и охранников капища, по их оговоркам и недомолвкам все же выяснил, кто из своих же волхвов воровать решил, – поддержал разговор Добрыня. – Или когда еще при Ярополке Блуд к нам хаживал утайкой, именно Озар по следам глины на его плаще проведал, что мы с воеводой этим столковались и вели дела против твоего брата.
– Помню, – помрачнев, кивнул Владимир.
Блуд действительно помог ему, а Озар чуть не сорвал все дело. Хорошо, что у волхва хватило ума самому прийти к Владимиру и сообщить, что он вызнал, а также посоветовать, как вести сговор с Блудом, чтобы до Ярополка дело не дошло. Но тогда, подозревая, что Ярополк склоняется к христианству, Озар хотел помочь именно Владимиру, его сторону принял. Однако теперь, когда Владимир не только сам крестился, но и намерен христианскую веру по всей Руси расширить, волхв Озар вряд ли захочет помогать ему. Волхв – мужик разумный, к нему не единожды обращались, если дело путаное было, но он предан старым богам, его не заставишь…
Когда князь сказал об этом Добрыне, тот лишь задумчиво пожевал травинку. Молчал какое-то время, прежде чем начал говорить:
– Озар, как и иные волхвы, сейчас у меня под присмотром. Говорил уже, в Варяжских пещерах их содержат под надзором. И еще поразмыслить надо, как с ними поступить. Я даже подумывал порешить их всех, чтобы не мутили народ да не мешали нам. Но потом… Волхвы многим не милы из-за своей заносчивости и жадности. И теперь, когда новые ростки веры начали прорастать, много ли найдется таких, кто их слушать и защищать станет? Так, может, сказать Озару, что, если подсобит… отпустим их ко всем лешим? Пусть таятся себе да волхвуют в чащобах, куда наши руки пока не доходят.
– Он согласится?
– Ну, за своих он горой. Да и вольного воздуха глотнуть захочет после прозябания под землею. Еще замечу, что ему самому будет интересно это дело распутать. Видел я его при деле. Какое там волховство или чародейство! Кикиморам на смех! Он думает, разбирается и сопоставляет. Умный мужик Озар. Этот справится. И все по полочкам разложит.
– Хорошо бы. Нам ведь самой Анне и ромеям ее про это дознание пояснять придется. Так что давай, Добрынюшка, тащи своего служителя.
Но когда дядька князя уже взялся за кольцо на двери, Владимир его остановил:
– Только сдается мне, Добрыня, что ты не прав, рассчитывая, что отпущенные волхвы нам вреда не наделают. Непросто будет, если они уйдут в народ и начнут внушать простым людям неприязнь к христианству.
Добрыня зло выплюнул травинку, посмотрел на князя своими темными жгучими глазами.
– А какое дело дается просто, княже? Просто только советы раздаются. Но мы-то с тобой знаем – удачу в жизни можно получить только через великие трудности. Не иначе. И выигрывает в конечном счете лишь тот, кто не отказывается от намеченной цели. Так что, если мы с тобой не откажемся от задуманного, все получится, как бы нам ни мешали. Клянусь в том своей христианской верой!
Казалось, в тот день город будет гудеть до полуночи. Но стемнело – и люди, впечатленные произошедшим, потрясенные и утомленные, довольно тихо и мирно разошлись по домам. Была пора месяца серповика – его еще серпнем[42] называли, – и ночи уже стали ранними и темными; в народе говорили: и конь успеет наесться, и всадник – отоспаться.
Когда Добрыня шагнул в лодку и его повезли вдоль киевских берегов по течению в южную сторону, град Киев на возвышенностях лишь кое-где высвечивал редкими огнями. Тихо было, только река плескалась да совы тонко кричали в прибрежных зарослях.
Варяжские пещеры находились в стороне от поселений града. Вроде и не так далеко, однако Добрыня, подуставший за день, успел даже подремать в пути. Впрочем, он вмиг очнулся, когда его ялик заскреб днищем по песку у побережья, и осмотрелся. Вверх уходили крутые склоны, поросшие лесом, во мраке терялись глубокие лощины между ними. Именно здесь был проход в подземные углубления, где содержали пленных волхвов.
Добрыня выпрыгнул из ялика, свистнул негромко. И тут же навстречу вышло несколько стражников – трое или четверо. Вообще-то, тут их было нынче немало, дабы охранять плененных служителей старых богов и следить, чтобы никто не посмел помочь им выбраться на свободу. Причем все сторожа были из христиан – другим бы охранять волхвов не поручили.
– Нам уже доложили, что все прошло благополучно, – молвил один из них. – А эти, – кивнул он за плечо, – все время что-то бубнили в подземелье, твердили, что гроза налетит, град будет, ветер все порушит. Вот уж глухари токующие! Им бы только пугать да угрожать. На деле же день сегодня был ну чисто медовый!
Добрыня ничего не отвечал. Прошло все ладно – и бог с ним. Ему еще надо было одно дело решить, а там и на покой можно, отдыхать, отсыпаться.
В Варяжских пещерах, расположенных на подступах к Киеву, еще исстари делали остановку северные торговые гости. Прятали свое добро в узких переходах пещер, сюда же пленников-рабов свозили, каких покупали на торгах перед дальней дорогой в южные пределы. Однако давно это было, с тех пор кто только не укрывался в подземных переходах. Правда, в последние годы они пустовали. Вот и решено было свезти сюда волхвов и удерживать их, чтобы не мешали князю творить свои дела в Киеве стольном.
Добрыне протянули зажженный факел, он взмахнул им раз, другой, чтобы лучше разгорелся, и шагнул под низкий свод, уходящий вглубь горы. При свете факела видел уводивший во тьму длинный коридор, который кое-где был выше роста человеческого, а местами такой низкий, что приходилось нагибаться. Сыро тут было, в нос бил запах плесени и нечистот. Там, где коридор расширялся каморой, можно было увидеть дружинников-сторожей – свет воткнутых в стену факелов отражался от их пластинчатых доспехов, отсвечивал на оружии.
– К Озару меня отведите, – приказал Добрыня.
Они уходили все глубже под землю. Порой за проемами, забранными решетками, из глубинных расширений слышалась какая-то возня, один раз донесся дикий крик с подвыванием, из-за кованых прутьев протянулись худые когтистые руки.
– Прокляну! – вопил кто-то. – Самим Громовержцем прокляну! Ни сил, ни удачи больше не познаете! Кожа с вас слезет, глаза вытекут!..
– Свят, свят, свят, – перекрестился охранник.
И к Добрыне:
– Чем только нам не грозят эти окаянные.
Волхва, называвшегося Озаром, Добрыня нашел в узком подземном углублении, сыром и промозглом. Он сидел под стеной, обхватив колени и опустив кудлатую голову с длинными волосами, слипшимися сосульками. При свете огня закрылся ладонью, сощурился.
– Никак сам дядька князя пресветлого пожаловал, – произнес волхв, когда присмотрелся.
Добрыня воткнул факел в расселину в стене и сказал стражнику:
– Иди, оставь нас.
Тот помешкал.
– Ты будь с ним осторожнее, воевода. Сейчас он смирный, а до этого одного из наших чуть не задушил. Пришлось заковать.
Что Озар в цепях, Добрыня заметил. Сказал:
– Буйствовать будешь, я просто уйду. Но если выслушаешь, может, и столкуемся.
Он знал, что Озар не глуп, с ним можно было иметь дело. Но не стоило забывать, насколько тот опасен. Это сейчас, сжавшийся, грязный, облепленный сырой известковой грязью, волхв казался убогим, однако силой обделен не был – вон какие руки, какой разворот плеч, пусть и поникших.
Добрыня говорил с ним негромко – не хотел, чтобы стражи знали, о чем беседуют. Сам же поведал все – и о многолюдном крещении, и о том, что Озару надо будет расследовать, кто погубил соляного купца Дольму.
– И ты, Добрыня, решил это мне поручить? Мне? Ты, многомудрый советник князя, явился просить об этом меня? Волхва?
Озар казался удивленным без меры.
Добрыня, поправив пряжку на поясе, стал разглядывать изможденного служителя старых богов.
– Тебе уже приходилось выполнять такие поручения, ведун. Ты разумный, вот и справишься.
И тут Озар захохотал – громко, торжествующе. Его раскатистый смех, казалось, заполнил все низкое темное пространство под землей.
Добрыня лишь закусил губу, чтобы не сказать грубое слово. Пусть ржет сколько пожелает, главное – чтобы согласился.
Озар смеялся долго, как будто издевался. Пока смех не перешел в клокочущий надсадный кашель.
– Несладко тебе тут, Озарушка, словно земляной червь корчишься, – хмыкнув, сказал Добрыня. – А я тебе дело верное предлагаю. Разве не возрадуешься уже тому, что выведут тебя на свет божий, на солнышко, позволят вымыться, обрядят чисто и накормят? Жить станешь в тереме богатом. Что скажешь? Это ли не благо?
– А если откажусь?
Добрыня присел подле него на корточки. Несмотря на длинную, слипшуюся клочьями бороду волхва, которая прибавляла ему возраст больше положенного, само лицо Озара под разводами грязи было еще молодое, с ровным носом и выразительными скулами. Он смотрел на Добрыню, казалось бы, с насмешкой. Но Добрыня неплохо знал Озара: умный, чертяка, знает себе цену. И наверняка уже сообразил, что раз Добрыня к нему пришел, то, видать, дело серьезное. Шутка ли – во время христианского крещения убили уважаемого во граде купца, да еще того, который народ за собой увлек.
– Зачем тебе отказываться, Озарушка? – миролюбиво заметил Добрыня. – Ты князю службу сослужи, а за мной дело не станется. Волю хочешь получить? Хочешь. Причем я тебе предлагаю не только самому освободиться, но и собратьев твоих, демонам поклоняющихся, отпущу куда глаза глядят. Я слово тебе в том даю.
Теперь Озар смотрел на Добрыню серьезно и задумчиво.
– Слово Добрыни на вес серебра. Я это понимаю. Но поверишь ли тому, что я вызнаю?
– Разумно докажешь, я и послушаю. А как справишься – пойдешь ты, куда ноги понесут. Да и собратья твои… Я ведь могу приказать порубить вас всех тут. А так спасешь их.
И тогда Озар улыбнулся. Зубы у него были ровные и крепкие, на темном грязном лице сверкнули, как жемчуг скатный.
– Разве есть у меня выбор, Добрыня? Ты выбора мне не оставляешь. Хотя, видят боги, мне и самому любопытно будет узнать, что там и как вышло. Добро, воевода. Что ж, вели снять с меня цепи. Тогда и по рукам ударим.
Глава 3
Киевская гора Хоревица располагалась над Подолом так, что с одной стороны подле нее была обширная княжья Гора, где высились главные хоромы и терема, ну а с другой подступала Щекавица, некогда считавшаяся отдаленным выселком, но нынче густо заселенная дружинниками и их семьями, разбогатевшими торговцами. Люди сказывали, что еще в незапамятные времена, когда только пришли в эти края братья Кий, Щек и Хорив[43], поселились они изначально именно на Хоревице, уж больно она подходила, чтобы на ней устроить укрепление, – обрывистая, высокая, но с ровной обширной площадью наверху. Это потом, когда братья обжились на Днепре, старший Кий устроил свой град на удобной и широкой Горе, какую тогда Киевой и прозвали, а средний Щек отселился на гору, которая его имя получила. Младший же, Хорив, остался на прежнем месте, как бы под защитой двух старших братьев. Много воды с тех пор утекло, но в Киеве и поныне говорили, что на Хоревице живут люди важные и избалованные, как младшие и любимые дети в семье.
Двор купца Дольмы располагался как раз на Хоревице. Вел на эту гору дуговидный подъем с северной стороны. По сути это было самое пологое место, где можно было взойти на Хоревицу, даже втащить воз. Вот здесь и поднимался на гору волхв Озар в сопровождении двоих стражей. Его даже веселило, что охранников к нему приставили, хотя должны были бы понять – не сбежит. Зачем ему сбегать, если от того, как он службу сослужит, зависела участь его собратьев по вере? Но уж если сопровождают, то пусть.
Озар после долгого заключения в пещерах был вымыт, одет в длинную полотняную рубаху, подпоясан веревкой с кистями на концах, обут в кожаные поршни[44] с обвивающими голень крест-накрест ремешками. Сейчас волхв выглядел скорее как обычный киевский житель, вот только вышивкой его рубаха не была отмечена, хотя мало кто из киевлян не украшал одежду изображением узоров-оберегов, – ну да тут мнения Озара никто не спрашивал. Так что служителя богов в нем можно было признать лишь по длинной гриве волос, ниспадавшей едва ли не ниже лопаток и обхваченной вокруг чела кожаным ремешком. Волосы у Озара были хорошие – густые, пышные, русые, с оттенком дубовой коры. Да и сам он был рослый и крепкий, как дуб. И не скажешь, что волхв с капища, скорее воин-защитник. А вот его длинную пышную бороду, какую по обычаю отращивали волхвы, Озару приказали срезать. Не следовало ему такой бородой привлекать к себе внимание и напоминать своим видом, что он из служителей. Впрочем, за время, проведенное в подземелье, длинная борода волхва свалялась таким колтуном, что и не расчешешь. Так что теперь лишь небольшая аккуратная бородка обрамляла его сильный подбородок, как у какого-нибудь торговца с Подола или служивого дружинника.
Во время подъема на гору Озару и стражникам пришлось задержаться – впереди, огибая крутые отроги Хоревицы, медлительные волы тащили воз с бочками, наполненными водой. Хоревица хоть и была обжита давно, но своей воды на верхнем плато не имела, поэтому приходилось везти ее из речек и ручьев низовья. А так как волы шли своим привычным неторопливым шагом, то и волхву со стражниками пришлось под них подладиться. Стражники что-то ворчали под нос, а Озару хоть бы что. Даже озирался с удовольствием по сторонам. Любо ему было смотреть после мрака подземелья на вольный простор – оживленный Подол внизу, сияющий широкий Днепр, острова на реке за болотистыми землями Оболони, низинные лесистые земли Левобережья, которые еще дальше уходили в безбрежную даль. Какая ширь, какой простор! Дышалось-то как легко! И жить хотелось на полную. А ведь одно время он уже и не надеялся увидеть все это, когда охранники князя лупили его дубинками за попытку вырваться и сбежать. Так усердствовали служивые, что Озару показалось, что совсем забьют, – ведь теперь волхвы в Киеве люди последние. Не нужны они оказались, когда князь попов иноземных привез и стал капища рушить. Однако в итоге вон как вышло – не смогли новые власти справиться без помощи ведуна Озара, служителя самого Перуна Громовержца.
– Что засмотрелся? – окликнул его один из стражников. – Давай топай, ведун. Волы вон уже проезд между башен городен миновали, а нас в усадьбе Колояровичей сам Добрыня ждет.
Городни на Хоревице были не столь внушительные, как на княжеской Горе Кия, ибо сама Хоревица с ее крутыми, обрывистыми склонами считалась достаточно неприступной. А строились на ней тесно – один тын из частокола бревен заканчивался, другой продолжался. Лишь кое-где над бревнами оград виднелись ветви плодовых деревьев, а так каждый двор будто отдельное небольшое имение – что там внутри, и не прознаешь, если не зайдешь. Зато ворота тут в основном были богатейшие – мощные, все с резными навершиями, с раскрашенными столбами по бокам. Не бедный люд обитал на Хоревице.
И все же ограда усадьбы Дольмы была одна из наиболее внушительных – на столбах частокола вырезана красивая чешуя, словно у змея-ящера, а сами створки ворот украшены замысловатыми коваными скрепами. Сейчас калитка у ворот была приоткрыта – ждали гостя, доложили им уже. Сам же Добрыня и сообщил. Он еще загодя явился в родовую усадьбу Колояровичей и сейчас находился вместе с родней и челядью убиенного купца на протянувшейся вдоль всей длинной стены терема галерее, называемой по старинке «гульбище».
Озар сразу заметил княжьего дядьку. Тот стоял, прислонившись к резному столбу, подпиравшему галерею, и что-то говорил собравшимся. Но, словно почувствовав взгляд волхва, оглянулся. Обычно стянутые в хвост длинные волосы Добрыни сейчас свободно лежали на плечах, сверху их прикрывала небольшая, расшитая жемчугом шапочка. Любил наряжаться перед народом Добрыня, любил подчеркнуть свой статус. Сейчас, несмотря на то, что он стоял немного в стороне от остальных, сразу было заметно, что Добрыня тут главный. И когда он обернулся к калитке у ворот, то все тут же повернули головы, проследив за его взглядом.
Озар приближался неспешно, по пути замечая всякие мелочи. Двор широк и весь мощен дубовыми плахами – наверняка тут в дождливую пору чисто. Сам терем с раскрашенными створками окон и шатровыми кровлями стоял в глубине, но так, чтобы вошедший мог оценить и размеры его, и резные раскрашенные столбы гульбища, и галерейку второго поверха, и ярких резных петушков на стыках крыш. Ладно, крепко, бревнышко к бревнышку стоял на земле купеческий дом, мимо которого нельзя было пройти, не залюбовавшись. Озар даже отметил, что кровля терема выложена чешуйчатым гонтом – своеобразной деревянной черепицей, дощечки которой, явно натертые олифой, блестят на солнце, словно позолоченные. Ишь какое богатство! А хозяйские постройки – клети, конюшня, кладовые, сараи – все в стороне, все за теремом, как слуги, отступившие назад за величавый терем.
Озар нередко слышал о богатстве Дольмы с Хоревицы, но лишь теперь увидел воочию. И если на Подоле купеческие дома обычно выходят на улицу, то тут жили, как исстари повелось, – в глубине двора. И пока волхв проходил через широкий двор, он чувствовал на себе множество взглядов. Внимательных, настороженных. Ясное дело, Добрыня уже должен был оповестить всех, что отныне у них поселится и будет разбирать дело его доглядник, известный в Киеве ведун.
Озар поднялся по ступенькам крыльца – оно было сбоку от гульбища и срублено так хитроумно, что держалось на одном-единственном бочкообразном столбе-подпоре, врытом в землю. Само гульбище было широченное – видать, именно тут любили проводить время домашние Дольмы в светлое время дня. Здесь стоял стол, под стеной и у перил – лавки. В этом месте и собрались сейчас родня и челядь купца. Волхв должен был поклониться как гость, но как служитель богов не обязан этого делать. Вот и не поклонился. Стоял, оглядывал всех, не скрывая интереса.
Вон в кресле за столом сидит старший брат Дольмы, плечистый калека Вышебор, смотрит исподлобья сурово. А во главе стола расположилась красавица писаная, вдова Дольмы Мирина. За ней стоит высокой бледной тенью какая-то девица… или баба. Нет, девица, голова не покрыта, как у замужних, но косы подобраны, узлом завязаны. Обратил внимание Озар и на имевшего право сидеть за столом крепкого челядинца с простоватым лицом и широкой, пегой от седины бородой. Подле него толстуха в красиво расшитом повое[45], хитро поглядывающая на Озара. Рыжий мальчонка-отрок сидел сбоку на столе, свесив ноги в расшитых сапожках. У одной из подбор галереи устроился на широких перилах темноволосый кудрявый молодец – этого Озар признал: вечный смутьян и задира в Киеве, Радко, младший брат Дольмы. Бывал он раньше на капище, пока то не порушили, Озар его запомнил – часто зубоскалил Радко над священнодействиями волхвов, но на требы обычно не скупился.
На лавке под стеной сидел смуглый черноволосый богатырь с выбритым затылком и длинным густым чубом. Он ссутулился, опершись лбом на сцепленные руки. На волхва лишь на миг глянул, сверкнул смоляными глазами с посеченного шрамами лица и снова опустил голову, словно в великой беде. Озар догадался, что это хазарин, страж Дольмы. Сказывали, что он предан ему, как пес, жутко свиреп, но с рук хозяина едва ли не ел. А еще ведун обратил внимание на щуплого плешивого мужика с бороденкой острым клинышком. Видел, как этот мужичок при его появлении весь встрепенулся, глаза расширились, будто в испуге, и стал пятиться, пока не осел на лавку у стола. Ишь как затрясся, дышит словно после бега. Что-то с этим плешивым неладно. Чего это он так дрожит?
Тем временем Добрыня шагнул вперед и положил руку на плечо волхва, как будто он был его закадычным другом.
– Это Озар, волхв с капища, какое ранее стояло над днепровскими кручами. Служил он Перуну Громовержцу, требы богатые принимал. А теперь жить у вас будет и вызнает, кто мог быть той змеей подколодной, какая своего господина и благодетеля порешить могла.
– Да не наши это! – почти пошла на Добрыню толстуха в повое. – Наши бы никогда такого не сделали. Мы ведь креститься все дружно пошли в тот день. Так господин Дольма велел – и мы не перечили. А ты… Как не стыдно наших тебе уличать, а, воевода?
Добрыня засмеялся и отступил. Ему ли спорить с бабой-дурой? Но Озар отметил, что эта хоть и одета прислугой, но раз голос подает, то цену себе знает. В таких живущих своим миром семьях дворовые часто считались едва ли не родней.
– Вот пусть Озар и разберется. Он ведун великий, – с нажимом произнес Добрыня.
Озар тем временем все поглядывал на дрожавшего мужичка с клинообразной бородкой. Заметил ли Добрыня, как тот странно себя ведет? Обычно он все замечает.
Но сейчас Добрыню отвлекли. Наблюдал, как калека Вышебор из своего кресла требовал, чтобы вдова Мирина ушла с главного места от стола.
– Что ей, бесплодной вдовице, тут верховодить? Она уже бывшая жена. Пусть теперь забирает свое приданое… или что ей там положено по брачному ряду, да убирается к себе в глухомань древлянскую. Таково мое слово, ибо я теперь главный, как старший брат Дольмы нашего!
– Ты не был главным, Вышебор, еще с тех самых пор, как Дольма в силу вошел, – неожиданно подал голос простецкий мужик с широкой пегой бородой и носом-репой. – Сам ведь когда-то признал, что пусть все хозяйство на Дольме будет, а ты тем временем гонял коня невесть где в походах.
– А ну замолчи! – повернувшись всем корпусом, крикнул Вышебор. Ноги его были неподвижны, но торс крепкий, ручищи сильные, едва не поднял себя, упершись о поручни кресла. – Ты кто вообще такой, Лещ, чтобы мне указывать? Ты раб бывший, от рабыни рожденный!
Но Лещ неожиданно огрызнулся:
– Меня еще, когда ты бесштанником бегал, отец твой Колояр освободил от рабства! Или забыл? И я столько служил этому дому, что имею право высказываться. Или думаешь, что теперь все в усадьбе по-твоему будет? Может, ты и брата своего порешил, желая все заграбастать?
Вышебор рот открыл, чтобы ответить, но поперхнулся в ярости, зашелся злым шипящим выдохом, оскалился. А Лещу хоть бы что, смотрит себе. Но тут Леща заслонил от Вышебора крупный парень с таким же простецким лицом и пышными рыжими усами. Поднял руки, успокаивая Леща:
– Будет тебе, батя, будет! Такое еще скажешь… Вышебор-то калека!
– Вот и не ему теперь тут править. А Мирине нашей, голубушке. Да скажи им, жена! – повернулся он к решительной бабе в повое.
Но та сейчас сдержалась и лишь стреляла глазами то на хозяйку, то на Добрыню, то на гневно ругавшегося Вышебора.
Тут вперед вышел важный, хорошо одетый муж – в опушенной куницей шапке, несмотря на жаркий день, зеленого сукна кафтане, подпоясанном дорогим кушаком – ни много ни мало из настоящего шелка привозного.
– Угомонитесь, люди! – сказал громко и степенно. – Добрыню бы постыдились. Наши дела – наша забота. Чужим их показывать не стоит.
– А дела-то действительно наши! – рявкнул на него Вышебор. – И не тебе, тиун Творим, указывать тут, как и кому себя вести. А то скажу слово стражу Моисею, и он враз тебя за ворота выдворит. Он Дольме служил, а теперь мне подчиняться будет! Я главный тут.
При этих словах Вышебора хмурый черночубый мужчина на миг поднял голову, взглянул на калеку удивленно, а потом снова понурился. Но Озару показалось, что он спрятал под длинными вислыми усами легкую усмешку.
«Похоже, заявление старшего Колояровича огорошило хазарского стража, – понял ведун. – Ведь изначально именно на этого… как там его… Моисея говорили, что хозяина он погубить мог. И именно его чуть не схватили на берегу, когда он окровавленное тело Дольмы вытащил из вод Почайны. Но теперь выходит, что Вышебор уже не считает хазарина виновным и даже намерен оставить его себе служить».
Тут красавица Мирина негромко сказала:
– Зря гонишь меня, Вышебор Колояров сын. Ибо мне теперь род ваш продолжать. – И добавила, подбоченившись: – Я дитя ношу от мужа моего, Дольмы благоверного!
Настала такая тишина, что можно было понять – удивила собравшихся прекрасная вдовица. Она же важно посмотрела сперва на Добрыню, потом на остальных. А те застыли, будто весть о том, что у молодой бабы дитя будет, ну просто чудо какое-то невиданное.
Мирина торжествующе улыбалась, переводя взгляд с одного на другого. Посмотрела красавица и на Озара, с вызовом и словно с невольной игривостью, – знала вдова Дольмы, как хороша собой. А у волхва и впрямь дыхание перехватило. Ох и краса! Ишь какие глаза, ну чисто барвинки сине-лиловые! Над ними темные брови вразлет, как крылья ястреба, а кожа такая нежная и чистая, что кажется, будто светится. Длинные косы Мирины соболиного оттенка были уложены на голове венцом и покрыты не обычным повоем, а серебристой сеткой, расшитой мелким жемчугом, длинные ажурные серьги свисали почти до ключиц вдоль длинной, чисто лебединой, шеи. Сидела Мирина во главе стола спокойно и достойно, под стать царевне заморской, держалась с таким непререкаемым достоинством, что даже дивно, как это калека Вышебор осмелился заявить, что ее можно выгнать из дому и отправить в леса древлянские. Зато теперь ясно, откуда Дольма привез эту красу неписаную! А ведь и не скажешь – ни дикости в ней древлянской, ни их застенчивости. Давно, видать, прижилась красавица в стольном Киеве, своя здесь и покидать обжитое место не намерена.
Одна из находившихся тут же девок, некрасивая, конопатая, взвизгнула и хотела было к Мирине на шею кинуться.
– Ох, матушка госпожа, да неужто!..
Но замерла, встретив строгий, властный взгляд хозяйки.
Тиун выступил вперед:
– Так ли это, госпожа милостивая? И это после стольких лет надежд бесплодных?
Стоявшая до этого с бесстрастным лицом бледная девица наконец подала голос:
– Правда сказанное. Еще в тот вечер перед самым крещением, когда вы все тут с хозяином Дольмой спорили, я приводила к Мирине повитуху, бабку Рапину. Она и заверила, что не зря госпожа мужней женой слывет. Послали боги… Ох! Послала матерь Божья хозяйке нашей наследника. Мы с госпожой думали обо всем хозяину Дольме сообщить, ну да тогда все только об обряде и думали. А потом…
– Я решила сообщить мужу, когда он приведет нас с Почайны уже христианами, – перебила ее сама купчиха Мирина. – Дольма пир собирался закатить, вот и думала сказать, когда сердце его будет в радости, оттого что теперь он вместе с собратьями по вере.
И Мирина приложила к глазам платочек, словно вытирая набежавшую слезу. Но Озару показалось, что не было ни искренности, ни скорби в этом ее показном страдании по мужу убиенному.
Однако куда больше его интересовал мужичок с клинообразной бородкой, который, в свою очередь, не сводил взора с него самого. Казалось, все происходящее тут его не касалось, а вот присутствие известного в Киеве ведуна встревожило. Как только заметил он на себе взгляд волхва, так сразу и сник, сжал бороденку в ладони, потупился.
Тут Озара отвлек громкий молодецкий смех. Смеялся кудрявый красавчик Радко. Смеялся громко и как-то… отчаянно, что ли. Сидел на перилах гульбища, прислонившись спиной к столбу-подпоре, даже головой бился об него от смеха. Потом вдруг резко соскочил прямо во двор и спешно пошел к калитке.
Его окликали, рыжий мальчонка даже кинулся следом, звал. Но Радко не оглянулся и, не переставая смеяться, уходил прочь со двора. Пока не скрылся.
– Ну, парня-то понять можно, – негромко произнес стоявший подле Озара Добрыня и даже сам хохотнул. А потом, будто задушевному приятелю, сказал волхву: – Мы все считали, что теперь-то Радомил войдет в права наследства и остепенится, делами занявшись. Зачатки у него хорошие, славный парень… когда не бузит. Посуди сам, ведун: Вышебор – калека, Мирину бы со двора отправили… ну, если бы Радко не пожалел вдовицу-красавицу и не оставил ее по своей милости.
– А она согласилась бы остаться в приживалках? – спросил Озар. – При новом-то господине? Как они, ладят с Радко? Он ведь собой парень видный. Может…
– Не может, – отрезал Добрыня. – Да что об этом говорить? Теперь, когда положение ее стало известно, купчиха Мирина сама пожелает тут всем управлять. А вертопраха Радомила она и на дух не выносит. Они и ранее не ладили, Дольме то и дело приходилось их примирять. Хотя что я тебе говорю… Вот поживешь тут – и сам во всем разберешься. Но главное – выясни для меня, кто мог покуситься на соляного купца Дольму сына Колоярова. Как выяснишь, мне все доложишь. И чтобы по полочкам все разложил, чтобы ясно все было, как на стрельбище в солнечный день. Итак, Озар, останешься в усадьбе рода Колояровичей доглядником.
Это же он вновь сообщил собравшимся. Дескать, ведун Озар – его человек, пусть примут, как гостя дорогого, и ни в чем ему препон не чинят.
– Да кто же волхву перечить осмелится? – произнес бородатый челядинец Лещ. Вроде и соглашался, но поглядывал из-под седеющих кустистых бровей неприветливо. – С волхвами осторожно надо, да еще не забывать, что они всякое могут. Чародеи они.
– Ты чего пустое-то болтаешь, Лещ? – осадил его Добрыня. – Какое такое чародейство помянул? Или забыл, что крест на тебе теперь? В него верить надо, а не в чары навеянные. А волхву помогать станете потому, что я так приказал. Поживет у вас, порасспросит и выяснит для меня то, что надо. И на кого укажет – того и отдам катам[46]!
Собравшиеся сразу притихли.
Озар был раздосадован. Не скажи Добрыня последнее, ему бы легче было ужиться среди родовичей убиенного христианина Дольмы. Теперь же все будут видеть в нем врага.
Но Добрыня явно не намерен был облегчать Озару задачу. Знал, что делал, – не хотел, чтобы разумный волхв нашел тут союзников да что-то замутил. Они-то все крещеные, но почтения к служителю старых богов это не умаляет. А так… Так Добрыня уходил почти довольный.
Он сошел с крыльца, направился к привязанному у воротного кольца скакуну. Двое прибывших с Озаром охранников двинулись было за ним, но княжий дядька, уже сидя в седле, склонился к ним и сказал:
– Ты, Пегий, отправляйся туда, откуда и прибыл, неси службу у Варяжских пещер. А ты, – ткнул он зажатым в кулаке кнутовищем в грудь дружинника с чуть свороченным в сторону широким лицом, – ты, Златига с Копырева конца, останешься на Колояровом дворище. При Озаре.
– Да на что я ему? – расстроился кривой, отзывавшийся на имя Златига. – Он ведь, если захочет…
– Не захочет. Ты же помогать ему будешь. Если понадобится. Ну и… – И посмотрел выразительно: за ведуном приглядывать все же стоило. А дружинник Златига вроде парень смышленый. Сам поймет, когда нужно будет приструнить волхва.
Глава 4
Озар опять рассматривал булатный шип, который ему ранее передал воевода Добрыня. Тот самый шип, каким закололи соляного купца Дольму сына Колоярова. Хотя чего рассматривать – вот если бы Озар смог оглядеть рану на теле убитого, тогда бы больше понял и о силе броска, и о месте, откуда его могли метнуть. Однако Добрыня сказал: Дольму надо было похоронить по христианскому обычаю, не тянуть, не привлекать внимания людей, а оказать почет погибшему христианину. А потому отпели Дольму церковники, похоронили на поле вне града, крест на могиле установили. Озару же объяснили, что смертельный удар пришелся как раз под кадыком. Был он быстрым, стремительным, неожиданным, отчего Дольма еще какое-то время стоял в воде, схватившись за рану, потом тихо осел в воду, завалился лицом вниз. А вытащил его охранник купца, хазарин Моисей, на которого первое подозрение пало. Еще Озару сказали, что якобы все домашние недовольны тем, что хазарина не тронули, не забрали на дознание, а оставили с ними. Озару и самому было странно, что хазарина сразу не заломали, объявив убийцей. Меньше бы мороки было для всех, да и жалеть Моисея, как он понял, особо никто не стал бы. Моисей, похоже, сам все понимал, потому и был такой понурый. Тем не менее он, как и прежде, ходил по широкому купеческому дворищу, вот отправился в кладовую за кувшином, а затем понес его в терем, как будто не стражник, а служка на побегушках. Что ж, раз Вышебор взял его к себе в услужение и тем прикрыл от неприязни родни, надо подчиняться.
Выдать за убийцу именно Моисея было бы, на первый взгляд, разумнее всего: и горевать о нем в доме мало кто станет, и для народа киевского хазарин-убийца куда предпочтительнее кого-то из местных. Озар время от времени об этом подумывал, но не спешил с выводами: если Добрыня не велел выставить убийцей Моисея, значит, кто попало ему в головниках не нужен и он действительно желает во всем разобраться. Да и не мог Добрыня не заприметить, что и холоп Жуяга ведет себя более чем дивно. А ведь именно Жуяга катил в тот день в реку кресло увечного Вышебора. Может, начать допытываться с этого плешивого холопа? Но холоп после ухода Добрыни тоже куда-то запропастился. Белобрысая девка, которая возле Мирины крутилась, на вопрос Озара сказала, что за водой Жуягу отправила. Ишь как подсуетилась! Или сама не видела, что с холопом делалось? Ладно, Озару еще предстоит во всем тут разобраться, так что Жуягу этого он не пропустит. Пока же просто будет приглядываться, дабы понять, что тут и как.
Волхва и приставленного к нему Златигу устроили на постой в сенях. Сени тут были широкие, в одном их крыле стояли кадки со всякими припасами и водой, в другой – широкие лавки под развешанными на стене пучками трав. Хорошо тут пахло, ароматно, да и на лавках ночевать удобно будет. Их к тому же меховыми полостями овечьими покрыли – ну вообще лепота!
Как раз напротив лавки Озара находилось волоковое окошко, в которое падал свет. Он и устроился под ним, попросил кого-то из дворни принести ему деревянных чубушек и краски. Возился с ними, вырезал какие-то фигурки. Но нет-нет и снова тянулся к литому шипу.
– Как думаешь, Златига, – обратился он к охраннику, – много ли сил нужно, чтобы убить крепкого мужика такой штуковиной?
Стражник перестал полировать пластину на поясе, посмотрел исподлобья. Когда-то, видимо, этого дружинника сильно задели чем-то тяжелым по скуле, и, несмотря на то, что под бородой шрам был не очень заметен, лицо его выглядело кривым.
– А ты что, сам понять не можешь, ведун? – довольно грубо отозвался Златига. – Если по твоей стати судить, ты не сразу в служители при богах попал. Небось, ранее и повоевать пришлось, и поохотился наверняка еще с отрочества. К тому же я видел, как ты легко жертву на алтаре убивал, – значит, опыт имеешь. Вот сам и прикинь. А как по мне, то при удачном броске даже малец мог бы свалить Дольму.
– Малец, говоришь? – Озар привстал и выглянул в волоковое окошко.
Рыжий мальчишка, звавшийся Тихоном, играл во дворе с огромным лохматым псом. Зверюга был знатный, но к пареньку ластился, игриво тыкал в него лобастой головой, норовил лизнуть, а мальчик смеялся, лаская собаку.
– Мне сказали, что Тихон – прижитый на стороне сын Дольмы. Якобы привез купец его из Корсуня, от некой греческой бабы, с которой подгулял. По сути это его единственный сын. Однако при живых братьях Дольмы да при его вдове Тихон совсем не наследник. Так зачем же мальчишке было убивать родителя?
Златига отложил пластинчатый пояс, хмыкнул:
– Ты меня в свои догадки не втягивай, Озар. Да и кто из нас ведун – ты или я?
– А почему бы не помочь мне? Чем скорее разберемся с этим делом, тем скорее уйдешь к своей женке. Она-то наверняка ждет тебя, кручинится, что вечерять под родной кров не явился. Небось, она и в тягости у тебя. А ты – вот напасть! – тут торчать со мной обязан, потому как приказали.
Златига посмотрел на волхва с интересом:
– А про Светланку мою откуда знаешь?
Озар улыбнулся, в уголках его серых глаз образовались легкие лучистые морщинки. Сама улыбка была хорошая, приветливая.
– А чего бы славнице[47] киевской не пойти за такого молодца, как ты? Рожу-то у тебя покосило где-то в схватке, что ж, бывает, однако в остальном ты вон какой – статный да ладный. К тому же дружинники Владимира не бедные – значит, завидный жених. Местные девки за таких охотно идут. И по твоей одежке, по шовчикам ровным на рубахе, по узору, умело вышитому у ворота, вижу, что есть у тебя хозяйка. А что не мать вышивала… Если бы мать для такого, как ты, старалась, ты бы не был так мрачен, оттого что при мне оставили. Мать никуда не денется, а вот к жене тебя тянет. Светланкой, говоришь, зовут супружницу? Этого я не знал. Зато заприметил, что у тебя крестик у расстегнутого ворота. Видать, успел побывать с князем в Корсуне, где многие из вас новую веру приняли. И если женился до похода и жена понесла от такого молодца, как ты, то ей сейчас уже сроки родить подходят. Поэтому ты и недоволен, что именно тебя Добрыня при мне оставил. К Светланке хочется пойти, а тут…
И Озар развел руками – мол, видишь, как оно вышло все.
Златига даже привстал. Смотрел на волхва удивленно. Лицо у него кривое, но под ровно подрезанной челкой глаза светлые, золотистые, можно сказать, медовые.
– Вот как просто у тебя все выходит, волхв! Ну чисто колдовство. А на деле – заприметил всякое и понял. Хитер. Вижу, не зря Добрыня именно тебя сюда отправил.
Хотел еще что-то добавить, но смолчал, только махнул рукой. Опять стал возиться с пластинами пояса.
Озар же принялся вырезать из деревяшек разные фигурки – одни продолговатые, другие округлые, третьи как придется, только бы разными вышли. Света из волокового оконца было маловато, надо было уже заканчивать работу, но он все еще продолжал затеянное им. Поглядывал порой на Златигу. Про себя уже решил, что этот не из тех стражей, которые избивали его, когда он бился и бунтовал в подземных пещерах. Кривого он бы сразу заприметил. Хотя… Разве было у него время рассматривать своих мучителей? Вон до сих пор синяки на боках не сошли. Лицо, к счастью, не пострадало: закрывался руками, голову прятал, чтобы не забили ненароком. Голова она человеку важна, волхву тем более. Остальное же заживет как на собаке.
Главное теперь – выполнить поручение княжьего дядьки. Добрыня не простак, ему что ни попадя не наплетешь. К тому же от дознания Озара зависела не только судьба его самого – он братьев по вере должен спасти. Добрыня дал слово освободить их, если Озар справится. Значит… Значит, надо все правильно сделать и отчитаться чин по чину.
В сени вошла толстая повариха Голица. Она держалась уверенно, чувствовалось, что среди челяди эта баба себя не последней считает. Сейчас она принесла постояльцам крынку с простоквашей, поставила ее на приступке.
– Вот. Если захотите попить к ночи…
Ночь уже была на подходе. Света в волоковое окошко почти не поступало.
– Хозяюшка, а где тот плешивый мужичок с бородкой клинышком? Которого Жуягой кличут. Вернулся ли уже?
– Ему наша ключница Яра велела привезти на ночь воды из Киянки[48].
– Что-то долгонько он за водой ходит, – заметил Озар.
– Так немало ее надо на хозяйстве. Жуяге понадобится не одну бочку наполнить и привезти на возу. Ну а как воротится, что, велеть к тебе явиться?
Озар подумал и отрицательно покачал головой:
– Утро вечера мудренее. Завтра и поговорю с ним.
Голица еще немного потопталась, будто спросить о чем-то хотела, но Озар ее опередил:
– Тиун ваш все еще с купчихой беседует?
– С ней, с госпожой нашей. А как же иначе? Теперь он у нее первый помощник. Хозяйство у нас немалое: и торговые лавки на Подоле, и мельницы на речке Лыбеди, и пара сел за Дорогожичами[49] имеется. Не Мирине же, голубушке, носиться по делам, когда она дитеночка ждет. Вот уж послал Господь радость нам. Жаль, что хозяин о том не узнает.
И она удалилась, всхлипывая и утирая глаза передником.
Ну да, красавице Мирине и впрямь нынче хлопотно будет заниматься таким хозяйством. Да и ранее она, лелеемая, любимая суложь Дольмы, видать, подобным себя не утруждала. Она была скорее украшением его двора – недаром весть о ее красе по всему Киеву ходила. Да и старший брат Дольмы, калека Вышебор, с подобным бы не справился. А Радко? Где же этот вертопрах Радко? Он как ушел, так и не было больше. Когда он явится, следует и его расспросить. Забавно парень себя повел, узнав, что управлять хозяйством погибшего брата у него теперь не получится.
Озар сделал глоток простокваши. Прохладная, вкусная, с приятной кислинкой. Их с Златигой вообще тут знатно накормили: похлебку гороховую густую подали, мясную кулебяку, творог с молоком. После того как Озар столько времени ел в подземелье только баланду из прокисшего хлеба, от которого у него была постоянная изжога, нынешнее пиршество наполнило душу волхва неким блаженством. Однако расслабляться пока не стоило – надо было переговорить сегодня с тиуном. Как выяснил волхв у дворни, управляющий Творим в усадьбе лишь иногда ночевать оставался, а так обычно жил в собственном доме на Подоле. Да и вообще тиун такого большого хозяйства вряд ли все время под рукой будет, все по делам да в разъездах. Вот Озару и надо с него начать, пока не удалился.
Творима он узнал по походке: управляющий спускался из верхней горницы неспешно, топал тяжело, уверенно, чисто был тут хозяином. Хотя и впрямь мало ли на что рассчитывал Творим, когда от его умелых действий теперь все зависело? Та же хозяйка Мирина должна будет ему угождать, если не хочет потерять столь рачительного работника.
А вот Озар с ним особо не церемонился.
– Эй, а ну не спеши уходить, почтенный!
Творим повернулся медленно, на лице – суровое выражение. На окрик Озара выгнул бровь изумленно.
– Это ты меня?
– Говорить будем, – шагнув к нему, заявил Озар.
Творим вскинул голову:
– Некогда мне лясы с тобой точить. Я битый час с госпожой наверху беседовал. Утомился. Поди-ка объясни ей теперь все дела хозяйские. С такой красой, да еще несведущей и не привыкшей к делу, и по миру пойти недолго. Все-то гостинцы да наряды у нее на уме. А я…
Но Озар не стал слушать его ворчание, просто кивнул, мол, иди за мной, – и вышел на широкое гульбище.
Это было не самое укромное место для беседы. Да, само гульбище было просторным – видать, тут за столом немало гостей принимал покойный Дольма, – но перед тем, как спать укладываться, то и дело кто-то шнырял мимо. Чернавка бадейку с водой пронесла в покои, другая возилась, протирая стол после вечерней трапезы, и Озар велел ей не суетиться, уйти. Тихон, завидев волхва, подбежал и хотел посидеть рядышком, но Озар, взлохматив мальчишке волосы, по-доброму попросил оставить их с Творимом.
– Эко ты тут уже распоряжаешься по-хозяйски, – заметил тиун. – Одно слово волхв. Привык повелевать.
Озар отошел в дальний конец гульбища, прислонился плечом к резному столбику-подпоре.
– Пока тут переговорим, Творим, слуга хозяйский.
Назвав тиуна «слугой», Озар сразу напомнил ему, что он тут тоже всего лишь подчиненный. Твориму это не понравилось, он насупился, хмуро посмотрел на волхва из-под надвинутой до бровей меховой шапки. Но Озар держался с ним так, как привык еще в бытность свою почитаемым волхвом-служителем – величественно и властно. Сразу приступил к делу:
– Ответь-ка, Творим, где ты находился, когда в реку Почайну все вслед за Дольмой вошли?
При этом на самого Творима будто и не смотрел. Но по тени его отметил, что тиун даже отшатнулся.
– Что спрашиваешь? Думаешь, я душегубец? Да я дружен был с Дольмой, мы нередко по душам беседовали, он уважал меня. А ты…
– Я всех расспрашивать стану. С тебя вот начал…
– Чего это – с меня? Я в стороне тогда был! Почитай, позади всех. Я давно говорил хозяину, что готов веру Христову принять… ну, чтобы он своим меня счел, чтобы доверия мне еще больше было. А когда входили в реку во время обряда, хозяин на меня и не смотрел. Знал, что буду со всеми, что не подведу.
Как там насчет того, кто с готовностью шел в Почайну, а кто по приказу, Озара не волновало. Но, порасспросив тиуна, он понял, что тот лжет. Чтобы такой, как Творим, всяких скотников и чернавок вперед пропустил? Когда же Озар сказал об этом Твориму, тот просто соловьем запел: дескать, он же не из ближней челяди соляного купца, не его дворовой, потому и держался в стороне. Но о том, кто и где из ближников и домашних тогда был, помнил хорошо. Так, подле самого Дольмы Мирина-супружница была, рядом находился и Радко, а следом Жуяга толкал в воде кресло увечного Вышебора. Ну и Яра, ключница белобрысая, ступала с ними, может, немного сбоку; возле нее были кухарка Голица и ее муж Лещ, старый и верный работник в этом доме.
– А их сын Бивой, этот здоровенный детина с пышными усами, тоже там был?
– Нет, Бивоя в Почайне не видел. Он, как я слыхал, отказался идти на обряд. Не захотел, не пошел.
Ну хоть кто-то проявил верность старым богам и не подчинился хозяину, почти с удовлетворением отметил Озар. Хотя от такого простоватого парня, как этот здоровенный увалень с пышными усами, Озар бы такого упорства и своеволия не ожидал.
А Творим продолжал. Дескать, и Тихон там суетился, брызгал водой радостно, хотя зачем он пошел на обряд? Всем известно, что Дольма привез сына в Киев уже крещеным. Но вот же полез и плескался подле родителя. Еще девки Мирины были там, Загорка и Любуша, крутились, смеялись, толкались, а чернавка Будька, помнится, оступилась в воде, упала, взвизгнула. Еще скотник был там, бывший раб по прозвищу Медведко, да пара баб-скотниц и мастеровой Стоян, молчун неприметный. Последний тогда разошелся вдруг непривычно, даже едва не толкнул важного Творима. Ну а следом шли работники из лавки, приказчики и грузчики.
– Погоди! – Озар поднял руку. – Работный люд из лавки был за тобой, верно? То есть в стороне от Дольмы.
– Так и было. Они последними зашли в воду, уже после меня.
– А ты, добрый друг соляного купца и помощник его, держался на отдалении, пропустив даже скотников. Скромный ты, как погляжу, Творим. Однако, находясь немного в стороне, ты как раз и мог увидеть, кто метнул оружие.
– Да ничего я не видел! – замахал руками тиун. – Там все теснились, брызгались, а сзади уже народ подходил, тот же купец-меховщик Хован с семейством зашел в воду. Еще помню, что Моисей почти рядом со мной держался, не спешил глубже зайти, однако потом шагнул прямо к Дольме. И сдается мне, что люди правы, уверяя, что хазарин этот и порешил хозяина.
Последние слова Творим почти выдохнул, понизив голос, поправил шапку на голове, уставился угрюмо. Озар же улыбался почти дружелюбно.
– А ведь мне говорили, Творим, что этот Моисей первый шум поднял и кинулся к Дольме, когда тот рухнул. Зачем ему было внимание к себе привлекать?
– А чего бы ему не шуметь? Решил, наверное, что на него не подумают. Этот Моисей, рожа хазарская, долго и верно служил хозяину, поэтому и надеялся, что его никто не заподозрит. А ведь Моисей, сказывали, некогда воином был, причем не из последних, мог и воспользоваться случаем в толпе. Ловок он, как и все, кто с оружием знается.
Тиун хотел еще что-то добавить, но замер на полуслове, когда Озар вдруг легким, почти кошачьим рывком перескочил через перила гульбища во двор. И сразу стал смотреть на высокий поверх галереи. Успел заметить, как кто-то отступил вглубь легкой тенью. Верхние покои в тереме обычно женские, мужикам носить мусор туда не больно позволяется. А сейчас кто пытался их подслушать укромно? Мирина-хозяйка? Кто-то из ее прислужниц? Ключница? У Озара была догадка.
– Послушай, Творим, – молвил волхв, поднявшись обратно к оторопевшему тиуну, – что ты скажешь о ключнице вашей? Яра, кажется, зовут.
– Яра, да. Или Ярозима, как нарекли ее в родном селище. Недоброе у нее имя, да и в роду она была нелюбимой. Вот родовичи от нее и избавились, отдав Мирине в услужение. Это мне сам Дольма рассказывал. Я ведь ему помогал с тех самых пор, как он тут хозяйствовать начал, вот он и доверял мне, разговаривали мы с ним порой о всяком за чаркой меда стоялого, а не только о нуждах и делах. Он и сказал, что, какова бы ни была Яра в древлянском селении, потом из нее хорошая помощница его жене вышла. Оно и понятно: Мирина сидит да красу свою лелеет, а Яра весь дом на себя взяла. Но я вот что скажу: Ярозима эта хитрой оказалась, раз сумела всем так угодить, что ее до ключницы возвысили, хотя брали из лесов древлянских едва ли не как рабу-прислужницу. Ныне же погляди только – прямо госпожа достойная с хозяйскими ключами за поясом. Даром что вековуха[50], никем не выбранная. Однако и тут мне есть что тебе сказать, ведун.
Творим теперь говорил негромко и почти задушевно, словно хотел расположить к себе Озара.
– Дольма как-то поведал, что Ярозима в древлянских чащах охотницей отменной слыла. Замуж она не спешила, а все больше в лес уходила, причем без добычи никогда не возвращалась. Сильная она девка, и на лося ходила, и на волка. Так что поверь: такая, как она, могла метнуть нож в хозяина.
– А с чего бы это ей Дольму захотелось убить?
Творим втянул голову в плечи, размышлял.
– Вот что, волхв, ходили слухи, будто бы калека Вышебор просил Дольму отдать ему в жены вековуху-ключницу. Все равно она никому не нужна, а ему, убогому, хоть какая-то женка под бок. У него-то страсть Уда[51] порой играет еще как, даром что ноги волочатся. Вот он и хотел себе бабу. А хотела ли того же Яра, сказать не могу. Хотя… какая за такого захочет? А Дольма брату мало в чем отказывал. Мог бы и приневолить Яру. Так почему бы ей от хозяина не избавиться, чтобы он не принуждал ее стать женою увечному Колояровичу?
По сути это было обоснованное предположение. Хотя тогда Яре было бы сподручнее прикончить навязываемого жениха-калеку, а не Дольму. Но как это сделать в доме, где все у всех на виду? Однако даже Озар заметил, что ключница держится неприметно, словно и не правая рука хозяйки. Тут было о чем подумать.
Озар отпустил тиуна, а сам вернулся в сени, лег на лавку, застланную светлой овчиной. В тереме домочадцы уже укладывались на покой. Только одна из дворовых девок еще шастала по двору, кажется, та, что Будькой звалась, крепенькая, как репка, по-своему даже миловидная. Коса у нее, как и положено прислуге, недлинная, едва ли чуть ниже лопаток спускалась, зато густая, толстая. Озар улыбнулся, заметив, как Будька ставит у порога блюдце с молоком – угощение домовому. Молоко-то кошка вылакает, как обычно, но то, что старые обычаи в доме новообращенных христиан так сильны, волхву понравилось.
Еще эта Будька то и дело крутилась у ворот, как будто поджидала кого-то. Никак красавчика Радко надеялась встретить по возвращении – парень до сих пор так и не появился после того, как ушел. Зато когда Лещ спустил на ночь пса, Будька поспешила к главному терему, быстро взбежала на крыльцо, но еще какое-то время стояла на гульбище, что-то напевала негромко – долгое, монотонное. Озар услышал, как этому пению стал вторить негромкий храп Златиги. Тогда он встал и вышел из сеней к девушке.
– Никак ждешь кого или просто не спится?
– Кого это мне ждать? – насупилась Будька.
Озар же заговорил с ней о тиуне, сказал, что тот явно лжив и себе на уме. А еще ведун помнит Творима, когда тот на капище с подношениями ходил, но не шибко жаловал богам, хотя управляющий таким хозяйством мог бы и пощедрее быть. Творим же то зайца тощего принесет на алтарь, то сапоги уже поношенные для служителей выделит.
Будька слушала и хихикала. Согласилась, что Творим скуп, любит в тереме Дольмы столоваться, хотя и сам не беден, но на угощение всегда поспеет. А еще он крестьян в селищах Дольмы донимал, житья им не давал, недоимки не прощал даже в голодные годы. О, Будька это знает, ее саму из такого селища в дом взяли. И то не тиун ее привел, а сам Дольма взял в услужение, когда родители девушки умерли, а старший брат жену завел. Будьку невестка обижала. А тут и жить спокойно, и кормят сытно, пусть и работать заставляют от зари до зари.
– Хороший хозяин был Дольма? – спросил Озар.
– Хороший… – подтвердила девчонка, но так тихо, что Озар посмотрел на нее внимательнее.
А потом подступил с вопросом: отчего это всему Киеву известный христианин Дольма не окрестил свою семью и челядь ранее? Кажется, мог бы. Будька лишь пожала плечиками. Дескать, сам купец не предлагал, а они не просились. Но как он повелел, все и пошли.
И тогда Озар поинтересовался, заметила ли сама Будька что-нибудь, когда убили Дольму в Почайне.
Несмотря на то что ему полагалось всех расспросить, он думал, что чернавка хотя бы из-за своего положения в доме засмущается вопроса. Ничуть не бывало. Ответила спокойно, обстоятельно. Говорила, мол, все стояли близко к хозяину, весело им было, они улыбались, смеялись. Ведь такого ранее не бывало, чтобы толпой-то в воду идти, вот и разобрало всех. Даже не больно улыбчивый Дольма просто сиял тогда. Но когда он упал, Будька не заметила. Помнит лишь, что все кинулись к нему – и Мирина, и Радко, и тот же тиун Творим, старый Лещ тоже поспешил. Однако Моисей всех растолкал, схватил хозяина, потащил к берегу, голосил страшно, рыдал. Брат Дольмы Вышебор хоть и в кресле сидел, но успел хазарина схватить и так дернул, что тот упал вместе с телом купца. Да, Вышебор калека, но очень сильный, плечищи у него и поныне саженные. Воином он был когда-то не последним, вечно в походах участвовал, службу в степном порубежье нес.
Озар слушал внимательно, порой поддакивал, ахал. Он знал, как заставить собеседника разговориться, ему и на капищах много чего приходилось от людей выведывать. Вот и эта чернавка стала рассказывать. Дескать, из-за того, что старший из братьев дружинник Вышебор часто бывал в отлучке, на Дольму все хозяйство и легло. И старая купчиха Добута, родительница Вышебора, но мачеха Дольмы, пасынку во всем помогала и обучала. Она была из старого купеческого рода, да только родной ее сыночек Вышебор в дела торговые вникать не желал. А Дольма – тот сразу. Да и сама Добута была привязана к Дольме. Может, даже больше, чем к родному сыну. Тот пошел в отца Колояра, такой же лихой воитель, но с домашними резкий, грубый, непримиримый и властный. А Дольма, рожденный от меншицы-полонянки Колояра и рано осиротевший, был сызмальства на заботах Добуты. Она его растила, воспитывала, вот и привязалась. На ее попечении позже оказался и Радомил, но тот рос в основном как трава, сам по себе. Потому и стал таким неугомонным и своевольным.
Но сейчас младший Радко не очень интересовал Озара. Еще успеется, хотя Будька с охотой выкладывала все про красивого младшего Колояровича. А Вышебор? Она лишь насупилась.
– Что Вышебор? Говорила же, что ранее, до того как покалечили его, он считался тут главным, но в дела хозяйства не вникал, его даже устраивало, что Дольма всем так заботливо распоряжается. Для Вышебора же главным было, чтобы его как хозяина по приезде принимали, чтобы тот же Дольма выходил ему навстречу и в пояс кланялся, чтобы место во главе стола уступал ему покорно.
Но потом, когда Вышебора покалечило, Дольма его уже иначе принимал. Конечно, посокрушался, что старшой ногами ходить не сможет, потом выделил ему удобную горницу наверху, слуг приставил, велел мастеровому Стояну соорудить для брата кресло на колесиках, ну вроде сиденья на возке… Да ведь мудрый волхв уже сам видел то кресло! Дольма даже позаботился о наклонном спуске в тереме, чтобы старшего Колояровича было удобнее спускать-поднимать, когда тот пожелает. Да и в Почайну в тот день Вышебора в нем катили. Должен был Бивой ему прислуживать во время обряда, ну да Бивой отказался, вот Жуягу к калеке и приставили. Ведь Жуяга тоже за ним ухаживал, когда приказывали, а он, хотя и тщедушный, на деле сильный.
– Это плешивый Жуяга-то сильный? – переспросил Озар. – Что-то я не приметил в этом тщедушном силы. Наверно, ему нелегко пришлось, когда полгорода катил увечного, а потом еще в воде. Вышебор муж крепкий, могучий, а Жуяга вон какой невзрачный.
– Что с того, что он невзрачный? – поправив височные кольца на тесьме, возразила чернавка. – А на деле Жуяга сильный. Жилистый он, крепкий, руки все в узлах мускулов. Он же по молодости у ваших волхвов подвизался, охранником на капище служил. Ну а каковы ваши… Да что я рассказываю!
– Так он служителем богов был? – задумчиво переспросил Озар. – Откуда знаешь? Я вот ничего про вашего Жуягу не слышал. А ведь должен был бы…
Говоря это, Озар хотел по привычке запустить руку в бороду, как с ним обычно случалось, когда размышлял. Но рука поймала пустоту. Эх, надо от этой привычки избавляться.
Будька зевнула и хотела было идти, но Озар еще спросил:
– Сколько же ты тут прожила в услужении, раз столько про род Колояровичей знаешь? Сама вон словно Леля весенняя[52], юная, а всю их подноготную проведала. – И Озар легонько щелкнул Будьку по хорошенькому вздернутому носику.
Она отмахнулась, негромко смеясь.
– Так ведь надо же о чем-то говорить долгими зимними вечерами, когда все в истобке[53] собираются. Вот я и слушала.
Но, сказав это, чернавка заторопилась.
– Пойду я. А то вон Лещ уже Лохмача с цепи спустил. А я страсть как этого косматого зверюгу боюсь. Да и вставать мне завтра раненько.
Озар посмотрел ей вслед и подумал, что эта милая девушка не так уж проста, как кажется. Все замечает, обо всех знает. И кого же она ожидала у ворот? Обычно ворота закрывают, когда последние с гулянок возвращаются. Не Радомила ли ждала чернавка? По тому, как она о младшем Колояровиче отзывалась, выходило, что нравился он ей. Но какой бабе такой, как Радко, не глянется – лихой, удалой да собой пригожий, как сам Ярила пресветлый[54]? Хотя, как поговаривали, с Мириной-хозяйкой у него как раз не очень-то ладилось. А какая пара могла быть! Оба хороши, как месяц-месяцович с луной ясной.
Тут было о чем поразмыслить. Но вместо этого Озар стал негромко насвистывать, когда вдоль частокола промелькнула тень огромного, как теленок, Лохмача. Потом волхв начал поскуливать по-щенячьи, дышать быстрым собачьим дыханием. Пес сперва рычал грозно, но постепенно приблизился, принюхиваясь, а там и подошел, дал себя погладить по лохматому загривку. Ну да волхва Озара обучали, как с животными ладить. И когда челядинец Лещ, обходя на ночь хозяйские постройки, заметил, что приставленный Добрыней гость что-то ласково приговаривает присевшему рядом сторожевому псу, то даже ключи от запоров уронил – так поражен был.
– Гляжу, ты и впрямь колдун, – проворчал он. – Ишь как с Лохмачом поладил скоро. Обычно этот зверюга мало к кому идет.
– Ну, у меня с животными всегда лад, – отозвался добродушно Озар. – Я вот о чем хотел спросить тебя…
Но умолк, когда старый слуга резко пошел прочь, всем видом давая понять, что не намерен лясы точить с подселенным к ним ведуном. Удалился к хозяйским клетям и больше не показывался. Озар посидел еще какое-то время. Ночь выдалась без луны, но ясная – все небо звездами, как светлым серебром, обрызгано. Тихо было, лишь из конюшни порой доносилось пофыркивание лошадей, а в полночь на хозяйском дворе прогорланил петух – его ночной крик никого не разбудил, привыкли уже.
Поспать бы Озару, однако он долго еще лежал без сна. Вспоминал все, что ему про род Дольмы стало известно, о чем поведали тут и что он знал, когда сюда только направили.
Изначально род велся от варяга Глума, прибывшего в Киев еще с Олегом Вещим. Варяги Олега тогда быстро расселились, прижились да переженились на местных девицах – Олег сам их в этом поддерживал, желая, чтобы пришлые варяги скорее в Киеве своими стали. Вот и Глум сошелся с местной девицей, а там и поставил свой дом на Хоревице. Киевская супружница немало детей ему родила, но кто из них умер, кого судьба унесла невесть куда, кто сгинул в походах. Остался лишь один сын, названный уже по-местному Судиславом. И хоть имя носил славянское, однако, видать, сильна была в нем воинственная варяжская порода. Все время уходил в походы, лишь на побывку возвращаясь в родной терем на Хоревице. А как сгинул где-то, после него остался сын Колояр, известный в Киеве витязь. Этот тоже выгодно женился на упомянутой сегодня Добуте, женщине хорошего купеческого рода. На ней и держалось все хозяйство, пока Колояр, как и отец его, в походы хаживал. Сперва он ходил с Игорем в южные моря, потом переметнулся на службу к прославленному воеводе Свенельду – у этого служить оказалось выгодно, все его люди богаты и успешны были. Именно при Свенельде Колояр и прославился, возвысился. Его сама княгиня Ольга пресветлая у себя принимала. Но, как поговаривали, не любила. Уж больно дерзок был да своенравен. К тому же враждовал с вышегородским родом Добуты – много шума от того было, говорят, он жене запретил родню навещать и, если позволяла себе ослушаться, поколачивал. А что сам еще немало жен заводил, Добута даже слова сказать не смела, не могла и родне пожаловаться.
А потом Колояр прославился, сумев отстоять Хоревицу во время набега печенегов лютых. Случилось это, когда князь Святослав отправился в поход на Болгарию, а печенеги в его отсутствие напали на Киев-град[55]. Мать Святослава княгиня Ольга с его детьми тогда схоронилась на главной Киевской горе за городнями и частоколами, там же немало беженцев укрылось, а вот гора Хоревица осталась сама по себе. Однако не смогли взять ее печенеги: крутые склоны и отважный отряд дружинников во главе с уже немолодым Колояром оказались им не по силам. Вот и отступили вороги после нескольких неудачных приступов.
Однако, как бы умело ни обороняли Хоревицу, люди больше на иное обратили внимание: тогда к осажденному Киеву прибыл с ополчением черниговский воевода Претич, который хоть и не решился отбить отряды печенегов, а хитростью отвлечь их от града сумел. Он же вывез из осажденного града саму княгиню Ольгу с малолетними княжичами. Ну а там и сам Святослав подоспел, разбил печенегов, погнал их обратно в степи. В Киеве же был великий пир, чествовали все Святослава, восхваляли и ловкого Претича. О Колояре тоже много говорили, однако боярской шапки, на которую тот рассчитывал, ему так и не дали. И Колояр замкнулся в себе. Даже когда очередная жена родила ему сына Радомила, не сильно повеселел. Да и жена родами померла, где уж тут пировать, когда горе в доме, а на Добуту еще и младшего Колояровича навесили.
И все же род их богател, особенно когда Вышебор привез со Свенельдом немало награбленного в болгарской земле. А когда Колояра не стало, Вышебор стал главным в роду. Однако в Киеве полноправным хозяином считался не тот, кто постоянно прибывал-убывал, а тот, кто семью имел. Только женатые мужи могли слыть хозяевами усадеб, теремов. Вот так и вышло, что средний Долемил, женившийся раньше брата, был признан всеми главным в усадьбе Колояровичей на Хоревице. По совету мачехи Добуты он взял за себя одну из девиц ее обширного рода, Збудиславу, и в итоге сдружился с вышегородской родней, а новые родичи научили его торговому делу. Стал тогда Дольма торговать да добра наживать, струги свои построил, которые водил не в далекий Царьград, а в Таврию, к приморскому Корсуню. В окрестных киевских землях скупал мед, торговал и с древлянскими бортниками[56], а добытый мед сцеживал в липовые долбленые бочки и отправлял в Корсунь, где менял на соль. В Киеве соль всегда была в цене, вот Дольма и разбогател изрядно. Почитай, весь Киев у него соль брал. Отсюда и прозвище его было – соляной купец. Ну а поскольку Дольма постоянно бывал в греческом Корсуне, то там он и принял христианскую веру.
В стольном граде тогда уже немало крещеных было, новый князь Ярополк милостиво к ним относился, того же Дольму привечал. И все у соляного купца складывалось ладно, да только детей у них с Збудиславой не было. Старая Добута так и померла, не дождавшись внуков, которых мечтала понянчить. Ни от Вышебора, постоянно где-то разъезжавшего, детей в их доме не было, ни от нарочитого Дольмы. Ну а Радко… Мал он тогда еще был, да и с бабкой у него не заладилось. Не домашним был Радко, диким, потому она его и не привечала, как первых двух Колояровичей. А вот добрую Збудиславу Радко полюбил и переживал горько, когда она негаданно померла. Свалилась с лестницы в своем же тереме и шею своротила.
Купец Дольма отпел ее по христианскому обряду, однако долго по ней не кручинился и вскоре привез из древлянских лесов красавицу Мирину. При ней и ее родичка была, Яра, которую Мирине в услужение отдали, как бы в приданое. И Яра охотно взялась помогать Мирине, какая больше красотой своей гордилась да наряды меняла, чем управляла домом.
Это было, когда уже Владимир вокняжился. Тогда и Вышебор к нему переметнулся, желая оправдаться за то, что ранее стоял за его соперника Ярополка. Да только в первом же походе на вятичей его покалечили, и теперь Вышебор сидел сиднем в верхней горнице, покрикивал на всех да пытался напомнить, что именно он старший в роду Колояровичей. Однако с тех пор Дольма мало внимания ему уделял, сумев осадить грозного старшего брата и как-то с ним поладить. А когда уезжал, то Мирина должна была сдерживать гневливого деверя. И ничего, справлялась капризная древлянка с бывшим дружинником. В остальном же ей Яра помогала.
С этой неприметной Ярой Озару еще предстояло разобраться. Как и с суровым хазарином Моисеем, с помощью которого Дольма держал близких в повиновении. Как и с Жуягой, каким-то диковатым и дерганым, странно проявившим себя, когда Озара привели в дом. Да и старый Лещ наверняка что-то знал, недаром так сторонился волхва. Жена его, кухарка Голица, тоже смотрела на подселенного ведуна как на морок навеянный, а сын ее, бугай рыжеусый, тоже что-то мутил. И этот мальчишка Тихон, нагулянный на стороне… Вроде дитя еще, но уже отрок. На Руси в таком возрасте мальчишек к ратному делу начинали приучать, но не было похоже на то, чтобы Дольма думал сделать из сына воина. Впрочем, сказывали, что он и Радко к этому не приучал. И все же несколько лет назад Радко ходил в отряде Добрыни на булгар, а потом вроде вернулся в усадьбу и жил тут… по сути, бездельником жил. Это тоже казалось странным. Дольма мог позволить содержать нахлебника Радомила, но славы такой вертопрах бесталанный роду Колояровичей не принес бы. Хотя вон Добрыня говорил, что Радомил славный и из него будет толк.
Вот о чем в тихой ночи думалось волхву Озару. Ему поручили разобраться с этими новообращенными христианами и выведать все, да так, чтобы комар носа не подточил. Дурной славы этому роду не надо – так приказал Добрыня, когда давал задание. А как это сделать, если, по мнению Озара, любой тут мог быть убийцей? Шип ведь кто-то из находившихся неподалеку метал. А уж какая слава потом пойдет про окружение купца-христианина, Озару, честно говоря, было плевать. Главное – чтобы княжий дядька его понял и поверил. И, как воевода пообещал, отпустил служителей богов на свободу.
Глава 5
Радко просыпался тяжело: жажда, ломота во всем теле, нечем дышать, да и придавили его чем-то. Он засипел пересохшим горлом, разлепил тяжелые веки и какое-то время бессмысленно созерцал закоптелую до черноты, сплетенную из лозняка кровлю над головой. Где это он? И что это лежит поперек туловища? Нога. Голая по самое бедро, женская.
Он отпихнул ее и попытался привстать. И постепенно сообразил, где находится: в родовой избе старшины рыбаков Бермяты на Оболонских заводях. Радко порой приезжал сюда, когда хотел отвести душеньку и отвлечься от забот. И его всегда принимали как своего, рады были. А чего не радоваться, если брат богатого купца Дольмы никогда с пустыми руками не приходил? Вот и вчера, хоть и явился сам не свой, однако выставил перед хозяевами несколько кувшинов дорогого заморского вина. Да еще похвалялся, что из лавки брата их умыкнул. Ну, брата уже не было – мир его праху, – а поживиться на складах Дольмы Радко и раньше себе позволял, так что и нынче прихватил угощение для семьи рыбака, не особо о том задумываясь. Угощал всех, ну а когда показавшееся местным кислое вино смешали с медовухой… вообще понеслось разгульное веселье.
Сейчас голова парня гудела, словно городское било после удара палицей. Рядом с Радко лежала в пьяном угаре дочка Бермяты Машутка, упираясь ему в бок своим пузом непраздной бабы. Бермятины родовичи уверяли, что это от Радомила она носит дитя. Может, и так, парень не спорил, хотя и знал, что девка скора на ласку не только с ним. Как была с ним ласкова без меры и меншица старосты, пригожая Ласуня. Вон и эта сейчас привалилась к красивому гостю с другой стороны, спала, обнимая. Радко еле высвободился из цепкого кольца потных рук, огляделся. А где же сам хозяин? И хотя староста никогда не препятствовал гостю тешиться с его бабами, все же Радко перво-наперво о нем подумал: хитрый Бермята не упускал случая потребовать от богатого Радомила Колояровича что-нибудь за оказанные услуги.
Старосты поблизости Радко не заметил. Остальные же спали после вчерашних возлияний, кто где пристроился: и братья, и сыновья, и невестки, и бабы-сестры, и их дети. На полати душной ночью никто не залазил, все лежали на устланном соломой полу. Только старый дед, отец Бермяты, как старший в роду, возлежал на крытой овчинами лежанке в углу, посвистывал тонко носом во сне. А младший сынишка Бермяты, совсем малец, спал возле обложенного камнями очага – хорошо, что не подпалил рубашонку. Впрочем, очаг давно остыл и в открытый продух в кровле даже тоненькой струйки дыма не выходило.
Радко вдруг стало противно от такого скопища чужих ему людей. Раньше как-то не особо задумывался об их нравах, а вот сейчас… Вроде возле самого Киева Оболонские поселения, а живут всем скопом, как мурома[57] дикая. А ведь совсем недавно Радко в этом селище рыбаков как раз и нравилась этакая древняя вольница, где род един что духом, что заботами, что плотью. Но в Киеве подобное давно не приветствовалось, да и в доме Дольмы на Хоревице каждый знал свое положение, имел свой угол. Даже когда в зимние морозные ночи собирались в теплой истобке, то и тогда у каждого его место было. Братец Дольма за этим строго следил, и Радко уже свыкся с таким укладом. И все же, когда убегал из дому от властного брата, получал некую отдушину, живя по старинке у оболонских рыбаков. Потому что, наверное, знал – это лишь временно, чтобы потом вернуться в свой чистый обширный терем, к принятому градскому укладу. Сейчас же… Даже замутило парня. И не только из-за спертого от дыхания и испражнений воздуха, а и после изрядно выпитого. Радко, не сумев сразу встать, попросту выполз в проход, занавешенный дерюгой, и несколько минут его жестоко выворачивало наизнанку. Рядом тут же возникли собаки рыбака, стали слизывать. Радко тяжело поднялся, отпихнул псов и направился за плетень двора, к блестевшим в стороне заводям.
Вокруг клубился предутренний туман. После духоты в избе прохладный от росы воздух освежал, как купание. Окунуться после вчерашнего буйного возлияния и веселья было бы не худо. Радко, стянув через голову богато вышитую рубаху, так и плюхнулся в воду с ближайшего бережка.
Это было хорошо! Так хорошо!.. Холодная водица, сладкий ее вкус, нежная, ласкающая мягкость ила под ногами. Таких заводей на Оболони было немало. Они появлялись почти после каждого разлива Днепра по весне, и только на возвышенностях оставались поднятые на сваях нехитрые глинобитные избушки-мазанки местных жителей. А вот сам Днепр тек в стороне, за песчаной косой, отделявшей Оболонь от вод могучей реки.
Там на берегу Радко и обнаружил вскоре самого старшину Бермяту. Вот здоров мужик! Вчера не меньше самого Радко пил заморское зелено вино[58], смешивая с шипучей медовухой, а сегодня уже на ногах, возится себе с двумя подручными возле развешанных на шестах рыбацких сетях.
Бермята сразу шагнул к мокрому, еще пошатывающемуся юноше.
– Ты как, Радко, друг? Славно вчера повеселились, а сейчас соберись. Ты ведь теперь купчина нарочитый, гоголем должен хаживать да всякому его место указывать.
И эти уже купцом его называют? Радко захотелось даже ударить рыбака, кулаки сжались. Да и что он сам им вчера выболтал во хмелю?
Но Бермята был сообразителен, увидел, как засветились недобрым огоньком глаза парня, и поспешил перевести разговор на иное. Указал на одного из своих помощников, заметив, что его братанич[59] еле ходит. Это его сом съездил хвостом в бок, ребра поломал. И сом этот – зверь-рыба! Уже и гусей утаскивает у местных, и теленка затащил в воду и сожрал. Люди даже стали бояться в реке купаться, опасаясь пагубы. Так не хочет ли удалой Радко принять участие в охоте на хищника?
И Радко воспрянул. Как тут было не согласиться? А Бермята уже пошел скликать своих. И диво – только что все лежали, будто поваленные бурей стволы, а по окрику старосты вмиг едва ли не всем селищем высыпали к реке.
Да, хорошо Радко было с рыбаками, с их простецкими, но такими интересными заботами. Сома-великана изловить – это так не похоже на его жизнь в последние дни, когда ему только и приходилось на вопросы о брате отвечать да огрызаться на всякие предположения. Тут все просто – собрались скопом и пошли.
Забравшись поглубже в реку, парень со всеми ставил за омутом двойную прочную сеть, наблюдал за долбленками, выплывавшими на глубину, видел собравшихся на берегу баб и отроков. Даже брюхатая Машуня явилась, тоже с ломом, как и остальные бабы. И подняли они великий шум, визжали, трещали трещотками, били в бубны. С лодок рыбаки стали кидать в воду камни, баламутили воду шестами. И после получаса такого шума подняли все же сома: показалась на поверхности тупорылая, закованная в твердый панцирь рыбина, всплыла, заволновалась, поплыла… И налетела на сеть, рванула. Однако люди удержали ее и, как бы ни напирал сом, не дали страшилищу уйти. Хотя и тот оказался будто в сговоре с водяным – то натягивал сеть, то отпускал. Людей просто мотало, орали все. Весело было!
Радко забыл о своих печалях в этой борьбе с подводным страшилищем. Там, где он с родичами Бермяты стоял, крепко удерживали сеть, но на другом конце невода люди попа`дали, едва не выпустив сома на свободу. Все кричали, ругались, поминали кикимор и водяного. Кто тут о новой вере вспомнит, когда рядом бесилось нечто древнее, чудовищное. Еле дотащили его до мели, где сбежавшиеся бабы принялись лупить кто камнем, кто ломом или оглоблей по огромной чешуйчатой спине, по голове страшной. А пасть-то какая!.. Может и человека проглотить, если подвернется.
Радко едва не выл от восторга, что такую рыбину взяли. Семь пудов потянет, не меньше. Спросил у Бермяты:
– Всем селищем пировать будете? На костре ломтиками поджарите, целиком или коптить на будущее задумали?
Бермята поглядел хитро, потом отвел Радко в сторону и попросил выкупить у них рыбу.
– Нам сейчас без надобности, не голодаем. А вот на муку если поможешь обменять, да и от своих щедрот соли добавишь, мы спасибо тебе скажем.
Ну, это их дела, местные, почему же к нему обращаются?
– Сам понимать должен. Ты нынче великий человек, ты место Дольмы займешь. И на купеческой пирушке тебя всякий послушает. Выторгуй нам так, чтобы путем все, чтобы не обманули.
– Я не стал наследником брата, – отозвался Радко, мрачнея. – Разве вчера не говорил?
– Что-то такое говорил. Но кто тебя вчера всерьез воспринимал? Да и понятно всем, что не калеке же Вышебору хозяйством таким заправлять, не Мирине бесплодной. Ты же в этом роду самый толковый. Об этом все и болтают в Киеве. Да и наши никто не сомневается, что именно ты Дольму завалил в реке. Он ведь подавлял тебя и принижал, вот ты и высвободился, порешив его. Теперь же, да еще при благоволящем тебе воеводе Добрыне, ты высоко поднимешься. Так что как сладится все у тебя…
«Как сладится», рыбак не успел договорить, ибо полетел на землю от сильного удара кулака Радко. Ошалело глядел на него снизу вверх и словно волка оскалившегося перед собой видел.
– Ты что болтаешь такое? Грязью меня измазать надумал? Да я за это… А еще вино мое вчера лакал, сыть подзаборная!.. Думал, что с убийцей брата за одним столом сидишь, дочку свою мне подкладывал… Что же вы за люди такие, если, зная меня, поклеп такой возводите?
Казалось, сейчас пинать-молотить рыбацкого старосту начнет. Однако лишь сплюнул и пошел прочь.
Бермята перевел дух. Такого волчьего оскала, такой злобы у Радко нередко принимавший его староста никогда прежде не видел. Вот и угадай, что в душе у человека таится…
И староста даже поискал на груди обереги-хранители. Да только нет их. Его, как старейшину местного, первого их лишили, чтобы старые верования не мешали привыкать к новой вере заморской.
А Радко шел и все думал: «Неужто в Киеве и впрямь судачат, что я брата порешил?» А что им не думать – многие знали, что он с Дольмой не ладил. А как случилось смертоубийство в тот день… Радко и сам полагал, что именно ему все наследство достанется. А вот оказалось, что Мирина… Ох и Мирина! Хитрая змея! Радко помнил, что, когда народ плескался и веселился толпой в водах Почайны, именно Мирина ближе всех стояла к мужу своему Дольме. Он отметил это потому, что она была словно нагая в мокрой льняной рубахе. Радко на нее тогда смотрел, глаз отвести не мог, пока его не окружили, не толкнул кто-то. Кто? Там и Лещ был, и Творим. Лещ даже молодого господина по плечу хлопал, твердил, что, мол, теперь все под Богом ходим, что исполнилась задумка Дольмы окрестить всю родню. Да, тогда Радко и отвлекся от снохи[60] соблазнительной. А еще заметил, как крепенькая чернавка Будька осмелилась потянуть за мокрый рукав рубахи их видного соседа, меховщика Хована, будто она право на это имела, будто, став христианкой, могла затрагивать нарочитого торговца даже при его суровой и властной жене. Да, на это Радко обратил внимание, даже указал на то Лещу. А вот на Дольму… Чего это кто-то будет на Дольму глядеть? Так Радко думалось тогда. Да и зачем? Но теперь ему стоило бы вспомнить, с кем из находившихся в реке он общался. Это важно, это может ему помочь.
Думать же о самом Дольме даже сейчас было страшно. Как и страшно вспоминать, что именно Мирина ближе всех к нему находилась. А она, как и Яра, древлянка. Где, кстати, Яра тогда была? Радко не мог вспомнить. Зато вспомнилось, что древляне своих баб и девок учат умению постоять за себя, иная и с одной рогатиной на охоту может отправиться. Сказывали же, что, когда пресветлая Ольга водила воинство на это племя, их женщины рядом с мужиками отважно бились. Но да кто на такую, как Мирина, лихое подумает? А вот он, Радко, знает, какова вдовица его брата. Это на людях она ресницами длинными хлопает, а на деле… На деле такая на что угодно способна.
Вон Добрыня ведуна к ним прислал, чтобы тот разобрался. Это дядька князя хитро придумал. Ведь изначально народ только и болтал, что старые боги погубили купца-христианина. А теперь, с подачи многомудрого Добрыни, стали говорить, что неспроста ведун у Колояровичей живет, видать, кто-то из Дольминой родни и есть головник, порешивший соляного купца. И как понял Радко со слов Бермяты-рыбака, младшего Колояровича считают убийцей, заколовшим брата. По всем приметам ему это наиболее выгодно. Он должен был все получить в наследство. И получил бы. Если бы не Мирина, змея подколодная.
Размышляя обо всем этом, Радко вышел на шумный Подол. Раньше он любил здешнюю кипучую жизнь, суету, шум, движение. Кого тут только не встретишь в людный день! Кто с корзиной только что наловленной рыбы поднимается от реки, кто верхом едет, там старуха тащит козу на веревке, там девица с ведрами на коромысле прошла. Подольские купцы раскладывают на откидных прилавках свои товары, лоточники разносят свежеиспеченные пироги-кренделя, мастеровые представляют свой товар, похваляются. То и дело слышны звонкие голоса зазывал, между торговых лотков снуют покупатели, как свои, на вид привычные, так и иноземцев можно увидеть. Вон столпились у прилавка ромейские важные гости в пестрых накидках, вон в тюрбане булгарин торгуется с меховщиками, прошли в темных ермолках жидовины, прижимая к груди сумы-калиты с монетами, а вон и ляхи в пышных шапках с длинными перьями осматривают кольчуги в оружейном ряду. Говор разноязычный, смех, толкотня. И пусть не так давно рассвело, а уже людно.
В одном месте у житного рынка Радко услышал, как кто-то помянул его имя, а там и имя Дольмы присовокупили. И эти, небось, гадают, отчего это родич убиенного купца шастает в одиночку, когда должен во главе стола на хозяйстве купеческом восседать. Да еще и выглядит он… И кто-то добавил: а оттого и ходит парень как неприкаянный, что знает: если не в сей день, так в завтрашний его заломают люди князя, отведут на допыт к палачам.
Радко сперва даже передернуло, как услышал это. Потому и шел не подбоченившись, как обычно, а втянув голову в плечи. Заметил в какой-то миг, что пояс свой забыл в избе рыбака. А ему, члену знатного семейства, ходить по граду неопоясанным, будто мужик-лапотник, совсем не пристало. Вот он и зашел к купцу, торговавшему кушаками, выбрал себе один, алого цвета, с шелковистой бахромой по краям. Как раз под красную вышивку на его синей рубахе. Радко опоясался кушаком, не спрашивая о цене. Так давно повелось, что он мог брать товары в лавках Подола, а потом купцы в обмен получали на складах Дольмы кто мед, кто соль в уплату – и то, и другое ходкий товар в Киеве, за него что хочешь можно выменять.
Радко и теперь так думал поступить, когда купец неожиданно загородил дорогу:
– Стой, Радомил. Раньше Дольма за тебя поручался, а теперь кто?
– Теперь я сам себе голова. Зайдешь к тиуну Твориму или к приказчикам в лавке, скажешь, что я повелел.
– Ой ли? А ведь бирючи еще не оглашали, что ты теперь соляной купец наследственный. Зато про меж людей пошла весть, что вдовица Мирина все возьмет, так как под сердцем у нее дитя от Дольмы. А она с тобой никогда особо не ладила. Вот и гадаю – расплатится ли?
У Радко желваки заходили под кожей, глаза сверкнули по-волчьи. Умел он смотреть вот таким хищником лютым. И купец невольно попятился. Отшатнулся, когда Радко швырнул ему в рожу сорванный кушак.
– Она-то расплатится. Да только я никогда больше у тебя ничего не возьму и ближним своим не позволю.
Ушел, а купец, аккуратно сворачивая алый шелк кушака, проворчал:
– Не позволит он. Гм… Да кто тебя послушает, вертопрах этакий. Уж не гордячка Мирина, так точно.
Наблюдавшие их ссору подоляне согласно закивали. Даже говорили, что недолго осталось Радко гулять этаким гоголем по Подолу. И они еще увидят, как срубят кудрявую голову младшему из Колояровых. А через миг уже обсуждали, насколько близко стоял Радомил подле брата Дольмы в тот памятный день, – мол, все знают, что не ладил он с братом, вот и мог Дольму того…
А по-прежнему распоясанный и раздосадованный Радко шел, сам не ведая куда, и вскоре в толчее оказался, где строения близко сходились. Везде высились окруженные лавками и амбарами дворы. Мазанок и хибарок, как в приградьях Оболони, тут не увидишь, все больше избы рубленые, часто двухповерхие, а то и в три навершия попадаются. В верхних этажах обычно живут сами хозяева, в нижних располагаются лавки с товарами. И кровля над такими торговыми строениями богато украшена резными петушками, конскими головами, змеиными пастями оскаленными; наличники радуют глаз резьбой замысловатого плетения и яркими красками – красный, синий, коричневый цвета господствуют повсюду, подчеркивая богатство хозяев.
Но не о благосостоянии и красоте градской думал Радко, когда вышел к стоявшим рядами постройкам с островерхими кровлями – соляным и медовым лавкам их семейства. Сколько же раз Радко тут бывал, а вот сейчас словно подойти не смел. Ближе всего к нему была медовая лавка с выставленными на помосте липовыми долбленками, наполненными медами. Вокруг пчелы и осы вьются, гудят, но стоявшему там на возвышении Твориму от этого хоть бы что. Даже шапку свою кунью не снял, красуется, смотрит по сторонам важно. А там и просиял довольно, поклонился кому-то.
Радко пригляделся, перед кем это их тиун спину гнет. Ах, вон оно что! Сама Мирина-красавица неспешно подъезжает к торговому подворью на вороном белоногом скакуне. Была она в широком одеянии, чтобы удобно было сидеть верхом, из ткани светло-серого цвета без всякой вышивки, как и положено вдовице в срок траура, только парчовая шапочка на голове сверкает да ниспадающее из-под нее шелковое покрывало, утяжеленное по краям рядом мелких жемчужин, притягивает взгляд.
Женщины из именитых семейств по Киеву в одиночку обычно не разгуливали, всегда с сопровождающими. И даже если верхом, то обязательно со спутником. Вот и Мирина прибыла в компании ехавшего следом на коренастой соловой кобылке Леща. Лещ пусть и с седой бородой, но мужик крепкий, вполне может сойти за охранника важной павы. Ну не с бывшим же охранником Дольмы Моисеем ей было ездить – Мирина недолюбливала угрюмого хазарина, которому ранее, при муже, не смела и слова сказать. Теперь же, пока ведется следствие, выгнать со двора надменного стража она не посмеет, но и приблизить к себе не захочет. Да и не дело это – сразу ближников мужа разгонять, слух пойдет, что верных слуг не ценят.
Хозяйка Мирина важно сошла с седла прямо на высокий помост перед медовыми клетями. Тиун ее под белу руку взял, провел за занавеску в лавку, куда гудевшие пчелы не залетали. Лещ остался ожидать на улице, удерживая лошадей под уздцы. Соловая кобылка стояла смирно, а вот горячий вороной топтался, вскидывал голову, Лещу приходилось его оглаживать, успокаивать. В какой-то миг полез за пазуху, вынул морковку и стал угощать скакуна. А тут и Радко перед ним возник.
– Вот и ты, отчаянная голова, – улыбнулся было Лещ, но улыбка погасла, когда заметил угрюмое лицо молодого хозяина.
– Отдай мне повод Бурана, – резко приказал Радко. – Не бабье дело такого скакуна под себя брать.
– Ты что удумал, беспутный! – охнул Лещ, когда парень почти оттолкнул его и в единый миг вознесся на скакуна.
Лещ пытался загородить дорогу, но Радко грубо пнул его ногой, поехал прочь. Люди шарахнулись, когда конь пошел на них мощной грудью, расступились. А Радко ехал, сам не зная куда. Не хотелось никого видеть, ни с кем говорить – только преданному Бурану мог довериться. Пока еще мог, пока не востребовали с него ответа за все.
В то утро Озар уже побывал в сопровождении Златиги в лавках Дольмы на Подоле, расспросил там всех, кто был в Почайне, – от приказчиков до последнего грузчика. И вышло все, как он и предполагал, исходя из вырисовывавшейся у него картины: далеко от хозяина были работники, там, где они стояли, метнуть шип в купца через голову его родни было невозможно. А видели ли что? Оказалось, что слишком все были отвлечены происходящим, опомнились, лишь когда Дольма уже мертвым в воде плавал.
Вызнав все это, Озар не стал задерживаться на Подоле. Замечал он не раз, как на него, лишенного волховского облачения и бороды, поглядывают киевляне, как перешептываются, порой и пальцем тычут, а то и посмеиваться начинают. И это те люди, которые всегда кланялись ему, едва он появлялся в городе, спешили под благословение, просили пожелать милости у богов. А если сейчас и попадались такие, кто смотрел с состраданием, то и они не осмеливались подойти, особенно завидев подле волхва стража-дружинника в его пластинчатой безрукавке и легком клепаном шлеме.
Озар, будучи по натуре спокойным, уверенным в себе мужем, старался не обращать на это внимания. Но оставаться во граде желания особого не имел. К тому же ему еще в усадьбе Колояровичей надо было допросить тех, с кем пока разговора не случилось. Вот и решил вернуться, при этом отправив Златигу в меховые ряды. Пусть там тоже вызнает у людей меховщика Хована, что они видели в тот день, может, что-то интересное сообщат.
– Разве не тебе, ведун, надо всех самолично расспрашивать? – даже растерялся дружинник. – Я сторожить тебя обязан, а не помогать в дознании.
– Кто сказал, что помогать не должен? – лукаво улыбнулся ему Озар. – А насчет охраны ты сам должен понять – не сбегу я, пока мои собратья в подземелье. Известно же, что ради них за дело взялся.
Златига еще мялся, но Озар пояснил: дескать, если людей начнет допрашивать ведун, какого при дворе убиенного Дольмы поселили, это их только насторожит. А Златига свой, киевский, с ним поделятся.
Довод Озара убедил Златигу, и в итоге он справился со всем, вернувшись на Хоревицу ближе к полудню, когда Голица уже накормила волхва яичницей с грибами и теперь убирала посуду. Но Озар сразу ее не отпустил, стал расспрашивать. Приближавшийся к галерее гульбища Златига даже услышал часть их разговора.
– Так, говоришь, милая, ты все время была подле мужа своего Леща? А где подле?
Голица фыркала недовольно, возмущаясь, что ее все время переспрашивают. Да, с Лещом они все время вместе были, говорила ворчливо, а сбоку еще толклась рябая Загорка, горничная, прислужница госпожи Мирины. Девка эта тогда очень радовалась, что ей имя такое хорошее христианское дали – Пульхерия, что означает Прекрасная, если с греческого на местный переводить. Однако кто станет так прозывать эту дурнушку рябую? Лицо-то ее все в рытвинах, да и сама на овцу длиннорожую похожа. И как была она Загоркой, так и станут по-прежнему звать.
– Хотя сама по себе девка-то она услужливая и преданная, – все же несколько смягчилась Голица. – За то госпожа ее и ценит. Да и краса Мирины нашей возле дурнушки Загорки, как солнце ясное, только ярче становится. Но не думаешь ли ты, ведун, что Загорка могла что-то лихое задумать против хозяина?
– Что я думаю, то мое дело, хозяюшка. Да только со слов самой Загорки выходит, что не была она возле вас с Лещом. Даже не могла припомнить, где вы оба были тогда в Почайне.