Читать онлайн Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби бесплатно
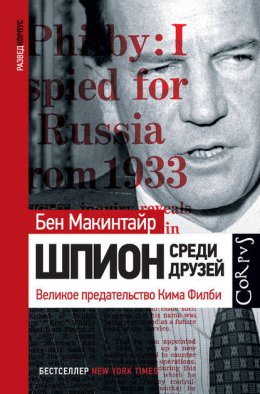
Если бы пришлось выбирать, кого предать — родину или друзей, надеюсь, мне хватило бы решимости предать родину. Возможно, такой выбор возмутит современного читателя, и его патриотическая рука мгновенно потянется к телефонной трубке, чтобы вызвать полицию. А вот Данте это бы вряд ли шокировало. Он поместил Брута и Кассия в самый низший из кругов Ада, ведь они предпочли предать своего друга Юлия Цезаря, только бы не изменить родному Риму.
Э. М. Форстер, 1938
Серия «Разведкорпус»
© Ben Macintyre 2014
© David Cornwell, послесловие, 2014
Предисловие
Существует обширная литература о Киме Филби. Трудно переоценить работы о нем таких первопроходцев, как Патрик Сил, Филип Найтли, Том Бауэр, Энтони Кейв Браун и Генрих Боровик. И все же представления многих читателей о Филби остаются туманными, как, впрочем, и представления о «холодной войне»: о событиях тех лет упоминают часто, но мало кто понимает их по-настоящему. Кроме того, благодаря многим из рассекреченных в последнее время материалов, а также книгам об истории МИ-5 и МИ-6, одобренным самими ведомствами, мы можем в новом свете увидеть и тот конфликт, и место в нем Филби.
Эта книга вовсе не очередная биография Кима Филби, а скорее облаченная в форму повествования попытка описать особого рода дружбу, сыгравшую важную роль в истории. Мой рассказ не столько о политике, идеологии и ответственности, сколько о личности, характере и об очень британской разновидности дружбы, до сей поры не становившейся предметом изучения. Поскольку доступ к делам в МИ-6, ЦРУ и КГБ по-прежнему закрыт, большая часть источников вторичны: свидетельства третьих лиц, нередко изложенные ретроспективно. Шпионы умеют необыкновенно искусно допускать неточности в воспоминаниях, и все протагонисты этого повествования в той или иной степени повинны в искажении собственных историй. Многие «факты» в деле Филби все еще остаются темой бурных обсуждений, и недостатка в гипотезах, конспирологических и любых других, не наблюдается. Обсуждение некоторых наиболее спорных вопросов вынесено в примечания. Многое из того, что написано о Филби, основано на воспоминаниях или предположениях и не подкреплено документально; кое-что окрашено пропагандой, а кое-что — чистый вымысел. До тех пор, пока официальные документы не рассекречены полностью, вокруг этих событий по-прежнему сохраняется некоторый флер таинственности. Это создает определенные трудности для историка-повествователя. Поскольку в моем распоряжении оказались противоречащие друг другу свидетельства, различные точки зрения и разнящиеся между собой воспоминания, мне пришлось определиться с тем, какие из источников наиболее достоверны, и вычленить из многочисленных свидетельств те, что представляются наиболее близкими к действительности. Безусловно, далеко не все согласятся с моим выбором. Что ж, мы имеем дело не с точными науками, но я стремился к тому, чтобы рассказанная мною история была максимально близка к действительности.
В мои задачи не входило сказать последнее слово о Киме Филби. Я старался рассказать его историю иначе, чем мои предшественники, рассмотрев ее сквозь призму тесной дружбы, и, возможно, прийти к новому пониманию этого самого примечательного шпиона современности.
Вступление
Бейрут, январь 1963 года
Два шпиона среднего возраста сидят в квартире в христианском квартале, прихлебывая чай и благовоспитанно обмениваясь ложными сведениями. Приближается вечер. Они англичане — англичане настолько, что им ни на секунду не изменяет вежливость, одновременно объединяющая и отдаляющая их друг от друга. Сквозь открытое окно в комнату проникают звуки улицы: сирены автомобилей, стук лошадиных копыт вперемешку с позвякиванием фарфора и бормотанием. Микрофон, ловко спрятанный под диваном, записывает разговор и по проводу, пропущенному сквозь маленькую дырочку в обшивке стен, посылает его в другую комнату, где сидит третий человек: согнувшись над работающим магнитофоном, он пытается разобрать слова, доносящиеся через бакелитовые наушники.
Те двое, что сидят в квартире, — старые друзья. Они знают друг друга уже почти тридцать лет. Но теперь они стали злейшими врагами, неприятелями, оказавшимися по разные стороны жестокого конфликта.
Ким Филби и Николас Эллиотт бок о бок постигали основы шпионского ремесла во время Второй мировой войны. Когда война закончилась, они вместе поднимались по служебной лестнице британской разведки, делясь друг с другом каждым секретом. Они состояли в одних и тех же клубах, пили в одних и тех же барах, носили одинаковые хорошо пригнанные костюмы и женились на женщинах «своего племени». Но все это время Ким хранил один секрет, которым так и не поделился с Николасом: тайно работая на Москву, он передавал все, что сообщал ему Эллиотт, советским кураторам.
Эллиотт прибыл в Бейрут, чтобы добиться от Филби признания. Эллиотт установил прослушку в квартире и организовал наблюдение за входом в дом и на улице. Он хочет узнать, сколько людей погибло из-за того, что Ким предал свою дружбу с ними. Он хочет выяснить, когда оказался в дураках. Ему необходимо знать правду или, по меньшей мере, часть правды. И когда Эллиотт узнает правду, Филби сможет бежать в Москву, или вернуться в Великобританию, или начать все заново — в качестве тройного агента, или допиться до смерти в одном из баров Бейрута. Для Филби, как убеждает себя Эллиотт, нет никакой разницы между этими сценариями.
Филби знает правила игры, поскольку блестяще играл по ним в течение трех десятилетий. Но ему неизвестно, сколько знает Эллиотт. Возможно, дружба станет для него палочкой-выручалочкой, как уже случалось раньше. Ким и Николас говорят друг другу кое-какую правду вперемешку с ложью, причем лгут самозабвенно, убежденные в своей правоте. Слой за слоем, взад и вперед.
Наступление ночи не помеха странному смертельному поединку между двумя мужчинами, объединенными классом, клубом и образованием, но разделенными идеологией; мужчинами с почти одинаковыми вкусами и воспитанием, но служащими разным целям; ближайшими из врагов. Тому, кто подслушивает, их разговор покажется невероятно утонченным, чем-то вроде старинного английского ритуала, исполняемого на чужбине, а на самом деле это безжалостный бой, боксерский матч без перчаток, смертельная агония кровной дружбы.
Глава 1
Начинающий шпион
Вот только что Николас Эллиотт находился на ипподроме в Аскоте, наблюдая, как фаворит Сокрушитель под седьмым номером легкостью идет к финишу первым, а сразу за ним следует лошадь под вторым номером, но уже в следующее мгновение он, к собственному удивлению, стал шпионом. Произошло это пятнадцатого июня 1939 года, спустя три месяца после начала самого чудовищного конфликта в истории человечества. Эллиотту было двадцать два.
Случилось это за бокалом шампанского. Отец Джона Николаса Рида Эллиотта, сэр Клод Аурелиус Эллиотт, офицер Ордена Британской империи, был директором Итонского колледжа, самой престижной из частных школ Англии, видным альпинистом и одним из главных столпов британской элиты. Сэр Клод знал всех, кого стоило знать, и не удостаивал внимания тех, кто этого не заслуживал, и среди тех важных людей, с кем он водил знакомство, был сэр Роберт Ванситтарт, главный дипломатический советник британского правительства, имевший тесные связи с Секретной разведывательной службой (СРС), более известной как МИ-6, ответственной за сбор сведений за рубежом. Николас Эллиотт договорился о встрече с Ваном в Аскоте и за бокалом шампанского упомянул, что его могла бы заинтересовать возможность поступить на службу в разведку. Сэр Роберт Ванситтарт с улыбкой ответил: «Для меня большое облегчение, что вы обратились ко мне с такой несложной просьбой».
«Сказано — сделано», — много лет спустя писал Эллиотт.
Вербовочная сеть «старых друзей» работала безупречно.
Нельзя сказать, что Николас Эллиотт был создан для шпионского поприща. Он не мог похвастаться особыми академическими достижениями. Он не слишком-то разбирался в сложностях международной политики, не говоря уже об искусной и опасной игре, которую разыгрывала МИ-6, готовясь к войне. По большому счету, он вообще ничего не знал о шпионаже, но считал, что дело это важное, исключительное и увлекательное. Эллиотт был так уверен в себе, как может быть уверен в себе только хорошо воспитанный, состоятельный итонец, недавно окончивший Кембриджский университет и заручившийся всеми необходимыми связями в обществе. Он был рожден, чтобы управлять (хотя никогда бы не высказал такое убеждение столь неизящным способом), и членство в одном из наиболее элитарных клубов Великобритании представлялось молодому человеку подходящей стартовой площадкой.
Эллиотты были опорой империи; на протяжении многих поколений эта семья поставляла военных чинов, представителей высшего духовенства, адвокатов и руководителей колоний, которые неустанно пеклись о том, чтобы Британия продолжала править не только морями, но и порядочными кусками земного шара, расположенными между ними. Один из дедушек Эллиотта был вице-губернатором Бенгалии; другой занимал должность старшего судьи. Подобно многим могущественным английским семьям Эллиотты славились своей эксцентричностью. Эдгар, двоюродный дед Николаса, как известно, побился об заклад с другим офицером, служившим в Индии, что в течение трех месяцев будет ежедневно выкуривать такое количество манильских сигар, чтобы их совокупная длина равнялась его росту. Ему хватило двух месяцев, чтобы докуриться до смерти. Двоюродную бабушку Бланш в возрасте двадцати шести лет, по слухам, «постигла любовная неудача», в результате чего она слегла и пятьдесят лет не покидала постели. Тетушка Нэнси была твердо убеждена: католикам не следует заводить домашних животных, поскольку они не верят, что у тех есть души. Семья также демонстрировала страстное, но зачастую гибельное влечение к альпинизму. Дядя Николаса, преподобный Джулиус Эллиотт, упал с Маттерхорна в 1869-м, вскоре после знакомства с Гюставом Флобером, назвавшим его «образцом английского джентльмена». Эксцентричность — одна из тех английских черт, что выглядят слабостями, но на самом деле таят под собой силу; это признак яркой индивидуальности, замаскированный под странность.
Однако самой важной фигурой для Николаса, буквально нависавшей над ним в детстве, стал его отец Клод, человек непоколебимых викторианских принципов и свирепых предрассудков. Клод ненавидел музыку — она вызывала у него несварение желудка, презирал любые способы обогрева помещения как признак «декадентства» и был твердо убежден: «когда имеешь дело с иностранцами, лучшая стратегия — кричать на них по-английски». Прежде чем возглавить Итон, Клод преподавал историю в Кембриджском университете, хотя испытывал врожденное недоверие к ученым и питал врожденное отвращение к интеллектуальной беседе. Однако долгие университетские каникулы давали ему массу времени для занятий альпинизмом. У Клода были шансы стать самым прославленным альпинистом своего поколения, если бы не перелом надколенника, случившийся с ним в Озерном краю и помешавший примкнуть к экспедиции Мэллори на Эверест. Клод настолько доминировал над ровесниками физически и психологически, что однокашники по Итону прозвали его Императором. Николас взирал на отца с благоговейным ужасом; в ответ Клод то игнорировал свое единственное дитя, то подтрунивал над ним, убежденный, подобно многим отцам того времени и той социальной группы, что, если он покажет сыну свою привязанность, мальчик будет «слабым» и, вполне возможно, станет гомосексуалом. Николас вырос с твердым убеждением: «Клода невероятно смущал сам факт моего существования». В свою очередь, мать мальчика избегала разговоров на интимные темы, к которым, по словам ее сына, принадлежали «бог, болезни и все, что ниже пояса».
Таким образом, воспитание Эллиотта заключалось в том, что сначала он прошел через вереницу нянек, а потом его вытолкнули из дома и запихнули в Дернфордскую школу в Дорсете, прославившуюся исключительной — даже по меркам британской средней школы — жестокостью: каждое утро мальчиков заставляли голышом нырять в бассейн без подогрева, чтобы доставить удовольствие директору, жена которого любила вслух читать поучительную литературу по вечерам, вытянув ноги и положив их на двух мальчиков, пока третий щекотал ей пятки. В школе не было ни свежих фруктов, ни туалетов с дверями, здесь никто не мешал одним ученикам издеваться над другими, и бежать отсюда тоже не было возможности. В наши дни такое учебное заведение признали бы нелегальным; в 1925 году считалось, что оно «формирует характер». В этой школе Эллиотт приобрел твердое убеждение, что «ничего более неприятного с ним уже не произойдет», глубокое презрение к власти и дерзкое остроумие.
После «кромешного ада» Дернфордской школы Итон показался Николасу раем, и даже тот факт, что его отец был директором колледжа, не представлял особой проблемы, ведь Клод по-прежнему делал вид, что его рядом нет. Очень умный, неунывающий, хотя и ленивый, Эллиотт выполнял только необходимый минимум заданий. «Необычайная четкость его почерка полезна только в одном: она позволяет лучше разглядеть, как хромает его орфография», — писали в одном из отчетов об успеваемости. Николаса приняли в его первый клуб, «Поп» — в это сообщество принимали только самых популярных учеников Итона. Именно в колледже Эллиотт открыл в себе талант заводить друзей. Впоследствии он будет вспоминать об этом как о самом ценном навыке, ставшем основой его карьеры.
Первым и ближайшим другом Элиотта стал Бэзил Фишер. Блестящий молодой человек, Фишер был капитаном лучшей в Итоне команды по крикету, председателем «Попа» и сыном самого настоящего героя войны: в 1917 году Бэзила-старшего подстрелил турецкий снайпер в Газе. Эллиотт и Бэзил делили каждую трапезу, вместе проводили каникулы и время от времени заглядывали в дом директора — когда Клод был на ужине, — чтобы поиграть в бильярд. На фотографиях того времени можно увидеть, как они, радостно улыбаясь, держатся за руки. Может, в их отношениях и присутствовала сексуальная составляющая, а может, и нет. До сих пор Эллиотт любил только свою няню, Голубушку (ее настоящее имя неизвестно). Он боготворил Бэзила Фишера.
Осенью 1935 года друзья поступили в Кембридж. Эллиотт, само собой, был зачислен в Тринити-колледж, как в свое время его отец. В первый же день учебы в университете Николас посетил писателя и преподавателя истории Роберта Гиттингса, приятеля отца, чтобы задать вопрос, который давно его занимал: «Насколько прилежно мне нужно заниматься и над чем работать?» Гиттингс был человеком проницательным. Эллиотт впоследствии вспоминал: «Он настоятельно советовал мне потратить три моих кембриджских года на то, чтобы насладиться жизнью во время затишья перед следующей войной». И Николас последовал этому совету самым буквальным образом. Он играл в крикет, катался на лодке, разъезжал по Кембриджу на «хиллман минксе», а также посещал и сам устраивал отличные вечеринки. Он прочитал кучу шпионских романов, а по выходным ездил на охоту или на скачки в Ньюмаркет. Все тридцатые годы в Кембридже бушевал идеологический конфликт: Гитлер пришел к власти в 1933 году; гражданская война в Испании вспыхнула летом 1936-го; крайне левые вели противоборство с крайне правыми в университетских аудиториях и на улицах. Но все это политическое бурление попросту прошло мимо Эллиотта. Ему было не до того — он наслаждался жизнью. Он редко открывал учебник, а по завершении трех университетских лет обзавелся кучей друзей и получил диплом третьей степени, считая этот результат «триумфом над экзаменаторами».
По окончании Кембриджа Николас Эллиотт обладал всеми мыслимыми преимуществами своего класса и образования, но понятия не имел, чем хочет заниматься. Однако за благодушным светским фасадом и «вялой, свойственной высшему обществу манерой» скрывалась сложная личность, питавшая страсть к приключениям с оттенком подрывной деятельности. Викторианская скованность Клода Эллиотта вселила в его сына глубокое отвращение к правилам. «Из меня бы никогда не вышло хорошего солдата, поскольку я мало способен к дисциплине», — отмечал Николас. Когда ему что-то приказывали, он был склонен «подчиняться не приказу, полученному от старшего, а, скорее, приказу, который старший мог бы ему отдать, если бы разбирался в ситуации». Николас был жестким — жестокость Дернфорда, безусловно, наложила на него отпечаток, — но в то же время чувствительным: сказывались травмы, нанесенные одиноким детством. Подобно многим англичанам, он скрывал свою робость за огневым валом шуток. Еще одной частью отцовского наследства была уверенность в своей физической непривлекательности; когда-то Клод убедил сына, что тот «страшила», и мальчик так и рос с этой мыслью. Конечно, Эллиотт не отличался красотой в классическом понимании — нескладная фигура, худое лицо и очки в толстой оправе, — но его самообладание, плутоватый вид и неизменная бодрость духа постоянно привлекали женщин. Впрочем, Николасу потребовалось много лет, чтобы понять: он «выглядит не более и не менее странно, чем значительная часть подобных [ему] существ». Наряду с природным консерватизмом он унаследовал семейную склонность к эксцентричности. Он не отличался снобизмом. Мог завести разговор с любым человеком независимо от того, чем тот занимался. Не верил ни в бога, ни в Маркса, ни в капитализм, а верил в короля, страну, класс и клуб (в его случае это был «Уайтс», клуб для джентльменов в Сент-Джеймсе). Но превыше всего для него была вера в друзей.
Летом 1938 года Бэзил Фишер поступил на работу в Сити, а Эллиотт по-прежнему лениво раздумывал, чем заняться. «Старые друзья» быстро помогли решить этот вопрос. Одним летним днем Эллиотт играл в крикет в Итоне, и тут, во время перерыва на чай, к нему подошел сэр Невил Блэнд, высокопоставленный дипломат и друг семьи, и тактично заметил, что отец Эллиотта не на шутку встревожен «неспособностью [сына] найти для себя серьезное занятие». (Сэр Клод предпочитал общаться с наследником при помощи эмиссаров.) Сэр Невил объяснил, что его недавно назначили британским посланником в Гааге. Не желает ли Николас сопровождать его в Нидерланды в качестве почетного атташе? Эллиотт сказал, что очень даже желает, хотя понятия не имел, каковы, в сущности, обязанности почетного атташе. «Никакой серьезной процедуры одобрения не было, — впоследствии писал Эллиотт. — Невил попросту сообщил Форин-офису, что я подхожу, поскольку он меня знает и учился в Итоне с моим отцом».
Перед поездкой в Гаагу Эллиотт прошел в Форин-офисе курс шифрования. Его инструктором оказался некто капитан Джон Кинг, опытный шифровальщик, по совместительству оказавшийся советским шпионом. Кинг переправлял телеграммы Форин-офиса в Москву с 1934 года. Таким образом, первый же наставник Эллиотта по вопросам конспирации был двойным агентом.
Эллиотт прибыл в Гаагу на своем «хиллман минксе» в середине ноября 1938 года и явился в дипломатическую миссию. После ужина сэр Невил предупредил его: «На дипломатической службе считается серьезной провинностью переспать с женой коллеги, за это увольняют», и дал совет: «Предлагаю вам следовать моему примеру и не закуривать сигару до третьего бокала портвейна». Обязанности Эллиотта едва ли можно счесть обременительными: время от времени носить за посланником портфель, немного заниматься шифровкой и расшифровкой в комнате связи и посещать официальные ужины.
После четырех месяцев в Нидерландах Эллиотту впервые удалось попробовать себя в подпольной деятельности и «получить возможность своими глазами увидеть немецкую военную машину». Как-то вечером за ужином он разговорился с молодым морским офицером по имени Глин Хирсон, помощником военно-морского атташе при посольстве в Берлине. Капитан Хирсон сообщил ему о своем особом задании — вести слежку за гамбургским портом, где, как предполагалось, немцы разрабатывают сверхмалые подлодки. После того как они выпили еще по нескольку бокалов, Хирсон спросил Эллиотта, не хочет ли тот к нему присоединиться. Николас счел это отличной идеей. Сэр Невил дал добро.
Два дня спустя, в три часа утра, Эллиотт и Хирсон проникли в гамбургский порт, перебравшись через ограду. «Мы осторожно осматривались повсюду примерно в течение часа», фотографировали, а потом вернулись «в безопасное место, к крепким напиткам». У Эллиотта не было ни дипломатической защиты, ни специальной подготовки, а Хирсон не обладал полномочиями, необходимыми, чтобы завербовать его для этой миссии. Если бы молодых людей поймали, их могли бы застрелить как шпионов; или, по меньшей мере, если бы стало известно, что сына директора Итона застукали, когда он занимался слежкой на немецкой верфи посреди ночи, это вызвало бы настоящую бурю в дипломатических кругах. Словом, как радостно признавался Эллиотт, это была «исключительно безрассудная вылазка». Тем не менее она оказалась весьма приятной и на редкость успешной. Хирсон и Эллиотт поехали дальше — в Берлин — в отличном расположении духа.
Двадцатого апреля 1939 года нацистская Германия отмечала государственный праздник, пятидесятилетие Гитлера, и по этому случаю проводился самый грандиозный в истории Третьего рейха военный парад. Торжества, организованные министром пропаганды Йозефом Геббельсом, ознаменовали апогей гитлеровского культа и стали роскошным проявлением синхронизированного подхалимажа. За факельным шествием и кавалькадой из пятидесяти белых лимузинов с фюрером во главе следовала фантастическая пятичасовая демонстрация военной мощи, в которой участвовали пятьдесят тысяч немецких солдат, сотни танков и сто шестьдесят два боевых самолета. Послы Великобритании, Франции и США не присутствовали, поскольку их отозвали после того, как Гитлер вошел в Чехословакию, и все же целых двадцать три государства направили своих представителей, чтобы поздравить Гитлера с днем рождения. «Фюрера чествуют так, как еще не чествовали никого из смертных», — изливался Геббельс в своем дневнике.
Эллиотт наблюдал за происходящим с благоговейным ужасом из окон дома на Шарлоттенбургер-шоссе, из квартиры на шестом этаже, принадлежавшей генералу Ноэлю Мейсону-Макфарлейну, британскому военному атташе в Берлине. Мейсон-Мак был старым щетинистым боевым конем, орденоносным ветераном траншей и Месопотамии. Он не мог скрыть своего отвращения. С балкона квартиры открывался отличный вид на Гитлера в парадной ложе. Генерал вполголоса заметил Николасу, что Гитлер находится от них на расстоянии ружейного выстрела. «Меня так и подмывает воспользоваться этим преимуществом», — пробормотал он и добавил, что мог бы «подстрелить мерзавца отсюда, не моргнув глазом». Эллиотт «настоятельно советовал ему стрелять только в упор». Мейсон-Макфарлейн передумал, хотя впоследствии послал формальный запрос, чтобы ему позволили убить Гитлера с этого балкона. К несчастью для всего мира, предложение Мейсон-Мака было отвергнуто.
Эллиотт возвратился в Гаагу с двумя свежеиспеченными убеждениями: что Гитлера нужно остановить любой ценой и что лучше всего он сможет этому содействовать, если станет шпионом. «Меня не надо было долго уговаривать». День на скачках в Аскоте, бокал шампанского с сэром Робертом Ванситтартом и встреча с важной персоной в Уайтхолле довершили начатое. Итак, Николас вернулся в Гаагу все еще в положении почетного атташе, но на самом деле с благословения сэра Невила Блэнда он уже был завербован МИ-6. Для внешнего мира его дипломатическая жизнь шла как и прежде; тайно же он начал свое послушничество, служа странной религии британской разведки.
Сэр Роберт Ванситтарт, высокий чин Форин-офиса, проторивший Эллиотту дорогу в МИ-6, заведовал, по сути дела, частной разведывательной службой, находившейся вне ведения государства, но тесно связанной как с МИ-6, так и с МИ-5, — службой безопасности Форин-офиса. Ярый противник политики умиротворения, Ванситтарт был уверен, что Германия начнет очередную войну, «как только почувствует себя достаточно сильной». Его агентурная сеть собрала обильную информацию о намерениях нацистов, с помощью которой Ванситтарт пытался (но не сумел) убедить премьер-министра Невилла Чемберлена в том, что столкновение неминуемо. Одним из его первых и самых колоритных сексотов был Йона фон Устинов, немецкий журналист, втайне страстно ненавидевший нацистов. Устинова все знали под кличкой Клоп и происхождение этого прозвища, вероятно, объяснялось его шарообразной фигурой, которой он, как ни странно, невероятно гордился. Отец Устинова был офицером российского происхождения; мать — наполовину еврейка, наполовину эфиопка; сын, родившийся в 1921 году, — не кто иной, как Питер Устинов, выдающийся комедийный актер и писатель. Клоп Устинов служил в германской армии во время Первой мировой войны, заработал там «Железный крест», а потом занял пост в немецком информационном агентстве в Лондоне. Он потерял работу в 1935 году, когда немецкие власти, с подозрением относившиеся к его экзотически-смешанному происхождению, потребовали от него подтвердить принадлежность к арийской расе. В тот же самый год его завербовала британская разведка под кодовым именем У35. Устинов был толстяком и носил монокль, а манера его обманчиво казалась неуклюжей. Он был «лучшим и самым талантливым осведомителем из всех, с кем я имел честь работать», — признавался впоследствии его куратор Дик Уайт, со временем возглавивший и МИ-5, и МИ-6.
Первым заданием Эллиотта для МИ-6 было помочь Устинову курировать одного из самых важных и наименее известных шпионов довоенного времени — Вольфганга Ганса Эдлера цу Путлитца, пресс-атташе немецкого посольства в Лондоне, любящего роскошь аристократа и открытого гомосексуала. Устинов завербовал Путлитца и начал вытягивать из него «бесценные сведения, возможно, самые важные сведения, полученные Великобританией от агентов в предвоенный период», касавшиеся международной политики и военных планов Германии. Путлитц и Устинов разделяли убеждение Ванситтарта, что стратегии умиротворения нужно дать задний ход. «Я действительно помогал дискредитировать идеи нацизма», — считал Путлитц. Когда в 1938 году Путлитца назначили в немецкое посольство в Гааге, Клоп Устинов тайно последовал за ним в качестве европейского корреспондента одной индийской газеты. При посредничестве Устинова Путлитц продолжал поставлять тонны информации, хотя явное нежелание британских властей противостоять Гитлеру приводило его в отчаяние. «Англичане безнадежны, — жаловался он. — Бесполезно оказывать им помощь в противостоянии нацистским методам, они их явно не понимают». Он уже чувствовал, что «напрасно приносит себя в жертву».
В Гааге Клоп Устинов и Николас Эллиотт сразу же прониклись взаимной симпатией и оставались друзьями до конца жизни. «Клоп был человеком разносторонних талантов, — писал Эллиотт, — бонвиван, остроумец, рассказчик, пародист, лингвист, наделенный широким диапазоном познаний, как серьезных, так и непристойных». Устинов дал Эллиотту задание: поднимать настроение Вольфгангу Путлитцу, становившемуся все более мрачным и встревоженным.
Как писал Эллиотт, Путлитц был «сложным человеком», разрывавшимся между патриотизмом и нравственным чувством: «Мотивация его была чисто идеалистической, и он переживал острые психологические муки от сознания того, что предоставляемая им информация может унести жизни многих немцев». Однажды августовским вечером Эллиотт пригласил Путлитца на ужин в отель «Рояль». За десертом он обмолвился, что подумывает съездить в Германию отдохнуть. «Неужели Гитлер начнет войну прежде, чем мы успеем вернуться, — в конце первой недели сентября?» — спросил он чуть насмешливо. Путлитц ответил без тени улыбки: «Согласно текущему плану, наступление на Польшу начнется двадцать шестого августа, но его могут отложить на неделю, так что на вашем месте я бы отменил поездку». Эллиотт быстро довел это «ошеломляющее утверждение» до сведения Клопа, а тот, в свою очередь, передал его в Лондон. Эллиотт отменил поездку. Первого сентября — в точности как предсказывал Путлитц — немецкие танки вошли в Польшу с севера, юга и запада. Два дня спустя Великобритания уже находилась в состоянии войны с Германией.
Вскоре после этого немецкий посол в Гааге показал Вольфгангу Путлитцу список немецких агентов в Нидерландах; этот список оказался точно таким же, как тот, который Путлитц недавно передал Клопу Устинову и Николасу Эллиотту. Судя по всему, в резидентуре МИ-6 был немецкий шпион, но на тот момент никто не подозревал Фолкерта ван Кутрика, общительного голландца, работающего помощником шефа резидентуры — майора Ричарда Стивенса. По словам коллег, ван Кутрик «всегда демонстрировал неподдельную преданность». Он был тайным агентом абвера, военной разведки Германии, и «к осени 1939 года немцы получили четкое представление обо всей операции СРС в Голландии». Ван Кутрик смог заполучить список немецких шпионов, переданный Путлитцем в МИ-6, и вернул его немецкой разведке.
Путлитц знал: «его раскроют и расправятся с ним, это всего лишь вопрос времени». Он немедленно попросил политического убежища в Великобритании, при этом настаивая, чтобы его непременно сопровождал камердинер — и любовник — Вилли Шнайдер. 15 сентября Путлитца спешно доставили в Лондон и поселили в безопасном месте.
Потерять столь ценного агента было, конечно, из рук вон плохо, но худшее ждало впереди.
Девятого ноября руководитель резидентуры майор Стивенс, новый босс Эллиотта, отправился в Венло, город на границе Нидерландов и Германии, рассчитывая, что вскоре ему удастся приблизить быстрое и победоносное окончание войны. Его сопровождал коллега, Сигизмунд Пейн Бест, ветеран военной разведки. Стивенсу, «блестящему лингвисту и превосходному рассказчику», Эллиотт симпатизировал. А вот Беста, напротив, считал «хвастливым ослом, раздувшимся от собственной важности».
Несколько месяцев спустя Стивенс и Бест тайно вышли на группу немецких офицеров, настроенных против Гитлера и решивших устроить военный переворот, чтобы от него избавиться. Во время встречи, организованной доктором Францем Фишером, немецким политическим беженцем, лидером группы, некто капитан Шеммель объяснил, что некоторые представители высшего немецкого командования, негодующие из-за потерь во время вторжения в Польшу, настаивали на необходимости «свергнуть нынешний режим и установить военную диктатуру». Премьер-министру сообщили о заговоре против Гитлера, и Стивенс получил указания провести переговоры с организаторами переворота. «У меня такое предчувствие, что к весне война закончится», — писал Чемберлен. Стивенс и Бест в сопровождении сотрудника голландской разведки отправились в Венло в приподнятом настроении, убежденные, что им предстоит личная встреча «с важной шишкой» — немецким генералом, который возглавит переворот. На самом же деле «Шеммель» оказался Вальтером Шелленбергом из службы безопасности нацистской партии, умным и беспощадным начальником контрразведки, а доктор Фишер был нанят гестапо. Встреча обернулась ловушкой, которую приказал устроить лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Примерно в одиннадцать утра Стивенс и Бест прибыли к оговоренному месту встречи — это было кафе «Бахус» с голландской стороны границы, в нескольких ярдах от пограничного поста. «Поблизости никого не было, кроме немецкого таможенника, — писал Стивенс, — и маленькой девочки, игравшей в мячик с большой собакой посреди дороги». Стоявший на веранде кафе Шелленберг помахал им шляпой, подзывая к себе. Это был сигнал. Когда они выбрались из машины, британцев тут же окружили офицеры СС в штатском и сделали несколько выстрелов в воздух из автоматов. Голландский офицер достал револьвер, и в него тут же выстрелили.
«В следующую минуту, — вспоминал Бест, — перед каждым из нас оказалось по двое молодчиков, причем один приставил дуло к виску, а второй надевал наручники. Немцы крикнули нам: „Шагом марш!“, а потом, толкая в спину оружием и приговаривая: „Ать-два! Ать-два! Ать-два!“, погнали нас к немецкой границе». Военные затолкали пленных в поджидающие машины, захватив и умирающего голландского офицера.
«Одним махом, — писал Эллиотт, — все операции британской разведки в Голландии оказались под угрозой срыва». И, что еще хуже, в кармане у Стивенса самым идиотским образом оказался список разведывательных источников в Западной Европе. МИ-6 принимала срочные меры, чтобы вывести свою агентурную сеть прежде, чем немцы успеют атаковать.
Инцидент в Венло стал абсолютной катастрофой. Поскольку участие в нем голландцев не вызывало сомнений, к тому же они потеряли своего офицера, у Гитлера появилась возможность заявить, что Голландия нарушила собственный нейтралитет и тем самым дала Германии повод для вторжения, которое и произошло несколько месяцев спустя. В результате этого происшествия британцы стали с глубоким подозрением относиться к офицерам германской армии, заявлявшим о том, что они настроены против нацизма, — даже на последних этапах войны, когда такие настроения среди немцев были подлинными. Стивенс и Бест находились в заключении до конца войны. К декабрю благодаря информации, полученной от британских пленных и двойного агента ван Кутрика, немцам «удалось составить подробные и по большей части точные схемы агентурных сетей [МИ-6]», а также воссоздать структуру самой МИ-6. Это была первая и самая успешная операция германского комитета «двойной игры» во время войны. Как ни странно, она также оказалась одной из последних.
Впоследствии размышляя об инциденте в Венло, Эллиотт винил во всем «чрезмерное честолюбие» Стивенса, который почувствовал «возможность выиграть войну по собственной инициативе, и это полностью затмило его рассудок». Вместо того чтобы поддерживать видимость ячейки сопротивления внутри высшего немецкого командования, Шелленберг направил британцам торжествующее послание: «В конечном итоге разговоры с напыщенными глупцами начинают утомлять. Мы прекращаем всякое общение. Ваши друзья — немецкая оппозиция — шлют вам сердечный привет». Подпись: «Немецкая тайная полиция».
За первые полгода разведработы Эллиотт получил полезный опыт в области фальсификации и обмана, являющихся валютой шпионажа. Его начальник теперь находился в немецкой тюрьме, став жертвой искусной махинации; ценный шпион бежал в Лондон, преданный двойным агентом; всей разведывательной сети в Голландии был нанесен смертельный удар. Даже безобидный капитан Джон Кинг, шифровальщик, обучивший Эллиотта этому ремеслу, отбывал десятилетний срок за шпионаж, после того как советский перебежчик рассказал англичанам, что Кинг за вознаграждение «передавал Москве все данные».
Царившая вокруг атмосфера двуличия вовсе не отпугивала Эллиотта, а игры в мошенничество и надувательство все больше его затягивали. По мнению Эллиотта, фиаско в Венло было «столь же чудовищным, сколь и постыдным», но вместе с тем и по-своему занимательным, ибо, служило наглядным примером, как можно одурачить людей незаурядного ума, если убедить их в том, во что они больше всего хотят поверить. Он схватывал все на лету и даже сочинил стишок в честь своей новой работы:
- Как трудно на заре пути
- Нам паутину лжи плести!
- Но стоит чуть поднатореть,
- И безупречной станет сеть.
В три часа ночи девятого мая 1940 года Эллиотта разбудила срочная телеграмма из Лондона. Он вынул справочники шифров из сейфа посла, устроился за посольским обеденным столом и начал расшифровку послания: «Получена информация, что немцы планируют наступление вдоль всего западного фронта…» На следующий день Германия вторглась во Францию и Голландию. «Вскоре стало очевидно, — писал Эллиотт, — что голландцы, как бы храбро они ни сражались, не смогут продержаться долго».
Британцы начали готовиться к бегству. Эллиотт и его коллеги из МИ-6 быстро развели во дворе посольства костер из папок с компрометирующими документами. Еще один сотрудник захватил почти все акции амстердамской алмазной биржи и контрабандой ввез их в Великобританию. Голландская королева уплыла подальше от опасности на эскадренном миноносце ВМС Великобритании вместе со своим правительством, секретной службой и золотым запасом. Главной задачей Эллиотта, как выяснилось, было эвакуировать перепуганных танцовщиков гастролирующей балетной труппы «Вик-Уэллс», что он и сделал, погрузив их на устричное судно, реквизированное в Эймейдене. Тринадцатого мая британский эскадренный миноносец «Мохаук» встал на якорь в порту Хук-ван-Холланд, готовясь отвезти последних оставшихся британцев в безопасное место. Спеша в составе сопровождающей колонны в сторону берега, Эллиотт увидел, как огни горящего Роттердама озарили горизонт. Он поднялся на борт одним из последних. На следующий день голландцы сдались. Когда молодой сотрудник МИ-6 сошел на берег в Великобритании, его приветствовали словами: «Мы вышли в финальный заезд».
Эллиотт ожидал застать страну в кризисе, но был поражен, насколько «обычным и спокойным» оказался Лондон. С той поры, писал он, «мне и на мгновение не приходило в голову, что мы можем проиграть войну». Уже через несколько дней он был распределен в военную разведку, а потом, к его немалому удивлению, очутился за решеткой.
Уормвуд-Скрабс, викторианская тюрьма в Западном Лондоне, была приспособлена под военный штаб службы безопасности, МИ-5, которая теперь быстро разрасталась, чтобы справиться с угрозой немецкого шпионажа. В падении Франции и Нидерландов винили отчасти «пятую колонну» нацистов: вражеских шпионов, из-за границы способствующих продвижению Германии. Опасаясь немецкого вторжения, Великобритания вовсю развернула охоту на шпионов, и в МИ-5 буквально хлынули сообщения о подозрительной деятельности. «Англию охватила шпионская лихорадка», — писал Эллиотт, откомандированный в МИ-5, чтобы «предоставить свидетельства той деятельности „пятой колонны“ в Голландии, которую [он] видел собственными глазами». Угроза «пятой колонны» так никогда и не материализовалась по той простой причине, что ее не существовало: в планы Гитлера не входило начинать войну с Великобританией, так что почву для вторжения он практически не готовил.
Однако вскоре абвер принялся исправлять это упущение. В течение ближайших месяцев так называемые агенты вторжения буквально наводнили Великобританию, прибывая на кораблях, подводных лодках, а то и прыгая с парашютом; они были плохо подготовлены и недостаточно экипированы, так что поймать их не составляло особого труда. Одних поместили в тюрьму, других казнили, а еще ряд шпионов завербовали в качестве двойных агентов, чтобы они отправляли своим немецким кураторам ложную информацию. Так зарождалась грандиозная система «двойной игры», сеть двойных агентов, игравших все более важную роль по мере того, как война прогрессировала. На допросах многие из этих шпионов выдали информацию, представлявшую огромный интерес для Секретной разведывательной службы. Эллиотту поручили координировать связь между разными видами секретных служб и выделили ему помещение в Уормвуд-Скрабс. Место для офиса выбрали странное — зловонное и грязное. Большинство заключенных были оттуда вывезены, но еще несколько человек оставалось, а среди них и старый итонец, учившийся в одно время с Эллиотом, — Виктор Херви, будущий 6-й маркиз Бристоль, печально известный гуляка, севший в тюрьму в 1939 году за ограбление ювелира из Мейфэра. Кабинетом Эллиотту служила звукоизолированная камера с дверью, у которой изнутри не было ручки; если бы последний посетитель, уходя, случайно повернул ручку снаружи, хозяин кабинета оказался бы заперт до самого утра.
Эллиотту нравилась его новая жизнь — днем в тюрьме, а вечером на свободе — в осажденном городе под дамокловым мечом вторжения. Он поселился на Кембридж-сквер, в районе Бэйсуотер, в квартире, принадлежавшей бабушке еще одного итонского друга, Ричарда Брумана-Уайта, тоже сотрудника МИ-6. Бэзил Фишер теперь был летчиком-истребителем в III эскадроне, летавшем на «Харрикейнах» из Кройдона. Каждый раз, когда Фишер был в увольнении, трое друзей собирались вместе — как правило, в «Уайтсе». Уже вовсю грохотали немецкие бомбардировки, а Эллиотт наслаждался «чувством товарищества», сидя с друзьями в роскоши закопченного, обитого красным деревом старейшего и самого привилегированного клуба для джентльменов. «Я почувствовал настоящую опасность один-единственный раз, когда пил коктейль „розовый джин“[1] в баре клуба. Упавшая на соседнее здание бомба опрокинула мой коктейль и сбила меня с ног. Бармен тут же приготовил еще один „розовый джин“ и вручил его мне с наилучшими пожеланиями». Эллиотт получал от войны удовольствие. И вот, спустя три месяца после возвращения в Лондон, он наконец понял, что такое война.
Пятнадцатого августа III эскадрон «Харрикейнов» был поднят в воздух по тревоге, чтобы перехватить косяк «Мессершмиттов» Люфтваффе, перелетевших через Ла-Манш в районе Дангенесса. В последовавшем за этим яростном, охватившем все небо воздушном бою — одном из самых свирепых эпизодов Битвы за Британию — были сбиты семь немецких истребителей. Самолет Бэзила Фишера ушел в сторону, из охваченного пламенем фюзеляжа валил дым. Фишер прыгнул — с горящим парашютом — над деревней Сидлшем в Западном Суссексе. Стропы сгорели, и друг Эллиотта упал на землю. Оставшийся без пилота «Харрикейн» врезался в амбар. Тело старшего лейтенанта авиации Бэзила Фишера обнаружили в пруду Сидлшема. Похоронили его во дворе церкви в Беркшире, в деревне, где он родился.
Эллиотт был в смятении, хотя и старался это скрывать. Как многие англичане из высшего общества он редко говорил о своих чувствах вслух, но его личная эпитафия Бэзилу Фишеру при всей ее напряженной, мучительной немногословности оказалась красноречивее любого количества эмоциональных эпитетов. Маска легкомыслия ненадолго соскользнула с него. «Бэзил Фишер пал в бою. Я очень глубоко это прочувствовал. Он был мне как брат. Так я впервые понял, что такое трагедия».
Эллиот все еще переживал свое горе, когда, всего несколько недель спустя, встретил еще одного новобранца секретных служб, продукт воспитания Вестминстерской школы, тоже выпускника Тринити-колледжа в Кембридже, человека, которому предстояло буквально определять всю его жизнь, — Гарольда Адриана Рассела Филби, более известного как Ким.
Глава 2
Пятый отдел
Знаменитое английское обаяние — дурманящее, чарующее, а порой и смертоносное — непременно упоминается при всяком описании Кима Филби. Он умел вызывать и выказывать симпатию с такой легкостью, что мало кто замечал, как их околдовали. Мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные — Киму все были подвластны. Он смотрел на мир живыми нежно-голубыми глазами из-под непокорной челки. У него были исключительные манеры: он всегда первым предлагал вам выпить, спрашивал о вашей больной матери и помнил имена ваших детей. Он любил смеяться и любил выпивать, любил слушать с выражением глубокой искренности и восхищенного любопытства. «Он был из тех, кого люди боготворили, — вспоминал один из современников. — Невозможно было просто симпатизировать ему, восхищаться им, соглашаться с ним — нет, только боготворить». Время от времени проявлявшееся заикание только добавляло Киму привлекательности, чуть приоткрывая милую маленькую слабость. Люди ждали, когда он произнесет свое слово, ждали, как выражался его друг, романист Грэм Грин, его «неуверенных, спотыкающихся острот».
Ким Филби был весьма заметной фигурой в Лондоне военной поры. В качестве корреспондента «Таймс» во время гражданской войны в Испании — он освещал события с территории, подконтрольной восставшим националистам, — Ким едва избежал смерти в конце 1937 года, когда снаряд республиканцев ударил рядом с машиной, где он сидел, поедая шоколад и запивая его бренди. Трое других военных корреспондентов погибли, а Филби отделался небольшим ранением в голову и обзавелся репутацией человека «недюжинной отваги». Генерал Франко лично повесил на грудь молодого журналиста орден Большого креста: красный, вручавшийся за военные заслуги на поле брани.
Филби был одним из всего лишь пятнадцати корреспондентов, отобранных, чтобы присоединиться к британским экспедиционным войскам, которые отправили во Францию с началом Второй мировой войны. Он присылал с континента сухие, оригинальные депеши для «Таймс», ожидая вместе с войсками начала битвы. «Многие выражают разочарование медленным темпом увертюры к Армагеддону. Они готовились к опасности, а их ждала тоска болотная», — писал Филби. Он продолжал присылать сообщения по мере продвижения немецких войск и покинул Амьен под грохот танков, входивших в город. На корабль, идущий в Англию, Филби садился с такой поспешностью, что ему пришлось даже оставить свой багаж. Его заявка на компенсацию за утерянный багаж стала настоящей легендой Флит-стрит: «Пальто из верблюжьей шерсти (двухлетней носки), пятнадцать гиней; трубка фирмы „Данхилл“ (использовалась в течение двух лет, что только придает ей ценности), один фунт десять шиллингов». И такова была репутация Филби, что «Таймс» компенсировала своему лучшему корреспонденту утрату старой трубки. Он и вправду зарекомендовал себя как отличный журналист, но его амбиции были в другой области. Он хотел работать в МИ-6, но, как и всякому, кто желает стать шпионом, ему предстояло решить головоломку: как можно вступить в организацию, если туда невозможно подать заявление, поскольку официально такой организации не существует?
В конечном итоге на секретную работу Филби приняли так же запросто, как и Эллиотта, и примерно таким же неформальным путем: Филби попросту «отпустил несколько намеков здесь и там» в присутствии влиятельных знакомых и стал ждать приглашения вступить в клуб. Первый знак, что его намеки поняты, он получил, когда, путешествуя на поезде в Лондон после бегства из Франции, оказался в купе первого класса вместе с журналисткой «Санди экспресс» по имени Эстер Гарриет Марсден-Смедли. Тридцативосьмилетняя Марсден-Смедли была участницей нескольких войн за рубежом и крепким орешком. Она угодила под вражеский огонь на границе с Люксембургом и своими глазами видела, как немецкие войска хлынули через Западный вал. Эстер водила знакомство с сотрудниками секретных служб и, по слухам, немного шпионила в дополнение к основным обязанностям. Само собой, она тоже не осталась равнодушной к чарам Филби и сразу же перешла к делу.
— Для такого человека, как вы, было бы большой глупостью пойти в армию, — произнесла Эстер. — Вы способны сделать куда больше для победы над Гитлером.
Филби отлично понял, что имеет в виду его собеседница, и, заикаясь, признался, что у него «нет никаких знакомств в этом мире».
— Мы что-нибудь придумаем, — сказала Эстер.
Когда Филби вернулся в Лондон, его вызвали в кабинет редактора отдела международной политики «Таймс», чтобы сообщить следующее: звонил некий капитан Лесли Шеридан из «военного департамента» и спрашивал, можно ли воспользоваться услугами Филби для выполнения «военных заданий», характер которых не уточнялся. Шеридан, в прошлом ночной дежурный редактор «Дейли миррор», заведовал отделом МИ-6, известным как D/Q, занимавшимся очернительством и распусканием слухов.
Спустя два дня Филби пил чай в отеле «Сент-Эрмин» рядом с Сент-Джеймсским парком, всего в нескольких сотнях ярдов от управления МИ-6 в доме 54 по Бродвею, с другой замечательной женщиной — Сарой Алжирией Марджори Макси, руководителем отдела D в МИ-6 (D означало destruction — «разрушение»), который специализировался на тайных полувоенных операциях. Мисс Марджори Макси также возглавляла организационную работу консервативной партии, и эта роль очевидно помогала ей вычленять тех, кто способен успешно заниматься пропагандой и подрывной деятельностью. Филби нашел ее «необычайно располагающей к себе». Он ей тоже явно понравился, и они снова встретились два дня спустя, на этот раз с Гаем Берджессом, другом и кембриджским однокашником Филби, уже завербованным МИ-6. «Я начал пускать пыль в глаза и без зазрения совести сыпать известными именами, — писал Филби. — Выяснилось, что я понапрасну трачу время, поскольку решение было уже принято». В МИ-5 произвели обычную для такого случая проверку сведений и выяснили, что «на [него] ничего нет»: молодой Филби оказался чист. Валентайн Вивьен, заместитель директора МИ-6, знавший отца Филби в ту пору, когда оба они служили в колониальной администрации в Индии, был готов лично поручиться за вновь завербованного. Его слова отражают, пожалуй, основной принцип, на котором держалась вся британская сеть «старых друзей»: «Меня спросили о нем, и я сказал, что знаю его семью».
Уйдя из «Таймс», Филби, как и полагалось, явился в здание рядом с управлением МИ-6, где ему выделили кабинет со стопкой чистых листов, карандашом и телефоном. Две недели он ничего не делал, только читал газеты и наслаждался долгими нетрезвыми ланчами в компании Берджесса. Филби уже начал задаваться вопросом, действительно ли он вступил в МИ-6 или же очутился в каком-то странном, бездействующем ее ответвлении, когда его определили в Брикендонбери-холл — тайную шпионскую школу, расположенную в недрах Хартфордшира, где причудливое сборище эмигрантов из Чехии, Бельгии, Норвегии, Голландии и Испании готовили к участию в тайных операциях. Впоследствии эту группу поглотило ВСО, Ведение специальных операций — организация, созданная, по словам Уинстона Черчилля, чтобы «поджечь Европу», ведя операции в расположении противника. Впрочем, в первые дни жизни этой организации единственным, что поджигали агенты, был Брикендонбери-холл и окружающая его сельская местность. Тамошний эксперт по взрывчатым веществам хотел провести показ для приехавших с визитом сотрудников чешских спецслужб, а в результате устроил лесной пожар и едва не спалил в священном огне всю делегацию. Вскоре Филби перевели в само ВСО, а потом в другую школу, расположенную в Болье (Хэмпшир), специализирующуюся на подрыве, беспроводной связи и диверсиях. Филби читал лекции по пропаганде — как журналист он считался достаточно в этом сведущим. Сгорая от нетерпения, он жаждал принять участие в настоящей борьбе, которую вела разведка в военное время. «Я сбегал в Лондон при малейшей возможности», — писал он. И вот во время одного из таких побегов он встретился с Николасом Эллиоттом.
Эллиотт так и не смог вспомнить, где именно состоялась их первая встреча. Может, в баре в самом сердце МИ-6 на Бродвее, в наисекретнейшем из кабаков Вселенной? Или дело было в «Уайтсе», клубе Эллиотта. А может, в «Атенеуме», клубе Филби. Возможно, их познакомила Эйлин, будущая жена Филби и дальняя родственница Эллиотта. Рано или поздно эта встреча должна была произойти, поскольку они принадлежали к одному миру, обоих бросили на выполнение важной секретной работы, к тому же они были на удивление схожи — и происхождением, и нравом. Клод Эллиотт и Сент-Джон, отец Филби, известный ученый-арабист, подружились во время учебы в Тринити-колледже, а их сыновья послушно следовали по их академическим стопам: Филби, который был на четыре года старше, закончил Кембридж в тот год, когда Эллиотт туда поступил. Оба молодых человека жили в тени авторитетных, но холодных отцов, чьего одобрения страстно желали, но так толком и не могли добиться. Оба были сыновьями Империи: Ким Филби родился в Пенджабе, где его отец служил в колониальной администрации; мать родилась в семье чиновника департамента общественных сооружений в Равалпинди. Отец Эллиотта родился в Шимле. Обоих главным образом воспитывали няни, и на обоих наложило явный отпечаток их образование: Эллиотт с гордостью носил галстук «старого итонца»; Филби дорожил шарфом Вестминстерской школы. Наконец, оба молодых человека скрывали некоторую робость — Филби за своим непроницаемым шармом и периодическим заиканием, а Эллиотт за баррикадами шуток.
Между ними мгновенно завязалась дружба. «В те дни, — писал Эллиотт, — дружеские связи возникали быстрее, чем в мирное время, в особенности среди тех, кто был вовлечен в секретную деятельность». Пока Эллиотт помогал перехватывать отправленных в Великобританию вражеских шпионов, Филби готовил союзнических диверсантов к внедрению на территорию оккупированной Европы. В уютной изоляции строгой секретности они обнаружили множество общих тем для разговоров и шуток.
Ким заполнил пустоту, возникшую в жизни Николаса, когда погиб Бэзил Фишер. «Он обладал способностью внушать преданность и симпатию, — писал Эллиотт. — Он был из тех, кого могли инстинктивно любить, а вот понимали куда реже. Для друзей он выискивал все самое нетривиальное и необычное. Он не утомлял и не поучал». До войны Филби вступил в Общество англо-германского содружества — организацию с пронацистским уклоном, — но теперь, подобно Эллиотту, был решительно настроен на борьбу «с неизбежным злом нацизма». Друзья «крайне редко общались на политические темы» и проводили больше времени, обсуждая «средние показатели английских спортсменов и наблюдая за матчами по крикету, сидя в секторе „Маунд“ на стадионе „Лордс“, домашнем стадионе главной цитадели крикета — Мэрилебонского крикетного клуба», в котором состоял и Эллиотт. Казалось, Ким разделяет твердые, хотя и простые британские ценности Николаса, не усложняя их идеологией. «Правду сказать, — писал Эллиотт, — он не производил на меня впечатления прирожденного политика». Когда они познакомились, Филби было всего двадцать восемь, но Эллиотту он казался старше и опытнее (вероятно, сказывалось его пребывание в горячих точках), выглядел уверенным в себе, сведущим, а слегка подмоченная репутация только придавала ему обаяния.
МИ-6 пользовалась славой самой грозной разведывательной службы в мире, но в 1940 году переживала переходный период, проводя быструю реорганизацию перед лицом военной угрозы. Похоже, Филби внес в их деятельность свежую струю профессионализма. Откровенно честолюбивый, он скрывал свой пыл, как того требовали английские манеры, под «маской любезной, отстраненной светскости».
Хью Тревор-Роупер был еще одним новобранцем военной разведки. Один из умнейших — и самых грубых — людей в Англии, Тревор-Роупер (впоследствии известный как историк лорд Дакр) затруднялся подобрать хоть одно доброе слово для кого-либо из своих коллег («по большей части довольно глупы, а некоторые глупы изрядно»). Но Филби от них отличался: «Исключительная личность: исключительная по своим достоинствам, поскольку он производил впечатление человека умного, изощренного, живого». Казалось, он точно знает, куда идет. Говоря о делах разведки, Филби, по словам Эллиотта, демонстрировал впечатляющую «ясность ума», но не выглядел при этом ни ученым сухарем, ни педантом: «Он был в куда большей степени практиком, нежели теоретиком». Филби даже одевался своеобразно, избегая и типичного для чиновников Уайтхолла костюма в тонкую полоску с крахмальным воротничком, и военной формы, на которую он как бывший военный корреспондент имел право. Вместо этого Филби носил твидовый пиджак с заплатками на локтях, замшевые туфли и галстук, а иногда щеголял в зеленом пальто, отороченном ярко-рыжим лисьим мехом, — подарок отца, который тот, в свою очередь, получил от одного арабского принца. Этот эффектный наряд дополнялся фетровой шляпой и нарядным зонтом с ручкой из черного дерева. Малькольм Маггеридж, еще один писатель, завербованный военной разведкой, отмечал уникальный пижонский стиль Филби: «старожилы секретных служб по-прежнему питали склонность к гетрам и моноклям, когда те уже давно вышли из моды», а вот сотрудники нового набора «слонялись без дела в свитерах и серых фланелевых брюках, выпивали в барах, кафе и вовсе сомнительных заведениях… бахвалясь своими связями и знакомствами в преступном мире. Вполне возможно, прототипом такого образа послужил Филби — многие и впрямь считали его образцом для подражания». Вот и Эллиотт начал одеваться как Филби. Он даже купил точно такой же дорогой зонтик в магазине «Джеймс Смит и сыновья» на Оксфорд-стрит — зонтик, подходящий умудренному опытом представителю истеблишмента, не лишенному при этом щегольства.
Через Филби Эллиотт познакомился с братством амбициозных, умных, любящих выпить офицеров разведки, с так называемыми «младотурками» МИ-5 и МИ-6. Эта неформальная, почти целиком состоящая из мужчин группа часто собиралась в свободное от работы время в доме у Томаса Харриса, богатого арт-дилера, наполовину испанца, работавшего в МИ-5, где ему предстояло сыграть ключевую роль в грандиозной афере под эгидой «двойной игры»: именно он руководил операцией двойного агента «Гарбо», Хуана Гарсии Пужоля. Харрис и его жена Хильда были гостеприимными хозяевами, и их дом в Челси с обширным винным подвалом постоянно служил салоном для шпионов. «Туда можно было заглянуть, чтобы проверить, кто на месте», — вспоминал Филби. Здесь, «в атмосфере haute cuisine и grand vin»[2], можно было встретить друга Филби Гая Берджесса, экстравагантного в своей гомосексуальности, часто пьяного, слегка дурно пахнущего, но всегда в высшей степени занимательного. Сюда также приходил их друг Энтони Блант, историк искусства из Кембриджа, ныне тоже скрывавшийся в глубинах МИ-5. Среди других завсегдатаев были Виктор, лорд Ротшильд, аристократ и начальник отдела противодиверсионных действий МИ-5, и Гай Лидделл, начальник контрразведки МИ-5, чьи дневники того периода дают исключительную возможность заглянуть в этот частный клуб в мире секретных служб, где можно было поесть, выпить и пообщаться. От МИ-6 к ним присоединились Тим Милн, учившийся в Вестминстерской школе вместе с Филби (он приходился племянником А. А. Милну, автору «Винни-Пуха»), Ричард Брум-Уайт, теперь заведовавший операциями МИ-6 на Пиренейском полуострове, и, конечно же, Николас Эллиотт. Хильда Харрис потчевала их роскошными испанскими блюдами. Лидделл, в свое время подумывавший о профессиональной карьере музыканта, иногда играл на виолончели. Берджесс, по обыкновению сопровождаемый очередным мальчиком по вызову, привносил ноту скандальной непредсказуемости. И между ними мелькал улыбчивый Филби со своим шармом, разглагольствуя о делах разведки, провоцируя споры («скорее смеха ради, нежели из злого умысла», уверял Эллиотт) и щедро угощая всех превосходным вином Харриса.
Даже по стандартам нетрезвого военного времени шпионы были отъявленными выпивохами. Алкоголь помогал притупить стресс подпольной войны, оказывая смягчающий эффект и способствуя сближению, а клубы для джентльменов могли обеспечивать своих членов запасами, о каких простым смертным, питавшимся по карточкам, оставалось только мечтать. Вот как описывал типичный ланч с коллегами писатель Деннис Уитли, служивший в отделе дезинформации британской разведки: «Для разгона мы всегда выпивали по два или три „Пиммза“[3] за столиком в баре, а потом по так называемому short-one[4], хорошенько сдобренному абсентом… Затем следовал копченый лосось или консервированные креветки, потом дуврская камбала, рагу из зайчатины, лосось или дичь, а затем гренки с сыром, чтобы завершить трапезу. Все это мы обильно запивали хорошим красным или белым вином, а уж под самый конец пили портвейн или кюммель»[5]. После такого пиршества Уитли старался выкроить «часок, чтобы проспаться», и только потом возвращался на работу.
Но никто не подливал (и не употреблял) алкоголь с такой жизнерадостностью и с такой решимостью, как Ким Филби. По свидетельству Эллиотта, «он обладал выдающимися питейными способностями» и придерживался загадочной теории о том, что «всерьез пьющие люди должны всячески избегать занятий спортом, да и вообще внезапных или резких движений», поскольку это может вызвать «жестокую головную боль». Филби хлестал алкоголь и наливал другим, словно выполняя священный долг.
Эллиотту было лестно оказаться в такой компании, к тому же здесь он мог расслабиться. Англичанам присуща природная сдержанность. Англичанам, принадлежащим к тому же классу и типу личности, что и Эллиотт, — тем паче. Сотрудникам секретных служб запрещалось рассказывать своим друзьям, женам, родителям или детям, чем они занимаются, так что этот закрытый клуб привлекал многих связанных сведениями, которые необходимо держать в тайне от других. В компании гражданских лиц Эллиотт ни словом не упоминал о своей работе. Но внутри того светского монастыря, который представляла собой МИ-6, и в особенности на шумных вечеринках у Харриса, он оказывался среди тех, кому мог полностью доверять и с кем мог общаться со степенью открытости, невозможной за пределами этого сообщества. «В этой организации большинство коллег, мужчин и женщин, были близкими друзьями, — писал Эллиотт. — Здесь преобладала оживленная атмосфера товарищества, почти как в клубе, мы называли друг друга по имени и часто общались в нерабочее время».
Дружба Филби и Эллиотта была основана не только на общих интересах и профессиональной принадлежности, но и на чем-то более глубоком. Ник Эллиотт был любезен со всеми, но мало к кому эмоционально привязан. Таких отношений, как с Филби, у него больше не складывалось никогда и ни с кем. «Они говорили на одном языке, — вспоминает сын Эллиотта Марк. — Ближе Кима у моего отца друзей не было». Эллиотт никогда открыто не выражал, не демонстрировал своей привязанности. Как и многие другие важные вещи в мужской культуре того времени, это оставалось невысказанным. Эллиотт преклонялся перед Филби, но также и любил его со всей силой мужского обожания — молчаливого, неразделенного, лишенного сексуального оттенка.
Их отношения стали еще более близкими, когда обоих извлекли из отдаленных краев британской разведки и поместили в самый центр, в Пятый отдел МИ-6, в подразделение, занимавшееся контрразведкой. МИ-5 отвечала за обеспечение безопасности, в том числе за противодействие вражескому шпионажу в Великобритании и в колониях. МИ-6 отвечала за сбор информации и курировала агентов за рубежом. В составе МИ-6 Пятый отдел играл особую и крайне важную роль: его сотрудники при помощи шпионов и перебежчиков собирали информацию о разведывательной деятельности врага на иностранных территориях и заранее предупреждали МИ-5 о разного рода шпионаже в Великобритании. Являясь важнейшим связующим звеном между секретными службами, Пятый отдел был призван «сводить на нет, запутывать, дезориентировать, подрывать, проверять или контролировать деятельность секретных служб по сбору информации и влиять на действия агентов иностранных государств или служб». Перед войной этот отдел отдавал большую часть своих сил наблюдению за международным распространением коммунизма и борьбе с советским шпионажем, но по мере того, как война продолжалась, сосредоточился почти исключительно на разведывательных операциях стран гитлеровской коалиции. Особое беспокойство вызывал Пиренейский полуостров. Сохранявшие нейтралитет Испания и Португалия оказались на передовой шпионской войны. Многие операции немецкой разведки, направленные против Великобритании, начинались именно в этих двух странах, и в 1941 году МИ-6 принялась укреплять позиции на Пиренеях. Как-то вечером Томми Харрис сказал Филби, что боссы разыскивают кого-то «знакомого с Испанией, чтобы поручить ему растущий подотдел». Филби тут же заинтересовался; Харрис поговорил с Ричардом Бруманом-Уайтом, другом Эллиотта, руководителем операций МИ-6 на Пиренеях, а тот обратился к главе МИ-6. «Система „старых друзей“ пришла в действие», по выражению Филби, и спустя несколько дней его вызвали на встречу с начальником Пятого отдела.
Майор Феликс Каугилл являл собой образец разведчика старой школы: бывший офицер индийской полиции, жесткий, воинственный, чрезмерно подозрительный и не блещущий умом. Тревор-Роупер пренебрежительно отзывался о нем как о «бестолковом человеке-катастрофе, одержимом манией величия», и Филби втайне относился к нему с не меньшим ехидством: «Для офицера разведки он был слишком скован нехваткой воображения, невниманием к деталям, да и попросту незнанием окружающего мира». Каугилл был «подозрительным и ершистым» по отношению к любому, кто не служил у него под началом, за своих же подчиненных стоял горой и уж точно не мог тягаться с Филби по части обаяния.
Филби не писал официального заявления о приеме на работу, а Каугилл ничего ему официально не предлагал, но после одного долгого, богатого на возлияния вечера Филби получил новую должность: возглавил пиренейский подотдел Пятого отдела, и эта работа, как радостно отмечал Филби, предполагала более широкие обязанности, а также «личные контакты с остальными сотрудниками СРС и МИ-5». Но прежде чем Филби занял этот пост, Валентайн Вивьен, заместитель директора МИ-6, известный под прозвищем Ви-Ви, решил еще раз побеседовать с отцом Филби. Хилэри Сент-Джон Бриджер Филби был фигурой весьма одиозной. Как советник Ибн-Сауда, первого монарха Саудовской Аравии, он играл (и впоследствии продолжал играть) ключевую роль в льстивой тактике Великобритании в этом регионе. Он принял ислам, взяв имя шейха Абдуллы, свободно изъяснялся по-арабски и, в конце концов, взял в качестве второй жены рабыню из Белуджистана, подаренную ему саудовским королем. При всем при этом его вкусы оставались подлинно английскими, а мнения — совершенно непредсказуемыми. Как противник войны Филби-старший был в какой-то момент арестован и даже ненадолго посажен в тюрьму, впрочем, этот эпизод не нанес ни малейшего урона ни его собственному социальному положению, ни перспективам служебного роста его сына. За ланчем в клубе полковник Вивьен поинтересовался у Сент-Джона Филби политическими взглядами его сына.
— Он ведь был прокоммунистически настроен в Кембридже, не правда ли?
— О, то были всего лишь дурацкие увлечения школяра, — беззаботно ответил Сент-Джон Филби. — Теперь это совсем другой человек.
Николас Эллиотт тем временем совершал параллельный карьерный ход. Летом 1941 года его тоже перевели в Пятый отдел, где поручили курировать Нидерланды. С этого момента Филби стал бороться с немецким шпионажем на Пиренейском полуострове, а Эллиотт в соседнем кабинете боролся с тем же самым в оккупированной нацистами Голландии. Каждому платили жалованье наличными, в размере шестисот фунтов в год, и ни один из них, в соответствии с давними правилами секретных служб, не платил налогов. Теперь Филби и Эллиотт сражались плечом к плечу, чтобы «активно искать и ликвидировать вражеские разведслужбы».
Штаб-квартира Пятого отдела размещалась не в Лондоне, где находились остальные отделы МИ-6, а в Гленалмонде, большом викторианском здании на Кинг-Гарри-лейн в Сент-Олбансе, примерно в двадцати милях к северу от столицы, и носил кодовое название «Квартира Экс-Би». Ким Филби и Эйлин снимали небольшой дом на окраине города.
С будущей женой Филби познакомила его кембриджская приятельница Флора Соломон в день объявления войны. Дочь еврейского золотопромышленника из России, Соломон стала еще одним экзотическим цветком в пестрой оранжерее, которую являл собой круг Филби: в молодости у нее была связь с Александром Керенским, министром-председателем Временного правительства, свергнутого Лениным во время Октябрьской революции, а потом вышла замуж за британского генерала, участника Первой мировой войны. В 1939 году ее приняли на работу в магазин «Маркс и Спенсер», где она отвечала за улучшение рабочих условий сотрудников. Там она познакомилась и подружилась с Эйлин Фёрс, сотрудницей службы безопасности филиала магазина в районе Марбл-Арч. По словам Флоры, Эйлин принадлежала к так называемому провинциальному классу, ныне вышедшему из моды классу. «Она была типичной англичанкой, стройной, привлекательной, пламенной патриоткой». Незаметная в своем костюме и плаще, она становилась практически невидимой, когда несла службу в торговых залах «Маркса и Спенсера». Бдительная и осторожная, Эйлин старалась раствориться в толпе, отойти на второй план. Ее отца убили в Первую мировую войну, когда ей исполнилось всего четыре, и ее детство в одном из графств, прилегающих к Лондону, было строго традиционным, скучным и довольно одиноким. Втайне от всех она «страдала депрессиями». Эйлин Фёрс и Ким Филби познакомились в гостях у Флоры, в ее доме в районе Мэйфейр. Филби начал рассказывать, как работал корреспондентом в Испании. «В лице Эйлин он нашел жадного слушателя, — писала Соломон. — Вскоре я узнала, что они поселились в одной квартире».
Их союз виделся Эллиотту идеальным, основанным на общей любви к хорошей компании. К Эйлин он относился почти так же, как к Филби, а после того, как у него обнаружили диабет и Эйлин заботливо его выходила, эта привязанность еще окрепла. «Она была очень умна, — писал Эллиотт, — на редкость человечна, бесстрашна и отличалась приятным чувством юмора». В самом деле, Эйлин являла собой именно тот тип жены, о каком мечтал и сам Эллиотт: преданная, сдержанная, патриотичная, всегда готовая посмеяться над его шутками. Дочка Филби, их первенец, появилась на свет в 1941 году; в следующем году родился сын, а через год еще один. Как одобрительно заметил Эллиотт, переполняемый «отцовской гордостью» Филби проявил себя заботливым родителем.
Дом Филби стал местом, где собирались молодые офицеры разведки из Пятого отдела, загородной версией лондонского салона Харрисов, где двери — а также разнообразные бутылки — всегда были открыты. Грэм Грин, на тот момент один из заместителей Филби, вспоминал «долгие воскресные ланчи в Сент-Олбансе, когда целый подотдел отдыхал под его руководством, предаваясь обильным возлияниям». Коллеги обожали Филби и впоследствии упоминали о его «небольших знаках привязанности», душевной щедрости и отвращении к мелочным офисным интригам. «В нем что-то было, какая-то аура притягательной авторитетности, как у некоего романтического командира взвода, благодаря которой людям хотелось представать перед ним в наилучшем виде. Даже начальство признавало его способности и полагалось на него».
Пятый отдел представлял собой тесно сплоченное сообщество: всего дюжина представителей руководящего состава и их заместителей и столько же обслуживающего персонала. Руководители и секретари обращались друг к другу по имени, а между некоторыми существовала еще более тесная связь. «Веселый оркестр» Филби состоял из его старого школьного друга Тима Милна, жизнерадостного эксцентрика по имени Тревор Уилсон, прежде занимавшегося «приобретением экскрементов скунса» в Абиссинии для французской парфюмерной фирмы «Молине», и Джека Айвенса, экспортера фруктов, свободно говорившего по-испански. Местным жителям внушили, что образованные молодые люди в большом доме — команда археологов из Британского музея, ведущая раскопки развалин Веруламия (так древние римляне называли город, на месте которого теперь стоит Сент-Олбанс). Миссис Реннит, повариха, готовила сытные английские блюда, а по пятницам подавала традиционную картошку с рыбой. По выходным они играли в крикет на прямоугольной площадке за Гленалмондом, а потом перемещались в паб «Король Гарри», расположенный по соседству.
Начальником был полковник Каугилл, но душой компании — Филби: «Его самоотдача и целеустремленность во всем, чем он занимался, словно бы озаряли его изнутри и вдохновляли других следовать за ним». Эллиотт не был одинок в своем преклонении перед Кимом. «Никто не был бы лучшим шефом, чем Ким Филби, — утверждал Грэм Грин. — Он работал усерднее всех, но отнюдь не производил впечатления человека, надрывающегося на работе. Он всегда выглядел непринужденным, совершенно невозмутимым». Даже в самом нестрогом бюрократическом аппарате всегда есть место для манипуляций, но Филби вел себя по отношению к подчиненным подчеркнуто корректно. «Если кто-то совершал просчет, он старался его минимизировать и сгладить, не критикуя». Десмонд Бристоу, только что завербованный сотрудник, говорящий по-испански, прибыл в Гленалмонд в сентябре 1941 года, где его приветствовал Филби, «человек кроткого вида с улыбчивыми глазами и уверенной манерой держаться. Он сразу произвел на меня впечатление тихого обаятельного интеллектуала… В нем чувствовалась умиротворенность духа». «Уютная атмосфера» Пятого отдела отличала его от остальных отделов МИ-6, более подверженных официозу. Члены команды мало что скрывали друг от друга, будь то официальная или личная информация. «Не составляло особого труда выяснить, чем заняты коллеги, — писал Филби. — То, что знал я, становилось известно и всем остальным».
Восхищению подчиненных вторило одобрение начальства. Феликс Каугилл называл Филби «хорошим судьей матчей по крикету». Высшей похвалы попросту не существовало. Она означала, что человек играет по самым честным правилам. Однако некоторые замечали в Филби проблеск чего-то другого, более жесткого и глубокого, некую «расчетливую амбициозность», «безжалостную целеустремленность». Подобно Эллиотту он прикрывался юмором, чтобы избежать расспросов. «В нем было нечто загадочное, — писал Тревор-Роупер. — Он никогда не заводил серьезных разговоров — все было пронизано иронией».
В качестве руководителя пиренейского подотдела Филби столкнулся с серьезным испытанием. Хотя Испания и Португалия официально провозгласили себя «невоюющими» странами с нейтральным статусом, на самом деле обе не только допускали, но и активно поддерживали немецкий шпионаж в крупном масштабе. Вильгельм Лейснер, шеф абвера в Испании, возглавлял хорошо финансируемую, обширную разведывательную сеть, включавшую в себя более двухсот офицеров (то есть более половины немецкого дипломатического корпуса) и порядка полутора тысяч агентов, разбросанных по всей стране. Главной мишенью Лейснера была Великобритания: вербовать и направлять туда шпионов, организовывать прослушку британского посольства, подкупать испанских чиновников и препятствовать английскому судоходству. Еще одним рассадником шпионажа стала Португалия, но там операции абвера, оставленные на попечении распутного немецкого аристократа Лудовико фон Карстхоффа, были менее успешными. Абвер поставлял в Испанию и Португалию средства и шпионов, но в поединке с Лейснером и Карстхоффом у Филби было одно решающее преимущество — Блетчли-парк, шифровальное подразделение повышенной секретности, где перехваченные немецкие радиограммы расшифровывались, благодаря чему можно было добывать бесценные сведения о нацистской разведке. «Потребовалось не так много времени, чтобы получить весьма полную картину действий абвера на [Пиренейском] полуострове», — писал Филби. Эту информацию вскоре будут «активно использовать, чтобы подрывать или, по крайней мере, изрядно запутывать деятельность врага на им же выбранной территории».
Возложенная на Эллиотта задача по подрыву немецкой разведки в Нидерландах, где он прежде работал, была другого рода и еще более сложной. В оккупированной нацистами Голландии абвер действовал весьма успешно: ему удалось завербовать, подготовить и переправить в Англию целую группу шпионов. А вот разместить британских агентов в Голландии оказалось задачей не из легких. Те немногие разведывательные группировки, что уцелели после инцидента в Венло, были наводнены информаторами нацистов.
Согласно намеченному плану с призвуком историй про Джеймса Бонда (и всеми признаками хитроумия Эллиотта), голландский агент по имени Петер Тазелаар был высажен на берег неподалеку от приморского казино в Схевенингене, в резиновом костюме поверх смокинга, чтобы не промокнуть. Едва оказавшись на берегу, Тазелаар стащил верхний костюм и постарался «смешаться с толпой на побережье». Он даже обрызгал смокинг бренди, чтобы убедительнее выглядеть в образе «завсегдатая вечеринок». Одетый в соответствии с вечерним этикетом и благоухающий алкоголем, Тазелаар успешно миновал немецких охранников и отыскал рацию, заранее сброшенную с парашютом. Перекличка с агентом 007, возможно, неслучайна: в рядах бравых молодцев британской разведки на тот момент уже находился молодой офицер военно-морской разведки Ян Флеминг, будущий автор книг о Джеймсе Бонде. Ян Флеминг, как и Николас Эллиотт, в свое время хлебнул горя в Дернфордской школе; молодые люди стали близкими друзьями.
Петер Тазелаар оказался одним из немногих, кому удалось вернуться в Великобританию. Из пятнадцати агентов, отправленных в Голландию с июня 1940 года по декабрь 1941-го, выжило только четверо — сказывалась безжалостная эффективность майора Германа Гискеса, главы контрразведки абвера в Голландии, основного противника Эллиотта. В августе 1941 года Гискес перехватил команду голландских агентов ВСО, доставленных на побережье торпедным катером, и под угрозой казни заставил их послать зашифрованные радиограммы в Великобританию, чтобы заманить в Нидерланды еще группу шпионов. Порядка пятидесяти пяти голландских агентов были впоследствии схвачены и десятки казнены в ходе операции под кодовым названием Englandspiel («Английская игра»), проведенной в рамках «двойной игры». Только двоим удалось бежать и предупредить британцев о том, что их водят за нос. Завершая операцию, Гискес послал заключительную издевательскую радиограмму: «Это последний раз когда вы пытаетесь вести дела в Нидерландах без нашей помощи Точка мы считаем что это довольно несправедливо ввиду нашего длительного и успешного сотрудничества с вами в качестве ваших исключительных агентов Точка но в любом случае когда бы вы ни захотели посетить Континент можете не сомневаться что мы примем вас с таким же вниманием и последствиями как и тех кого вы присылали раньше Точка счастливо». Этот эпизод стал, по словам Филби, «оперативной катастрофой», но почти такую же тревогу вызвал еще один факт: как выяснилось, немецкая разведка в Голландии умудрилась отправить одного шпиона в Великобританию так, что он не был обнаружен.
Весной 1941 года в бомбоубежище в Кембридже обнаружили тело голландца. Имя у него оказалось — нарочно не придумаешь: Энгельбертус Фуккен. В карманах и в чемодане у него нашли голландский паспорт, фальшивое удостоверение личности, а также один шиллинг и шесть пенсов. За пять месяцев до того он прыгнул с парашютом и приземлился в Бакингемшире, выдал себя за беженца, а впоследствии застрелился, когда у него закончились деньги. Еще ни одному нацистскому шпиону не удавалось так долго оставаться на свободе, и о нем не было ни слова в радиоперехватах, сделанных сотрудниками Блетчли-парка, а это, с точки зрения Эллиотта, давало повод обеспокоиться: вдруг где-то разгуливают и другие немецкие шпионы.
Благодаря облегченному режиму, установленному Каугиллом, офицеры Пятого отдела могли бывать в Лондоне, «практически когда заблагорассудится». Филби и Эллиотт наведывались туда при каждой возможности, чтобы поддерживать «контакты с другими отделами СРС, МИ-5 и прочими правительственными ведомствами», заодно посещать свои клубы, а летом еще и вместе смотреть матчи по крикету на стадионе «Лордс». Оба вызывались нести «пожарную вахту по ночам» — один или два раза в месяц — в главном управлении МИ-6, где они отслеживали телеграммы, пришедшие за ночь со всего мира, что позволяло им проникать в самую суть операций британской разведки. В этом тайном братстве Эллиотт и Филби были самыми близкими братьями — они сообща наслаждались и риском, и упорным трудом, и разгулом.
Как-то утром, в 1941 году, Ким Филби сел на поезд, идущий в Лондон, по обыкновению захватив с собой «раздутый портфель и длинный список людей, которых нужно было посетить». При нем также были подробные описания деятельности Пятого отдела, его сотрудников, задач, операций, успехов и провалов, «записанные обычным письмом — аккуратным, мелким почерком». По завершении запланированных встреч в МИ-5 и МИ-6 Филби не поспешил ни в бар, располагавшийся под офисами МИ-6, ни к себе в клуб; не поехал он и в дом Харрисов, чтобы скоротать вечерок за выпивкой и обсуждением секретов. Вместо этого он спустился в метро, на станцию «Сент-Джеймсский парк». Он пропустил первый поезд, а потом, подождав, пока войдут все остальные пассажиры, проскользнул в вагон следующего поезда за секунду до закрытия дверей. Через две остановки он сошел и пересел на поезд, идущий в противоположном направлении. Выйдя из метро, запрыгнул в автобус на ходу. Наконец, удостоверившись в том, что за ним не следят (на шпионском жаргоне это называлось «пройти химчистку»), Филби направился в парк, где на скамейке его ждал коренастый светловолосый человек. Они пожали друг другу руки; Филби передал человеку содержимое своего портфеля, а потом поспешил на вокзал Кинг-Кросс, чтобы поехать домой, в Сент-Олбанс.
Если бы Ник Эллиотт прочитал отчет о Пятом отделе, написанный его лучшим другом, его бы сперва объяло изумление, а потом ужас. В одном абзаце было написано следующее: «Мистер Николас Эллиотт. 24. 5 футов 9 дюймов. Каштановые волосы, выпяченные губы, темные очки, уродливый и внешне слегка напоминает свинью. Неплохо соображает, хорошее чувство юмора. Любит выпить, но недавно тяжело болел, вследствие чего сейчас пьет мало. Отвечает за Голландию…»
Но Эллиотт удивился бы еще больше, если бы обнаружил, что человек, поспешно удалявшийся в вечернюю мглу с кипой бумаг, был офицером НКВД, а его друг Ким Филби — опытным советским шпионом, вот уже восемь лет работавшим под кодовым именем Сонни.
Глава 3
Отто и Сонни
Отец Филби дал сыну прозвище Ким в честь героя одноименного популярного романа Редьярда Киплинга. Поскольку Филби воспитывала няня-индианка, его первым языком можно считать панджаби на элементарном уровне; подобно своему тезке у Киплинга, он был белым ребенком, который мог бы сойти за индийца. Прозвище приклеилось к мальчику навсегда, но его уместность проявилась только спустя годы. В литературном Киме живут две совершенно разных личности; он двуликий.
- Спасибо земле, что меня родила,
- И жизни, что кормит птенца.
- Но превыше всех для меня Аллах,
- Давший мне два лица[6].
Земля, взрастившая Кима Филби, сделала его типичным представителем высшего класса, англичанином из частной школы; жизнь, вскормившая его, создала нечто совершенно иное, и его дорогой друг Николас Эллиотт об этой жизни даже не подозревал. Эллиотт не знал, что Филби стал советским агентом в тот самый год, когда Эллиотт отправился в Кембридж; он не знал, что счастливый брак Кима — просто ширма, а на самом деле его друг женат на австрийской шпионке-коммунистке; он не знал, что Филби вступил в МИ-6 не потому, что был таким же страстным патриотом, как он, а скорее, как сформулировал это сам Филби, в качестве «агента глубокого внедрения, действующего в интересах советской разведки». И Николас не знал, что во время дружеских ланчей в Сент-Олбансе, хмельных вечеров дома у Харрисов, коктейлей в подвале МИ-6 и в баре клуба «Уайтс» Ким выполнял свои должностные обязанности, поглощая секреты своих друзей так же быстро, как джин, а потом все это передавал в Москву.
Истоки двойной жизни Филби лежат в его детстве, в его отце, воспитании и серьезной идеологической трансформации, повлиявшей на его становление в юности. Ким утверждал, что его двойное существование было обусловлено непоколебимой верой в систему политических принципов, которую он открыл для себя в восемнадцать лет и никогда ей не изменял: то, что враги Филби характеризовали как предательство, он считал преданностью. Но дело было не только в идеологии. Как многие, кто был порожден истеблишментом времен поздней империи, он обладал врожденной верой в собственную способность — и право — изменить мир и управлять им. Это их с Эллиоттом роднило, хотя взгляды друзей на то, как управлять миром, были диаметрально противоположными. Оба они были империалистами, но ратовали за соперничающие империи. Под редкостным шармом Филби скрывался плотный слой гордыни; обаятельный человек приглашает тебя в свой мир, но на своих условиях, не позволяя заходить слишком далеко. Англичане любят секреты, любят сознавать, что им известно чуть больше, чем человеку, стоящему с ними рядом; а когда этот человек тоже является хранителем тайн, это удваивает то, что Тревор-Роупер называл «изысканным наслаждением, которое дает безжалостная, вероломная, тайная власть». Филби еще в юности испробовал мощный наркотик обмана и на всю жизнь пристрастился к неверности.
Для отца Ким был любимым проектом. Подобно Клоду Эллиотту, Сент-Джон Филби возлагал на сына большие надежды, но не выказывал ему теплых чувств. Он готовил сына для Вестминстерской школы и Кембриджа и гордился, когда тот сумел достичь этих целей; однако чаще всего он отсутствовал — носился по арабскому миру, пытаясь прославиться и постоянно нарываясь на конфликты. «Я стремлюсь к славе, что бы это ни означало», — признавался Сент-Джон Филби. Он был видным ученым, лингвистом и орнитологом, благодаря чему определенной славы действительно достиг, но мог бы пользоваться и более глубоким уважением, если бы не вызывал такого раздражения его нрав — упрямый и надменный. Сент-Джон Филби считал любое свое суждение, каким бы скороспелым оно ни было, истинным откровением; он никогда не уступал, не слушал других и не шел на компромисс. Он с одинаковой легкостью наносил оскорбления и обижался; он свирепо критиковал всех, кроме себя самого. Свою жену Дору он то оставлял без внимания, то третировал. Сноб и во многих отношениях традиционалист, Филби-старший вместе с тем подсознательно тяготел к бунтарству, из-за чего вечно шел против системы, а потом приходил в ярость и жаловался, когда система его не награждала. Ким одновременно видел в отце кумира и презирал его.
В школе юный Филби «постоянно ощущал длинную тень своего отца». Мальчик хорошо учился и пользовался популярностью среди товарищей, но при этом проявлял известную склонность ко лжи, несколько беспокоившую его родителей: «Ему следует всегда прилагать усилия, чтобы говорить правду, какими бы ни были последствия», — замечал отец. Ким прибыл в Кембридж в семнадцать лет, получив стипендию, чтобы изучать историю; он унаследовал от отца и уверенность в своих интеллектуальных способностях, и стремление плыть против течения.
Бурные идеологические течения, захлестнувшие Кембридж в 1930-е годы, образовали водоворот, который мгновенно поглотил Филби и многих других умных, сердитых, дезориентированных молодых людей. Ким завязал дружбу с леваками, в том числе и с крайними леваками. Фашизм выступил в поход на Европу, и только коммунизм, как казалось многим, мог ему противостоять. Поздними вечерами за обильными возлияниями в обшитых панелями комнатах студенты спорили, дискутировали, примеряя на себя то один, то другой идеологический костюм, и в некоторых, хотя и редких, случаях готовы были принять революцию. Самым значительным и, безусловно, самым колоритным из радикальных новых друзей Филби был Гай Фрэнсис де Монси Берджесс, человек безнравственный, остроумный, весьма опасный и во весь голос проповедующий коммунистические взгляды. Еще один — Дональд Маклин, умный молодой лингвист, словно специально созданный для Форин-офиса.
Филби вступил в Социалистическое общество Кембриджского университета. Он вел агитацию за лейбористскую партию. Но не было никакого «внезапного преображения», никакого революционного озарения, когда религия коммунизма подчинила себе его душу. Напротив, взгляды студента Филби медленно дрейфовали влево, и этот процесс ускорился, когда в 1933 году Ким посетил Берлин и, подобно Эллиотту, собственными глазами увидел бесчеловечность нацизма во время антисемитской демонстрации. В отличие от многих своих друзей Филби так и не вступил в коммунистическую партию. Его взгляды были радикальными, но простыми: богатые слишком долго эксплуатировали бедных; единственный бастион, способный защитить от фашизма, — советский коммунизм, «внутренняя крепость мирового движения»; капитализм обречен и уже разрушается; британский истеблишмент отравлен пронацистскими настроениями. «Я окончил университет, — писал Филби, — с твердым убеждением, что должен посвятить свою жизнь коммунизму». Впрочем, придерживался он своих убеждений так ненавязчиво, что это оставалось почти незаметным для окружающих. Четырнадцать фунтов, которыми он был вознагражден за получение диплома, ушли на приобретение собрания сочинений Карла Маркса. Однако у нас нет точных сведений о том, насколько глубоко он их изучал, да и читал ли вообще. Хотя политике предстояло занять главенствующее место в его жизни, он не испытывал большого интереса к политическим теориям. Как впоследствии замечал Эллиотт: «…с трудом представляю его в роли преподавателя диалектического материализма».
Прежде чем покинуть Кембридж, Филби разыскал своего научного руководителя, экономиста марксистского толка Мориса Добба, и спросил у него, как лучше всего «посвятить свою жизнь делу коммунизма». Как мы видим, марксизм настолько глубоко проник в Кембридж, что Филби чувствовал себя в полной безопасности, задавая этот вопрос, а Добб не испытывал никаких опасений, отвечая на него. Добб отправил его к Луи Жибарти, парижскому агенту Коминтерна, а тот в свою очередь организовал Филби встречу с австрийским коммунистическим подпольем. Это не составило особого труда: у крайне левых существовала собственная сеть «старых друзей».
Осенью 1933 года Филби отправился в Вену, якобы намереваясь подтянуть свой немецкий, прежде чем подавать заявку на устройство в Форин-офис, а на самом деле желая стать свидетелем, а по возможности и участником борьбы между левыми и правыми, разгоравшейся на тот момент в австрийской столице. Энгельберт Дольфус, австрийский диктатор крайне правых взглядов, уже приостановил действие конституции и наложил запрет на стачки и демонстрации, стремясь подавить социалистическое движение. Полномасштабный конфликт был неизбежен, и ситуация, как охарактеризовал ее Филби, достигла «переломного момента». Филби приехал по адресу, который ему дал Жибарти, и представился жильцам дома — Израилю и Гизелле Кольман, а также их дочери Алисе, в которую сразу же влюбился. Двадцатитрехлетняя Алиса — домашнее прозвище Литци — была темноволосой жизнерадостной еврейкой, прямолинейной до резкости и только что разведенной (она вышла замуж в восемнадцать). Когда Филби встретился с Литци, он все еще был девственником — в физическом и политическом плане; Литци быстро помогла ему восполнить эти пробелы. «Маленькая, но невероятно мощная секс-бомба» (по свидетельству одного современника), она была всецело предана делу революции.
Литци активно участвовала в венском коммунистическом подполье и поддерживала контакты с советской разведкой. Она провела две недели в тюрьме за подрывную деятельность. Филби сразу же потерял голову. Они занимались любовью в снегу. («На самом деле это довольно-таки тепло, надо только привыкнуть», — впоследствии рассказывал Филби уже другой подруге.) Он провел в Австрии всего несколько недель, когда Дольфус обрушился на левых, арестовывая социалистических лидеров, запрещая профсоюзы и подталкивая Австрию к короткой, но свирепой гражданской войне. Филби и Литци ввязались в бой на стороне социалистов-революционеров, недолговечного альянса социалистов и коммунистов; молодые люди передавали послания, сочиняли листовки и помогали мужчинам и женщинам, разыскиваемым правительством, покинуть страну. Левый фронт уничтожили за четыре дня; полторы тысячи человек были арестованы, а лидеры социалистов казнены. Литци тоже оказалась в списке разыскиваемых, и полиция уже шла за ней по пятам, но паспорт Филби обеспечил ей защиту: двадцать четвертого февраля 1934 года Ким женился на Литци в городской ратуше Вены. Это был не просто брак, заключенный во имя марксизма; в качестве миссис Филби новобрачная могла бежать вместе с мужем в безопасную Великобританию. Литци — или «Лиззи», как он ее называл, — возможно, единственная женщина, которой Филби оставался верен как в идеологическом, так и в сексуальном плане. «Хотя основа наших отношений была до некоторой степени политической, я по-настоящему любил ее, а она любила меня».
Несколько недель спустя молодожены прибыли в Лондон и поселились там с матерью Кима. Дора Филби, верная традициям и отчаянно старавшаяся соблюдать приличия, несмотря на то что ей постоянно не хватало денег, вовсе не пришла в восторг, обнаружив, что сын женат на иностранной коммунистке. Она относилась к его политическим увлечениям как к особенностям очередной фазы взросления, сродни угревой сыпи. «Я очень надеюсь, что Ким устроится на работу, чтобы на этот чертов коммунизм не осталось времени, — писала миссис Филби мужу в Саудовскую Аравию. — Он еще не совсем радикально настроен, но может к этому прийти». Сент-Джона радикализм сына не волновал. «Со временем неумеренность всегда поддается укрощению», — утверждал он.
Всего через несколько недель после возвращения из Вены Филби сидел на скамейке в Риджентс-парке в ожидании «чрезвычайно важного человека», который, как обещала Литци, изменит его жизнь. На вопрос Филби, кто этот человек и чем же он так важен, она словно воды в рот набрала.
В лучах июньского солнца появился низкорослый, приземистый мужчина тридцати с небольшим лет, с кудрявыми светлыми волосами и умными глазами. Он заговорил по-английски с сильным восточноевропейским акцентом и представился как Отто. Филби навсегда запомнил их первый разговор. Отто рассуждал об искусстве и музыке, о своей любви к Парижу и нелюбви к Лондону. Он обладал, по замечанию Филби, «солидным культурным багажом». Отто совершенно заворожил Филби: «Он был прекрасным человеком. Просто прекрасным. Я сразу же это почувствовал. Первое, что привлекало внимание, — его глаза. Он смотрел на вас так, словно вы и разговор с вами сейчас для него важнее всего на свете». Эту особенность многие подмечали и у самого Филби. Постепенно их беседа стала дрейфовать в сторону политики, а потом к работам Маркса и Ленина, которые Отто, по-видимому, знал наизусть. Филби, в свою очередь, рассказал о своем политическом опыте в Кембридже, о своей деятельности в Вене и желании вступить в коммунистическую партию. В разговоре они активно использовали эвфемизмы, и Отто намекал, что может поспособствовать тому, чтобы Ким получил «важную и интересную работу». Их отношения, как часто бывает между шпионами, начались не с политики, а с дружбы. «Я поверил ему с самого начала, — писал Филби. — Это был потрясающий разговор». Они договорились встретиться снова.
Настоящее имя Отто, которое Филби узнал только спустя десятилетия, — Арнольд Дейч. Он был главным вербовщиком советской разведки в Великобритании, главным архитектором того, что впоследствии станет известно как Кембриджская пятерка. Арнольд родился в семье чешских евреев и вместе с родителями ребенком переехал в Австрию. Обладая незаурядным умом, он за пять лет пребывания в Венском университете обзавелся докторской степенью по химии, пылкой преданностью коммунизму и страстным интересом к сексу. В начале своей карьеры он работал издателем и агентом немецкого сексолога Вильгельма Райха, «пророка усовершенствованного оргазма», стремившегося охватить пуританскую Вену сексуальным просвещением в рамках движения «Секспол» (сексуальная политика), приравнявшего подавление сексуальности к фашистскому авторитаризму. Райх создал радикальную, хотя и не слишком правдоподобную теорию, согласно которой «неудачи на сексуальном фронте привели человека к фашизму». Дейч продвигал в жизнь идею Райха о том, что чем лучше секс, тем лучше революционеры, и в то же время сотрудничал с советской разведкой, пройдя подготовительный курс в Москве. В 1933 году гестапо арестовало Дейча, но скоро выпустило; отделение венской полиции, занимавшееся борьбой с порнографией, тоже шло по его следу — в связи с деятельностью в рамках «Секспола». Год спустя он приехал в Великобританию, чтобы учиться в аспирантуре по фонетике и психологии в Университетском колледже Лондона, а при этом продолжал свою деятельность в качестве вербовщика шпионов. У Дейча были в Великобритании родственники, в частности, богатый кузен Оскар, основатель сети кинотеатров «Одеон», название которой некогда расшифровывалось как «Оскар Дейч развлекает наш народ» (Oscar Deutsch Entertains Our Nation). Таким образом, один из Дейчей извлекал неплохую выгоду из британского капитализма; другой, не жалея сил, старался его уничтожить.
Дейч был «нелегалом», что на шпионском жаргоне подразумевало шпиона, действующего без дипломатического статуса. В его задачи входило, используя в качестве прикрытия научную работу, вербовать в лучших университетах радикально настроенных студентов, потенциально способных впоследствии обрести власть и влияние в обществе. Дейч охотился за идейными шпионами, которые могли бы работать под глубоким прикрытием в течение длительного времени, незаметно смешавшись с другими представителями британского истеблишмента; дело в том, что советская разведка затеяла долгую игру, бросая в почву семена, призванные взойти через много-много лет или так навеки и остаться в земле. Простая, блистательная, надежная стратегия, какую разработать могло только государство, целиком посвятившее себя мировой революции. Она оказалась потрясающе успешной.
Знакомство Филби с Дейчем, по-видимому, было организовано Эдит Тюдор-Харт, австрийской коммунисткой, подругой Литци. Урожденная Сушицки, дочь богатого венского издателя, Эдит вышла замуж за английского врача — тоже коммуниста — по имени Александр Тюдор-Харт и переехала в Англию в 1930 году, где работала фотографом и по совместительству искателем талантов для НКВД, используя на удивление будничное кодовое имя «Эдит». С 1931 года она находилась под наблюдением МИ-5, но — и это сыграло решающую роль — наблюдение не велось в тот день, когда она привела Филби на встречу с Дейчем в Риджентс-парке.
Филби был как раз таким новобранцем, какого искал Дейч. Амбициозный, с хорошими связями и преданный делу, но как-то незаметно: в отличие от других, Ким не стремился, чтобы его радикальные взгляды стали достоянием общественности. Он хотел делать карьеру в дипломатии, журналистике или на государственной службе, а для шпионажа все эти сферы деятельности подходят как нельзя лучше. У Дейча также сложилось впечатление, что Сент-Джон Филби — агент британской разведки, имеющий доступ к важным секретным материалам.
Во время второй встречи Дейч спросил Филби, готов ли тот действовать на благо коммунизма в качестве агента под прикрытием. Ким не колебался. «Незачем долго раздумывать, когда предлагают вступить в элитное подразделение», — написал он. Это замечание о многом говорит: привлекательность новой роли была в ее эксклюзивности. До некоторой степени история Филби — история человека, ищущего все более эксклюзивные клубы. В блестящей лекции, написанной в 1944 году, К. С. Льюис описал гибельное увлечение британцев «внутренним кольцом»: убеждение, что где-то, почти в пределах досягаемости, есть эксклюзивная группа, обладающая настоящей властью и влиянием, и англичанин определенного сорта всегда стремится найти ее и туда вступить. Вестминстерская школа и Кембриджский университет — элитарные клубы; МИ-6 представляет собой еще более закрытое братство; продолжая работу в МИ-6 и начав сотрудничество с НКВД, Филби оказался в клубе из одного человека и, таким образом, стал высшей элитой секретного внутреннего кольца. «Из всех страстей, — писал Льюис, — страсть к внутреннему кольцу наиболее умело толкает человека, еще не ставшего совсем дурным, к совершению очень дурных поступков».
«Будущее представлялось мне в романтическом свете», — писал Ким. Дейч обрисовал ему общую картину этого будущего: Филби и Литци должны оборвать все коммунистические связи; вместо того чтобы вступать в компартию, Киму необходимо создать себе новый политический имидж человека правых взглядов, даже с нацистскими симпатиями. Для всех непосвященных он должен стать чинным представителем того самого класса, которому так истово себя противопоставлял. «По происхождению, образованию, внешнему облику и манерам вы интеллектуал, буржуа. Вас ждет прекрасная карьера. Буржуазная карьера, — объяснял ему Дейч. — Антифашистскому движению нужны люди, способные войти в буржуазные круги». Спрятавшись внутри истеблишмента, Филби мог «по-настоящему, осязаемо» помочь революции. Дейч инструктировал Кима относительно методов работы разведки: как организовать встречу; где оставлять сообщения; как определить, что его телефон прослушивается; как обнаружить хвост и как от него уйти. Он вручил Киму миниатюрный фотоаппарат «Минокс» и обучил его делать копии документов. Филби заучивал уроки Дейча, «как поэзию». Так началась его двойная жизнь.
Дейч дал Филби ласковое кодовое прозвище Сонни (по-немецки Suhnchen — «сынок») и сообщил о своем улове лондонскому резиденту НКВД, а тот в свою очередь передал новости в московский Центр, генеральный штаб советской разведки: «Мы завербовали сына английского агента, советника ибн Сауда, Филби». Это произвело впечатление на Москву: «Каковы его ожидания от дипломатической карьеры? Реалистичны ли они? Намерен ли он сам выбирать свой путь, или отец „предложит“ ему с кем-то встретиться и обсудить этот вопрос? Было бы хорошо». Дейч дал своему новому протеже указание составить список знакомых и однокашников из Оксфорда и Кембриджа, которых также можно было бы завербовать. Он велел ему тайно изучить все документы в домашнем кабинете Сент-Джона Филби и сфотографировать «представляющие наибольший интерес».
Задание шпионить за собственным отцом было, безусловно, проверкой его преданности, и Филби ее легко прошел. Он без колебаний сделал то, о чем его просили. Дейч сообщил, что новобранец «отзывается о родителях, зажиточных буржуа, и о своем социальном окружении в целом с неподдельным презрением и ненавистью». Филби, вне всяких сомнений, демонстрировал такое рвение на ниве классовой борьбы специально для Дейча, ведь куратор просто околдовал его «прекрасным образованием, гуманизмом, преданностью делу построения нового общества». Они часто встречались, непременно «под открытым небом и подальше от центра», обычно в Лондоне, один раз в Париже. Дейч льстил своему подопечному и вдохновлял его. Когда отношения Филби и Литци начали портиться, старший товарищ наставлял младшего в супружеских делах. («Жена была его первой любовницей, — сообщал в Москву Дейч, как всегда охотно устанавливая связь между сексуальной жизнью и политическим рвением. — Когда в их отношениях возникли трудности, они оба делились со мной и следовали моим советам».)
Филби привязался, идеологически и эмоционально, к своему харизматичному советскому куратору. «Подчас мне казалось, что мы были друзьями с детства, — писал он. — Я был уверен, что моя жизнь и я сам интересовали его не столько профессионально, сколько по-человечески». Пагубное заблуждение многих шпионов — уверенность в том, что их любят, что к ним относятся как к равным, а не просто манипулируют. Арнольд внимательно изучил психологию Кима, вспышки неуверенности за галантным фасадом, неожиданное заикание, закамуфлированное отвращение к доминирующему отцу. Дейч сообщил центру, что Филби обладает потенциалом, но нуждается «в постоянном поощрении»: «Зёнхен происходит из особенной семьи. Его отец в настоящее время считается самым видным экспертом по арабскому миру… он амбициозный тиран и хотел сделать из сына великого человека». Дейч обратил внимание на интеллектуальное любопытство своего помощника, на частые перемены в его настроении, на его старосветские манеры и решительность: «Удивительно, что такой молодой человек обладает знаниями столь обширными и глубокими… Он настолько серьезен, что забывает о том, что ему всего двадцать пять».
Дейч настоятельно советовал Филби поработать журналистом — «оказавшись внутри, вы сможете осмотреться, а потом решить, в каком направлении двигаться» — и заверил Москву, что семейные связи обеспечат ему быстрое продвижение по службе. «У него много друзей в лучших домах». Вскоре Филби получил должность редактора отдела в «Уорлд ревью оф ревьюз», литературно-политического ежемесячного издания, а потом перешел в «Англо-джерман трейд газетт» — журнал, посвященный улучшению экономических отношений между Великобританией и Германией, частично финансируемый нацистским руководством. Завершая переход из крайне левого стана (тайно) в крайне правый (публично), он вступил в Общество англо-германского содружества, созданное в 1935 году, чтобы способствовать улучшению взаимопонимания с Германией. В этой выгребной яме для сторонников умиротворения и поклонников нацизма собрались политики, аристократы и лидеры бизнеса, причем некоторые из них были наивными и доверчивыми, а другие оголтелыми фашистами. Поскольку здесь собрались люди, чьи убеждения были диаметрально противоположными взглядам Филби, у него появился идеальный политический камуфляж, а также информация — охотно принимаемая Москвой — о связях между нацистами и их британскими симпатизантами. Филби регулярно ездил в Берлин по делам общества и даже встречался с министром иностранных дел Германии фон Риббентропом. Впоследствии он утверждал, что находил роль пылкого молодого фашиста «глубоко омерзительной», потому что «в глазах моих друзей — пускай консерваторов, но честных консерваторов — я представал пронацистски настроенным». Бывшие друзья на левом фронте были ошеломлены столь явной трансформацией Филби, и некоторые даже стали его чураться. Дейч выражал сочувствие и уверял Филби, что знает, «как трудно покидать старых друзей».
Преданность Литци и Кима коммунизму оказалась более долговечной, чем их преданность друг другу; они разошлись вполне полюбовно, и она переехала в Париж. К изумлению Москвы, Филби не нашел в бумагах отца ничего, имеющего ценность для разведки. В НКВД были убеждены, что человек, обладающий такими хорошими связями, как у Сент-Джона Филби, так много и свободно путешествующий, просто обязан быть шпионом. «Трудно поверить, что его отец… не является доверенным, приближенным сотрудником разведывательной службы». Не в последний раз Москва принимала свои ошибочные ожидания за факт. Между тем Филби добросовестно предоставил список потенциально пригодных для вербовки лиц из числа кембриджских друзей-леваков, в том числе Дональда Маклина и Гая Берджесса.
Маклин, все еще преданный коммунистическим взглядам, на тот момент состоял уже в Форин-офисе. Филби пригласил его на ужин и намекнул, что можно заняться значимой секретной работой в интересах партии. «Люди, которым я мог бы вас представить, — очень важные». Ким посоветовал Дональду в определенный день зайти в определенное кафе, держа в руках книгу с ярко-желтой обложкой. Отто ждал его и соответствующим образом завербовал этого «очень серьезного и замкнутого» молодого человека с «хорошими связями». Получив прозвище Сирота, Маклин, подобно Филби, начал избавляться от своего радикального прошлого. «Сонни очень высоко отзывается о Сироте», — сообщал Дейч в Москву. Относительно Берджесса были некоторые сомнения: «Очень умный… но слегка поверхностный и в некоторых обстоятельствах может проболтаться».
Что характерно, Берджесс почувствовал, что ему отказывают во вступлении в самое интересное и опасное сообщество, и стал нагло пробиваться туда сам. Однажды вечером он прямо обратился к Маклину: «Ты думаешь, я могу поверить хоть на йоту, что ты перестал быть коммунистом? Ты просто что-то затеваешь». С некоторой неохотой Дейч добавил Берджесса к своему списку. Берджесс, в свою очередь, с максимальной помпой объявил, что сменил Маркса на Муссолини и теперь является поклонником итальянского фашизма. Впоследствии Берджесс представил Дейча еще одному новобранцу, Энтони Бланту, который на тот момент уже был видным историком искусства. Постепенно, тайно, с отеческим усердием и помощью Филби, Дейч добавлял звено за звеном к кембриджской шпионской сети.
Пока Дейч занимался вербовкой, большую часть повседневного управления шпионажем осуществлял еще один «нелегал» — Теодор Степанович Малли, бывший венгерский монах, который в качестве армейского капеллана во время Первой мировой войны был взят в плен в Карпатах и оказался свидетелем таких чудовищных зверств, что стал революционером: «Я потерял веру в бога, и, когда произошла революция, я примкнул к большевикам. Я стал коммунистом и остался им до сих пор». Выучившись на куратора, он в 1932 году прибыл в Лондон под именем Пола Хардта. Для шпиона Малли имел слишком заметную внешность: ростом шесть футов и четыре дюйма, с «серой, лоснящейся кожей лица» и золотыми пломбами в передних зубах. Но куратором он оказался весьма искусным. Малли разделял восторги Дейча по поводу Филби и характеризовал его «как вдохновляющую личность, настоящего товарища и идеалиста». Эти чувства не остались без ответа; в сознании Филби завораживающие личности его руководителей были неотделимы от их политического обаяния: «Оба они были умными и опытными профессионалами, а также по-настоящему хорошими людьми».
Деятельность Филби в «Англо-джерман трейд газетт» резко оборвалась в 1936 году, когда нацисты перестали оказывать изданию финансовую поддержку. Но к тому времени у московского Центра уже были на него другие планы. В Испании разгоралась гражданская война между республиканцами и восставшими националистами, возглавляемыми генералом Франко. Филби получил указание шпионить за националистами, маскируясь под вольного журналиста, и сообщать в Центр о передвижениях войск, коммуникациях, настроениях, а также о военной поддержке, которую силы Франко получали от Германии и Италии. Москва согласилась оплатить его поездку. «Филби крайне бережливо обращается с нашими деньгами», — сообщал Дейч своему начальству. В Испании Ким быстро снискал расположение пресс-службы Франко и начал рассылать содержательные статьи в британские газеты, среди которых стоит отметить «Таймс». Вернувшись в Англию, он убедил самую влиятельную британскую газету сделать его специальным корреспондентом в Испании. «У нас большие трудности с получением хоть какой-то информации со стороны Франко», — сказал ему редактор отдела международной политики Ральф Дикин.
Между тем Филби старательно собирал данные для своих советских кукловодов относительно «боевого и численного состава подразделений, мест, где велись действия, калибров орудий, надежности танков» и другой военной информации. Все это он посылал в зашифрованном виде «мадемуазель Дюпон» в Париж (как он впоследствии выяснил, сообщения приходили на адрес советского посольства). У него завязался роман с Фрэнсис Добл, леди Линдси-Хогг, бывшей актрисой аристократического происхождения, которая была на десять лет его старше, поддерживала Франко, являла собой образец «роялистки ультраправых взглядов» и помогла Киму проникнуть в ближний круг Франко. «Я был бы лжецом, если бы сказал, что начал эту связь только ради работы», — впоследствии признавался Филби. Его вовсе не смущал тот факт, что он занимается любовью с человеком, чьи взгляды глубоко презирает.
Куратор Филби в Париже, латыш по фамилии Озолинь-Хаскинс, расточал своему подопечному похвалы: «Он работает с большой охотой [и] всегда знает, что может представлять для нас интерес. Он никогда не просит денег. Живет очень скромно». Кроме того, Филби не пренебрегал своей ролью вербовщика новых шпионов. Как-то раз во время пребывания в Лондоне он обедал с Флорой Соломон, управляющей магазином «Маркс и Спенсер», которая впоследствии и представила его Эйлин. Несмотря на унаследованное богатство и брак с генералом, ставшим биржевым маклером, Флора Соломон твердо придерживалась левых взглядов. По свидетельству одного офицера МИ-5, она «явно была в самой гуще событий в середине 1930-х годов, совмещая функции вдохновителя, соучастницы и курьера». Во время разговора Филби многозначительно сообщил, что «выполняет очень опасную работу на благо мира и нуждается в помощи. Могла бы она помочь ему с этой задачей? Было бы замечательно, если бы она присоединилась к борьбе». Он не уточнил, что предполагала его «важная деятельность на благо мира», но настаивал: «Тебе тоже следует этим заняться, Флора». Соломон, удивленная столь явным предложением взяться за секретную и опасную работу во имя коммунизма, отказалась от предложения Филби, но заверила его, что «он может всегда прийти к ней, если окажется в отчаянном положении». Она не забыла об этом странном разговоре.
Тем временем в Москве для агента Сонни разрабатывали еще более радикальный план. Его и раньше просили сообщать о мерах, принимаемых для безопасности генерала Франко. Теперь же московский Центр хотел знать, может ли Филби подобраться к каудильо достаточно близко, чтобы убить его и тем самым нанести сокрушительный удар националистам, которых поддерживали фашисты. Сотрудником, которому выпала незавидная задача довести эту идею до сведения Филби, был не кто иной, как Теодор Малли, знавший, что подобное поручение почти невыполнимо, а если и выполнимо, то равно самоубийству. Малли обсудил это предложение с Филби, но потом направил в Центр сообщение, в котором провозглашал затею недействительной, отлично понимая, что вызовет тем самым крайнее неудовольствие Москвы. «Даже если бы ему удалось подобраться к Франко поближе… он, несмотря на всю свою готовность, не смог бы выполнить то, чего от него ждут. При всей его преданности и готовности принести себя в жертву, он не обладает физической храбростью и другими необходимыми свойствами». От плана по-тихому отказались, но он стал еще одним признаком растущего в советских глазах статуса Филби: всего за четыре года он из только что завербованного агента превратился в потенциального убийцу. Газета «Таймс» тоже была под большим впечатлением от его работы. «Они очень довольны Кимом, у них о нем самое высокое мнение, — рассказывал Гаю Берджессу автор дневников Гарольд Николсон. — Ему очень быстро удалось сделать себе имя». Эта репутация стала еще более громкой, когда за день до своего двадцать шестого дня рождения, накануне нового 1937 года, Филби едва не был убит снарядом республиканцев (российского производства), пока освещал Теруэльскую операцию. Орден, полученный от самого Франко, убедил националистов в том, что Филби, как выразился один испанский офицер, «достойный малый».
Летом 1939-го, когда Франко одержал победу в Испании, Филби вернулся в Лондон и был тепло принят коллегами в «Таймс». А вот у советских друзей-шпионов он такого приема не встретил — по той простой причине, что все они умерли или исчезли, уничтоженные сталинским террором. В дикой, убийственной паранойе чисток всех, у кого были связи за рубежом, начинали подозревать в предательстве, и форпосты советской разведки оказались под особым подозрением. Теодора Малли одним из первых отозвали в Москву — из-за своего религиозного прошлого он быстро попал под подозрение: «Я знаю, что как у бывшего священника у меня нет шансов. Но я решил поехать туда, чтобы никто не мог сказать: видно, этот священник и вправду был шпионом». Теодора Малли пытали в подвалах Лубянки, главного управления НКВД, пока он в конце концов не признался, что был немецким шпионом, и тогда ему выстрелили в затылок.
Судьба Арнольда Дейча так и осталась невыясненной до конца. Как впоследствии утверждал Филби, Дейч умер, когда «Донбасс», танкер, на котором тот плыл в Америку, был торпедирован немецкой подводной лодкой, что сделало Арнольда жертвой гитлеровской, а не сталинской агрессии. Согласно отчетам КГБ, он погиб по дороге в Южную Америку, однако в еще одном отчете писали, что он направлялся в Нью-Йорк. Впрочем, не менее вероятной представляется и версия, что ясноглазый Отто, основатель-вербовщик «Кембриджской пятерки», разделил судьбу Малли. Еврейский интеллектуал, рожденный за границей и долгие годы живший за границей, он был подходящим кандидатом для чисток.
Задача по руководству кембриджскими шпионами перешла к некоему Григорию Графпену, но и его тоже арестовали и отправили в ГУЛАГ. Парижского куратора Филби Озолина-Хаскина расстреляли в Москве в 1940 году. Его преемник Борис Шапак продержался два года, а потом и его вызвали в Москву, чтобы убить. Несколько человек успели стать перебежчиками, но большинство склонились перед неизбежностью. Как признавался Малли: «Если они не убьют меня здесь, то убьют там. Лучше умереть здесь». Одного за другим кураторов Филби объявляли врагами народа. Ким знал, что они совсем не такие. Он ценил их «бесконечное терпение» и «глубокое понимание», их «тщательно продуманные советы, увещевания и поддержку». Но в дальнейшем он не выражал большого огорчения по поводу убийства этих «замечательных людей» и не особенно критиковал погубившую их тиранию. Значение имела только политика.
Однако политика к 1939 году становилась все более сложной. В августе министры иностранных дел Советского Союза и Германии подписали пакт о ненападении. Филби стал советским агентом, чтобы сражаться с фашизмом; теперь, по условиям пакта Молотова-Риббентропа, коммунизм и фашизм стали, по сути дела, союзниками. В первый и единственный раз в жизни Филби, видимо, испытал идейные колебания. «Что же будет теперь с единым фронтом борьбы против фашизма?» — спрашивал он своего нового советского куратора. В отношениях чувствовалось существенное охлаждение. Филби жаловался, что не получает политического инструктажа в необходимом объеме. Руководитель операции, сменивший прежнего, не знал Филби и, возможно, не доверял ему. На некоторое время контакты вовсе прекратились — по причинам, так и оставшимся неизвестными.
В тот же самый год глава МИ-5 любезно сообщил, что Советский Союз «не ведет никакой деятельности в Англии — ни разведывательной, ни подрывной». Он глубоко заблуждался, поскольку советская агентурная сеть в Британии не только была куда значительнее любых инициатив Германии, но и разрабатывала новую тактику и побуждала своих шпионов устраиваться на должности в самой британской разведке, где они получили бы доступ к наиважнейшим секретам. Энтони Блант вскоре вступил в ряды МИ-5. Берджесс добился того, чтобы его приняли в МИ-6, именовавшуюся на кодовом языке советских спецслужб Отелем, а потом и помог устроить туда Филби. «Советские друзья настоятельно рекомендовали мне в первую очередь сосредоточиться на британской секретной службе», — писал Филби. И он послушно начал прощупывать почву.
Охлаждение между Филби и его советскими кураторами продлилось недолго. Весной 1940 года «Таймс» отправила своего лучшего корреспондента во Францию, чтобы он присоединился к британским экспедиционным войскам в качестве аккредитованного военного корреспондента. Филби уже вызубрил сложные инструкции, как вступить в контакт с советской разведкой в Париже. Ему надлежало стоять возле бюро путешествий «Томас Кук и сын» на площади Мадлен, держа в руках экземпляр «Дейли мейл»; у советского связного тоже будет экземпляр этой газеты. Филби должен был спросить его: «Не подскажете, где-то здесь находится кафе „Анри“?» В ответ он услышит: «Возле площади Республики». Разыграв эту мини-драму, Филби передал собранную в ходе его репортерской деятельности информацию о военной мощи и оружии, а также о французских войсках за линией Мажино — информацию, представлявшую огромный интерес для Москвы, а еще больший — для Берлина. Но если у него и были сомнения по поводу нацистско-советского пакта, то, видимо, они испарились. Вернувшись в Лондон после отступления войск, он поспешил связаться с Маклином, чтобы сообщить, что привез «невероятно ценные материалы», которые хотел бы передать в «подходящие руки». Филби по-прежнему оставался преданным своему делу, его решимость ничто не поколебало, а его намеки на то, что он хочет вступить в секретную службу, уже начали приносить плоды, материализовавшись в образе Эстер Марсден-Смедли.
Таков был человек, с которым Эллиотт встретился и подружился в 1940 году, — человек двуличный, использовавший одно из своих лиц, чтобы скрыть другое. Ник Эллиотт любил Филби и восхищался им, аристократичным бонвиваном с кембриджским образованием; обаятельным, счастливым в браке, консервативным членом клуба; закаленным в бою военным корреспондентом, игравшим ключевую роль в увлекательном мире шпионажа. Эллиотт даже не догадывался о другом Филби — бывалом коммунистическом шпионе, и должно было пройти еще много лет, прежде чем он наконец его встретит.
Глава 4
Детка, детка, я шпион!
Сэр Стюарт Мензис, глава МИ-6, являл собой практически карикатуру на идеального шефа шпионов: аристократичный, коварный и загадочный. Некоторые считали его незаконнорожденным сыном Эдуарда VII, и слух этот, скорее всего беспочвенный, сэр Стюарт вовсе не спешил опровергать. Подобно всем шефам МИ-6, он был известен как Ш, и традиция эта началась с инициала первого шефа, (Мэнсфилда) Камминга[7]. Мензис состоял в клубе «Уайтс», охотился на лис, общался с членами королевской семьи, не пропустил ни одного дня в Аскоте, охотно предавался возлияниям и надежно хранил свои секреты за небольшими, но суровыми усами. Сэр Стюарт предпочитал женщин мужчинам, а лошадей — и тем и другим. Он был непробиваемо вежливым и столь же безжалостным: вражеским шпионам, лисам и конкурентам по службе не стоило ждать от него пощады. Николас Эллиотт благоговел перед Шефом, потому что, по его словам, у того было «подлинное понимание ценностей» — под этим подразумевалось, что Мензис, старый итонец и друг отца Эллиотта, разделял его представления о мире. Ким точно так же восхищался Мензисом на людях, но втайне считал его образцовым экземпляром правящей элиты, чья судьба была предрешена. «Его интеллектуальный арсенал не производил впечатления, — впоследствии писал Филби, — его знания о мире и взгляды на него были как раз такими, каких можно ожидать от питомца высших слоев британского истеблишмента, ведущего довольно-таки замкнутый образ жизни». Одним словом, Ш созрел для манипуляций.
Как это свойственно маленьким, закрытым, самовоспроизводящимся сообществам, МИ-6 разрывали междоусобные распри. Клода Дэнси, помощника шефа, Хью Тревор-Роупер характеризовал как «изрядного мерзавца, продажного, некомпетентного, но по-своему хитренького». Валентайн Вивьен, Ви-Ви, обеспечивший Филби безболезненное вхождение в мир секретных служб, был старомодным ветераном колониальных порядков, приверженцем формы и протокола, и постоянно жил в ощущении социального беспокойства, поскольку был всего лишь сыном портретиста. На малейшее пренебрежение — подлинное или мнимое — он реагировал яростно. «По правде сказать, Вивьен давно уже пережил пору своего расцвета, если она вообще была в его жизни, — колко заметил Филби. — Он был худой, с аккуратно завитыми волосами и влажными глазами». Дэнси ненавидел Вивьена, а Вивьен — Дэнси; босс Филби Феликс Каугилл враждовал с обоими и вызывал у них ответное презрение. Филби обхаживал всех троих, льстил им и презирал их, в то же время поддерживая отношения с другими подразделениями разведки, в особенности с МИ-5. Во-первых, именно в службе безопасности плоды его контрразведывательной деятельности были наиболее востребованы, во-вторых, что еще важнее, именно она отвечала за контршпионаж в Великобритании: окажись Филби под подозрением, МИ-5 сразу пошла бы по его следам. Таким образом, было важно завести друзей среди сотрудников этого ведомства. Самую тесную связь Филби удалось здесь наладить с руководителем контрразведки Гаем Лидделлом, утонченным виолончелистом-любителем и завсегдатаем шпионского салона Харриса. Вечно взъерошенный, непосредственный, Лидделл смахивал скорее на провинциального банкира, нежели на кукловода. «Он проборматывал свои мысли так, словно наощупь продирался к фактам той или иной операции, и на лице его появлялась уютная, невинная улыбка, — писал Филби. — Но за этим ленивым фасадом его тонкий и пытливый ум перебирал целую сокровищницу фотографических воспоминаний». Филби восхищался профессионализмом Лидделла и в то же время боялся его.
Секреты — валюта разведывательной деятельности, и некоторое хорошо просчитанное разглашение тайн в шпионской среде повышает обменный курс. Филби начал неофициально подбрасывать небольшие, но лакомые кусочки информации коллегам, и они отвечали ему тем же. По свидетельству самого Кима, «награда за подобное нарушение правил бывала подчас весьма щедрой». Поделившись секретом, можно было обзавестись другом, а дружба, или ее имитация, являла собой лучший способ выведать новые секреты. Филби стал заметным и популярным персонажем в коридорах как МИ-5, так и МИ-6, всегда готовым обменяться любезностями, сплетнями или конфиденциальными сведениями, всегда готовым пропустить после работы по стаканчику, да не по одному. Его советский кукловод удовлетворенно сообщал, что агент Сонни, возможно, «единственный в Отеле, у кого вообще нет врагов».
Мензис считал Филби и Эллиотта своими протеже, своими «золотыми мальчиками»: это новое поколение офицеров разведки далеко ушло от прежних полицейских с бакенбардами и ископаемых военных, преобладавших в довоенной МИ-6. Были они энергичными, целеустремленными и с хорошим образованием (но не интеллектуалами, коих Ш не жаловал). Они принадлежали к правильным клубам и говорили с правильным произношением. Вскоре стало очевидно, что Мензис готовит обоих к продвижению по службе, отвергая любые попытки увлечь их в другом направлении. Когда Форин-офис поинтересовался, можно ли откомандировать Кима на дипломатическую службу, Ш отверг этот запрос с язвительной припиской: «Вам не хуже моего известно, какую ценную работу Филби выполняет для меня… Филби играет столь важную роль в нашей деятельности для нужд фронта, что его нынешние коллеги вынуждены с сожалением отказаться его отпускать». Подобным же образом личный секретарь короля Томми Ласселс послал Гаю Лидделлу записку, где сообщалось, что Эллиотта рассматривают в качестве возможной кандидатуры на должность секретаря монарха, и спрашивал его мнения. Лидделл ответил, что познакомился с Эллиоттом «в сутолоке [тюрьмы] Скрабс», что он «приятный человек и Невил Блэнд о нем высоко отзывался». Из него получился бы отличный придворный. Мензис, чья мать была фрейлиной королевы Марии, убил в зародыше и эту затею. Он хотел, чтобы его мальчики оставались в ближнем кругу, а Филби и Эллиотт, пусть и по весьма несхожим причинам, были этому только рады.
Деятельность Пятого отдела, боровшегося с немецким шпионажем по всему миру, была увлекательной, сложной и зачастую повергала в отчаяние. «На каждую зацепку, дававшую результат, — писал Филби, — приходилась дюжина тех, что извилистыми тропами заводили нас в тупик». Эллиотт находил «чудовищный» объем канцелярской работы — неотъемлемую часть разведывательной деятельности — особенно утомительным и стремился перенять манеру Филби по части написания докладных записок, служившую «образцом лаконизма и ясности». Однако пускай офицерам Пятого отдела и приходилось жаловаться на долгие часы работы, зато они сформировали сплоченную группу, со своими собственными дружескими ритуалами и обычаями: воскресный ланч у Филби, крикет по выходным, коктейли в «Короле Гарри», время от времени обед в лондонском клубе, а иногда и уикенды в Итоне. «Я обладал преимуществом, ибо мог приглашать друзей гостить с ночевкой у моих родителей, у которых, по счастью, были старые слуги, помогавшие справиться с огромным домом», — писал Эллиотт.
Филби, похоже, вкалывал в два раза больше всех остальных, в чем не было ничего удивительного, поскольку работал он на двух господ или, точнее говоря, делал вид, что служит одному, а на самом деле приносил пользу другому. По мере того как укреплялось влияние Кима на британскую разведку, возрастало и его значение в глазах советских спецслужб. Московский Центр направил своему лондонскому резиденту сообщение, в котором описывал Сонни как «интересного и многообещающего агента» и приказывал активнее прибегать к его услугам. Филби отвечал преданным усердием. Во время ночной смены на Бродвее он тщательно изучал входящие телеграммы в поисках любой информации, представлявшей потенциальный интерес для НКВД; послания из Лондона в военное представительство в Москве считались «особо ценными». Филби описывал всех сотрудников Пятого отдела с язвительной точностью. Эллиотт был не единственным коллегой, которого могло бы шокировать тайное мнение о нем Филби: его боссу Феликсу Каугиллу «не хватало социальных навыков»; школьный товарищ Тим Милн был «подвержен инерции»; Тревор Уилсон, бывший собиратель скунсового помета, питал «излишнюю слабость [к] женщинам», а молодой Десмонд Бристоу являл собой «слабое звено… по причине незрелости и небольшого ума».
Каждый вечер Филби приносил домой «толстый портфель» и садился у себя в кабинете, старательно копируя документы, в то время как Эйлин готовила ужин и присматривала за детьми. Кстати, он докладывал и об Эйлин, словно комиссар, оценивающий идейные слабости ближайших родственников: «По своим политическим взглядам она социалистка, но, подобно большинству богатых представителей среднего класса, у нее почти неискоренимая склонность к определенной форме филистерства (мещанства), а именно: она верит в воспитание, в британский флот, в личную свободу, в демократию, в конституционную систему, в честь и прочее… Я уверен, что могу излечить ее от этих заблуждений, хотя, конечно, я еще не предпринимал таких попыток; надеюсь, революционная ситуация даст ей необходимую встряску и вызовет у нее нужный революционный отклик». Брак, семья, дружеские связи — все было подчинено требованиям революционной правоверности.
Филби выполнял все, о чем просили его советские кукловоды, хотя и находил это «сложной, изнуряющей, а подчас крайне заурядной работой, требовавшей невероятного терпения, силы воли и контроля». Кроме того, это сильно изматывало его нервную систему. По сообщениям куратора, Филби страдал от «приступов паники», что неудивительно, ведь он играл в невероятно рискованную игру. Если бы хоть один офицер советской разведки перешел на другую сторону и выдал его британским секретным службам, он был бы обречен. И это едва не произошло.
В 1937 году офицер советской разведки по имени Вальтер Кривицкий бежал на Запад, прихватив с собой в качестве приданого разведывательную информацию самого высокого уровня, включая данные о семидесяти сотрудниках советской разведки, работающих за рубежом. Побег Кривицкого привел к аресту и судебному преследованию Джона Кинга, бывшего инструктора Эллиотта по шифровке. Однако большая часть информации была противоречивой и фрагментарной. В 1940-м Кривицого опрашивала офицер МИ-5 Джейн Арчер — дело происходило в отеле «Сент-Эрмин», где в свое время Филби завербовали в МИ-6. Беседа началась не лучшим образом: Кривицкому (известному под кодовым именем Мистер Томас) предложили к чаю таблетку сахарина (сахар приходилось строго дозировать). Кривицкий тут же решил, что таблетка отравлена и что британские секретные службы решили его убить, пусть и весьма очевидным и вежливым способом. Как только этот неловкий момент миновал, Кривицкий заговорил начистоту и выдал невероятно ценную информацию: во время гражданской войны в Испании советская разведка отправила туда агента, чтобы убить генерала Франко. Кривицкий не располагал именем или какими-то другими деталями, но описывал человека, который должен был стать убийцей, как «молодого англичанина, журналиста из хорошей семьи, идеалиста и фанатичного антифашиста». МИ-5 инициировала расследование, но поскольку в 1930-е годы в Испании находилось несколько журналистов из хороших семей, дознание быстро сошло на нет. Никому и в голову не пришло увязать этот намек с фигурой Филби. Об этой истории годами судачили в британской разведке, но серьезное значение она приобрела лишь много лет спустя.
Филби надрывался, служа советской идее, рискуя жизнью и готовясь докладывать обо всем, что интересовало Москву, включая собственного отца, жену и лучшего друга. Но Москва все еще была недовольна. Кембриджские шпионы — Гай Берджесс в МИ-6, Дональд Маклин в Форин-офисе, Энтони Блант в МИ-5, Джон Кернкросс в Блетчли-парке и Ким Филби в Пятом отделе — выдавали разведданные высочайшего уровня. Однако их продуктивность стала причиной парадоксальной ситуации. В пронизанном тотальным недоверием мире советского шпионажа качество, количество и систематичность этой информации вызывали подозрение. В Москве стали укореняться опасения, что посредством Филби и его друзей британская разведка, возможно, затевает сложную многоуровневую операцию, чтобы обмануть Москву; должно быть, все они — двойные агенты. Более того, история Филби не отвечала укрепившимся советским представлениям: МИ-6 считалась неуязвимой, однако Филби вошел туда почти прогулочным шагом; в университете он был леваком, однако проверка его прошлого — как предполагалось, тщательная — ничего этого не выявила; его попросили отыскать свидетельства того, что его отец был шпионом, но он не сумел этого сделать.
Может, Филби внедрен британской разведкой? Может, он пытался защитить своего отца? Может, он вообще враг народа, маскирующийся под друга? Чтобы это выяснить, решили устроить проверку. С информацией, предоставляемой Филби, был полный порядок, но Москву интересовали главным образом личности шпионов в Советском Союзе: кого МИ-6 завербовала в СССР, как их звали и какие советские секреты они раскрыли? Если Филби выдаст этих шпионов, значит, он предан Советскому Союзу и на него можно полагаться; если нет, тогда Москва сделает соответствующие выводы. Филби вежливо указал на то, что его задача в МИ-6 — ловить вражеских шпионов, а не курировать собственных агентов, что входит в обязанности другого отдела, находящегося в совершенно другом месте. Но Москва была неумолима: «Мы сказали ему, что он должен завладеть этими документами, используя любые убедительные и разумные предлоги». Как на собственном опыте узнал бывший куратор Филби Теодор Малли, отказ сделать что-либо, потому что это невозможно, согласно извращенной логике сталинизма рассматривался как знак измены. Ким послушно принялся за выполнение задания.
Главная канцелярия — память и справочная библиотека МИ-6 — размещалась в районе Прэ-Вуд в Сент-Олбансе, по соседству с главным управлением Пятого отдела. В размещенных здесь указателях были объединены личные дела всех нынешних секретных британских агентов и каждого агента, шпионившего на Великобританию с момента создания МИ-6 в 1909 году, включая имена, кодовые имена, прозвища, характеристики, качество работы и оплату, самый настоящий перечень шпионов по всему миру. Заведовал всей этой невероятно важной и опасной сокровищницей секретов капитан Уильям Вудфилд, главный регистратор, бывший полицейский с багровым лицом, чья страсть к возлияниям была чрезмерной даже по меркам МИ-6. В отчете для советского куратора Филби описал Вудфилда в своей обычной сжатой манере: «Около 58 лет, пять футов шесть дюймов, худощавого телосложения, темные волосы, лысая макушка, носит очки, длинное узкое лицо, раньше в течение нескольких лет был приписан к специальному отделу». Вудфилд любил похабные шутки и «розовый джин»: Филби специально разыскивал его в «Короле Гарри», чтобы щедро обеспечить и тем и другим. Вскоре они стали задушевными приятелями-собутыльниками, и когда Филби попросил разрешения посмотреть указатели, связанные с Испанией и Португалией, Вудфилд без единого вопроса позволил ему их вынести. Пиренейский полуостров — сфера деятельности Филби, следовательно, у него были все причины интересоваться агентами МИ-6 в этом регионе. Следом Филби запросил указатели, связанные с Советским Союзом. И у Вудфилда снова не возникло возражений — он даже не задумался, почему его симпатичный соратник по хмельному делу интересуется областями, столь далекими от отведенного ему участка.
Филби, как водится, отправил отчет в Москву. В этом документе британские шпионы в Советском Союзе были описаны с типичной для него прямотой: «Их нет». По сообщению Филби, шеф московского подразделения МИ-6 не завербовал в Советском Союзе ни одного сколько-нибудь значимого шпиона; на его удочку попались лишь несколько незначительных информаторов, главным образом поляков. Более того, СССР был всего лишь «десятым в списке стран, куда собирались посылать агентов». Согласно документам, в Советской России не было ни британской агентурной сети, ни шпионской кампании МИ-6, «ни каких-либо советских граждан, работавших секретными агентами в Москве или где-либо еще на советской территории». Доклад Филби восприняли с изумлением; вследствие паранойи в сочетании с раздутым чувством собственной важности в Москве разозлились и не поверили. Советский Союз был мировой державой, а МИ-6 — наиболее грозной разведывательной организацией в мире; соответственно, были все основания полагать, что Великобритания, несомненно, шпионит за СССР. Если Филби утверждал иное, он, несомненно, лгал. Сама идея, что Великобритания теоретически могла отвести могучему советскому государству десятое место в своем списке стран-мишеней для шпионажа, была «явной нелепостью» (и, по правде говоря, весьма обидной). Разгневанный офицер советской разведки взял красную ручку и нацарапал два больших и сердитых восклицательных знака через весь текст доклада. Утверждение Филби представлялось им «крайне подозрительным»; его неспособность оправдать ожидания «вызывала сомнения»; в связи с этим его снова надлежало подвергнуть «проверке и перепроверке». По правде сказать, британская разведка все больше сосредотачивала свое внимание на угрозе нацизма, и с тех пор, как Москва стала союзником, Форин-офис наложил строгие ограничения на ведение секретной деятельности в Советском Союзе. Но когда Энтони Блант подтвердил, что у МИ-6 не было тайных агентов в СССР, он и сам попал под подозрение: должно быть, Филби и Блант в сговоре. Так сложилась причудливая ситуация: Ким говорил Москве правду, а ему не верили, поскольку правда эта противоречила ожиданиям Москвы.
Успешное несанкционированное проникновение Филби в советские документы было одновременно замечательным шпионским деянием и потерей времени: мало того что оно только усилило подозрения Москвы, но и едва не положило конец карьере Филби. Как-то раз поутру Билл Вудфилд, обладатель багрового лица, послал Филби вежливую записку с просьбой вернуть указатели к советским документам; Филби ответил, что уже сделал это. Вудфилд, неряшливый пьяница, но крайне аккуратный библиограф, заметил, что на полке стоит только один указатель и в журнале записей возвращение второго тома никак не зафиксировано. Филби продолжал настаивать на том, что книги возвращены в хранилище, но все же перевернул свой кабинет «вверх дном» в напрасных поисках пропавшего тома. Он встретился с Вудфилдом в «Короле Гарри», «чтобы обсудить загадочную пропажу, пропустив по нескольку коктейлей „розовый джин“», и, к своему ужасу, выяснил, что по законам регистрации необходимо проинформировать Ш об отсутствующих документах. Это было в пятницу. Вудфилд сказал, что отправит докладную записку в понедельник. «Не о чем волноваться, — заверил Билл. — Чисто формальная бумажка». Так Филби оказался в большой опасности. Мензис может понять — и даже одобрить — его интерес к агентам МИ-6 в Испании и Португалии, но у него, безусловно, возникнет вопрос: что, черт возьми, его протеже может делать с материалами по Советскому Союзу, то есть по теме «далеко за пределами обычного круга [его] обязанностей»? В лучшем случае Филби предстояло непростое объяснение; в худшем — ему крышка.
После выходных, заполненных медленно кипящей паникой, наступил понедельник, а вместе с ним — в последнюю минуту — и отсрочка. Секретарша Вудфилда, на несколько дней слегшая с гриппом, вышла на работу и все объяснила: ей пришло в голову объединить два указателя в один том, чтобы материалы занимали меньше места на полке. Филби и вправду вернул документы. Вудфилд обрушил на Кима бурный поток извинений за неловкую путаницу, в очередной раз восседая над «рекой „розового джина“». Если бы секретарша Вудфилда болела чуть серьезнее и дольше, а ее начальник не нализался так сильно, история Филби могла бы на том и закончиться. Но удача сопутствовала ему: он увернулся от республиканского снаряда в Испании, увильнул от зацепки, подброшенной перебежчиком Кривицким, и едва избежал разоблачения, порывшись в советских документах. «Удача играла в моей жизни огромную роль, — впоследствии признавался он. — Но главное — знать, как ее использовать».
Николас Эллиотт начинал терять терпение. Жизнь в Сент-Олбансе оказалась довольно приятной, но «уединенной». Проведение контрразведывательных операций в оккупированной Голландии требовало написания гигантского количества служебных записок, приводившего к весьма посредственным результатам, и совершенно не предполагало действия. Мир разведки, согласно выводам Эллиотта, делился на «тех, кто сидит за столом у себя в стране, анализируя и оценивая информацию по мере поступления, и тех, кто отправляется в известные и малоизвестные места, чтобы эту информацию раздобыть». Филби принадлежал к первым — одаренный аналитик, умеющий сопоставлять факты, а вот Эллиотт скорее тяготел к последним, и ему «не терпелось оказаться в следующем театре военных действий». Он мечтал о дальних странствиях, отчасти в пику решительному недоверию отца к «загранице». («Будь проклят любой иностранец, если он не занимается скалолазанием, — провозглашал Клод, — а немцы прокляты, даже если занимаются»). Эллиотту остро не хватало риска. С помощью Филби он начал добиваться более активной — и желательно более опасной — роли на своем поприще. Весной 1942 года его вызвали в кабинет Каугилла и оповестили о том, что вскоре он должен отправиться в Каир, а оттуда в Стамбул в качестве представителя Пятого отдела в Турции. На двадцатишестилетнего Николаса Эллиотта возлагалось руководство контрразведывательными операциями в настоящей оранжерее шпионажа, поскольку Турция сохраняла нейтралитет и, подобно Испании и Португалии, служила полем яростной секретной войны. «Я был в восторге», — писал Эллиотт. Филби устроил в его честь прощальный вечер. На следующий день, 11 мая 1942 года, лейтенант флота Эллиотт несколько неуверенно поднялся по трапу пятитысячетонного грузопассажирского судна в ливерпульских доках, входившего в конвой из сорока кораблей, который следовал в Африку.
Трехнедельный путь в Лагос Эллиотт провел, играя в бридж с офицером ВСО, «посланным в Анголу, чтобы затеять там бучу», дожидаясь своей очереди приручать старинное японское корабельное орудие, установленное на корме, и, конечно, то и дело заглядывая в «хорошо укомплектованный бар». Хотя по своим питейным способностям Эллиотт никогда не мог сравняться с Филби, выпивал он с большим удовольствием, несмотря на диабет, с которым боролся, попросту не употребляя сахара. Большинство его коллег даже не подозревали, что он диабетик; проявляя характерное для него безрассудство, Эллиотт не желал поступаться развлечениями ради здоровья. Когда судно вошло в порт Фритауна, на причале Эллиотта приветствовал Грэм Грин — на тот момент не особо довольный жизнью представитель МИ-6 в Сьерра-Леоне, подходящем месте, чтобы собирать материалы для прозы, но полном захолустье с точки зрения разведки. Едва бросив на Эллиотта взгляд, Грин провозгласил его «самым невзрачным армейским офицером, которого когда-либо видел». За выпивкой Грин объяснил, что считает главным поводом для беспокойства «нехватку противозачаточных средств в Сьерра-Леоне», и Эллиотт «сумел частично разрешить эту проблему благодаря щедрости некоторых наших пассажиров». Николас решил, что они предназначались для личных нужд Грина; на самом же деле будущий романист устроил «передвижной бордель», чтобы вытягивать секреты из «двух одиноких немцев, заподозренных в шпионаже за британским судоходством», и работницы заведения требовали защиты от венерических заболеваний.
В Лагосе Эллиотт пересел на транспортный самолет «Дакота» и пять дней спустя достиг Каира, галопом проскакав по Африке через Кано, Форт-Лами, Эль-Фашер и Хартум. После того как Эллиотт доложил о своем прибытии руководству, ему сообщили, что в качестве первого задания он должен отвезти целый грузовик секретных материалов в Иерусалим на безопасное хранение, а потом отправиться в Бейрут. Затем ему предстояло сесть на легендарный экспресс «Тавры», идущий в Турцию.
Старый поезд медленно поднимался на Таврские горы, потом тихонько семенил по Анатолийскому плато в Анкару, а оттуда в Стамбул, никогда не превышая скорости тридцать миль в час и постоянно останавливаясь без видимых причин. Еда в вагоне-ресторане была отменной, и Эллиотт счел путешествие «восхитительным», а еще более приятным его сделало общество новой секретарши, молодой англичанки по имени Элизабет Холбертон.
Мисс Холбертон произвела на Эллиотта большое впечатление. В начале войны она побывала в моторизованных частях и водила джипы в пустыне, а потом стала секретарем в ставке верховного командования в Каире. Ревностная католичка с аристократическими манерами, она обладала острым умом, находчивостью и какой-то сдержанной красотой. Отец Элизабет в свое время руководил Бомбейско-Бирманской торговой корпорацией, а мать происходила из ирландской семьи потомственных судей. Молодые люди отлично поладили. Когда запасы воды в поезде иссякли, кондуктор принес Элизабет бутылку турецкого куантро, предложив почистить им зубы. Девушка назвала такой опыт освежающим. Эллиотту это понравилось.
Дипломатической столицей Турции была Анкара, но посольства главных держав находились в Стамбуле, на перекрестке между Европой и Азией; именно здесь осуществлялся серьезный шпионаж. Послом Великобритании в Турции служил сэр Хью Монтгомери Нэтчбулл-Хьюджессен, дипломат старой закалки. Большую часть времени он проводил на посольской яхте и был (видимо, неизбежность!) старым другом отца Эллиотта по Итону. По отношению к действиям британской разведки в Турции Хьюджессен занимал позицию «страдальческого терпения». Формально имея младший дипломатический ранг, Эллиотт вступил в быстро разраставшуюся многоуровневую разведгруппу под общим командованием подполковника Гарольда Гибсона, ветерана МИ-6, обладавшего «большими способностями и энергией». Гибби осуществлял надзор за обширной системой сбора информации и курирования агентов, распространявшейся из Турции в Румынию, Болгарию, Грецию, Югославию и Венгрию. В задачи Эллиотта как представителя Пятого отдела входило саботировать операции вражеской разведки — главным образом те, что проводились абвером. Гибсон позволял Эллиотту разыскивать и атаковать вражеских шпионов в Турции по своему усмотрению, а их здесь было немало.
Стамбул, по словам официального историка МИ-6, был «одним из главных шпионских центров военнного времени». Город находился всего в сорока милях от оккупированной нацистами Болгарии; для Германии это был выход Ближний Восток, а для союзников — точка доступа к оккупированной Европе. Турки боялись Германии, не доверяли Советскому Союзу и не питали особых симпатий ни к британцам, ни к американцам. Но власти соглашались терпеть шпионаж иностранных держав при условии, что это не нарушало суверенитета Турции, а шпионы не попадались. К 1942 году примерно семнадцать разных разведок сошлись в Стамбуле, чтобы внедряться и смешиваться, подкупать, искушать и предавать, а с ними прибыла большая и пестрая толпа агентов и двойных агентов, контрабандистов, шантажистов, торговцев оружием, наркодельцов, беженцев, дезертиров, спекулянтов, сутенеров, фальшивомонетчиков, проституток и аферистов. Слухи и тайны — некоторые из них правдивые — вились вокруг баров и темных переулков. Одни шпионили за другими; турецкая тайная полиция «Эмниет» шпионила за всеми подряд. Некоторые сотрудники турецких ведомств были готовы делиться сведениями за хорошее вознаграждение, но то и дело, если шпионаж становился слишком наглым или предложенная компенсация казалась недостаточной, «Эмниет» проводила аресты. Шпионская война была напряженной и до странности персональной. Глава абвера был шапочно знаком со своими противниками из числа МИ-6 и советской разведки. «Все имели неплохое представление о своих врагах», — писал Эллиотт. Стоило тому или другому начальнику разведки войти в танцевальный зал «Парк-отеля», как оркестр бросался играть песню «Детка, детка, я шпион!»:
- Я в опасную втянут игру,
- Меняю имя свое каждый день поутру,
- Другое лицо, но телом так же силен,
- Детка, детка, я шпион!
- Ты, верно, слыхала о Мате Хари?
- С ней мы играли на гитаре,
- Папаша застал нас, подвергнул каре.
- Детка, детка, я шпион!
- И сейчас как мужик я совсем не сник —
- Такого самца еще поискать!
- Но, слушай, малышка, болтай не слишком,
- Мы лучше тайно ляжем в кровать.
- Я — воплощенная отвага,
- Тебя потрясет моя бурная сага.
- Под коротким плащом огромная шпага.
- Детка, детка, я шпион!
И эта шпага, торчащая из-под плаща, была невероятно острой. Всего за два месяца до прибытия Эллиотта македонский студент попытался убить немецкого посла Франца фон Папена, но бомба взорвалась преждевременно, уничтожив самого убийцу и только ранив немецкого дипломата. Москва винила гестапо; немцы обвиняли союзников; фон Папен подозревал британцев. Скорее всего, это была затея НКВД. Годом раньше чемодан с бомбой, оставленный в вестибюле отеля «Пера Палас», убил сотрудника британского консульства и тяжело ранил вице-консула Чантри Пейджа. Шпионаж в Стамбуле, по замечанию шефа тамошнего отделения разведки Гарольда Гибсона, осуществлялся «отнюдь не деликатными методами».
Порочное великолепие Стамбула увлекло Эллиотта мгновенно. Он разместился в кабинете посольства, «сверху донизу набитом агентами разведки, занятыми разными видами надувательства» — а рядом был сад, как ни странно, заполненный совокупляющимися черепахами, — и с головой окунулся в шпионскую борьбу. В первый же вечер его подкараулил майор Бернард О’Лири, невероятный полиглот, бывший офицер кавалерии, «баснословно эрудированный, но неисправимый лентяй», отвечавший за связи с турецкой разведкой. О’Лири объявил, что они отправляются в заведение «Таксим», шпионский центр Стамбула, нечто среднее между рестораном, ночным клубом, кабаре и казино. «В число его клиентов, — писал Эллиотт, — входили представители как гитлеровской коалиции, так и союзнических держав, большей частью занятые шпионской деятельностью». Заправлял «Таксимом» очаровательный белоэмигрант, принимавший взятки от всех и при этом ко всем одинаково относившийся. Он старался сажать шпионов-противников за соседние столики, чтобы можно было подслушивать. Официантками, по слухам, служили бывшие русские аристократки. В «Таксиме» все было не тем, чем казалось. Одним вечером Эллиотт наслаждался танцем живота в исполнении сногсшибательной женщины «с белоснежной кожей и волосами цвета воронова крыла», как вдруг она упала со сцены, подвернула лодыжку и громко выругалась с густым йоркширским акцентом: как выяснилось, дама приехала из Брэдфорда. Иногда вместо «Таксима» Эллиотт захаживал в бар «У Элли», любимое злачное место британских военных, где подавали «свирепый сухой мартини, сравнимый по эффекту с ударом лошадиного копыта». Пышная блондинка Элли, вроде как румынка по национальности, «говорила на прекрасном английском языке и якобы боялась и ненавидела немцев». На самом же деле, как выяснил Эллиотт, она была немецкой шпионкой, нанятой абвером, чтобы поить британских офицеров допьяна в надежде, что они начнут выбалтывать ценную информацию.
Эллиотт принялся заводить знакомства, которые заставили бы его отца содрогнуться. Впоследствии он писал, что «способность дружить — особенно важная характеристика» для офицера разведки. «Большая часть разведывательной деятельности полевого агента в том и заключается: завязывать личные отношения, завоевывать доверие, а в некоторых случаях — толкать людей на опрометчивые поступки». Он подружился с русским метрдотелем из «Таксима» и официантами в баре «У Элли»; он выпивал с бывшим офицером царской гвардии по имени Роман Судаков, внедренным в советскую разведку и согласившимся работать на МИ-6; он свел знакомство со швейцарами в посольствах, консульскими сотрудниками и клерками на телеграфе. Он установил контакты с представителями прессы, рыбаком Ларсом — тот ходил через Босфор, будучи отчасти контрабандистом и собирая информацию, чтобы иметь доход помимо улова. Особенно Эллиотт старался подружиться с проводниками спальных вагонов экспресса «Тавры», весьма востребованными в качестве курьеров для разведывательных организаций, поскольку железная дорога была единственным надежным путем из Турции на Ближний Восток. Проводники докладывали, кто куда путешествует, пересказывали сплетни, незаконно провозили важные бумаги и даже, за дополнительное вознаграждение, воровали проездные документы. Украденные документы продавались за весьма солидные суммы — опять-таки самым разным клиентам: «Один особенно примечательный человек в какой-то период работал одновременно на абвер и на СД[8] (причем ни одна из контор об этом даже не подозревала), на итальянцев, японцев, а еще и на британцев».
На другом полюсе стамбульского общества Эллиотт вращался среди высокопоставленных чиновников, военных чинов, дипломатов и высшего духовенства. Папский легат, монсеньор Анджело Джузеппе Ронкалли, впоследствии ставший папой Иоанном XXIII, оказался кладезем ценной информации и ярым антифашистом. Как многие в Стамбуле военного времени, Ронкалли вел двойную игру, обедая с фон Папеном и исповедуя его супругу, а при этом используя свое положение, чтобы вывозить из оккупированной Европы еврейских беженцев. Через несколько месяцев после того, как они стали друзьями, Эллиотт обнаружил, что помощник Ронкалли, некий монсеньор Ричи, «пренеприятный маленький человечек», — шпион, «использующий секретную радиоустановку в интересах итальянской военной разведки». Эллиотт дал наводку турецкой тайной полиции, и Ричи арестовали. Когда Николас в некотором смущении сообщил Ронкалли, что его помощник, скорее всего, проведет значительный промежуток времени, орудуя кайлом на каменоломне в анатолийской исправительной колонии, будущий папа только плечами пожал, но у Эллиотта возникло твердое впечатление, что тот «не слишком раздосадован».
Прожив в Стамбуле всего несколько месяцев, Эллиотт пришел к выводу, что там «на душу населения приходится больше людей, вовлеченных в разные формы мошенничества, чем в любом другом городе мира». И он уже установил личности значительной части этой публики: офицеры немецкой разведки, итальянские агенты, польские, чешские и югославские осведомители, независимые французские и еврейские агенты, а также офицеры НКВД и ГРУ (советской военной разведки). «Все они находились под пристальным наблюдением турок, у которых были собственные информаторы».
К энергичной контрразведывательной деятельности Эллиотта в Лондоне относились одобрительно. Сэр Стюарт Мензис всегда отличался, по словам Филби, «мальчишеским» отношением к контршпионажу: «Бары, бороды и блондинки». Эллиотт сполна приобщился ко всем трем компонентам, и его акции повысились еще больше, когда один из информаторов на экспрессе «Тавры» передал ему бомбу, сообщив, что взрывное устройство он получил от японского военного атташе, полковника Татеиши, с инструкциями взорвать его на линии между Алеппо и Триполи. Эллиотт осмотрительно передал пакет в стамбульский отдел по борьбе с подрывной деятельностью и выплатил своему информатору солидную премию; информатор, в свою очередь, сообщил полковнику Татеиши, что бомба не взорвалась, и потребовал премиальных и с него. Все остались довольны.
Эллиотт наслаждался своим новым назначением. Даже отвратительный вирус ящура, который он подцепил во время путешествий, не мог притупить его счастья. А еще он переживал влюбленность. Элизабет Холбертон оказалась не только отменной секретаршей. Ее католицизм и его глубинное неприятие любой религии отнюдь не мешали расцветающему пышным цветом роману. Они были неразлучны и в огромных количествах поглощали египетское бордо — Эллиотт провозгласил его «худшим из красных вин, какие ему доводилось пить». Застенчивый, несмотря на всю свою общительность, Эллиотт несколько месяцев собирался с духом, чтобы признаться в своих чувствах. Коктейль, специально приготовленный для шпионов, сделал свое дело: «После трех вулканических мартини от Элли мы решили пожениться». Браки между сотрудниками и их секретаршами были вполне в традициях МИ-6, где атмосфера секретности порождала особого рода интимность. Даже у Ш была длительная связь с секретаршей.
Эллиотт быстро написал сэру Эдгару Холбертону письмо, в котором сообщал, что собирается жениться на его дочери и «надеется, что тот ничего не имеет против». Даже если бы сэр Эдгар и был против, это не имело бы никакого значения, поскольку у Эллиотта и в мыслях не было дожидаться ответа. Роман Судаков, его шафер, устроил мальчишник в «Парк-отеле» — мероприятие выглядело тем более многообещающим, что за соседним столиком сидели фон Папен, немецкий посол, и его военный атташе. После церемонии венчания, состоявшейся десятого апреля 1943 года и проведенной монсеньором Ронкалли в личной часовне папского легата, молодожены переехали в квартиру с видом на Золотой Рог, где компанию им составил маленький русский повар по имени Ярослав; он гнал самогон в ванной и начал обучать Эллиотта говорить по-русски.
Филби успехи Эллиотта, укрепление его репутации и новости о его женитьбе несказанно радовали. Николас Эллиотт был восходящей звездой в конторе и дорогим другом, а никто так не ценил дружбу, как Ким Филби.
Глава 5
Три молодых шпиона
Жизнь Филби в английском пригороде казалась унылой в сравнении с яркими впечатлениями Эллиотта на передовой шпионской борьбы. Сент-Олбанс находился очень далеко от Стамбула. По мнению Филби, он находился слишком далеко от чего бы то ни было, включая Лондон, где принимались важные решения в сфере разведывательной деятельности и можно было обнаружить наиболее ценные секреты. В начале 1943 года Феликс Каугилл объявил, что Пятый отдел переезжает в новое помещение на Райдер-стрит, в самом сердце Сент-Джеймса. Филби воодушевился, поскольку его новый кабинет располагался всего «в двух минутах от МИ-5 и в пятнадцати от Бродвея», главного управления МИ-6. Теперь он окажется ближе к своему клубу, к полным сплетен вечерам у Томми Харриса, да и к своим советским кукловодам тоже. Новое местоположение было идеальным еще и потому, что оттуда можно было установить контакт и завязать дружбу (с прицелом на последующие манипуляции) с новой важной участницей битвы разведок военного времени.
Нападение на Перл-Харбор буквально вбросило Америку в войну и фактически породило Управление стратегических служб, новую и хорошо финансируемую разведывательную контору под руководством общительного, амбициозного адвоката Уильяма Донована, он же Дикий Билл. Впоследствии УСС превратится в ЦРУ, самую могущественную разведку в мире, но в 1942 году Америка еще была новичком в деле разведки военного времени: ресурсов и энергии хоть отбавляй, а вот профессиональных знаний не хватало. Первые сотрудники УСС, жаждущие знаний, начали прибывать в Лондон в 1942 году, и размещали их в кабинетах на Райдер-стрит. Малькольм Маггеридж сравнивал их с невинными юными девушками, которым предстояло лишиться девственности в «старом затхлом разведборделе» под названием МИ-6. Филби был разочарован первыми американскими гостями, «откровенно растерянной группой». Даже их руководитель Норман Холмс Пирсон, ученый из Йеля, нещадно ругал собственную команду, характеризуя ее как «кучку бестолковых дилетантов». Тем не менее новички проявляли пугающее усердие, которое матерые ветераны МИ-6 находили довольно забавным. «Они буквально через слово напоминали нам, что приехали учиться», — писал Филби. Как уважаемому сотруднику разведки с трехлетним стажем ему предстояло стать одним из их самых авторитетных наставников и рассказывать американцам о работе контрразведывательного отдела МИ-6, структуре британских секретных служб и процедурах дешифровки в Блетчли-парке. Филби пренебрежительно отнесся к этим чересчур увлеченным американцам, сочтя их «головной болью», но один из них явно выделялся среди товарищей: высокий, сосредоточенный, болезненно худой молодой человек, писавший поэзию, выращивавший тропические растения и изучавший мельчайшие подробности ремесла с самоотверженностью истинно одержимого человека. Звали его Джеймс Хесус Энглтон, и ему предстояло со временем вырасти в одну из самых могущественных и неоднозначных фигур шпионажа в истории. Энглтон был плодом романтического и неожиданного брака Хью Энглтона, солдата, занявшегося торговлей кассовыми аппаратами, и Кармен Мерседес Морено, необразованной, но пылкой и невероятно красивой женщины из Ногалеса, штат Аризона, в которой смешалась кровь мексиканцев и апачей. Познакомились они в 1916 году, когда Хью Энглтон служил кавалерийским офицером под командованием генерала Першинга во время военной кампании против мексиканского повстанца Панчо Вильи. Джеймс Энглтон родился в Бойсе, штат Айдахо, и получил второе имя Хесус от матери-католички — он ненавидел его, но оно вполне соответствовало его аскетичному и до странности одухотворенному виду. Мальчику было четырнадцать, когда его отец переехал в Италию, чтобы руководить, а потом и владеть миланским филиалом NCR (национальной компании по производству кассовых аппаратов). Молодого Энглтона послали учиться в Англию, сперва в частную среднюю школу в Бакингемшире, а потом в Малверн-колледж, британскую частную школу, хранившую верность викторианским традициям. Энглтон стал бойскаутом, старостой, вступил в корпус подготовки офицерского состава. По словам Энглтона, для него это были «годы становления»: из Малверна он вынес изысканные манеры, склонность играть по правилам, налет эксцентричности и легкий британский акцент, который так и остался у него навсегда. Мальчик из Айдахо стал «большим англичанином, чем сами англичане», и эту маску он носил — так же как и костюмы с Сэвил-роу — до конца жизни. В 1937 году он поступил в Йельский университет, чтобы изучать английскую литературу, но большую часть времени проводил, слушая джаз, ухлестывая за девушками и занимаясь изданием литературного журнала «Фуриозо», где печатались такие заметные поэты, как Эзра Паунд и Э. Э. Каммингс, дружбу с которыми он водил. Страдавший бессонницей полуночник, Энглтон приобрел репутацию ярого антикоммуниста и эстета; он сочинял романтические стихи, по большей части отвратительные, и получил прозвище Поэт. Товарищи по учебе считали его загадочным — «таинственной личностью с мрачной и таинственной внешностью». Вскоре после Перл-Харбора он добровольно пошел в американскую армию и через своего бывшего профессора английской литературы Норманна Пирсона получил работу в Лондоне в только что созданном УСС. Прежде чем отправиться в Англию, он женился на двадцатиоднолетней наследнице богатого лесопромышленника из Миннесоты. Поступок этот выглядел немного странно, но Джим Энглтон часто поступал неожиданно. «Какое чудо сложности великой — Поэт», — писал Каммингс общему другу.
Энглтона прикрепили к X-2, отделу контрразведки УСС, точному аналогу Пятого отдела МИ-6. Со временем Х-2 расширился и занял весь третий этаж здания на Райдер-стрит, а Пятый отдел расположился этажом выше. Филби призвали читать новичкам лекции по «прикладному искусству» контршпионажа, внедрению во вражеские разведывательные организации и руководству двойными агентами. Как заметил один американский офицер: «Я помню, что он произвел на меня большое впечатление. Он действительно знал, что делает».
Филби привязался к двадцатичетырехлетнему американцу и впоследствии написал: Энглтон «завоевал мое уважение, открыто отвергая англоманию» очень и очень многих вновь прибывших американцев. А Энглтону и не требовалось становиться англофилом, ведь во многих аспектах он и так уже был вполне англичанином. Сейчас трудно определить степень дружбы между Кимом и Джеймсом, поскольку впоследствии сторонники Энглтона старались ее преуменьшить, а враги, напротив, преувеличить. По свидетельству биографа Энглтона, «возможно, Филби чувствовал, что у них с Энглтоном отношения наставника и ученика; возможно, Энглтон разделял это чувство». Ким был покровителем и экспертом, а Джеймс — протеже и молодым дарованием. «Филби стал одним из учителей Энглтона, его главным наставником в сфере контрразведки; Энглтон смотрел на него снизу вверх как на старшего брата». Киму нравилось иметь почитателей, и, возможно, Джеймс заполнил пустоту, оставшуюся после отъезда Николаса Эллиотта. Новички и ветераны знакомились за выпивкой — в ней, само собой, недостатка не было. «Наши европейские друзья потребляли алкоголь в невероятных количествах, при этом словно бы и не пьянея», — вспоминал офицер УСС. Энглтон мог пить с упорством, достойным самого Филби, но он вообще все делал с невероятной отдачей, чем производил на окружающих сильное, но немного странное впечатление. В свой кабинет на Райдер-стрит он принес раскладушку и, по-видимому, большую часть ночи проводил, изучая эзотерические тайны контршпионажа с таким благоговейным усердием, «словно они заключали в себе таинство святой Троицы». Он общался с писателями и поэтами, в том числе с Уильямом Эмпсоном и Т. С. Элиотом, время от времени вставляя в свои отчеты стихотворения. Эмпсон отмечал его «неуемную страсть к упорядочиванию». Коллеги по УСС находили его «поистине блистательным, но чудаковатым… полным невероятных, колоссальных идей». В чем-то Энглтон был сродни редкостной орхидее, какие он стал впоследствии выращивать все с той же самоотдачей: экзотический гибрид, мексикано-апачский поэт-шпион с английским выговором, уникальный и примечательный, соблазнительный для некоторых, но слегка зловещий для тех, кто предпочитал более простую флору. Начальство признавало, что Энглтон, при всех своих странностях, нашел свое признание, и шесть месяцев спустя его повысили до звания второго лейтенанта и сделали главой итальянского подразделения Х-2, контролирующего контрразведывательные операции в стране, где он провел большую часть юности. Своим быстрым восхождением Энглтон был отчасти обязан наставничеству и покровительству Кима и впоследствии упоминал о его вдохновляющем примере. «Как только я встретил Филби, некогда поманивший меня мир разведки поглотил меня целиком, — признавался Энглтон. — Он лицом к лицу встречался с нацистами и фашистами, принимая их вызов и вмешиваясь в их деятельность в Испании и Германии. Нас привлекали его утонченность и опыт… Ким многому меня научил».
Сочетание обаяния и компетентности способствовало карьерному росту Филби в рядах союзнической разведки; прибавлялось у него и обязанностей. В конце 1942 года Каугилл попросил его взять на себя операции контрразведки в Северной Африке — районе, приобретавшем ключевое значение по мере того, как силы союзников вторгались в Марокко и Алжир (тогда эти территории находились под контролем Франции). Прежде в конторе за этот регион отвечал капитан Феликс Русси, бывший солдат из Гибралтара, которого Ким описывал своим советским кураторам как «почти полного кретина». Филби был только рад захватить его владения. «Нам неплохо удалось взять под контроль деятельность абвера в Испании и Португалии, — писал Филби, — [и] у меня не было причин уклоняться от дополнительных обязательств». Несколько месяцев спустя его резюме снова пополнилось — на сей раз ему поручался контршпионаж в Италии (в УСС этот же регион вскоре передали в ведение Джеймса Энглтона). Вскоре после переезда в Лондон Каугилл попросил Филби временно действовать в качестве его заместителя «во всех делах разведки», поскольку сам он отбывал в США с трехнедельным визитом по делам МИ-6. С ироничной наигранной скромностью Филби отметил, что «его карьера в секретной службе пошла в гору». Однако для Кима это продвижение было всего лишь способом приблизиться к другой цели. «Я рассматривал свои назначения в СРС исключительно в том плане, в каком они служили прикрытием для моей работы, — я должен был хорошо выполнять свои обязанности, чтобы получать должности, на которых мог бы наиболее эффективно служить Советскому Союзу».
Даже тем, кто по-настоящему одержим какой-либо идеологией, как правило, необходимо проверять свои убеждения на прочность; им нужно, чтобы кто-то понимал их, поддерживал или подвергал их идеи сомнению. Филби никогда не делился своими убеждениями, никогда не обсуждал политику даже с другими советскими шпионами, если не считать ранних идеологических дискуссий с Арнольдом Дейчем; он крайне редко поднимал тему коммунизма в разговорах с советскими кураторами. Филби убедил себя в правильности своего курса еще в 1934 году, после чего тема была закрыта. Он хранил и лелеял свои убеждения в полной изоляции.
Возможно, основная ирония положения Филби заключалась в том, что с точки зрения британцев он был вне подозрений, а вот Москва продолжала относиться к нему с недоверием. Основным источником сомнений советской стороны стала пышная блондинка, очень умная, верная политическим догмам и одержимая глубокой паранойей сотрудница НКВД, аналитик разведки Елена Модржинская, возглавлявшая британский отдел московского Центра. Как и у большинства тех, кто пережил сталинские «чистки», страх, пропаганда и повиновение оставили осадок недоверия в душе Модржинской, одной из очень немногих женщин, занимавших руководящие посты в советской разведке. Она подозревала масштабный заговор; она попросту не могла поверить заявлениям «кембриджской пятерки», будто они идут на столь «немыслимый» риск ради советской стороны. Конечно же, ей представлялось совершенно невозможным, чтобы люди с коммунистическим прошлым с такой легкостью проникли в британскую секретную службу и так быстро поднялись по карьерной лестнице; было известно, что британцы разработали сложный план, чтобы обмануть нацистов, поэтому вполне логичным казалось, что они попытаются проделать то же самое и с Москвой. Короче говоря, Модржинская попросту не могла — и не хотела — верить, что Филби тот, за кого себя выдает: «агент глубокого внедрения, работающий на советскую разведку». В ее глазах Филби был провокатором, самозванцем, двойным агентом: «Он лжет нам самым наглым образом». Анатолию Горскому, новому резиденту в Лондоне, дали инструкции выяснить, какую именно дезинформацию распространяют Филби и остальные британские двойные агенты. Со временем Центр даже направил в Лондон агентов под прикрытием, чтобы проследить за «кембриджской пятеркой» и собрать разоблачительные данные. Члены группы наблюдения не говорили по-английски и постоянно терялись, виня в этом блестящее шпионское мастерство Филби и компании, а вовсе не собственное неумение ориентироваться по карте. Сотрудники советской разведки стремились найти свидетельства, которых не существовало, а потерпев неудачу, они сочли это доказательством того, что свидетельства надежно спрятаны. В конце концов, сама «английскость» Филби делала его подозреваемым. По наблюдению советского офицера Юрия Модина, очередного куратора «кембриджской пятерки», «он [Филби] настолько полно — как психологически, так и физически — воплощал собой образ сотрудника британской разведки, что я так до конца и не сумел свыкнуться с мыслью о том, что он один из нас, марксист, нанятый на секретную службу Советским Союзом».
Несмотря на подозрения Модржинской, обращение советских кукловодов с Филби внешне не изменилось. Горскому приказали вести дела с британскими шпионами «таким образом, чтобы поддерживать в них убеждение, будто мы им безоговорочно доверяем». И вот сложилась поистине странная ситуация: Филби сообщал Москве правду, ему не верили, но позволяли думать, что верят; он обманывал британцев, чтобы помочь советской разведке, подозревавшей и в свою очередь обманывавшей его. Доверие Москвы к Филби переживало взлеты и падения; порой его считали подозреваемым, иногда ему все-таки верили, а временами — и то и другое одновременно.
Великобритания и СССР были союзниками с того момента, когда Гитлер напал на Советский Союз летом 1941 года. Филби мог утверждать, что, передавая информацию Москве, всего лишь помогает союзнику и поддерживает «борьбу единого фронта против фашизма». Его коллеги в МИ-6 и УСС вряд ли бы с ним согласились. Лондон и Москва уже начали обмениваться весьма ценной информацией, но в крайне ограниченном формате, поскольку обе стороны продолжали относиться друг к другу с глубоким подозрением. А Филби отсылал в Москву такие секреты, передача которых Сталину не могла присниться его боссам из МИ-6 даже в страшном сне: отвлекающие маневры, подлинные имена агентов и руководителей операций, а также подробное (и выдающее всех с потрохами) описание всей структуры секретной службы. Кроме того, существовала опасная вероятность — так и не подтвержденная, но и не опровергнутая, — что в советскую разведку проникли немецкие шпионы и информация, добытая «кембриджской пятеркой», отправлялась обратно в Берлин. Если возможность такого развития событий и приходила в голову Филби, она его, по-видимому, не волновала. Он был предан Москве, а как Москва поступала с предоставляемой информацией, его уже не касалось. Он понимал, что совершает государственную измену, шпионя на иностранное государство, и знал о грозивших ему последствиях. Если бы его поймали, то почти наверняка судили бы по закону 1940 года «О государственной измене», что означало бы смертную казнь.
Смерть тоже входила в условия игры. Филби принял ликвидацию своих горячо любимых советских кураторов с молчаливым непротивлением истинно верующего. Более дюжины шпионов, перехваченных благодаря расшифровкам из Блетчли-парка, окончили свою жизнь на виселице или перед расстрельной командой. Британская разведка вовсе не была выше того, чтобы «шлепнуть» вражеского шпиона, если воспользоваться жизнерадостным эвфемизмом, популярным в МИ-6. Впоследствии Филби утверждал, что «и его скромный вклад помог выиграть войну», поскольку на его счету большое количество немецких жизней. Хотя и вел свои сражения из-за стола, но считал себя бойцом, рискующим не меньше, чем на фронте. Но по мере того, как война приближалась к кульминационной точке, шпионская карьера Филби входила в новую и куда более кровавую фазу, во время которой он помогал уничтожать уже не нацистских шпионов, а обычных мужчин и женщин, чьим единственным преступлением было несогласие с избранной им политической доктриной. Вскоре Филби начал убивать во имя коммунизма, а Николас Эллиотт, сам того не ведая, помогал ему в этом.
Главным противником Эллиотта в стамбульской шпионской битве был высокий, лысый, учтивый юрист по имени Пауль Леверкюн, носивший очки и, возможно, имевший гомосексуальную ориентацию. Оторванный от своей уютной судебной практики в Любеке, чтобы стать шефом абвера в Турции, Леверкюн не очень-то годился на роль куратора. Он изучал право в Эдинбургском университете и работал в Нью-Йорке и Вашингтоне. «Подверженный перепадам настроения и нервный», он не любил Турцию и, как многие офицеры абвера, особо не задумывался о жестокости и вульгарности нацизма. Он больше смахивал на ученого, нежели на шпиона. При всем при том он был первоклассным руководителем и, как выяснил Эллиотт, достойным противником со значительной агентурной сетью, куда входили немецкие экспатрианты и турецкие информаторы, а также русские бандиты, персидские головорезы, арабские стукачи и даже один египетский принц. «Город наводнен их агентами», — предупреждало одно из донесений УСС. Германия взломала дипломатические коды Турции еще в самом начале войны. Шпионы Леверкюна, его наводчики и приманки обнаруживались повсюду, где можно было разжиться секретом. Хильдегард Рейли, привлекательная немецкая вдова американского офицера, практически дежурила в «Таксиме», где «мастерски усугубляла разговорчивость британцев и американцев». Вильгельмина Варгаши, белокурая голубоглазая венгерка, несла вахту в баре «У Элли», где ей, по слухам, удалось соблазнить не менее шести солдат союзнических войск. Леверкюн курировал агентов на Ближнем Востоке, собирая информацию о войсках союзников в Палестине, Иордании, Египте и Ираке, а также засылая шпионов в Советский Союз, чтобы они раздули там революционный пожар против режима Москвы, — то же самое пытались сделать и ЦРУ с МИ-6 после войны.
Деятельность Эллиотта часто приводила его в Анкару, где он останавливался в посольской резиденции в качестве гостя Нэтчбулла-Хьюджессена. В таких случаях предупредительный британский посол даже одалживал Эллиотту своего личного камердинера, албанца по имени Эльеса Базна, чтобы тот помог ему одеться к ужину. «Я отлично его запомнил, — впоследствии писал Эллиотт, — невысокого роста, кругленький, с высоким лбом, густыми черными волосами и большими висячими усами». Прежде чем примкнуть к обслуживающему персоналу британского посольства, Базна побывал мелким преступником, слугой в югославском посольстве и камердинером немецкого дипломата, который уволил его, застав за чтением своих писем. Кроме того, Базна шпионил на Германию.
У сэра Хью Нэтчбулла-Хьюджессена выработалась опасная привычка приносить документы домой, в посольскую резиденцию, в своей вализе для официальных бумаг и читать их в постели, прежде чем сдать на хранение. Посол Эллиотту нравился, но впоследствии он согласился, что того следовало «немедленно отправить в отставку» за столь вопиющее нарушение правил безопасности. Разведав, что именно читает его босс перед сном, Базна смекнул, что сможет на этом заработать. В октябре 1943 года (примерно в то время, когда Эллиотт впервые столкнулся с Базной, который как раз вешал на плечики его смокинг) камердинер-албанец вышел на связь с немецкой разведкой и предложил передать им фотографии документов в обмен на круглую сумму. В течение следующих двух месяцев Базна отправил десять посылок с документами, за что получил значительное вознаграждение, которое аккуратно припрятал, не догадываясь о том, что немцы предусмотрительно рассчитались с ним фальшивыми купюрами. Почти не говоривший по-английски Базна понятия не имел, какие именно секреты выдает, но ему было известно значение слова «секрет»: донесения о дипломатических попытках Великобритании втянуть Турцию в войну против Германии, внедрение в Турцию представителей союзнических сил и помощь США Советскому Союзу. Албанский шпион, получивший от немцев кодовую кличку Цицерон, предоставлял им даже запись решений, принятых Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным на Тегеранской конференции, и кодовое название предстоящей высадки союзнических войск в Нормандии — операция «Оверлорд». Эффект от подобных откровений был ослаблен немецким скептицизмом: поскольку высшее военное командование Германии было серьезно введено в заблуждение маневром, отвлекшим их внимание от Сицилийской операции (знаменитая операция «Фарш», когда тело «утопленника» с фальшивыми бумагами подбросили на испанский берег), некоторые его представители подозревали, что Цицерон может оказаться еще одной британской ловушкой, призванной навести их на ложный след в переломный момент войны. Радиоперехваты, осуществленные Блетчли-парком, а также шпион в министерстве иностранных дел Германии в конце концов уведомили британцев об утечке информации в британском посольстве в Анкаре. Подозрения вскоре пали на Базну, и тот, почуяв неладное, свернул свою шпионскую деятельность. Он пережил войну и впоследствии пробовал судиться с правительством Западной Германии, когда обнаружил, что с ним расплатились бумажками вместо денег. Он давал уроки пения, продавал подержанные автомобили и закончил свои дни, служа привратником в одной из убогих гостиниц Стамбула. Афера Цицерона стала крайне досадным для Великобритании промахом и еще одним доказательством того, насколько глубоко окопались в Турции немецкие шпионы. Впоследствии британская пропаганда пыталась утверждать, что Базна был двойным агентом, но Эллиотт не имел никаких иллюзий на этот счет. «Информация, полученная Цицероном, полностью соответствовала действительности, — писал он, — и правда заключается в том, что дело Цицерона — возможно, самая серьезная утечка дипломатической информации в британской истории».
Британская разведка, усиленная в 1943 году появлением УСС, нанесла ответный удар. Турецкие операции американской разведки возглавил Лэннинг «Пэки» Макфарланд, чикагский банкир-экстраверт, питавший склонность к приключениям и шпионскому гардеробу, куда входили тренчкот и фетровая шляпа с широкими полями. «Такой стиль одежды заставил бы его стать шпионом, даже если бы он им не был», — заметил один из коллег. С помощью британских коллег Макфарланд начал организовывать собственную агентурную сеть, и первым туда вошел чешский бизнесмен по имени Альфред Шварц под кодовым именем Кизил, утверждавший, что у него есть доступ к группам сопротивления нацизму в Германии, Австрии и Венгрии. Эллиотту Макфарланд нравился, несмотря на его «тягу встревать в неудачные эскапады», и он сумел установить с американцами эффективные рабочие отношения. Вместе они успешно внедрили турецкого информатора в одну из подрывных ячеек Леверкюна. «Теперь нам известны имена азербайджанцев, персов и кавказцев, работающих на немецкую разведку, — сообщил офицер УСС Седрик Сигер, — известно, где они собираются по вечерам, где работают и как выглядят».
Особое внимание абвер уделял Ираку. В 1941 году британские войска вторглись в эту страну, опасаясь, что правительство Багдада, поддерживающее гитлеровскую коалицию, может прекратить поставки нефти. Эллиотт обнаружил, что Леверкюн пытается разжечь антибританское восстание среди курдских племен Ирака, при этом стимулируя и финансируя революционное подполье. Три германских шпиона спрыгнули в Ираке с парашютом и были перехвачены вскоре после приземления. После этого Эллиотт внедрил в революционную ячейку двойного агента под кодовым именем Зулус. Третьего сентября 1943 года Леверкюн подобрал Зулуса в заранее оговоренном месте в Стамбуле и посадил к себе в машину. Пока они ездили по городу, Леверкюн прочел ему пропагандистскую лекцию, в которой утверждалось, что «успех арабского дела напрямую зависит от победы Германии», после чего проинструктировал агента, как распознавать британские военные части в Ираке, и передал ему радиокод вместе с двумя тысячами долларов наличными. Британские власти в Багдаде своевременно прикрыли всю революционную группировку.
Дуэль между Николасом Эллиоттом и Паулем Леверкюном была жестокой и яростной, но в то же время странным образом велась по-джентльменски. Заприметив своего соперника ужинающим в «Таксиме», Эллиотт всегда посылал ему бутылку вина с наилучшими пожеланиями. Каждая из враждующих сторон хотела, чтобы другая знала, кто лидирует в противоборстве, и порой добивалась этой цели на удивление глупыми способами. Когда Леверкюн обнаружил, что секретный код, которым Великобритания обозначала Германию в радиограммах, был 1200, он незамедлительно сообщил об этом коллегам: с тех пор каждый раз, когда Эллиотт или другой сотрудник британской разведки входили в стамбульский бар, где выпивали немецкие офицеры, их встречали унизительным хором: «Земля-двенадцать, земля-двенадцать, űber alles»[9]. Обмен любезностями бушевал вовсю, хотя безусловный победитель так и не был выявлен. Но к концу 1943 года Эллиотт провернул шпионский трюк невероятной мощи, чем буквально сотряс Третий рейх, вызвал у Гитлера приступ неистовой ярости, изрядно покалечил абвер и поднял свою репутацию в МИ-6 до небес. И первый намек на возможность столь потрясающего переворота в ближайшем будущем исходил от Кима Филби.
Глава 6
Немецкий перебежчик
Весной 1943 года Ким Филби узнал, что молодой немец по имени Эрих Фермерен объявился в Лиссабоне, где работала журналисткой его мать, и сделал попытку выйти на связь с британской разведкой. Влиятельный адвокатский клан Фермеренов из Любека был известен своими антифашистскими взглядами, и Эрих Фермерен намекнул, что подумывает переметнуться к британцам. Однако эта первая попытка осталась без последствий. Фермерен не представлял особой ценности для разведки, а его жена все еще находилась в Берлине, куда и он вскоре вернулся. Впрочем, сам жест был интригующим, и Филби отметил его кандидатуру, чтобы использовать в будущем.
Эрих Фермерен принадлежал к тому редкому типу людей, чья сознательность повышается и укрепляется в условиях стресса. Телом он был слаб — результат пулевого ранения, полученного в юности, — но душа его была сделана из некоего прочного, почти неправдоподобно эластичного материала, который не рвался и даже не гнулся. Патриотичный и набожный, Фермерен твердо придерживался собственного нравственного кодекса. В 1938 году, в возрасте девятнадцати лет, он получил стипендию Родса для обучения в Оксфордском университете, но не смог ею воспользоваться, поскольку упорное нежелание вступать в «Гитлерюгенд» делало его в глазах нацистов «недостойным представлять немецкую молодежь». По-видимому, Гитлер лично приказал вычеркнуть имя Фермерена из списка стипендиатов. Признанный не годным для военной службы из-за своего ранения, Фермерен работал в лагере военнопленных. В 1939 году он перешел в католическую веру и женился на аристократке, графине Элизабет фон Плеттенберг, ревностной католичке на тринадцать лет его старше, чье отвращение к нацизму было столь же стойким, сколь и его собственное. Элизабет привлекла внимание гестапо еще до войны: она занималась распространением религиозных трактатов, критикующих нацистов-язычников. Плеттенберги так же активно участвовали в сопротивлении нацизму, как и Фермерены. Адам фон Трот цу Зольц, советник министерства иностранных дел Германии, ставший ключевым игроком в заговоре по свержению Гитлера, приходился Фермерену кузеном. Таким образом, брак Эриха и Элизабет объединил две ветви тайного антифашистского сопротивления, которое было отчасти семейным делом. У этой небольшой группы немецких сопротивленцев возмущение религиозного и нравственного характера смешивалось с политикой. Эти люди вовсе не были либералами: напротив, они были глубоко консервативными, часто очень богатыми, ярыми антикоммунистами, представителями старомодных немецких семей, боявшихся, что Гитлер ввергнет Германию в пучину бедствий и это непременно приведет к власти безбожных большевиков. Заговорщики мечтали свергнуть Гитлера, заключить мир с Великобританией и США, а потом, одолев «красную угрозу с Востока», создать новое немецкое государство — демократическое, антикоммунистическое и христианское. Эрих и Элизабет Фермерен вместе с горсткой заговорщиков, разделявших их взгляды, решили, что Гитлера нужно уничтожить, прежде чем он уничтожит Германию.
В конце 1943 года, при содействии фон Тротта, Эрих Фермерен был направлен в абвер, где в течение двух недель учился использовать шифры для радиограмм и невидимые чернила, а затем в Стамбул — в качестве личного помощника Пауля Леверкюна, друга и коллеги его отца по юридической практике в Любеке. Официально женам не разрешалось сопровождать мужей на дипломатической службе во избежание малейшей возможности бегства. Элизабет, уже взятая на заметку гестапо, оставалась в Берлине — по сути дела, заложницей. Фермерен прибыл в Стамбул в начале декабря и начал работать в местном отделении абвера под руководством Леверкюна. Две недели спустя он снова вошел в контакт с британской разведкой; Гарольд Гибсон из МИ-6 передал его имя в Пятый отдел; пиренейское подразделение Кима Филби напомнило о том, что Фермерен уже выходил на связь в Лиссабоне; дело Фермерена передали Эллиотту в Стамбул, и шестеренки пришли в движение.
Двадцать седьмого декабря 1943 года, в семь часов вечера, Эрих Фермерен направился в некий дом на Истикляле, главной улице Перы. Слуга, говорящий с сильным русским акцентом, открыл дверь в квартиру, провел Фермерена в гостиную и подал ему, без всяких просьб с его стороны, большую порцию шотландского виски. Несколько мгновений спустя из-за выдвижной двери появился долговязый человек в очках и с дружелюбной улыбкой протянул посетителю руку. «Эрих Фермерен? — спросил он. — А я-то думал, вы приедете в Оксфорд». Николас Эллиотт сделал свою домашнюю работу.
Фермерен отлично запомнил этот момент и несомненную, успокаивающую «английскость» Эллиотта: «Я сразу же почувствовал огромное облегчение. Было такое чувство, словно мои ноги уже оказались на английской земле».
Хозяин и посетитель общались, пока Элизабет Эллиотт подавала ужин, и продолжали беседовать всю ночь. Фермерен объяснил, что ему не терпится нанести удар Гитлеру, но его мучает мысль, что таким образом он, возможно, предаст свою страну. Он категорически отказывался уезжать без жены, которую, конечно же, арестуют, а возможно, и убьют, если он совершит побег. Заметив у молодого человека «признаки нестабильности», Эллиотт начал его уговаривать и задабривать; он призвал Элизабет, чтобы она подчеркнула моральную ответственность, возложенную на Фермерена католической верой; он объяснил, что потребуется некоторое время, чтобы оформить поддельные документы, но когда наступит подходящий момент, он вытащит Фермеренов из Турции и спокойно доставит их в Великобританию. Переход Фермерена на сторону противника, пообещал Эллиотт, нанесет нацизму сокрушительный удар. Когда Эллиотт увидел, что немец все еще колеблется, в его голосе появились более жесткие нотки. Фермерен зашел уже слишком далеко, чтобы идти на попятный. Когда над Стамбулом прорезался первый луч рассвета, Фермерен поднялся и пожал Эллиотту руку. Он сделает то, что требуют от него Бог и Эллиотт.
В своем отчете для МИ-6 Эллиотт охарактеризовал Фермерена как «взвинченного, утонченного, уверенного в себе, отличающегося незаурядным умом и логическим мышлением, слегка педантичного немца из хорошей семьи, ярого антифашиста по религиозным причинам». Эллиотт был «полностью уверен» в искренности Фермерена.
Фермерен полетел обратно в Берлин и велел жене готовиться к тому моменту, который они так давно обсуждали. Фон Тротт устроил ее на работу в немецкое посольство в Стамбуле, благо послом был ее кузен, Франц фон Папен. Это обстоятельство могло бы хоть как-то защитить ее, если бы гестапо стало интересоваться, каким образом муж и жена вместе отправились за границу в нарушение установленных правил. Элизабет разделила свои банковские счета между братьями и сестрами, и Фермерены сели на поезд, идущий в Стамбул. Но когда состав продвигался по Болгарии, супруги, к своему ужасу, узнали, что в соседнем спальном купе едет офицер гестапо. Значит, их уже взяли под наблюдение. Неудивительно, что на болгарской границе Элизабет арестовали и доставили в немецкое посольство в Софии. Эриху ничего не оставалось, кроме как ехать в Стамбул в одиночестве. После двух недель ожидания, снова с помощью Адама фон Тротта, Элизабет путем разнообразных ухищрений попала на курьерский самолет, направляющийся в Стамбул, и наконец воссоединилась с мужем. Леверкюн знал, что фрау Фермерен значится в черном списке гестапо, и был явно встревожен, когда она без предварительного уведомления объявилась в его городе; он распорядился, чтобы Фермерен направил в Берлин письменное объяснение, как именно и почему его жена приехала в Стамбул.
Фермеренам надо было действовать быстро, и Эллиотту тоже. Под предлогом ознакомления с рабочей документацией Фермерен начал извлекать дела абвера, представлявшие наибольшую важность, включая схему «полной структуры абвера в Стамбуле» и «подробную информацию» об операциях на Ближнем Востоке. Эллиотт сфотографировал бумаги после чего Фермерен вернул их в бюро абвера. Леверкюн предоставил своему новому ассистенту полный доступ ко всем документам, и вскоре Фермерен уже каждую ночь передавал Эллиотту огромное количество информации. Но времени оставалось мало. Двадцать пятого января один из информаторов Эллиотта в турецкой полиции дал ему понять: им известно, что Фермерен в контакте с британцами; у Леверкюна в полиции имелись свои шпионы, и, «таким образом, немцы уже совсем скоро могли пронюхать», что происходит.
Два дня спустя Эрих и Элизабет Фермерен посетили прием в испанском посольстве. Когда чета покинула здание, двое неизвестных схватили их и затолкали в ожидавшую машину. Это похищение инсценировал Эллиотт, чтобы выиграть время и по возможности смягчить последствия для их семей. Фермеренов повезли к юго-востоку — на побережье возле Смирны; там они пересели на моторную лодку, которая унеслась в средиземноморскую темноту. Сутки спустя они оказались в Каире, все еще одетые в вечерние костюмы.
Исчезновение Фермеренов привело Пауля Леверкюна в замешательство, вскоре сменившееся гневом, а затем полной, парализующей паникой. Шеф абвера, как радостно сообщила МИ-6, «влип в историю». Фон Папен прервал лыжный отпуск в горах Улудаг, чтобы контролировать критическую ситуацию лично, и потребовал, чтобы турецкая полиция проследила, куда направились беглецы. Турки вежливо согласились помочь, но не пошевелили и пальцем. Леверкюна вызвали в Берлин. Пока немцы рыскали по Стамбулу, Эрнст Кальтенбруннер, свирепый начальник гитлеровской службы безопасности, приказал провести тщательное расследование и кадровые чистки в стамбульском абвере, поскольку там могли скрываться и другие вражеские шпионы. Он не ошибся. Теперь некоторые коллеги Леверкюна тоже решили бежать. Карл Алоиз Клечковский, сорокатрехлетний журналист, работавший на немецкую пропаганду и собиравший для абвера слухи, скрылся в надежном месте на окраине города. Вильгельм Гамбургер, наследник австрийской бумажной империи, был одним из самых доверенных заместителей Леверкюна. Выдавая себя за скупщика льна, он провел большую часть войны, собирая разведданные по Ближнему Востоку и нечасто покидая свой столик в «Парк-отеле». Он также был в контакте с разведывательными службами союзников. Седьмого февраля его разбудили два немецких офицера и сообщили, что он арестован. Гамбургер попросил разрешения позвонить своему главному турецкому агенту, «поскольку его исчезновение может вызвать противоречивую реакцию».
Как ни странно, офицеры позволили это сделать: Гамбургер набрал заранее оговоренный номер, вышел на связь со своим контактным лицом в УСС и проговорил следующее: «Я еду в Берлин на неделю, а потом вернусь. Сообщите об этом морским пехотинцам». (Сленговое выражение, означавшее чепуху.) Спустя полчаса, когда Гамбургер все еще собирал вещи и тянул время, рядом с его домом затормозила машина. Прежде чем офицеры успели остановить его, Гамбургер выскочил на улицу, запрыгнул на заднее сиденье машины и был стремительно доставлен в британское консульство, где «ему предоставили завтрак и новое удостоверение личности». Два перебежчика последовали в Египет тем же секретным путем, что и Фермерены. Пэки Макфарланд из УСС направил в Вашингтон победную реляцию, рапортуя, что Каиру грозит опасность «наводнения уклонистами и перебежчиками». Кальтербруннер довел плохие новости до сведения Гитлера: побег Фермеренов «нанес серьезный ущерб работе не только стамбульского отделения абвера, но и других наших военных агентств, находящихся в Турции. Вся деятельность местного отделения абвера раскрыта, и ее продолжение не представляется целесообразным».
Тайно вытащив из Стамбула аж четверых перебежчиков, Эллиотт последовал за ними в Великобританию. Он добрался поездом в Ливан, на самолете летел через Каир, Алжир и Касабланку, и наконец, после «чрезвычайно томительного и неудобного» путешествия, длившегося более недели, прибыл в город Ньюки в Корнуолле.
Ким Филби, по обыкновению готовый помочь, предложил воспользоваться квартирой своей матери в Кенсингтоне, чтобы поселить там Фермеренов, когда они прибудут в Лондон. Их побег держался в таком секрете, что даже МИ-5 не знала об их присутствии в стране. Эллиотт направился прямиком в квартиру Доры Филби, расположенную в Дрейтон-гарденс (Южный Кенсингтон), где его приветствовал сияющий Филби; там же были и Фермерены. В течение следующих двух недель Филби и Эллиотт подвергали пару дружеским, подробным и тщательным расспросам. Фермерен проработал на абвер всего несколько месяцев, но располагал крайне ценной информацией: структура немецкой разведки, ее операции на Ближнем Востоке, имена офицеров и агентов; Элизабет Фермерен предоставила точные данные о католическом подполье в Германии. Набожность Фермеренов порядком раздражала. Тогда как большинство шпионов были движимы разнообразными мотивами, такими как жажда приключений, идеализм и жадность, благодаря чему ими можно было манипулировать, Фермерены служили только Богу, что делало их непредсказуемыми и подчас неуступчивыми. «Они такие правильные, даже противно. Никогда не знаешь, чего от них ждать в следующую минуту», — в изнеможении жаловался Эллиотт Филби, высидев очередную проповедь супружеской четы. Эрих Фермерен получил кодовое прозвище Педант, потому что именно им он и был, причем во многих аспектах.
Во время перерыва в допросах у Эллиотта наконец-то появилась возможность встретиться с родителями жены; этот опыт мог бы привести в замешательство любого, кто хуже знаком с эксцентричностью высшего британского общества. Сэр Эдгар Холбертон оказался общительным, напыщенным и явно со странностями. Годы, проведенные в тропиках, выработали у него специфическую привычку: он то и дело внезапно изрекал что-нибудь совершенно неподходящее. Эллиотт встретился с сэром Эдгаром на ланче у него в клубе. Старший джентльмен завел исключительно скучные рассуждения о чилийской экономике, а потом без всяких переходов заметил: «И еще не стану скрывать от вас, мой мальчик, в Рангуне у меня на содержании была бирманская девушка. Она стоила мне каких-то двадцать фунтов в месяц». Беседа с сэром Эдгаром, по наблюдению Эллиотта, являла собой «бег с препятствиями, через которые постоянно приходилось перепрыгивать».
Часть информации, которую удалось вытянуть из Фермеренов, была признана достаточно ценной, чтобы передать ее союзникам Великобритании. Москву проинформировали о следующем: Фермерен сообщил, что множество турецких чиновников передавали информацию абверу. Советская сторона стала громко протестовать против нарушения турецкого нейтралитета, и Турция немедленно положила конец любому «обмену разведданными между Германией и Турцией, касающимися СССР». Но многие признания перебежчиков, в особенности, те, что имели отношение к организации антикоммунистического сопротивления в Германии, считались слишком конфиденциальными, чтобы передать их Советскому Союзу. Даже спустя год Москва все еще жаловалась на то, что ей не предоставили полного отчета о допросах Фермеренов.
Информацию о бегстве Фермеренов сливали с предельной осторожностью. Агентство «Ассошиэйтед пресс» сообщало: «Двадцатичетырехлетний атташе и его супруга объявили, что покинули стан Германии, поскольку жестокость нацистов вызывала у них отвращение. По нашим сведениям, атташе располагает подробной информацией величайшей ценности». МИ-5, к своему неудовольствию, обнаружила, что бегство Фермеренов было организовано исключительно силами МИ-6. «Если подданного вражеской страны доставляют сюда исключительно с целью выведать у него информацию, мне кажется, он должен находиться под контролем у нас», — писал Гай Лидделл. Профессиональная ревность в чистом виде. Обеспечив побег Фермерена, МИ-6 торжественно протрубила о том, что Эллиот нанес врагу «мощный удар»: если добытая с помощью Фермерена информация была довольно полезной с точки зрения разведки, то символическое воздействие, оказанное его побегом на Германию, было близко к сокрушительному.
Говорят, что Гитлер «взорвался», узнав о бегстве Фермерена. Он уже некоторое время — обоснованно — полагал, что адмирал Вильгельм Канарис и многие его коллеги, офицеры абвера, вовсе не беззаветно преданы делу нацизма и ведут тайные переговоры с врагом. И вот доказательство. Гитлер также полагал — необоснованно, — что Фермерен захватил с собой книги, содержащие секретные шифры абвера. Все, кто оказывал Фермеренам помощь или просто был с ним знаком, попали под подозрение. Отец, мать, сестры и брат Фермерена были арестованы и отправлены в концлагерь. Фюрер вызвал Канариса, устроил тому свирепую головомойку и объявил, что абвер разваливается. Канарис храбро, но довольно бестактно ответил, что это «едва ли удивительно, учитывая, что Германия проигрывает войну». Две недели спустя Гитлер распустил абвер и создал новую всеобъемлющую разведслужбу, находящуюся в подчинении у Службы безопасности Гиммлера. Канариса спешно переместили на бессмысленную должность — по сути дела, под домашний арест — и в конце концов, после неудачи Июльского заговора 1944 года, казнили. Возможно, абвер был коррумпированным, неэффективным и недостаточно преданным, но, по крайней мере, это была разведывательная служба, работавшая по всему миру. История с перебежчиками запустила цепную реакцию, разрушив разведку полностью всего за три месяца до высадки союзников в Нормандии. По словам историка Майкла Говарда, немецкая разведка «была дезориентирована как раз в тот момент, когда от ее эффективного функционирования напрямую зависело выживание Третьего рейха».
Теперь Николас Эллиотт ходил у МИ-6 в любимчиках. Во внутреннем рапорте, где давалась оценка его деятельности, говорилось, что он осуществил операцию «с подлинным мастерством и человечностью, но и с необходимой толикой жесткости». Кое-что от этой славы перепало и Филби: он издалека помогал дирижировать бегством, а потом участвовал в допросе Фермеренов на квартире у своей матери. Казалось, операция завершилась полным триумфом. Эллиотт еще долго «пожинал плоды» этого успеха, причем пировать начали тут же, дабы отпраздновать его «ошеломительный триумф».
Именно через Филби Эллиот познакомился с болезненно худым, но общительным молодым американцем — Джеймсом Хесусом Энглтоном. У трех офицеров разведки завязалась крепкая дружба, они стали много времени проводить вместе. Эллиотт «был изрядно впечатлен интеллектом и личными качествами Джима, а также его страстью к еде и выпивке и способностью их потреблять». Подобно Филби, Энглтон стал носить фетровую шляпу, и его глаза с тяжелыми веками пристально смотрели из-под полей. «За внешне мрачным, таинственным обликом скрывался очень симпатичный человек, — писал Эллиотт, — с замечательным характером и широкими взглядами». У Энглтона и Эллиотта было много общего: бешеное честолюбие, грозные отцы и, конечно же, восхищение, которое оба питали к Киму Филби.
Прежде чем отправиться обратно в Стамбул, Эллиотт был вызван в МИ-6 главой службы безопасности, бывшим военным, недавно назначенным и теперь отвечавшим за проверку сотрудников и обеспечение секретности в дипломатических службах и в МИ-6. Таким образом, на повестке оказался вопрос, никогда прежде не поднимавшийся в отношении Эллиотта, отличавшегося почти патологической сдержанностью. «В то время секреты оставались секретами», — писал Эллиотт. Но теперь его мучила мысль, не прокололся ли он где-то, не выболтал ли лишнего не тому, кому нужно. Впрочем, ему не стоило беспокоиться. Приведенный ниже диалог, который он впоследствии записал, довольно многое говорит об организации, наиболее ценной частью которой стал теперь Эллиотт.
Офицер службы безопасности: Садитесь, я хотел бы побеседовать с вами начистоту.
Николас Эллиотт: Как вам будет угодно, полковник.
Офицер: Вашей жене известно, чем вы занимаетесь?
Эллиотт: Да.
Офицер: И как она узнала?
Эллиотт: В течение двух лет она была моим секретарем, так что, полагаю, информация просочилась.
Офицер: Несомненно. А как насчет вашей матери?
Эллиотт: Она считает, что я служу в организации под названием СРС, а эта аббревиатура, по ее мнению, означает Секретную разведывательную службу.
Офицер: Боже правый! И как же она об этом проведала?
Эллиотт: Сотрудник коалиционного правительства сообщил ей об этом на приеме.
Офицер: А как насчет вашего отца?
Эллиотт: Он считает меня шпионом.
Офицер: Но почему такая мысль пришла ему в голову?
Эллиотт: Потому что Шеф рассказал ему об этом в «Уайтсе».
И опять-таки этим разговором все и ограничилось.
Эллиотт и Филби вращались во внутренних кругах правящего класса Великобритании, где взаимное доверие было настолько абсолютным и бесспорным, что сложные меры предосторожности не представлялись необходимыми. Здесь все были членами одной семьи. «Веками работа Офиса зиждилась на доверии, — говорил Джордж Кэри Фостер, сотрудник службы безопасности Форин-офиса. — В этой семейной атмосфере никому и в голову не приходила мысль, что среди них затесался чужой». Эллиотт верил, что его жена надежно хранит секреты; начальник Эллиотта верил, что его отец надежно хранит секреты; Эллиотт верил, что его друг Филби надежно хранит секреты, ни разу не заподозрив, что теперь эти секреты используются в разрушительных целях.
Информация, переданная Фермеренами, включала в себя подробное описание «всех их контактов с католическим немецким подпольем и роли, которую эти люди могли играть в послевоенной демократической и христианской Германии». Это были разведданные огромной ценности, поскольку там упоминались имена, адреса и род занятий тех, кто, подобно Фермеренам, противостоял Гитлеру, но хотел предотвратить переход страны под контроль коммунистов — «видных католических активистов, которые в послевоенный период могли бы оказать союзникам неоценимую помощь при создании антикоммунистического правительства в Германии». По очевидным причинам — Красная Армия уже готовилась войти в Германию с востока — МИ-6 не стала передавать этот список Москве.
Это сделал Филби.
После войны офицеры союзнических войск стали разыскивать антикоммунистических активистов из списка Фермеренов — тех, кто «мог бы создать фундамент консервативного христианского руководства Германии в послевоенное время». Однако они не нашли ни одного человека: «Всех депортировали или ликвидировали». В последние месяцы войны царил кровавый хаос: приверженцы нацистского режима убили около пяти тысяч человек по следам июльского заговора, и многие из убитых принадлежали к католическому сопротивлению. Прошло много лет, прежде чем МИ-5 смогла установить, что произошло на самом деле: Филби передал список своему советскому куратору, тот переправил его в московский Центр, а оттуда послали убийц с заранее подготовленным списком влиятельных идейных оппонентов, которых решено было уничтожить по мере продвижения войск Сталина. «Поскольку Москва имела твердое намерение истребить всю некоммунистическую оппозицию в Германии, — пишет Филипп Найтли, — эти католики были убиты».
Никто не знает, сколько людей погибло в результате действий Филби, потому что ни МИ-5, ни МИ-6 так никогда и не опубликовали список Фермерена. В своем дневнике Лидделл из МИ-5 упоминал об отчетах, свидетельствовавших, что советская сторона ликвидирует оппозицию в Восточной Германии в рамках «борьбы с католической церковью, представлявшей, с точки зрения русских, наиболее мощную международную оппозицию коммунизму». Годы спустя Филби отмечал: «Я нес ответственность за гибель значительного числа немцев». Предполагалось, что он имел в виду нацистов, однако среди жертв было также неизвестное нам число немецких антифашистов, погибших из-за того, что не разделяли политических убеждений Филби. Любые остатки сомнений, которые Москва могла испытывать по поводу Филби, на тот момент, похоже, испарились.
Фермерены полагали, что сообщают союзникам о мужчинах и женщинах, способных спасти Германию от коммунизма; сами того не ведая, они сдали их Москве. Из-за предательства Филби величайший триумф Эллиотта обернулся тайной, мрачной трагедией.
Глава 7
Советский перебежчик
День высадки в Нормандии приближался, союзники продвигались вперед, а Ким Филби, Ник Эллиотт и их коллега из УСС Джим Энглтон, как и многие другие, достигшие зрелости на войне, стали задумываться о том, чем заняться в мирное время. Каждый был настроен на продолжение карьеры в разведывательном деле, каждый добился успехов в мудреном ремесле шпионажа, и всех троих ожидал быстрый карьерный рост, двоих благодаря их заслугам, а третьего — из-за путча в конторе.
По мере ослабления фашистской угрозы все опять начали бояться советского шпионажа. Перед войной МИ-5 и МИ-6 потратили массу энергии, ресурсов и нервов, сражаясь с коммунистической опасностью, как в Великобритании, так и за ее пределами. Однако тяжкий груз войны с Германией и альянс со Сталиным на время отвлекли внимание от тайных действий Москвы. К 1944 году угроза советского шпионажа снова привлекла к себе пристальное внимание. «Коммунисты внедрились в наши ряды, — сказал Энглтону сэр Стюарт Мензис, — и до сих пор находятся внутри нашей организации, но мы точно не знаем, каким образом». Пробужденные угрозой коммунизма изнутри, шефы британской разведки все отчетливее понимали, что потребуются новое оружие и реорганизация службы, чтобы сразиться с «новым врагом», Советским Союзом. Начали обозначаться линии фронта холодной войны.
В марте 1944 года Филби поделился с Ш следующим суждением: пришло время возобновить борьбу с коммунистическими шпионами, учредив новый отдел — Девятый — в целях «профессионального подхода к любым делам, о которых мы узнаем в связи с коммунистами или людьми, вовлеченными в шпионаж на Советский Союз». Ш воспринял идею с энтузиазмом, и его отношение разделял Форин-офис — «с условием не предпринимать никаких мер в самом СССР (несмотря на присутствие советского шпионажа в Великобритании)». Поначалу руководить отделом назначили офицера МИ-5 Джека Карри, но самым очевидным претендентом на эту должность в долгосрочной перспективе был опытный глава Пятого отдела Феликс Каугилл. Впоследствии Филби заявлял, что Москва приказала ему оттеснить Каугилла, хотя эта задача ему вовсе не улыбалась. «Я должен сделать все, то есть абсолютно все, чтобы меня назначили главой Девятого отдела, — писал Филби. — Каугилл должен уйти». На самом же деле Филби, скорее всего, предложил создать Девятый отдел с твердым намерением его возглавить, а Каугилл оказался у него на пути.
Устранение Каугилла проводилось с хирургической беспристрастностью и безо всяких сожалений. Филби осторожно поддерживал антагонизм между Каугиллом и его старшими коллегами, нервным Валентайном Вивьеном и ехидным Клодом Дэнси; он мрачно нашептывал руководству об испортившихся отношениях между Каугиллом и МИ-5; кроме того, он умудрился пробраться на позицию главного кандидата, претендующего на должность руководителя Девятого отдела вместо Каугилла. Наконец, в сентябре 1944 года, Филби вызвали в кабинет Ш, где его «чрезвычайно тепло» приняли и объявили, что он возглавит новый советский отдел. Филби с радостью согласился, но прежде с надлежащим почтением подкинул шефу маленькое дополнительное соображение. Поскольку у Каугилла отношения с МИ-5 так сильно не ладились, не будет ли уместным в случае назначения Филби заручиться одобрением родственной службы? Филби вовсе не боялся, что МИ-5, где служили многие его друзья, станет возражать против его повышения. Он просто хотел удостовериться, что решение завизировано МИ-5; таким образом, если служба безопасности когда-либо вознамерится выяснить, как Филби сумел занять столь высокое положение, он сможет указать на то, что они сами же и способствовали его назначению. Вскоре Мензис уже был убежден, что это «его собственная идея». А Каугилл, обнаружив, что его обошли, в ярости подал в отставку, как и рассчитывал Филби.
Изначально Девятый отдел задумывался как контрразведывательное формирование, призванное активно отражать шпионские поползновения Москвы за рубежом, но вскоре он расширился и теперь уже включал в себя разведывательные операции против советского блока, а также слежку за европейскими коммунистическими движениями и секретные нападения на них. Филби, советский шпион-ветеран, теперь нес ответственность за британские контрразведывательные операции, обращенные против Советского Союза, и должность эта позволяла ему не только сообщать Москве о мерах, принимаемых Великобританией по предотвращению советского шпионажа, но и собственно о шпионских действиях Великобритании, направленных против Москвы. Таким образом, лиса не только стерегла курятник, но и строила его, отвечала за его работу, оценивала его сильные и слабые стороны, а также планировала его дальнейшее обустройство. Впоследствии один из современников этих событий отмечал: «Одним ударом он избавился от ярых антикоммунистов и удостоверился в том, что обо всех послевоенных усилиях по отражению коммунистического шпионажа станет известно Кремлю. Если история шпионажа и знает подобные мастерские ходы, то они наперечет».
Москва, само собой, пришла от таких новостей в восторг. «Трудно переоценить последствия этого назначения», — рапортовал сотрудник британского отдела НКВД, отметив, что Филби «идет на повышение в своей организации, его уважают и ценят». Подозрения советской стороны насчет Филби уже шли на убыль, а теперь и вовсе рассеялись, отчасти потому, что Елена Модржинская, главная сторонница теории заговора, вышла на пенсию в должности полковника и начала читать лекции о вреде космополитизма в Институте философии Академии наук СССР. Вопреки ее подозрениям Филби и другие шпионы кембриджского круга сохраняли преданность Советскому Союзу и исключительно плодотворно работали в ходе войны. Филби сообщил о «Проекте Манхэттен», в рамках которого США разрабатывали ядерное оружие, о планах высадки в Нормандии, о британской политике в отношении Польши, об операциях УСС в Италии (благодаря Энглтону), о деятельности МИ-6 в Стамбуле (благодаря Эллиотту) и многом другом, причем все полностью соответствовало действительности. В течение войны примерно десять тысяч документов — политических, экономических и военных — были направлены в Москву из лондонского отделения НКВД. Модржинская являла собой олицетворение всего наиболее парадоксального, что есть в коммунизме: с идейной точки зрения она неизменно была права, но при этом самым нелепым образом заблуждалась.
На тот момент Филби сотрудничал с советским куратором по имени Борис Кретеншильд, молодым трудоголиком под кодовым именем Макс — «жизнерадостным, добряком», говорившим на таком старомодном, вежливом английском, что его можно было принять за деревенского эсквайра в твидовом пиджаке. По менталитету и характеру Кретеншильд был ближе к тем джентльменам, что завербовали Филби в 1934 году, — «первоклассный профессионал и чудесный человек», с которым Ким мог «поделиться бременем» своих мыслей и чувств. Преклонение перед Филби отчасти восстановилось. Центр осыпал его похвалой и подарками. «Я должен снова поблагодарить вас за этот изумительный подарок, — писал Филби в декабре 1944 года. — Перспективы, открывшиеся передо мной в связи с недавними переменами на службе, наполняют меня оптимизмом». Вступление Филби в новую должность в МИ-6 совпало с изменением шпионского прозвища: теперь агент Сонни стал агентом Стэнли.
Снова оказавшись в Стамбуле, Эллиотт понятия не имел, каким образом Филби вытеснил их старого босса. Он знал только, что его друг получил новую важную должность — возглавил могущественное подразделение МИ-6 по контршпионажу, продолжая, как и Эллиотт, подниматься по служебной лестнице. После того как Эллиотт снова провел в Турции несколько месяцев, его вызвали в Лондон, где Ш сообщил ему, что он назначен начальником отделения МИ-6 в нейтральной Швейцарии, являвшейся важным полем боя разведслужб во время войны и приобретавшей еще большее значение по мере того, как холодная война становилась все более жаркой.
После длительного и тяжелого путешествия через только что освобожденную, разрушенную войной Францию, Эллиотт пересек швейцарскую границу в начале апреля 1945 года и поздним вечером остановился в женевском отеле «Бо-Риваж»: «После мрачных условий Лондона и Парижа оказаться в чистой спальне с видом на озеро и отдохнуть в горячей ванне, потягивая виски с содовой, — невероятный контраст». По сравнению с Турцией Швейцария выглядела настолько цивилизованной, аккуратной и упорядоченной, что он даже растерялся — словно попал в какой-то искусственный мир. Не было здесь ни сомнительных ночных клубов, где шпионы обменивались секретами с исполнительницами танца живота, ни бомбометателей, ни продажных чиновников, готовых торговать правдой или ложью за одну и ту же раздутую цену. Эллиотт страшно разозлился, услышав, как швейцарцы жалуются на лишения военного времени, тогда как война, казалось, обошла Швейцарию стороной.
Однако за безмятежным нейтральным фасадом таились полчища шпионов. Попытки Швейцарии препятствовать шпионажу во время войны провалились полностью: шпионы союзников и гитлеровской коалиции, а также вольнонаемные агенты стекались в страну, используя ее в качестве базы для разработки разведывательных операций на территории противника. Советский Союз руководил двумя взаимосвязанными шпионскими сетями, обосновавшимися в Швейцарии, «Красной капеллой» и «Люси», которые добывали сверхсекретную информацию с территории нацистской Германии и переправляли ее в Москву. В 1943 году антифашистски настроенный немецкий дипломат по имени Фриц Кольбе объявился в Берне и предложил свои услуги союзникам: сначала британскому посольству, ответившему ему отказом, а потом руководителю местной резидентуры УСС Аллену Даллесу (впоследствии возглавившему ЦРУ). Кольбе стал, по словам Даллеса, «не только нашим лучшим источником в Германии, но и, без сомнения, одним из лучших секретных агентов, когда-либо работавших на какую-либо секретную службу». Он тайно провез в Швейцарию более двух тысяч шестисот секретных нацистских документов, включая планы немцев перед нормандской операцией и разработки секретного оружия Гитлера — баллистических ракет дальнего действия «Фау-1» и «Фау-2». По мере того как режим Гитлера разваливался, Швейцария становилась магнитом для перебежчиков, участников сопротивления и крыс, бегущих с тонущего нацистского корабля, и все они крепко держались за свои тайны. В годы войны Советский Союз и Великобритания руководили своими разведывательными сетями в режиме осторожного сотрудничества. Но с наступлением мирного времени разведывательные силы СССР и Запада ополчились друг на друга.
В Берне Эллиотт снял квартиру на Дюфурштрассе, неподалеку от британского посольства, и поселил там свое семейство — у него уже появилась дочь, Клодия. (Эллиотт настоял на том, чтобы ребенок родился на английской земле; если бы она родилась в срок, в день победы в Европе восьмого мая 1945 года, то при крещении получила бы имя Виктория Монтгомериана, чтобы отдать дань патриотизму и выказать уважение британскому генералу. К счастью для девочки, она родилась позже срока.) Клодию опекала «няня Решето», вдова сержант-майора: у нее были огромные ноги, она пила джин из бутылки с наклейкой «Святая вода» и заодно служила неформальным телохранителем Эллиотта. Официально Эллиотт был вторым секретарем британского посольства и сотрудником отдела паспортного контроля; на самом же деле он — в тридцатилетнем возрасте — стал главным агентом Великобритании в очередном рассаднике шпионов. Летом 1945 года, проработав на новой должности всего несколько месяцев, Эллиотт был вызван на встречу с Эрнстом Бевином, новым министром иностранных дел. Один из британских пионеров холодной войны, Бевин заметил за ланчем: «Коммунисты и коммунизм — это зло. Долг всех сотрудников службы — топтать их при каждом удобном случае». Эллиотт навсегда запомнил эти слова, поскольку они отражали философию, которой он следовал в своей новой роли.
Пока Эллиотт осматривался в Швейцарии, Джеймс Энглтон расположился в соседней Италии. В ноябре 1944 года молодой офицер УСС был назначен главой подразделения Z в Риме, совместной американо-британской контрразведывательной структуры, подчинявшейся Киму Филби в Лондоне. Несколько месяцев спустя, в возрасте двадцати семи лет, Энглтон стал главой отдела Х-2 (контршпионаж), в чьи задачи входило очищать Италию от оставшихся фашистских сетей и сражаться с растущей коммунистической угрозой. С почти маниакальной энергией Энглтон начал выстраивать систему контршпионажа невероятной широты и глубины. По существующим свидетельствам, в последние месяцы войны он захватил «более тысячи писем вражеской разведки» в Италии. Филби снабжал Энглтона важнейшими расшифровками из Блетчли-парка. «Дальнейший профессиональный успех американца напрямую зависел от Филби».
Энглтон старался разговорить священников и проституток, вел агентов и двойных агентов и разыскивал захваченные нацистами ценности. «Загадочный призрак» в отлично сшитых английских костюмах, он «блуждал по римским улицам, внедряясь в политические партии, нанимая агентов и выпивая с офицерами итальянских секретных служб». Ночи напролет он просиживал за документами, делая пометки, записывая, отслеживая, замышляя, окутанный клубами сигаретного дыма. «Как правило, вы сидели на диване, стоящем через стол от него, а он поглядывал на вас сквозь залежи своих бумаг», — отмечал один из коллег. Лихорадочный подход Энглтона к работе, возможно, отражал поэтическое, хотя и несвоевременное убеждение, что, подобно Китсу, ему суждено умереть в Риме от чахотки. Он часто улыбался, но редко улыбался глазами. Казалось, никогда не спал.
В последующие годы, по мере того как советская разведка стала глубже внедряться в Западную Европу, Джеймс Энглтон и Николас Эллиотт стали еще теснее сотрудничать с Филби, координатором британских антисоветских операций. Но из-за того, что в Киме как бы уживались две личности, возникал довольно специфичный парадокс: если бы все его антисоветские операции провалились, он бы вскоре лишился работы; в то же время, пройди они чересчур удачно, он мог бы нанести ущерб делу, которому служил. Филби необходимо было вербовать в Девятый отдел хороших, но не слишком хороших агентов, иначе те могли бы по-настоящему внедриться в советскую разведку и выяснить, что самым эффективным советским шпионом является их собственный босс. Джейн Арчер, сотрудница, допрашивавшая Кривицкого еще в 1940 году, поступила на службу в отдел вскоре после самого Филби. Он считал ее «возможно, самым способным профессионалом разведывательного дела, когда-либо служившим в МИ-5», а посему — серьезной угрозой. «Джейн могла бы стать для меня очень сильным врагом», — признавался он.
Когда война закончилась, ряд советских чиновников, имевших доступ к секретной информации, начали подумывать о побеге, соблазненные преимуществами жизни на Западе. Филби к таким дезертирам относился с презрением: «Интересно, они ищут свободу или увеселительные заведения?» В чем-то он и сам был перебежчиком, но оставался на одном месте (хотя увеселительными заведениями отнюдь не брезговал). «Ни один из них не вызвался остаться на своей должности и рискнуть головой „за свободу“, — впоследствии писал он. — Все как один всё бросили ради личной безопасности». Но Филби обуревал страх, что в конце концов объявится советский ренегат с информацией, способствующей его, Филби, разоблачению. И здесь еще один парадокс: чем лучше он шпионил, тем более громкой становилась его слава в рядах советской разведки и тем больше была вероятность, что в конечном итоге его сдаст перебежчик.
В сентябре 1945 года Игорь Гузенко, двадцатишестилетний шифровальщик в советском посольстве в Оттаве, объявился в редакции канадской газеты с более чем сотней секретных документов за пазухой. Впоследствии бегство Гузенко стали рассматривать как первый залп «холодной войны». Переданные советским шифровальщиком документы были настоящим кладом для противника, и именно такого поворота дел опасался Филби, поскольку Гузенко вполне мог его опознать. Ким тут же связался с Борисом Кретеншильдом. «Стэнли немного взволнован, — сухо сообщил в Москву Кретеншильд, преуменьшая серьезность ситуации. — Я попытался его успокоить. Стэнли сказал, что в этой связи у него, похоже, есть для нас информация исключительной важности». Возможно, именно тогда, в тревоге ожидая результатов допроса Гузенко, Филби впервые задумался о бегстве в Советский Союз. Перебежчик рассказал о существовании крупной агентурной сети в Канаде и сообщил, что Советы получили информацию о проекте атомной бомбы от шпиона, работающего в лаборатории ядерных исследований в Монреале. Однако Гузенко работал на ГРУ, советскую военную разведку, а не на НКВД; он мало что знал о советском шпионаже в Великобритании и почти ничего о «кембриджской пятерке». Филби вздохнул с облегчением. По всей видимости, этот перебежчик не знал его имени. А вот следующий уже знал.
В конце августа 1944 года Чантри Гамильтон Пейдж, британский вице-консул в Стамбуле, получил визитную карточку Константина Дмитриевича Волкова, сотрудника советского консульства, а с ней неподписанное письмо с просьбой о срочной аудиенции, составленное на очень плохом английском. Обсудив странное сообщение с консулом, Пейдж пришел к выводу, что это, вероятно, «розыгрыш»: кто-то решил шутки ради воспользоваться именем Волкова. Пейджа все еще мучили раны, полученные им в результате взрыва бомбы в отеле «Пера Палас», к тому же, он был подвержен провалам в памяти. Он не удосужился ответить на письмо, потом потерял его, а затем и вовсе о нем забыл. Несколько дней спустя, 4 сентября, Волков лично посетил консульство в сопровождении жены Зои и потребовал аудиенции у Пейджа. Русскую чету проводили в кабинет вице-консула. Госпожа Волкова пребывала в «удручающе взвинченном состоянии», да и о самом Волкове «нельзя было сказать, что он сохраняет олимпийское спокойствие». Запоздало осознав, что их визит, возможно, предвещает нечто важное, Пейдж призвал на помощь Джона Ли Рида, первого секретаря посольства, свободно говорившего по-русски. В течение следующего часа Волков изложил свое предложение, обещавшее одним ударом изменить баланс сил в международном шпионаже.
Волков объяснил, что официальная должность в консульстве служила всего лишь прикрытием для его настоящей деятельности в качестве заместителя начальника советской разведки в Турции. По его словам, прежде чем приехать в Стамбул, он некоторое время проработал в британском отделе московского Центра. Теперь они с Зоей хотели бежать на Запад. Мотивация Волкова была отчасти личного характера — у него вышел яростный спор с советским послом. Предложенная им информация оказалась бесценной: полный список советских агентурных сетей в Великобритании и Турции, местоположение главного управления НКВД в Москве, подробное описание их охранной сигнализации, расписания дежурств, подготовки кадров и финансирования, а также восковые копии ключей от картотеки и информация о перехвате британских радиограмм. Девять дней спустя Волков вернулся, на сей раз с письмом, в котором излагалась суть сделки.
Русский «явно готовился к побегу уже долгое время», поскольку его условия были четко сформулированы: он предоставлял имена трехсот четырнадцати советских агентов в Турции и еще двухсот пятидесяти в Великобритании; копии ряда документов, переданных советскими шпионами в Великобритании, сейчас находились в чемодане в пустой московской квартире. Как только сделка состоится и Волков с женой окажутся в безопасности на Западе, он сообщит адрес квартиры, чтобы сотрудники МИ-6 смогли забрать бумаги. В обмен на эти трофеи Волков потребовал пятьдесят тысяч фунтов (примерный сегодняшний эквивалент — миллион шестьсот тысяч фунтов) и политическое убежище в Великобритании под новым именем. «Я считаю такую сумму минимальной, учитывая важность предоставленных вам материалов, ведь в результате этого все мои родственники, живущие на территории СССР, обречены». Русский предоставил достаточные подтверждения подлинности своих сведений: он сообщил, что среди советских шпионов, занимающих важные посты в Великобритании, семеро состоят на службе в разведке или Форин-офисе. «Мне, к примеру, известно, что один из этих агентов исполняет функции руководителя отдела в британской контрразведке в Лондоне».
Волков настаивал на выполнении еще нескольких условий. Британцы ни под каким видом не должны упоминать его имя в радиограммах, поскольку сотрудники советской разведки взломали британские шифры и могут читать все, что передается по официальным каналам; кроме того, у русских есть шпион в британском посольстве, так что все бумаги, относящиеся к его предложению, следует писать от руки и тщательно охранять. Все дальнейшие контакты предлагалось вести через Чантри Пейджа, который мог выходить на связь с Волковым по обычным консульским делам, не вызывая подозрений у советских коллег. Если он не получит вестей от Пейджа в течение двадцати одного дня, это будет означать, что сделка не состоялась и Волков может предложить свою информацию другим заинтересованным лицам. Волнение Волкова вполне объяснимо. Будучи ветераном НКВД, он отлично знал, что именно сделает московский Центр и как быстро это произойдет, как только просочится малейший намек на его измену.
У нового британского посла в Турции сэра Мориса Петерсона была аллергия на шпионов. Его предшественник Нэтчбулл-Хьюджессен погорел из-за шпиона Цицерона. Петерсон не желал иметь с такими людьми ничего общего, поэтому, услышав о предложении Волкова, он тотчас же перекинул всю эту историю на МИ-6: «Никому не удастся превратить мое посольство в шпионское гнездо… займитесь этим через Лондон». Даже руководитель резидентуры МИ-6 в Стамбуле Сирил Макрей оставался в неведении. Джон Рид от руки составил отчет и отправил его дипломатической почтой. Десять дней спустя отчет лег на стол сэра Стюарта Мензиса. Ш немедленно призвал главу советского отдела контрразведки, Кима Филби, и вручил доклад ему. Вот еще одна потенциальная разведывательная операция, кладезь информации, который — подобно бегству Фермеренов за два года до того — может полностью изменить расстановку сил.
Филби читал докладную записку с растущим, хотя и скрытым ужасом: упоминание советского шпиона, заведующего отделом контрразведки в Лондоне, могло относиться только к нему. Даже если Волков и не знал его настоящего имени, он обещал предоставить «копии материалов, ранее переданные» Москве, что вскоре могло вывести на след Кима. Шпионами в Форин-офисе, личность которых Волков тоже грозился раскрыть, были, по всей видимости, Гай Берджесс, работавший теперь в информационном отделе, и Дональд Маклин, первый секретарь британского посольства в Вашингтоне. Уже один этот перебежчик обладал достаточной информацией, чтобы взломать всю «кембриджскую пятерку», вскрыть внутренние механизмы советской разведки и уничтожить персонально Филби. Стараясь сохранить хорошую мину при плохой игре, Филби тянул время, хотя и ответил шефу, что предложение Волкова — «дело чрезвычайной важности». Он пообещал тщательно изучить записку той же ночью и дать свое заключение на следующее утро.
«В тот вечер я работал допоздна, — много лет спустя вспоминал Филби. — Ситуация требовала срочно принимать экстренные меры». Небрежный тон записи — лишь видимость: на самом деле Филби был на грани паники. Он спешным порядком организовал встречу с Кретеншильдом и рассказал ему о случившемся. Тоном типичного англичанина, обсуждающего с приятелем игру в крикет, Макс пытался его успокоить: «Не переживай, дружище. Случались вещи и похуже. Скоро счет изменится в нашу пользу». Кретеншильд советовал Филби уклоняться от прямых ответов и по возможности контролировать ситуацию. В тот же вечер британские радиоперехватчики зафиксировали (хотя и не придали этому особого значения) внезапное увеличение потока шифрованных радиограмм между Лондоном и Москвой, а затем то же самое — между Москвой и Стамбулом.
На следующее утро Филби снова появился в кабинете Ш, кипя энтузиазмом, поскольку любой намек на недовольство мог бы показаться глубоко подозрительным в решающий момент. «Нужно направить туда кого-то, кто полностью в курсе дел, чтобы руководил процессом на месте», — сказал Филби, сформулировав задачу следующим образом: «Встретиться с Волковым, поселить его с женой по одному из наших конспиративных адресов в Стамбуле, а затем перебросить их, с согласия турок или без него, в занятый британцами Египет». Ш одобрил план. Он как раз накануне вечером в «Уайтсе» встретил подходящего человека: бригадный генерал сэр Дуглас Робертс, глава разведотдела службы безопасности на Ближнем Востоке, расположенного в Каире, приехал в Лондон на побывку. Робертс был опытным сотрудником разведки и матерым противником большевизма. Рожденный в Одессе в семье англичанина и русской, он свободно говорил на языке Волкова. В сущности, он оказался единственным сотрудником британской разведки — будь то Ближний Восток или Лондон, — знавшим русский язык, что многое говорит о готовности МИ-6 к «холодной войне». Робертсу не составило бы труда тайно вывезти Волкова из Стамбула, и Филби прекрасно об этом знал. Все, что оставалось Киму, — надеяться, что «работа, проделанная им накануне, принесет плоды до того, как Робертс вплотную займется этим делом».
И тут в очередной раз вмешалась таинственная фортуна Филби. Бригадный генерал Робертс, человек безусловно храбрый, ветеран Первой мировой войны, боялся только одного — летать. И так сильна была его аэрофобия, что в описании его должностных обязанностей отдельным пунктом значилось полное освобождение от любых перелетов. Когда Робертса попросили срочно отправиться в Стамбул и взяться за дело Волкова, он буркнул: «Вы что, не читали моего контракта? Я не летаю».
Очевидно, что вместо Робертса с заданием отлично бы справился Николас Эллиотт. Ему требовалось всего несколько часов, чтобы попасть из Берна в столь хорошо знакомый ему Стамбул. Двумя годами ранее он успешно вывез оттуда Фермеренов и имел в Турции полезнейшие связи. По-видимому, он даже встречался с Волковым, пока работал в Стамбуле. Однако именно из-за того, что Эллиотт подходил идеально, Филби вовсе не хотелось, чтобы старый товарищ взялся за это дело. В кои-то веки, вместо того чтобы деликатно подбросить идею боссу и подождать, пока тот поверит, что сам до нее додумался, Филби пошел на прямое вмешательство, предложив отправиться за Волковым лично. Мензис с «явным облегчением» приветствовал такое решение бюрократической проблемы. Теперь Филби притворялся, будто вовсю разрабатывает план поездки, а на самом деле готовился к ней в черепашьем темпе. Сперва он прошел ускоренный курс по шифровке радиограмм, чтобы обойти взломанные системы посольства, а потом еще три дня попросту убивал время. Когда его самолет наконец вылетел из Каира, рейс перенаправили в Тунис, что привело к дальнейшей задержке. Филби все еще был в пути, когда турецкое консульство в Москве выдало визы двум советским «дипломатическим курьерам», держащим путь в Стамбул.
Филби наконец прибыл в Турцию двадцать шестого сентября 1945 года, спустя двадцать два дня после того, как Волков впервые вышел на связь с британцами. Озаренный осенним солнцем, город выглядел особенно прекрасным, но Филби предавался мрачным размышлениям: если ему не удастся остановить Волкова, то «последнее запоминающееся лето, отпущенное [ему] судьбой, уже позади». Когда Рид осведомился, почему МИ-6 не прислала своего человека пораньше, Филби вежливо солгал: «Извините, старина, нам пришлось бы выдергивать кого-то из отпуска». Впоследствии Рид попробует разобраться в «необъяснимых задержках и отговорках, связанных с визитом Филби», но в тот момент сотрудник Форин-офиса придержал язык: «Я подумал, что он просто безответственный и некомпетентный».
В следующий понедельник Чантри Пейдж — при Филби, стоявшем у него за спиной, — снял телефонную трубку, набрал номер советского консульства и попросил телефонистку соединить его с Константином Волковым. Вместо этого его соединили с генеральным консулом. Пейдж позвонил опять. На сей раз после длительной паузы на звонок ответил некто, представившийся Волковым, но, в отличие от Волкова, говоривший на хорошем английском. «Это был не Волков, — заявил Пейдж. — Я отлично знаю голос Волкова. Я говорил с ним десятки раз». Третий звонок не пробился дальше телефонистки.
«Она сказала, что его нет на месте, — жаловался Пейдж. — А минутой раньше она меня с ним соединила». Лицо Пейджа «выражало крайнее изумление». Ким молча радовался. На следующий день Пейдж снова позвонил в советское консульство. «Я попросил соединить меня с Волковым, и девушка ответила: „Волков в Москве“. Последовало что-то вроде шума и хлопков, а затем связь оборвалась». Наконец, Пейдж лично отправился в советское консульство и вернулся оттуда в ярости: «Черт возьми, все из рук вон плохо. Я вообще не понимаю, что в этом сумасшедшем доме творится. О Волкове никто даже не слышал». Филби тайно ликовал: «С этим делом покончено». К тому моменту покончено было и с самим Волковым.
Два дипломатических курьера — убийцы, направленные московским Центром, — сработали с отменной расторопностью. Несколькими часами ранее два тела, перебинтованных с ног до головы, были погружены на советский транспортный борт, «на носилках и под действием большой дозы снотворного». В Москве Волкова доставили в пыточные казематы Лубянки, где в ходе «бесчеловечного допроса» он признался, что планировал раскрыть имена сотен советских агентов. Затем Волков и его перепуганная жена Зоя были казнены.
Впоследствии Филби вспоминал, что в этом эпизоде он очутился «на волоске от гибели» — так близко к провалу он еще не оказывался. Что касается Волкова, Филби счел этого русского «гнусным типом, получившим по заслугам».
Константин Волков не оставил никаких следов: ни фотографии, ни досье в советских архивах, ни свидетельств того, какими побуждениями он руководствовался — корыстными, личными или идейными. Его семья и семья его жены так и сгинули во мраке сталинского режима. Он справедливо полагал, что его родственники обречены. Волкова не просто ликвидировали — испарилось всякое упоминание о нем.
Филби направил Мензису шифрованное сообщение, где объяснял, что Волков пропал, и просил разрешения считать дело завершенным. В последовавшем затем отчете он предложил несколько убедительных версий исчезновения Волкова: возможно, тот передумал бежать, а может, напился или слишком многое выболтал. Если советская сторона прослушивала телефоны консульства, они могли выяснить правду таким образом. При этом он ни разу даже не намекнул, что, возможно, исчезновение Волкова произошло не без участия британской стороны. Мензис, удовлетворенный объяснениями Филби, пришел к следующему выводу: «Крайне маловероятно, что причиной случившегося стала неосмотрительность сотрудников британского посольства в Стамбуле. Более правдоподобным представляется объяснение, что Волков прокололся сам… Вполне вероятно, что из-за его ссор [с советским послом] за ним велось наблюдение и что он, или его жена, или они оба совершили какую-то ошибку».
По дороге домой Филби сделал остановку в Риме, чтобы навестить Джеймса Энглтона. Нервное напряжение и пережитый ужас все еще не отпускали, и он крепко напился. Американская разведка знала о неудачной попытке Волкова, и намерение встретиться с Энглтоном, возможно, отчасти объяснялось желанием «разведать обстановку» и выяснить, как к этому эпизоду отнеслись в Вашингтоне. Энглтон внимательно выслушал рассказ Филби и «выразил сожаление по поводу того, что столь многообещающее дело проиграно». Впрочем, американец, по-видимому, больше тревожился из-за собственных дел: он был обеспокоен «влиянием работы на его брак», ведь он не видел свою жену Сесили больше года и «чувствовал себя виноватым». Филби выразил ему сочувствие. «Он помог мне обмозговать создавшуюся ситуацию», — сказал Энглтон. Три дня они целиком посвятили обмену секретами и взаимной поддержке, после чего Энглтон буквально внес Филби в самолет — тот «употребил столько, что едва держался на ногах».
Филби осваивался на новом посту, продолжая жить двойной жизнью: он постоянно саботировал собственную деятельность, никогда не вызывая подозрений. Составляя сложные планы по борьбе с советской разведкой, он немедленно выдавал их советской разведке; он призывал как можно активнее бороться с коммунистической угрозой и сам же эту угрозу воплощал; работа его отдела шла гладко, но при этом особых успехов за ним не числилось. Информация, полученная от перебежчика Игоря Гузенко, позволила МИ-5 установить, что Алан Нанн Мэй, еще один тайный коммунист, завербованный в Кембридже, в качестве советского «крота» занимался канадскими ядерными исследованиями. Мэй выходил на связь со своим советским куратором следующим образом: он стоял возле Британского музея, держа в руках экземпляр «Таймс». Ловушка была расставлена, однако ни Мэй, ни его кукловод не пришли. Филби оповестил о готовящейся операции Москву так же, как почти наверняка «предупредил Центр о других агентах, идентифицированных Гузенко и взятых под наблюдение британцами и американцами».
Филби тесно сотрудничал с другими важными шишками из числа секретной элиты могущественного Объединенного разведывательного комитета; на официальных встречах и частных вечеринках он близко общался со сливками секретных служб, с людьми, столь тщательно соблюдавшими конфиденциальность за пределами этого круга избранных и столь неосторожными внутри него. Сотрудники Девятого отдела Филби собирали сведения с целью дискредитации советских сановников, всячески стимулировали переход советских граждан на сторону Запада, добывали секреты у бывших советских военнопленных и шпионили за дипломатами и агентами. Филби утверждал каждый шаг в этой игре, затем сообщал о нем Кретеншильду, а тот, в свою очередь, информировал Центр. От своих знакомых в МИ-5 и МИ-6, от Эллиотта и Энглтона, Мензиса и Лидделла, из каждого уголка разведывательной машины Филби добывал секретные сведения, чтобы содействовать революции и вставлять палки в колеса Западу, и всё «без исключения» передавал в Москву.
Во время войны с помощью дешифровщиков Блетчли-парка Великобритания смогла выяснить, чем занимается немецкая разведка. Шпионская деятельность Филби превзошла это достижение: он умудрялся сообщить своим советским кукловодам, какие действия предпримут британские кураторы, когда те еще только собирались это сделать; ему удавалось сообщать Москве, о чем думает Лондон. «Стэнли рассказал мне о плане одновременно прослушать все телефонные разговоры всех сотрудников советской организации [посольства] в Англии», — сообщал Кретеншильд. Благодаря Филби русские оказывались не на один, а на два шага впереди. И они были ему признательны: «Стэнли — исключительно ценный источник… Одиннадцать лет его безупречной работы на нас являются неопровержимым доказательством его преданности… Наша цель — защитить его от раскрытия».
Шпионы любят получать медали, которые они никогда не смогут носить на публике, — тайные награды за тайные подвиги. В 1945 году Эллиотт получил высокую американскую награду — орден «Легион почета», хотя и любил с типичной для себя скромностью шутить, что, возможно, его наградили за спасение Пэки Макфарланда, коллеги из УСС, которого он пьяным вызволил из стамбульского бара. В начале следующего года благодарная Великобритания представила Кима Филби к ордену Британской империи за его работу в ходе войны. Несколькими месяцами ранее в Москве решили тайно наградить Филби орденом Красного Знамени за «добросовестную службу более десятка лет». К концу 1946 года Филби достиг того, чем не мог похвастаться больше ни один шпион: тремя совершенно разными, независимыми друг от друга наградами от националистической Испании, коммунистического Советского Союза и Великобритании.
В Киме Филби, офицере ордена Британской империи, коллеги все явственнее видели человека, предназначенного для великих свершений: обаятельную звезду Конторы, непревзойденного профессионала, обыгравшего на разведывательном поприще немцев, а теперь ведущего борьбу против советского шпионажа. Стюарт Мензис провел британскую разведку через всю войну, но рано или поздно Ш придется передать эстафету дальше. «Оглядываясь вокруг, — писал язвительный Хью Тревор-Роупер, — я видел биржевых брокеров по совместительству, ветеранов индийской полиции, симпатичных эпикурейцев из баров „Уайтс“ и „Будлз“, скучных весельчаков с морского флота и дюжих авантюристов из полулегальных организаций; потом я смотрел на Филби… только он был настоящим. И я не сомневался: возглавить контору суждено именно ему».
Глава 8
Восходящие звезды
С установлением мира обитатели секретной сферы очутились в новом политическом пейзаже, неясном и неверном, но в то же время полном возможностей. Джеймс Энглтон, антикоммунист до мозга костей, с воодушевлением относился к перспективе борьбы с советской шпионской машиной. «Я был уверен — мы на заре новой эры», — впоследствии вспоминал он. У Николаса Эллиотта ненависть к нацизму легко сменилась отвращением к коммунизму; и то и другое угрожало британскому стилю жизни, которым Николас так дорожил, а значит, и то и другое — зло. В сознании Эллиотта угроза, исходящая от России, ставила всех перед жестким выбором: «Продолжение цивилизации, в общем и целом подходящей для жизни, или Армагеддон». Для Кима Филби политические границы тоже сдвинулись, хотя его убеждения не изменились ни на йоту. Большую часть войны он шпионил на союзника Великобритании; теперь он стал шпионить на ее заклятого врага, да еще и из самого сердца британской разведывательной машины.
Эллиотт окунулся в выполнение своих обязанностей на посту шефа британской разведки в наводненной шпионами Швейцарии с энтузиазмом школьника, каковым он во многом и оставался. Теперь он был мужем, отцом (в 1947 году родился сын Марк), сотрудником разведки, профессионалом МИ-6, обремененным огромной ответственностью, и все-таки оставалось в нем нечто мальчишеское, этакое обаятельное сочетание житейского опыта с наивностью, когда он ощупью пробирался по зыбучим пескам шпионажа. Сложные задачи по сбору разведданных доставляли ему удовольствие, хотя подчас казались абсурдными. «Я этим занимаюсь, чтобы посмеяться от души», — признавался он. Эллиотт и сам понимал, что склонность находить смешное даже в худших ситуациях служила ему «своего рода защитным механизмом», способом слегка отодвинуть реальность с помощью шуток — чем неприличнее, тем лучше. В характере Эллиотта очень по-английски сочетались уравновешенность и неординарность, консерватизм и чудаковатость: он пользовался популярностью у коллег, поскольку был неизменно учтив и никогда не повышал голоса. «Оскорбление словом — неправильный метод, — заметил он однажды. — Ну разве что в общении с немцами годится». Эллиотт на дух не переносил бюрократию, административный аппарат и правила. Он отлично справлялся с разведывательным делом благодаря личным связям, готовности к риску, интуиции и тому, что он называл «британской традицией кое-как выкарабкиваться несмотря ни на что». Насмешливый, старомодный и эксцентричный, Эллиотт многим казался напыщенным болтуном. Это был удобный камуфляж.
Как и в Стамбуле, Эллиотт окружил себя весьма пестрым сборищем — агентами, информаторами и наводчиками; он обхаживал новых друзей и привозил старых. «Одна из радостей жизни в Швейцарии в послевоенный период — возможность приглашать к себе друзей из обездоленной Англии и откармливать». Гостевая спальня на Дюфурштрассе стала временным пристанищем для целой вереницы британских и американских шпионов, пересекающих Европу вдоль и поперек. Ричард Бруман-Уайт, закадычный друг Эллиотта, который помог Филби попасть в Пятый отдел, прибыл на постой в 1946 году и едва не попал под раздачу, когда официантка в любимом ресторане Эллиотта, фламбируя омлет прямо возле столика, так неудачно вылила бренди на раскаленную сковородку, что вызвала настоящий взрыв, от которого загорелись волосы шведской посетительницы. Эллиотт потушил пожар с помощью трех бокалов белого вина. Филби во время своих регулярных поездок по Европе непременно останавливался в Швейцарии на «рабочие выходные» в компании Эллиотта — с обильными возлияниями, швейцарской кухней и шпионскими сплетнями. Еще одним частым гостем был Питер Ланн, один из «старейших и ближайших друзей» Эллиотта по Итону. Худощавый, голубоглазый, шепелявый, Ланн вступил в МИ-6 тогда же, когда и Эллиотт, в 1939-м, но в целом предпочитал шпионажу катание на лыжах. Ланны принадлежали к «британской лыжной аристократии»: дед Питера, бывший миссионер, всю жизнь проповедовал радости лыжного спорта и основал лыжную компанию, которая носит его имя по сей день; отец Питера развернул успешную компанию по признанию горнолыжного спорта олимпийским видом, а сам Питер возглавил британскую команду на зимних Олимпийских играх 1936 года. Под руководством Ланна Эллиотт начал увлекаться спортом со свойственным ему сочетанием энтузиазма и безрассудства. Если отец Эллиотта медленно поднимался в горы, то Николас теперь с восторгом мчался с них вниз на максимальной скорости. Большую часть выходных он проводил на склонах Венгена или Санкт-Морица. Но оказалось, что жизнь Эллиотта может быть еще приятнее, когда в Берн прибыл Клоп Устинов, его старый друг и наставник в Гааге. Этот русский смешанных еврейских и эфиопских кровей, говоривший с великосветским британским акцентом, успешно вырвавший шпиона Вольфганга цу Путлица из лап гестапо, во время войны вел крайне увлекательную жизнь, работая на британскую разведку, а в последнее время находился в Германии, где, в форме полковника британской армии, оказался «доверенным лицом, идеально подходящим для допроса подозреваемых в нацизме». В 1946 году Устинова направили в Берн, чтобы он вместе с Эллиоттом «попробовал составить единую картину послевоенных агентурных сетей СССР в Европе». Эллиотт был очень рад снова встретиться с этим неунывающим шарообразным господином, то и дело радостно подмигивающим за стеклом монокля. Клоп считал жизнь «поверхностной штукой», и этот его настрой прекрасно сочетался с легкомыслием Эллиотта и его вкусом к опасности. Партнерство Эллиотта и Устинова оказалось невероятно продуктивным, но способствующим полноте: отличный повар, Клоп имел склонность возникать, как черт из табакерки, неся rognons de veau а la liйgoise[10] в картонке от цилиндра.
Сперва Эллиотт и Устинов сосредоточились на уцелевших в Швейцарии остатках советской шпионской системы, в особенности на агентурной сети под кодовым названием «Красная капелла», включавшей на пике своего развития целых сто семнадцать агентов, причем сорок восемь из них работали в Германии; эта сеть добывала разведданные самого высокого уровня. Одним из наиболее видных членов сети был британец, молодой коммунист по имени Александр Фут. Уроженец Дербишира, Фут служил в ВВС Великобритании, откуда дезертировал, чтобы присоединиться к британскому батальону интернациональных бригад, участвовавших в гражданской войне в Испании. Незадолго до Второй мировой советская военная разведка завербовала Фута и отправила его работать радистом в зарождающейся «Красной капелле». В январе 1945 года Фут перебрался в Москву, убедил тех, кто его допрашивал, в своей неизменной преданности, после чего был переброшен в советский сектор послевоенного Берлина под псевдонимом «майор Гранатов». Оттуда в июле 1947 года он перебежал на британскую сторону. Фут располагал подробной картиной методов советской разведки, дававшей «уникальную возможность изучить методологию советской разведывательной сети», благодаря чему Эллиотт и Устинов смогли составить представление о «плане коммунистической деятельности во время „холодной войны“». Разговор с Футом выявил ряд аспектов, вызывавших большую тревогу, и главным откровением стало то, что в Великобритании было немало глубоко законспирированных шпионов, работавших на Москву уже долгое время, и некоторые из них были завербованы задолго до войны. Эллиотт с Устиновым пришли к выводу, что большинство таких шпионов — «убежденные и активные коммунисты», пусть и не связанные с партией открыто.
Джеймс Энглтон начал рассматривать борьбу с советским шпионажем «не столько с точки зрения идеологии, сколько как образ жизни». В последние годы войны и первые годы мира агенты Энглтона наводняли каждый уголок Италии, государственную службу, военные силы, разведку и политические партии, включая итальянскую компартию, поддерживаемую СССР. Подобно Эллиотту, Энглтон тщательно создавал себе предельно эксцентричный образ: он давал своим агентам ботанические прозвища, такие как Инжир, Роза или Томат, щеголял в меховой накидке с высоким воротником, благодаря чему выглядел «точно британский актер, подражающий шпиону тридцатых». За спиной коллеги называли его «трупом» и дивились его странностям. «Этот парень попросту из другого мира», — сказал один из них. Но дело свое он знал. К 1946 году он успешно проник ни много ни мало в семь иностранных разведок, обзаведясь списком из пятидесяти с лишним активных информаторов, причем большинство из них были довольно сколькими типами, а некоторые — предельно скользкими. Среди наиболее эффектных — и наиболее изворотливых — была княгиня Мария Пиньятелли, вдова итальянского маркиза, связанного с Муссолини, предложившая УСС свои услуги в качестве информатора, чтобы сообщать об остаточных явлениях итальянского фашизма. Однако Энглтон выяснил, что прежде Пиньятелли имела связи с немецкой разведкой; он никогда не мог полностью доверять шпионке, которую с более чем сдержанной симпатией именовали княгиней Свиньей[11]. Еще более двусмысленную роль играл Вирджилио Скаттолини, грузный итальянский журналист, автор полупорнографических бестселлеров, таких как, например, «Амазонки в биде» (не очень-то соблазнительное название). Эта побочная деятельность не помешала журналисту получить должность в газете Ватикана. В 1944 году он предложил снабжать УСС в Риме дипломатическими документами и телеграммами из Ватикана, включая копии отчетов папского нунция в Токио, напрямую контактировавшего с крупными японскими чинами. Энглтон вознаграждал Скаттолини по-царски, выплачивая ему по пятьсот долларов в месяц. Его донесения пересылались прямо к Рузвельту и считались настолько секретными, что доступ к ним могли санкционировать только президент и госсекретарь США лично. Но вскоре у Энглтона возник повод для сомнений: выяснилось, что Скаттолини норовил продать тот же самый материал другим разведкам, включая МИ-6. Настоящий кризис наступил, когда Скаттолини довел до сведения американцев разговор, состоявшийся между японским посланником в Ватикане и его американским коллегой, — как выяснил Государственный департамент США, этого разговора вообще не было. Скаттолини попросту высасывал информацию из пальца и продолжал этим заниматься даже после того, как Энглтон его уволил. В 1948 году итальянца посадили в тюрьму за то, что он сфабриковал целых два тома, якобы представлявших собой «Секретные дипломатические документы Ватикана».
Чрезвычайно досадный эпизод со Скаттолини стал первым пятном на карьере Энглтона. Кроме того, он усугубил естественную склонность американца к повышенной подозрительности. Наблюдая в свое время, как британцы успешно ведут «двойную игру» против немцев, он понял, «насколько уязвимой может оказаться даже самая, казалось бы, надежно защищенная разведка перед тайным внедрением вражеских сил». Поразмыслив, Энглтон начал подозревать, что Скаттолини мог быть двойным агентом, внедренным СССР, чтобы нарочно сеять дезинформацию. Двурушничество шпионов, подобных княгине Свинье и Вирджилио Скаттолини, видимо, усилило недоверие Энглтона ко всем, кроме нескольких приближенных; его все сильнее охватывала одержимость двойными агентами и «византийскими возможностями, открывавшимися на ниве контрразведки». Во время визитов Энглтона в Берн Эллиотт заметил растущее недоверие американского друга, его навязчивую склонность к коллекционированию секретных документов, его почти религиозную приверженность секретности. Энглтон ежедневно искал в своем римском кабинете «жучки», «ползая по полу на четвереньках», убежденный, что советская разведка пытается прослушивать его разговоры так же, как он их прослушивал. «Его настоящей страстью было распутывать сплетаемые КГБ сети обмана, внедрения и интриг, — писал Эллиотт. — Превыше всего он ставил секретность, возможно, даже секретность ради самой секретности».
Подлинное чувство родства Энглтон испытывал только с другими шпионами и впоследствии вспоминал о том, как дружба, секретность и профессиональное товарищество объединились во время его пребывания в Риме. «Мы были… чертовски добрыми друзьями, — говорил он. — Я считаю, что только при таких условиях контора и может работать». Во многих странах мира между американской и британской разведкой шло соперничество, но у Энглтона с Эллиоттом почти не было друг от друга секретов, а еще меньше у них было секретов от Кима Филби.
Во время очередного приезда Филби в Рим Энглтон рассказал ему об одном из своих достижений, которым особенно гордился: ему удалось установить прослушку в кабинете Пальмиро Тольятти, одного из создателей Итальянской коммунистической партии и ее генерального секретаря. Во время войны Тольятти находился в Советском Союзе, где выступал с радиообращениями, призывая итальянских коммунистов противостоять нацистам, а после свержения Муссолини вернулся в Италию для участия в демократическом правительстве национального единения. Из-за связей с Москвой Тольятти вызывал у американцев особые подозрения, и вот теперь Энглтон хвастался, что записывает каждое слово, произнесенное в кабинете лидера коммунистов. Несколько недель спустя Борис Кретеншильд направил послание в московский Центр: «Стэнли сообщил, что контрразведывательный отдел УСС в Италии установил микрофон в здании, где работает Тольятти, благодаря чему они теперь могут прослушивать все разговоры».
Осенью 1946 года Филби объявил, что женится на Эйлин Фёрс — эти новости потрясли и Эллиотта, и Энглтона, пребывавших в полной уверенности, что Филби давно женат на матери своих детей. Но Филби до сих пор отказывался жениться на Эйлин, несмотря на все ее мольбы, по той простой причине, что уже был женат на иностранной коммунистке. Однако, поднимаясь по карьерной лестнице в МИ-6, Филби смекнул, что именно этот скелет в его шкафу, битком набитом подобными вещами, придется предать огласке. Он встретился с Валентайном Вивьеном — тем самым, кто в самом начале с такой легкостью открыл ему путь в контору, — и признался, что, будучи пылким юнцом, женился на австрийке левых взглядов, с которой теперь собирался развестись, чтобы наконец сделать Эйлин честной женщиной. Это откровение, похоже, не заставило Ви-Ви и на секунду задуматься.
Филби связался с Литци, теперь жившей в Париже, дружески и без всяких проблем получил ее согласие на развод, а через неделю после развода, 25 сентября, расписался с Эйлин в бюро записей актов гражданского состояния в Челси. Эллиотт, по уши занятый выполнением своих обязанностей в Швейцарии, не смог присутствовать на церемонии, но послал молодым гигантский букет и ящик шампанского. Свидетелями стали Томми Харрис, руководитель двойных агентов МИ-5, и Флора Соломон, подруга Филби и бывшая начальница Эйлин, которая и познакомила их в 1939 году. Затем гости переместились в фамильный дом Филби на Карлайл-сквер, где началась хмельная вечеринка, продолжавшаяся до поздней ночи. Присоединившиеся к ним друзья и коллеги из МИ-6 были рады поднять бокал за столь запоздалое бракосочетание, вполне соответствовавшее слегка богемному образу Кима. Старший коллега Филби по МИ-6 Джек Истон, впоследствии ставший заместителем директора, заметив, как явно гордится новобрачный растущим семейством, воскликнул: «Какой, должно быть, славный парень этот Ким!» Флора Соломон испытывала почти собственническую гордость, наблюдая «счастливый конец» в истории молодой четы: «Ким, счастливый и преданный отец, делал успешную карьеру в Форин-офисе, а Эйлин казалась спокойной и довольной». Что касается ранних увлечений Филби коммунизмом, то, как рассудила Соломон, они, «по-видимому, остались в его туманном юношеском прошлом».
Филби ни словом не обмолвился Эйлин о своей работе в МИ-6, не говоря уже о деятельности на поприще советской разведки. Она знала только о том, что он работает на Форин-офис. Но Эйлин и сама кое-что скрывала. Филби понятия не имел, что вот уже много лет она страдает от психического расстройства, известного как синдром Мюнхгаузена, симптомы которого — попытки нанести себе вред и даже импульсивное поджигательство с целью привлечь внимание и вызвать сочувствие. Подростком она вскрыла себе шов от аппендицита и занесла туда собственную мочу, из-за чего рана заживала значительно дольше. Эйлин отличалась «неловкими жестами и неуверенным поведением в компании», ее психическое здоровье все ухудшалось, а количество «происшествий» и недугов неуклонно множилось. Возможно, нервное истощение Эйлин обуславливалось первыми сомнениями; вероятно, у нее уже назревал вопрос, действительно ли ее муж тот обаятельный, семейный человек, честный чиновник и всеобщий любимчик, каким кажется со стороны. Он имел свойство исчезать без предупреждения или объяснений, иногда на целые сутки, и возвращаться с похмелья, угрюмо-неразговорчивым. Эйлин происходила из консервативной семьи, из мира девочек-скаутов, колониальных чиновников, брачных клятв и бесхитростного патриотизма. Флора Соломон считала подругу «неспособной на предательство, будь то в личном или политическом плане», но Эйлин все же была живым человеком, а потому со временем начала подозревать, что ее муж, возможно, встречается с кем-то еще. Однако если у нее и зародились сомнения, то она никому о них не рассказала. Миссис Филби, некогда работавшая в «Марксе и Спенсере» сыщиком под прикрытием, тоже неплохо умела хранить секреты.
Решение Филби привести в порядок домашние дела было разумным карьерным ходом, раз уж его прочили на пост главы МИ-6. Эллиотт лелеял схожие честолюбивые замыслы. Но если Эллиотт уже провел немало времени, работая «в полевых условиях» — в Стамбуле и Берне, то Филби пока что большую часть своей службы в разведке просидел за столом. В конце 1946 года Мензис сообщил Филби, что, для того чтобы получить «получить всесторонний опыт», ему следует пойти по следам Эллиотта и возглавить резидентуру МИ-6 в Турции. Девятый отдел передали Дугласу Робертсу, одному из старейших сотрудников, чья аэрофобия позволила Филби полностью взять под контроль дело Волкова. Гай Лидделл из МИ-5 «глубоко сожалел», узнав, что Филби покидает Лондон, и сомневался, что ему найдут достойного преемника. Но Филби с радостью воспринял перевод на другую должность. Стамбул являлся «основной южной базой разведывательной деятельности простив Советского Союза и социалистических стран Балканского полуострова и Центральной Европы», и его новое назначение указывало на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. «Ким закатил большую прощальную вечеринку, — записал в своем дневнике Лидделл, — где присутствовали главным образом представители нашей конторы, СРС и американцы. Он отбывает в Турцию».
По пути Филби сделал остановку в Швейцарии, чтобы повидаться с Эллиоттом, — тот во всех подробностях рассказал ему, чего ждать от Стамбула, и передал свой список контактов. В 1947 году значение Стамбула как шпионского центра стало еще больше, чем во время войны. На фоне опасений, что Восток и Запад ожидает полномасштабная конфронтация, между Турцией и СССР росло напряжение: с территории Турции западная разведка старалась внедрять шпионов и инсургентов в Советский Союз, отвечавший тем же. Перед отъездом из Лондона Филби велели по возможности выступать в роли провокатора, то есть демонстрировать противнику готовность к перевербовке и желание стать двойным агентом. Ему «дали разрешение играть с русскими в двойную игру по полной». Таким образом, Ким обзавелся еще одним защитным слоем — если бы обнаружили, что он поддерживает связь с советской стороной, у него было бы железобетонное объяснение.
Филби приземлился в том самом аэропорту, откуда двумя годами ранее злополучного Константина Волкова увезли навстречу смерти. Ким снял виллу в районе Бейлербей на берегу Босфора, разместил там свое растущее семейство, а затем, вооруженный инструкциями Эллиотта, без труда проник в шпионское сообщество Стамбула. По наследству перешли к нему и услуги шафера Эллиотта Романа Судакова, «белоэмигранта безграничного обаяния и сокрушительной энергии», согласно описанию Филби. Турецкие власти, будучи надлежащим образом подкупленными, по-прежнему позволяли иностранным разведкам «заниматься шпионажем почти без ограничений, если при этом они не шпионили против Турции». В следующие два года Филби и пятеро его помощников устанавливали контакты с турецкими службами безопасности, обхаживали изгнанников, выслеживали возможных перебежчиков, координировали действия британских агентов и проводили топографические исследования турецко-советской границы — возможной точки вторжения в случае войны. Однако важнейшим приоритетом Кима было внедрение агентов на советскую территорию самым широким фронтом — на Кавказ, Украину, в Крым, Грузию, Армению и Азербайджан. В МИ-6 полагали, что Советская Армения и Советская Грузия более прочих созрели для диверсионной деятельности. Сотни грузинских и армянских эмигрантов бежали от коммунизма, чтобы обосноваться в Бейруте, Париже и других западных городах; если бы удалось найти, обучить, а потом перебросить через границу подходящих кандидатов, эти мятежники могли бы сформировать ядро контрреволюционной ячейки, способной «начать плести шпионскую сеть», разжигать восстание против коммунистического правительства, вербовать сторонников среди местного населения и в конце концов отбросить «красный прилив» назад. Так, по крайней мере, было в теории. В последующие годы МИ-6 и ЦРУ придавали подобной тактике все больше значения, по мере того как стратегия «отбрасывания» становилась главной доктриной разведки. Филби был «энергичным энтузиастом» такого рода «войны чужими руками» внутри Советского Союза. Он находил свое новое назначение увлекательным. Москва придерживалась того же мнения.
В Стамбуле Филби не выходил на связь с советской разведкой напрямую. Вместо этого он посылал любую информацию, которую удавалось раздобыть, Гаю Берджессу, работавшему тогда в Форин-офисе, а тот уже передавал советской стороне. Одной рукой Филби организовывал внедрение агентов, а другой рукой свою же пряжу распускал. Москве было доподлинно известно, как поступать с информацией Филби: «Мы заранее знали о каждой операции, имевшей место, происходило ли это в воздухе, на земле или на море, или даже в горных и малодоступных районах».
Энглтон тоже не сидел на месте, а продвигался вверх. Центральное разведывательное управление было официально создано в сентябре 1947 года. Три месяца спустя, отработав три года в Риме, Энглтон вернулся в Вашингтон, чтобы занять новую должность в Управлении специальных операций (УСО), где на него возлагалась ответственность как за шпионаж, так и за контршпионаж. Воссоединившись со своей многострадальной женой и маленьким сыном, Энглтон обосновался в штате Вирджиния — в пригородной местности — и в канун Нового года подал официальную заявку на вступление в ЦРУ. Этой разведывательной организации он будет служить, одновременно формируя и возглавляя ее, почти три десятилетия.
УСО было подразделением по сбору разведданных в зарождающемся ЦРУ, и именно отсюда Энглтон начал создавать собственную империю, вкалывая днем и ночью, с маниакальной решимостью подгоняя себя, своих коллег и секретарей. Начал он с маленького кабинета и одной секретарши; через год он пошел на повышение, его работу оценили как «отличную», дали ему прибавку к жалованию и значительно больший кабинет; два года спустя в его распоряжении оказались уже шесть секретарей и помощников, а также обширная база документов, посвященных британской разведывательной модели — именно ей предстояло стать «тем самым механизмом, посредством которого ЦРУ организовало секретную войну против Советского Союза». По мере того как война становилась все более масштабной, крепло и влияние Энглтона. «Он был полностью поглощен своей работой. Ни для чего другого места не оставалось», — утверждал его секретарь. По выходным он рыбачил, обычно в одиночестве, или ухаживал за своими орхидеями. Как ни удивительно, Сесили не только мирилась с его особенностями, но и любила его за них. «Мы вновь открывали друг друга», — вспоминала она. При всей его эксцентричности было что-то глубоко романтичное в этом полумексиканце с изможденным лицом, сильно пьющем поэте и шпионе, который лелеял свои секреты, словно редчайшие цветы.
Если супружество Энглтона теперь обрело почву под ногами, то брак Филби, со стороны казавшийся таким крепким, начал распадаться. Эйлин Филби пришла к убеждению, что у мужа интрижка с его секретаршей Эдит Уитфилд, молодой и красивой приятельницей Гая Берджесса, которого Эйлин терпеть не могла. Как это бывало в Лондоне, Филби порой исчезал на всю ночь без предупреждений или объяснений. Эдит неизменно сопровождала его во время поездок по стране. Из-за этих подозрений, почти наверняка оправданных, Эйлин погрузилась в еще более глубокую депрессию и серьезно заболела. Она тайно вколола себе мочу, из-за чего ее тело покрылось нарывами. Здоровье Эйлин пошатнулось так сильно, что спустя десять месяцев после переезда в Стамбул ее пришлось госпитализировать. В больнице она получила тяжелые ожоги, после того как в ее комнате загадочным образом вспыхнул пожар.
Эйлин уже была в Бейлербее и, похоже, приходила в себя, когда однажды вечером Филби заявился домой и, ухмыляясь, объявил: «В моем джипе возле нашего дома сидит один из самых одиозных деятелей Форин-офиса». Не предупредив заранее, Гай Берджесс приехал к ним в отпуск почти на целый месяц. Два старых приятеля и товарища по шпионскому делу — вместе с примкнувшей к ним Эдит Уитфилд — окрасили город коммунистическим багрянцем. За один только вечер в яхт-клубе «Мода» они влили в себя пятьдесят две порции бренди. Под конец вечера можно было услышать, как Берджесс поет на мотив «Сердце красавиц»:
Мальчики хороши,
Стоят они гроши.
Полкроны дашь им,
И они ваши.
Отлученная от шумного веселья, терзаемая глубокими подозрениями и рассерженная присутствием в доме пьяного распутника, к которому ее муж так сильно привязался, Эйлин была на пути к серьезному срыву.
Надвигающийся кризис не вызывал у Филби особого беспокойства — похоже, он вообще о нем не подозревал. Он оставался все тем же очаровательным, бодрым малым, в достаточной степени повесой, чтобы заставить наиболее пуритански настроенную часть дипломатического братства приподнять брови, но не настолько разнузданным, чтобы поставить под угрозу свои карьерные перспективы на секретной службе. В глазах МИ-6 «он был деятельным и надежным». Кроме того, Филби выполнял важную работу, взяв на себя борьбу с красной угрозой, хотя его попытки прорвать оборону советской разведки оказывались далеко не успешными.
Встреча в Швейцарии (возможно, организованная Эллиоттом) с турком, представляющим группы грузин и армян, живущих в изгнании, помогла достичь устной договоренности о том, что МИ-6 «согласится поддержать их финансово и помочь с обучением», если в этих эмигрантских кругах найдутся люди, пригодные для контрреволюционной деятельности. Однако найти подходящих исполнителей, способных разжечь мятеж за «железным занавесом», оказалось непростой задачей: многие из потенциальных мятежников родились за границей или так долго жили в изгнании, что уже очень плохо знали свою родину, другие же запятнали себя участием в нацистских попытках дестабилизировать СССР во время войны. Изначально Филби представлял себе, что будет засылать по полдюжины групп по пять или шесть «повстанцев» в Советскую Грузию или Советскую Армению, чтобы каждая из них находилась там по нескольку недель. В итоге из грузинских изгнанников, живущих в Париже, удалось отобрать всего двоих: «энергичных парней» двадцати лет от роду, готовых выполнить миссию, отправившись на родину, которой они даже никогда не видели. Фамилия одного из них — Рухадзе, а имя другого так и осталось неизвестным.
Двух этих молодых людей обучали в Лондоне в течение шести недель, а потом отправили в Стамбул, где их встретил Филби. Операция под кодовым названием «Альпинист» была задумана как «молниеносный налет», экспериментальная вылазка, чтобы оценить, каковы возможности организовать восстание в Грузии: два агента должны были установить каналы связи с потенциальными мятежниками-антикоммунистами, а потом тайно пересечь границу и вернуться в Турцию. Молодые люди произвели на Филби впечатление «внимательных и умных», убежденных, что наносимый ими удар поможет освободить Грузию от советского ига. Впрочем, один из них, видимо осознавший, что в случае разоблачения ему грозит неминуемая смерть, казался «явно подавленным». Группа отправилась в город Эрзурум на востоке Турции, где Филби торопливо проинструктировал двух агентов и снабдил их оружием, радиоаппаратурой и мешком золотых монет. «Нужно было показать, что я делаю все возможное для успеха операции», — писал он впоследствии. На самом деле он, конечно же, преследовал цели прямо противоположные. Точкой перехода выбрали Пософ, расположенный в самой северо-восточной части Турции, на границе с Грузией. Во мраке ночи агентов доставили на дальний участок границы и тайком переправили на советскую территорию.
Через несколько минут с грузинской стороны прогремела стрельба. Один из мужчин упал, сраженный первым же залпом. Второго, Рухадзе, приметили в предрассветных сумерках «спешно удаляющимся по редколесью от турецкой границы». Далеко уйти ему не дали — вскоре он оказался в руках советской разведки. Палачам едва ли удалось вытянуть из него что-либо осмысленное перед смертью: он мало что знал. Годы спустя Филби обсуждал судьбу этих грузин с главой грузинского КГБ: «Парни были неплохи, — говорил он. — Совсем неплохи. Я отлично знал, что их поймают и что их ожидает трагическая участь. Но, с другой стороны, это был единственный способ воткнуть кол в сердце будущих операций». Плохо продуманная и скверно спланированная операция, скорее всего, и так бы провалилась, но Филби совсем не оставил агентам шансов (он мог бы с таким же успехом казнить их лично). Однако их гибель не беспокоила его — ни тогда, ни потом. Если что и омрачало его счастливый горизонт, то только все более сумасбродное поведение жены.
Как-то раз, мартовским вечером 1949 года, Эйлин Филби обнаружили лежащей у проселочной дороги с глубокой раной в голове. Придя в себя, женщина объяснила, что во время прогулки какой-то турок яростно набросился на нее и ударил камнем. Нескольких подозреваемых взяли и «в оковах» привели в больницу к Эйлин, но она не сумела точно опознать нападавшего. Турецкая полиция зашла в тупик; в не меньшем замешательстве оказались и врачи, когда у больной начался сепсис. Теперь ей было совсем худо. Столь серьезный кризис заставил Филби обратиться к старому другу.
Филби связался с Николасом Эллиоттом (тот находился в Берне) и сообщил ему, что Эйлин, кажется, «умирает от какого-то загадочного недуга». Не мог бы Эллиотт найти швейцарского врача, который поставил бы правильный диагноз? Эллиотт мгновенно принялся за дело. После тщательных поисков он сообщил Филби, что нашел нужного человека: видный швейцарский профессор медицины ознакомился с симптомами Эйлин и полагал, что в силах ее исцелить. Чета Филби сразу же вылетела в Женеву, а в Берн их уже доставила машина скорой помощи; Эйлин поместили в хорошую больницу, а Филби остановился у Эллиоттов. Всего через несколько дней после прибытия Эйлин попыталась поджечь свою комнату, а потом рассекла себе руку бритвенным лезвием. Швейцарский доктор быстро установил, что Эйлин сама поранила себе голову и сама себя заразила. История с нападением на дороге оказалась вымышленной. Лондонский врач Эйлин, лорд Хордер, подтвердил, что его пациентка наносила себе вред еще с подросткового возраста. После этого Эйлин перевели в психиатрическую клинику, чтобы держать ее там под наблюдением. Эллиотт испытал глубокий шок, когда обнаружил, что эта «очаровательная женщина, любящая жена и мать втайне от всех страдала тяжелым душевным недугом». Эллиотты окружили ее нежной заботой; Николас дежурил у ее постели, кормил виноградом, развлекал шутками. Постепенно Эйлин восстанавливала силы, понемногу к ней возвращалось и самообладание.
Филби пришел в ярость, и такая реакция показалась Эллиотту весьма странной. Он ожидал, что Ким испытает облегчение, поскольку его супруге наконец-то поставили диагноз. Однако друг горько сетовал, что Эйлин водила его за нос, и клялся, что никогда ее не простит. «Гордости Филби был нанесен жестокий урон», — счел Эллиотт. Шутка ли, его, профессионального разведчика, сведущего в науке обмана, «столько лет дурачила» собственная жена! «Ему пришлось вернуться в Стамбул с сознанием того, что все годы, пока он жил с Эйлин, его постоянно обманывали». Эллиотт никогда бы не стал критиковать Кима, в особенности если дело касалось женщин. Он знал о внебрачных связях Филби и не осуждал его. Вообще-то у самого Эллиотта тоже была любовница — шведка, которую он тщательно скрывал от Элизабет. Брак мужчины — его личное дело, и с точки зрения Ника Эллиотта поведение Кима Филби было в порядке вещей. Но все же казалось странным, что его друг так разозлен обманом, который, в конце концов, носил скорее медицинский, нежели нравственный характер. Начиная с того момента, как грустно заметил Эллиотт, «брак неуклонно разрушался».
Не успела Эйлин провести в Стамбуле и месяца после возвращения из Швейцарии, как Филби объявил, что семья снова переезжает. Ему предложили один из важнейших постов в британской разведке — должность шефа МИ-6 в Вашингтоне, и он согласился.
Блокада Западного Берлина резко выявила возраставшее напряжение «холодной войны», и расстановка сил в отношениях Великобритании и США стала меняться. Время, когда МИ-6 могла покровительствовать американским любителям, новичкам в деле шпионажа, давно прошло, и нынче шпионским шефам в Уайтхолле приходилось бороться с непривычным и неловким ощущением от того, что теперь американцы играют первую скрипку, ведут войну нового типа против Советов и оплачивают связанные с ней расходы. Большую часть Второй мировой войны США находились в положении младшего партнера в вопросах разведки, с благодарностью следуя примеру британцев. Теперь они поменялись местами, но ветераны МИ-6 упорно стремились доказать, что Великобритания все еще является лидером в шпионской игре, несмотря на все более очевидный упадок империи. Один из способов остановить процесс распада — отправить в Вашингтон молодую звезду, героя разведки, обладателя впечатляющего послужного списка и наград за военные заслуги, живое свидетельство того, что британская разведка все в той же отличной форме, в какой всегда была.
В США Киму Филби надлежало поддерживать отношения между английской и американской разведками, способствовать контактам с ЦРУ и ФБР и даже осуществлять тайное посредничество между британским премьер-министром и американским президентом. МИ-6 едва ли могла выразить ему свое доверие в более явной форме. Его имя значилось в списке из трех кандидатов на заветный пост; окончательный выбор был предоставлен американцам. По словам историка ЦРУ Рэя Клайна, «именно Джеймс Хесус Энглтон назвал имя Филби».
Ким не спрашивал мнения Эйлин по поводу новой должности. Он даже не стал дожидаться одобрения советских кукловодов. Он принял соблазнительное предложение ровно через полчаса после того, как получил его. «Это позволяло мне одним ударом убить двух зайцев: снова оказаться в самом центре формирования разведывательных стратегий и с близкого расстояния изучать американскую разведку», — писал он. Новая должность также предоставляла ему «неограниченные возможности» для сбора свежих разведданных в пользу своих советских кураторов.
Стамбульские коллеги огорчились, узнав о новом назначении Филби — они уже успели привыкнуть к его жизнерадостности и компетентности. «И с кем же мне теперь работать?» — вопрошал посол, сэр Дэвид Келли. В Лондоне такой поворот рассматривали как естественный прогресс человека, предназначенного для карьерных высот. Эллиотт был в восторге; если он и почувствовал укол зависти к другу, который, похоже, взбирался по карьерной лестнице быстрее, чем он сам, то английское воспитание не позволило ему это показать.
Филби улетел обратно в Лондон в начале сентября, чтобы пройти инструктаж по своим новым обязанностям. Он не пожалел времени, чтобы выйти на связь со старыми знакомыми в МИ-5 и МИ-6, и каждого из них пригласил погостить у него в Вашингтоне. «Меня угощали ланчем во множестве клубов, — писал он. — Дискуссии за кофе и портвейном были посвящены самым разнообразным темам». Те же самые темы Филби обсуждал и на встречах — не менее оживленных, но куда более секретных, — проходивших в различных лондонских парках. Борис Кретеншильд был рад новому назначению своего агента и находился под большим впечатлением от преданности этого двуличного человека: «Одно его лицо открыто семье, и друзьям, и всем вокруг, — сообщал Кретеншильд московскому Центру. — Другое принадлежит только ему самому и его секретной работе».
В Лондоне с Филби в основном обсуждали Албанию. Большинство граждан Великобритании, Америки и СССР если и думали об Албании вообще, то представляли себе дикую страну на краю Европы, место, почти мифически оторванное от остального мира. Но Албания, затиснутая между Югославией, Грецией и Адриатическим морем, готовилась стать важнейшим полем битвы в «холодной войне». После Второй мировой король Зогу лишился трона, и страна оказалась под железной дланью Энвера Ходжи, безжалостного и коварного лидера партизан-коммунистов, начавшего превращать ее в сталинистское государство. В 1949 году Албания уже представляла собой соблазнительную цель для ястребов-антикоммунистов в британской и американской разведках: отделенная от советского блока Югославией (которая и сама на тот момент рассорилась с СССР), Албания была бедной, феодальной, малонаселенной и политически нестабильной страной. Многим албанским роялистам и националистам, жившим в изгнании, не терпелось вернуться на родину и сразиться с коммунистами. Выдавая желаемое за действительное, в Лондоне и Вашингтоне полагали, что страна готова стряхнуть с себя коммунистические оковы, а значит, надо перебрасывать через границу специально обученных партизан, чтобы те выходили на связь с местными группами мятежников с целью постепенно разжечь гражданскую войну и свергнуть Ходжу. Считалось, что успешный подрыв албанского коммунизма запустит «цепную реакцию, которая позволит отразить натиск советского империализма». УСО занимало важные позиции в Албании во время войны, в связи с чем было принято решение, что Великобритания должна играть ведущую роль в подготовке албанских мятежников, при активной поддержке США. Филби подробно посвятили в эти планы. Первую волну инсургентов предполагалось переправить на корабле из Италии в октябре 1948 года; эта миссия получила кодовое название «Ценность».
Албанская операция — типичный образец военного шапкозакидательства, неуместно примененного в обстоятельствах «холодной войны», требующих куда более тонкого подхода. Однако в МИ-6 операцию рассматривали как первый орудийный залп в новой негласной войне. Сталин поддерживал коммунистических инсургентов в Греции, организовал захват коммунистами власти в Чехословакии и подверг блокаде Берлин. Албанию выбрали мишенью контратаки, что было прямым нарушением международного права, но отвечало новому агрессивному настрою. Многие уже злорадно потирали руки. Ричард Бруман-Уайт, друг Эллиотта в МИ-6, даже воображал перспективу «официального британско-американского военного вторжения» в результате албанской кампании. Ответственность за координацию албанских планов с американцами возлагалась на Филби.
Перед отъездом в США Филби с надлежащим благоговением посвятили, пожалуй, в наиболее тщательно охраняемый секрет «холодной войны». С 1940 по 1948 год американские криптоаналитики перехватили порядка трех тысяч секретных советских телеграмм, расшифровать которые было теоретически невозможно. Однако в 1946 году из-за одного-единственного просчета советской стороны команда дешифровщиков во главе с блестящим американским криптоаналитиком Мередитом Гарднером начала расшифровывать сообщения, поступавшие из США в Москву и наоборот. То, что они узнали, было поистине ошеломляюще: более двухсот американцев стали советскими агентами во время войны; у Москвы были шпионы в Министерстве финансов США, в Госдепартаменте, в ядерном проекте «Манхэттен» и в УСС. Операция по взлому шифра, носившая вполне подходящее название «Венона» (слово, не имеющее значения), была настолько секретной, что и сам президент Трумэн более трех лет оставался в неведении; ЦРУ узнало о «Веноне» только в 1952 году. Но вот показатель особого доверия между британскими и американскими разведками: новости о прорыве и его пугающих потенциальных последствиях были тут же доведены до сведения МИ-6, поскольку из перехваченных сообщений выяснилось, что советские шпионы проникли и в британское правительство. В частности, команда «Веноны» установила, что в 1945 году через советского агента под кодовой кличкой Гомер происходила утечка секретной информации из британского посольства в Вашингтоне. Личность этого крота все еще оставалась загадкой, но предполагалось, что, подобно Цицерону в Турции во время войны, Гомер, возможно, был сотрудником посольства — уборщиком или клерком. Но Филби знал точно: Дональд Маклин, его кембриджский друг и коллега-шпион, служил первым секретарем посольства в Вашингтоне в период с 1944 по 1948 год. Маклин и был Гомером.
Первая тень — пока что лишь пятнышко где-то вдалеке — упала на залитую солнцем тропу везения, по которой так долго шагал Филби.
Глава 9
«Штормовое море»
Бидо Кука сидел на корточках в грузовом отсеке «Штормового моря», где ютились и другие бойцы, сжимавшие в руках автоматы, а судно тем временем поднималось и опускалось на темных гребнях Адриатики, вызывая тошноту у пассажиров. Кука испытывал прилив патриотизма, возбуждения и страха. Но сильнее всего ощущались симптомы морской болезни. Мешочек, набитый золотыми соверенами, был пристегнут к внутренней стороне его ремня. А к внутренней стороне наручных часов была приклеена одна-единственная таблетка цианистого калия на случай, если он попадет в руки албанской тайной полиции Сигурими. В рюкзаке лежали карта, медикаменты, ручные гранаты, провизия достаточном в количестве, чтобы неделю продержаться в горах, албанская валюта, пропагандистские листовки и фотографии антикоммунистических лидеров в эмиграции, чтобы показывать их людям и вдохновлять на восстание против ненавистного диктатора Энвера Ходжи. В иллюминаторе виднелись зазубренные скалы Карабуруна — черные силуэты на фоне безлунного ночного неба. Здесь начиналась страна, которой Кука не видел уже три года. На палубе слышались приглушенные голоса англичан, отдающих приказы по мере приближения к берегу. Странные они были, эти англичане — огромные, загорелые дочерна мужчины, говорившие так, что их едва можно было понять, и смеявшиеся, когда для смеха вовсе не было повода. Они захватили с собой собаку по кличке Прислоняшка, а один даже привез жену. Англичане делали вид, будто просто катаются на прогулочном судне. Человек по кличке Верзила постоянно наводил свой бинокль на скалы. Другой, назвавшийся Джеффри, снова и снова репетировал процедуру, позволявшую отправлять радиограммы посредством громоздкого хитроумного приспособления, источником питания для которого служило нечто вроде велосипеда без колес. Кука и восемь его товарищей курили в напряженном молчании. «Штормовое море» приближалось к албанскому берегу.
Шестью месяцами ранее Бидо Кука был завербован для участия в операции «Ценность» в лагере для перемещенных лиц в пригороде Рима. Кука был баллистом, членом «Балли Комбетар», албанской националистической группировки, сражавшейся во время войны с нацистами, а после с коммунистами. Когда власть в Албании захватили коммунисты, сотни баллистов были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты, и Кука вместе с другими националистами бежал в Италию. Затем он три года влачил жалкое существование в лагере Фраскетти, пестуя свое презрение к коммунизму, то и дело повторяя «Албанцам — Албания, предателям — смерть» (лозунг «Балли Комбетар») и планируя свое возвращение. Когда такой же эмигрант, как и он сам, подошел к нему с предложением вступить в новый партизанский отряд для проведения антикоммунистических операций в Албании, Кука согласился без раздумий. Другой новобранец сказал об этом так: «Об отказе не могло быть и речи. Когда вся твоя жизнь посвящена твоей стране, ты готов на все, чтобы ей помочь». Четырнадцатого июля 1949 года Кука и собрат-баллист Сами Лепеница сели на военный корабль в Риме и устремились на британский остров Мальта в Средиземном море. У них не было паспортов. Офицер британской армии, взмахнув красным носовым платком в знак того, что узнал их, провел их мимо пограничного контроля прямо к машине. Часом позже ошеломленные албанцы оказались у ворот большого замка, окруженного рвом: форт Бинджемма, викторианская цитадель в юго-восточной части острова, выбранная британской разведкой в качестве идеальной точки, откуда можно начать антикоммунистическую контрреволюцию.
В течение следующих трех месяцев Кука и примерно три десятка других албанских новобранцев проходили интенсивную подготовку под присмотром внимательного (хотя и немного безумного) подполковника Дэвида де Креспиньи Смайли, офицера британской армии, аристократа, прославившегося склонностью к безрассудным выходкам. Во время войны Смайли сражался с итальянцами в Абиссинии в отрядах Британского Сомалиленда, предотвратил переворот, затеянный немцами, чтобы сбросить короля Ирака, воевал плечом к плечу с сиамскими партизанами и освободил четыре тысячи солдат союзнических войск («все в чем мать родила, только гениталии прикрыты») из японского лагеря военнопленных в Убоне. Но именно в Албании за ним закрепилась слава отчаянного храбреца: в 1943 году он, прыгнув с парашютом, приземлился в Северной Греции и принялся взрывать мосты, нападать из засады на немецкие отряды и тренировать партизан. Его личными военными трофеями стали горячая любовь к Албании, ненависть к Ходже и коммунистам, «Военный крест» и шрамы на лице из-за преждевременно взорвавшегося чемодана с бомбой. Когда МИ-6 потребовался кто-то, кто мог бы оснащать, обучать и внедрять в Албанию бойцов-антикоммунистов, выбор, естественно, пал на Смайли. Империалист, романтик, человек бесстрашный и опрометчивый, он во всех этих проявлениях был живым воплощением операции «Ценность».
Курс подготовки — краткий, но интенсивный — проводился в условиях строгой секретности. Несколько британских преподавателей, в том числе один эксцентричный профессор из Оксфорда, учили бойцов читать карты, сражаться без оружия, стрелять из пулемета и управлять радиотехникой с помощью педального генератора. Поскольку никто из преподавателей не говорил по-албански, а албанцы — по-английски, обучение проводилось на языке жестов. Неудивительно, что представления Куки о его миссии были весьма приблизительными: попасть на территорию Албании, добраться до родного города рядом с греческой границей, разведать возможности для военного мятежа, а потом выбраться оттуда и передать информацию англичанам. Среди завербованных не было офицеров, и лишь немногие из них прошли военную подготовку. Жизнь в лагере довела некоторых до истощения, и все они были небольшого роста. Британцы с плохо скрываемым пренебрежением называли их «эльфами».
В конце сентября Бидо Кука и восемь других новобранцев были доставлены в прибрежный итальянский город Отранто, расположенный в пятидесяти пяти милях от Албании на другой стороне Адриатики. Под видом местных рыбаков они сели на рыболовецкое судно, а потом в заранее оговоренной точке в двадцати милях от албанского берега их пересадили на «Штормовое море», сорокатрехтонную шхуну, закамуфлированную под прогулочное судно, но снабженную мощным мотором в девяносто лошадиных сил, замаскированными топливными баками и достаточным количеством оружия, чтобы развязать небольшую войну. Командовали «Штормовым морем» Сэм Барклай и Джон Лизем, два бесстрашных бывших офицера британского флота, весь предыдущий год доставлявшие из Афин в Салоники припасы для войск, сражающихся с греческими партизанами-коммунистами. МИ-6 предложила им пятьдесят фунтов за доставку инсургентов на албанское побережье, и Лизем счел оплату более чем щедрой: «Нам нужны были только дармовые приключения и деньги на прокорм».
В начале десятого утра третьего октября, в двухстах ярдах от полуострова Карабурун, до зубов вооруженные «эльфы» забрались в две резиновых лодки и поспешили к небольшой бухте; на веслах сидели два крепких парня, бывшие морские пехотинцы Верзила Кулинг и Дерби Ален. Малонаселенный полуостров являл собой довольно дикий уголок — козьи тропинки да колючий кустарник. Высадив людей и выгрузив их оснащение, англичане стали грести обратно к «Штормовому морю». Оглянувшись на удаляющийся берег, они заметили, как у вершины скалы вспыхнул и тут же погас какой-то огонек. Девять «эльфов» уже взбирались по скале. В полной темноте приходилось пробираться медленно. С первыми лучами рассвета они разделились на две группы. Бидо Кука и еще четверо, включая его друга Рамиса Матуку и двоюродного брата Ахмета, устремились на юг, к своим родным местам, а оставшиеся четверо, во главе с Сами Лепеницей, выбрали северное направление. Когда они разделились, Куку внезапно посетило дурное предчувствие, ощущение, сильное, хотя и смутное, «что коммунисты были готовы и ждали их».
Затаившись в пещере на день, Кука и его люди снова пустились в путь с наступлением ночи. Утром они достигли деревни Гёрм, где многие жители симпатизировали «Балли Комбетар»; в военное время здесь был центр сопротивления. Когда группа подобралась ближе, навстречу им выбежала девочка, крича: «Братья, вас всех убьют!» Тяжело дыша, она рассказала им, что на другую группу уже напали из засады солдаты правительственных сил: трое убиты, в том числе Лепеница, а четвертый исчез. За два дня до того сам Бекир Балуку, начальник генштаба албанской армии, прибыл в сопровождении сотен солдат, и по всему хребту Карабуруна буквально кишели правительственные силы, прочесывая каждую деревню, тропинку, пещеру или овраг в поисках «фашистских террористов». Местным пастухам под страхом смерти приказали сообщать о любых подозрительных явлениях. Албанские партизаны поблагодарили девочку, с благодарностью взяли предложенные им хлеб и молоко и пустились в бега.
В то самое время, когда Бидо Кука спасал свою жизнь, пробираясь по албанским горам, Ким Филби направлялся в Нью-Йорк на «Каронии», самом роскошном в ту пору пассажирском лайнере. Многочисленные друзья из МИ-5 и МИ-6 устроили ему «незабываемые проводы». «Каронии» на тот момент едва исполнилось два года; это был впечатляющий плавучий отель, за бледно-зеленый цвет корпуса получивший прозвище «Зеленая богиня». Корабль был оснащен всевозможными предметами современной роскоши, включая великолепные интерьеры в стиле арт-деко, бассейн под открытым небом и палубы с уступами. Разделения на классы не было — всюду только первый. Этот «плавучий частный клуб» располагал персоналом в количестве четырехсот человек для обслуживания семисот пассажиров. Войдя в свою обшитую панелями каюту с личной ванной, Филби обнаружил, что его ждет ящик шампанского, подаренный «омерзительно богатым другом», Виктором Ротшильдом. Возможно, Филби и не одобрял богатства Ротшильда, но его шампанское принял более чем благосклонно. К тому же недельное путешествие проходило в приятной компании: усатый, как морж, карикатурист Осберт Ланкастер, общительный знакомец Филби по лондонским клубам, очень любил выпить. Филби и Ланкастер обосновались в баре и пили на всем протяжении пути в Америку. «Я уже предчувствовал, что мое первое трансатлантическое путешествие придется мне по душе», — писал Филби.
«Карония» пришвартовалась в Нью-Йорке 7 октября. ФБР послала за Филби моторный катер; подобно Бидо Куке, его провели через пограничный контроль, минуя обычные формальности. Той ночью он остановился в многоэтажном отеле с видом на Центральный парк, а на следующий день сел на поезд и уехал в Вашингтон. Вдоль железнодорожных путей все еще цвели кусты сумаха, но в воздухе уже ощущалась осень, и листья начинали желтеть. Филби был с первого же взгляда сражен американским пейзажем. Осень, писал он впоследствии, «один из тех немногих поводов гордиться Америкой, который американцы никогда не преувеличивали, поскольку он не нуждается в преувеличениях».
На вокзале Юнион-Стейшн Кима встретил Питер Дуайер из МИ-6, общительный шеф резидентуры, после чего он сразу же окунулся в вихрь новых знакомств и встреч с чиновниками ЦРУ, ФБР, Госдепартамента и канадской секретной службы. Все с восторгом пожимали руку светскому англичанину, чья громкая слава бежала впереди него, но больше всех ему радовался Джеймс Хесус Энглтон, его бывший протеже, а теперь влиятельная фигура в ЦРУ. Энглтон подготовил почву для теплого приема, рассказав американским коллегам о работе Филби в военное время и о том, как он «восхищался его профессионализмом». В 1949 году британская и американская разведки все еще сохраняли близкие отношения, и не было других двух шпионов, которые символизировали бы эту близость лучше, чем Ким Филби и Джеймс Энглтон.
Энглтон во многом оставался англичанином. «Я провел в Англии годы своего становления, — говорил он много лет спустя, — и должен признаться, что усвоил — по крайней мере, меня приучали усваивать — некоторые особенности тамошней жизни, а также представления о долге». Честь, преданность, сшитые на заказ костюмы, глубокие кожаные кресла в прокуренных клубах — именно такую Англию Энглтон узнал и полюбил благодаря Филби и Эллиотту. В среде американской разведки были и те, кто куда критичнее относился к упорным притязаниям Великобритании на величие, — младшее поколение, лишенное ностальгии по братству военного времени, — но Энглтон был из другого теста. Время, проведенное на Райдер-стрит, навсегда оставило на нем свой отпечаток в личном и профессиональном отношении. Филби познакомил его с таинствами системы «двойной игры» — странной, состоящей из бесконечных отражений головоломкой контрразведки, — и самой этой британской идеей, что доверять можно лишь нескольким избранным. Филби напоминал Энглтону о войне, о времени долга, о непоколебимом альянсе и взаимозависимости. Джеймс водил своего английского друга по Вашингтону, словно трофей.
Пока Филби чокался со своими друзьями в Вашингтоне, на другом краю света Дэвид Смайли с растущим беспокойством ждал, когда албанские партизаны выйдут на связь. Два раза в день, утром и вечером, радист МИ-6, находившийся в большом поместье в прибрежной части острова Корфу, настраивал приемник в оговоренное время, но прошла уже целая неделя, а от «эльфов» не было ни слова. Наконец удалось принять поспешное сообщение, посланное из пещер над Гёрмом, где Кука прятался со своими людьми: «Все провалилось… трое убиты… полиция все о нас знает». Албанцы были в ужасе: когда на педаль генератора нажимали на полной скорости, громоздкая машина издавала высокий писклявый звук, который эхом отскакивал от холмов и мог их выдать. У них заканчивались припасы, но они не решались спуститься в деревню, чтобы попросить или украсть еды. Бидо Кука убедил товарищей пойти на риск и попробовать добраться до его родной деревни Нивица, расположенной всего в двадцати пяти милях к югу. Маршрут пролегал по негостеприимной местности, и правительственные силы, несомненно, все еще за ними охотились, но от Нивицы было всего тридцать пять миль до греческой границы.
После четырехдневного перехода — идти приходилось по ночам, избегая патрулей и прячась днем, — «эльфы» пришли к дому, который Кука в последний раз видел три года назад. Его приняли, хотя и с осторожностью. Когда Кука объяснил, что они в авангарде сил, поддерживаемых британцами и призванных сбросить Ходжу, жители деревни отреагировали скептически. Почему их отряд так малочислен? Где британцы? Где оружие? Кука почувствовал, что даже здесь их подстерегала смертельная опасность. Группа отказалась от предложения переночевать в деревне. Вместо этого они вернулись в горы и сговорились как можно скорее добраться до границы, разделившись на две группы: Бидо Кука, Рамис Матука и еще один «эльф» отправились к югу; двоюродный брат Рамиса Ахмет и пятый член группы выбрали более прямой путь. Патрули были повсюду; группа Куки трижды едва избежала ареста. Им оставалось пройти еще дюжину миль до границы — дорога была трудная, через узкое ущелье, — когда из темноты прогудел голос, потребовавший, чтобы они назвали себя, иначе будут убиты. «Кто здесь?» — спросил Кука, изготовив автомат к бою. «Полиция», — прозвучал ответ. Трое «эльфов» открыли огонь. Полицейские, стоявшие над ними, начали стрелять в ответ. Рамис Матука упал замертво. Кука и его последний спутник, беспорядочно отстреливаясь, бежали в леса.
Три дня спустя, изможденные и оголодавшие, Кука и его товарищ наконец достигли греческой границы. Греческие полицейские немедленно их арестовали, посадили за решетку и подвергли допросу. Кука придерживался легенды: его зовут Энвер Зенелли (это имя значилось на поддельном албанском удостоверении личности). «Мы сказали, что мы простые албанцы, бежавшие из страны». Пограничники не поверили им «и готовы были покончить с ними ни за понюшку табаку». Спустя несколько недель явился британский чиновник. Кука шепнул ему кодовую фразу, оговоренную еще на Мальте: «Солнце встало». Наконец выживших выпустили на свободу, после чего самолетом отправили в Афины и поместили в безопасное место, где их допросили два сотрудника британской разведки.
Если оценивать ситуацию сколько-нибудь объективно, то первая фаза операции «Ценность» обернулась полным провалом. Из девяти партизан, высадившихся в Албании в октябре, четверо были убиты, один почти наверняка взят в плен, еще один пропал без вести, остальные едва спаслись; кроме того, «несколько албанских граждан так же были арестованы и казнены» по обвинению в пособничестве партизанам. Вторая группа, прибывшая вскоре после первой, справилась ненамного лучше. Албанские правительственные силы были наготове и ждали, явно зная о предстоящем вторжении, а может быть, и о его точном времени и месте.
МИ-6 охарактеризовала начальный этап операции всего лишь как «неудовлетворительный» — преуменьшение, граничащее с отрицанием реальности. Гибель половины бойцов, составлявших первую группу, сочли заминкой, а не катастрофой, а человеческие потери «оценивались как приемлемые по меркам военного времени». Полковник Смайли клялся, что будет рваться вперед: планировать новые высадки, лучше готовить партизан, активнее привлекать США. Ведь Албанию нельзя захватить за одну ночь, и «было бы ошибкой прекратить столь важные усилия», в особенности теперь, когда МИ-6 направила в Вашингтон одного из своих самых перспективных сотрудников, более чем готового сотрудничать с американцами на следующем этапе операции «Ценность».
Всего через несколько дней после прибытия в Вашингтон Филби назначили руководителем объединенного Англо-американского комитета по особым политическим вопросам, возложив на него ответственность за проведение албанской операции совместно с его американским коллегой Джеймсом Маккаргаром. Роль американцев в операции «Ценность» становилась все более важной (они дали этой операции, пожалуй, более реалистичное кодовое название «Враг») не в последнюю очередь из-за того, что они ее финансировали, однако именно Филби «принимал все решения».
Джеймс Маккаргар, бывший журналист из богатой калифорнийской семьи, сделал себе имя в послевоенное время, организуя пути побега из Венгрии для ученых и интеллектуалов, спасающихся от коммунизма. Он даже женился на румынке, которую вывез в багажнике своего автомобиля. Подобно многим сотрудникам американской разведки того времени, Маккаргар питал преувеличенное уважение к британским коллегам, а достижения нового соратника были и впрямь блестящими. «Филби как никто умел очаровывать. Он явился к нам с потрясающей репутацией, — вспоминал впоследствии Маккаргар. — Чувствовалось, что ему можно доверять». Филби, казалось, олицетворял все те качества, которые американцам хотелось видеть в своих британских союзниках: веселый, решительный, остроумный и невероятно щедрый по части выпивки. «Ему были свойственны шарм, теплота и обаятельный юмор с оттенком самоуничижения, — свидетельствовал Маккаргар. — Он много пил, но в те времена все мы не ограничивали себя в этом. Мы выплыли из войны, покачиваясь на волнах алкоголя, не оказывавшего на нас заметного влияния. Я считал его другом».
Филби полюбил Вашингтон, и Вашингтон ответил ему взаимностью. Для него открылись все двери, приглашения так и сыпались, и многие люди считали его другом уже после первой встречи. Эйлин, видимо, тоже окрепла в дружелюбной атмосфере Вашингтона. Семья переехала в большой двухэтажный дом по адресу Небраска-авеню, 4100, и вскоре там воцарился ужасный кавардак: все было завалено детскими игрушками, переполненными пепельницами и пустыми бутылками. По словам Николаса Эллиотта, Филби был «безусловно предан своим детям», и эта черта усиливала его притягательность в глазах американских друзей и коллег: вот он, отец семейства, типичный английский джентльмен, человек, заслуживающий доверия. За несколько недель Филби, похоже, установил контакт почти со всеми заметными фигурами американской разведки. Встречаясь с ними лицом к лицу, он был воплощенная вежливость, но не стеснялся в выражениях, отзываясь о новых знакомых у них за спиной. Среди них был Джонни Бойд, заместитель директора ФБР («по всем объективным показателям ужасный человек»); Фрэнк Уизнер, глава Управления координации политики («лысеющий и важничающий толстяк»); Билл Харви из контрразведки ЦРУ («бывший фэбээровец… уволенный за пьянство»); шеф ЦРУ Уолтер Беделл Смит («холодный рыбий глаз»); заместитель главы ЦРУ и будущий шеф Аллен Даллес («самодовольный»); Боб Ламфир из ФБР («рыхлый, как пудинг») и многие другие. Дом на Небраска-авеню вскоре стал местом встреч элиты вашингтонской разведки. «Он принимал у себя многих американцев, — вспоминал еще один сотрудник ЦРУ. — Вино лилось рекой, да и виски тоже». Эйлин играла роль хозяйки салона — пошатываясь, разносила напитки, да и сама не забывала приложиться. Вот все, что запомнил о вечеринках Филби один из гостей: «Они были долгими и очень, очень пьяными».
Казалось, манера Филби прямо-таки располагала к близкому общению. Его мудрая улыбка, «намекавшая на участие в какой-то шутке для посвященных, свидетельствовала о безмолвном понимании той иронии, что лежит в основе нашей работы». Он специально заходил в кабинеты американских коллег ближе к вечеру, зная, что хозяева рано или поздно (как правило, рано) «предложат заглянуть в дружественный бар, чтобы продолжить профессиональное общение уже там». Обмен внутренней информацией — ахиллесова пята разведывательных кругов; не имея возможности рассказывать о своей работе аутсайдерам, шпионы используют каждый шанс, чтобы обсудить ее с себе подобными. «Между собой сотрудники разведки все время говорят о работе, — заметил один сотрудник ЦРУ, — и Филби приобщился к чертовой куче информации, кроме той, что ему полагалось знать». ЦРУ и ФБР соперничали, иногда весьма яростно, причем особое социальное разделение между двумя ветвями американской разведки перекликалось с аналогичным соревнованием между МИ-5 и МИ-6. Филби характеризовал агентов ЦРУ как любителей вин, принадлежащих к высшему обществу, тогда как фэбээровцы, куда более приземленные, предпочитали пиво; Филби с удовольствием пил и то и другое в большом количестве — и с теми и с другими, — стремясь «потрафить одной стороне, не оскорбив при этом другую». Кабинет Филби располагался в британском посольстве, но Кима нередко можно было обнаружить в головных офисах ЦРУ или ФБР или в Пентагоне, где был отведен специальный кабинет для совещаний по албанской операции. Одним словом, закрытых для Филби тем почти не оставалось: «Море было ему по колено… он мог узнать столько, сколько хотел».
Джеймс Энглтон теперь был одним из руководителей ЦРУ, отвечал за иностранные разведывательные операции и, по оценкам Филби, являлся «движущей силой» подразделения, занимавшегося сбором разведданных. Некий странный мистический ореол окружал персону Энглтона. Он пользовался именем Лотар Менцль, поскольку в качестве прикрытия изобрел историю о том, что до войны работал пианистом в одном из венских кафе. За своим домом в пригороде Северного Арлингтона он обустроил теплицу с подогревом, чтобы выращивать там орхидеи, а заодно поддерживать ауру намеренной эксцентричности. В цокольном этаже Энглтон шлифовал полудрагоценные камни. Он носил золотые часы на цепочке; его костюмы и акцент по-прежнему были подчеркнуто английскими. Работу свою он любил описывать в рыболовных терминах: «Вчера у меня несколько раз клевало», — загадочно бросал он после того, как целый вечер просматривал папки с документами. В разведывательных кругах он вызывал восхищение, сплетни и некоторый страх. «В ЦРУ считали, что Энглтон знал больше секретов, чем кто бы то ни было, и лучше чем кто бы то ни было понимал их значение».
Ресторан «Харвиз» на Коннектикут-авеню был самым знаменитым рестораном столицы — возможно, самым дорогим и уж конечно самым привилегированным. «Устричный бар Харвиз для леди и джентльменов» начал подавать устрицы на пару, жареного омара и краба по-императорски еще в 1820 году и с тех пор так и продолжал их подавать в огромных количествах. В 1863 году, несмотря на войну Севера и Юга, посетители управлялись с пятьюстами вагонами устриц в неделю. Здесь обедал каждый американский президент, начиная с Улисса С. Гранта, и ресторан пользовался непревзойденной репутацией места, где можно встретить самых могущественных и влиятельных людей. Темнокожие официанты в отглаженной белой форме были немногословны, коктейли — крепки, скатерти тверже картона, а столы расположены на расстоянии достаточном, чтобы создать конфиденциальную обстановку для ведения секретных переговоров. Для дам был отдельный вход, в главный обеденный зал их не допускали. Здесь чуть ли не каждый вечер можно было увидеть, как директор ФБР Дж. Эдгар Гувер ужинает за своим столиком в углу зала с Клайдом Толсоном — заместителем и, возможно, любовником. Говорили, что Гувер подсел на устрицы бара «Харвиз»; кормили его бесплатно.
Энглтон и Филби повадились регулярно ходить на ланч в «Харвиз», поначалу раз в неделю, а потом три раза за две недели. По телефону они общались не реже чем через день. Их ланчи стали чем-то вроде ритуала, «обычаем», по выражению Филби: начинали с бурбона со льдом, потом переходили к омару с вином, а заканчивали бренди и сигарами. На Филби большое впечатление производила и компетентность Энглтона в делах разведки, и его страсть к еде и выпивке. «Он постоянно демонстрировал, что трудоголизм не единственный его грех, — писал Филби. — Один из самых худых людей, которых я когда-либо встречал, он в то же время был самым заядлым едоком. Везучий Джим!» Этих двоих можно было нередко застать за оживленной беседой — они болтали, пили, смеялись и наслаждались общей любовью к секретности. Близких друзей у Энглтона было немного, а тех, кому он доверял, еще меньше. У Филби друзей было много, а умение обмениваться секретами он сделал своего рода искусством. Эти двое прекрасно дополняли друг друга.
«Наше близкое общение возникло, я уверен, на основе подлинно дружеских чувств, — писал Филби. — Но у нас обоих были скрытые мотивы… Сблизившись со мной до конца, он был уверен, что его секреты в надежных руках. В свою очередь, меня более чем устраивала возможность вводить его в заблуждение. Чем откровеннее мы демонстрировали друг другу полное доверие, тем труднее ему было заподозрить меня в тайных действиях. Затрудняюсь сказать, кто больше выиграл от этой сложной игры. Впрочем, я обладал изрядным преимуществом. Я знал, что он делает для ЦРУ, а он знал, что я делаю для СРС. Но об истинной природе моих интересов он даже не подозревал». За фасадом дружбы Филби и Энглтона скрывалось негласное соревнование — кто кого перехитрит и перепьет. Энглтон, по свидетельству одного заместителя, «гордился, что может напиться с Кимом так, что тот свалится под стол, а сам он уйдет на своих, да еще разжившись полезной информацией. Можете себе представить, сколько ему приходилось выбалтывать в ответ во время таких попоек?»
«Наши дискуссии затрагивали события во всем мире», — вспоминал Филби. Они говорили о разного рода тайных операциях против Советского Союза, об инсургентах-антикоммунистах, перебрасываемых в Албанию и другие страны за «железным занавесом»; обсуждали разведывательные операции, проводившиеся в то время во Франции, Италии и Германии, а также ресурсы для финансирования антикоммунистических проектов по всему миру, включая вербовку изгнанников для подрывной деятельности по ту сторону «железного занавеса». «И ЦРУ, и СРС по уши увязли в эмигрантской политике», — свидетельствовал Филби. Энглтон объяснил, каким образом ЦРУ взяло под свой контроль антисоветскую шпионскую сеть, основанную Рейнхардом Геленом, бывшим шефом немецкой разведки на Восточном фронте, предложившим США свои услуги после капитуляции в 1945 году. Среди шпионов и информаторов Гелена было немало бывших нацистов, но ЦРУ особо не привередничало, выбирая союзников в новой войне против коммунизма. К 1948 году ЦРУ потратило на шпионскую сеть Гелена порядка полутора миллионов долларов (примерно четырнадцать с половиной миллионов в сегодняшнем эквиваленте). Филби весь обратился в слух: «Множество омаров от „Харвиз“ потребовалось, чтобы заставить Энглтона в мельчайших подробностях защищать былые и нынешние дела организации фон Гелена». Вмешательство ЦРУ в дела Греции и Турции, чтобы оттеснить коммунистов; тайные операции в Иране, Прибалтике и Гватемале; секретные проекты США в Чили, на Кубе, в Анголе и Индонезии; планы совместных действий союзников в случае войны с СССР. Все это (и сверх того) Энглтон по-дружески выкладывал перед Филби, набивая живот и сплетничая над крахмальными скатертями и полными бокалами в «Харвиз». «Во время этих долгих нетрезвых ланчей и ужинов Филби, должно быть, потрошил его дочиста», — писал впоследствии один из коллег.
Но все-таки Филби и Энглтон оставались профессионалами. После каждого ланча Энглтон возвращался к себе в кабинет и надиктовывал секретарше по имени Глория Лумис длинную служебную записку, во всех деталях описывая свои дискуссии с любезным коллегой, отвечающим за связи с МИ-6. «Все фиксировалось», — утверждала впоследствии Лумис. Филби поступал точно так же, надиктовывая собственную записку для МИ-6 секретарше Эдит Уитфилд, которая последовала за ним в Вашингтон из Стамбула (к вящему неудовольствию Эйлин). Позже, придя в свой дом на Небраска-авеню, Филби самостоятельно записывал то, что предназначалось для других глаз.
Филби любил характеризовать советскую разведку как организацию непревзойденной эффективности. На самом же деле работа московского Центра то и дело стопорилась по причине головотяпства, инертности и некомпетентности в сочетании с периодическим кровопусканием. До приезда Филби форпост советского шпионажа в Вашингтоне переживал период «хаотичных» волнений, в течение которого были по очереди отозваны два резидента. Изначально у Филби не было прямого контакта с советской разведкой в США: он предпочитал передавать любую информацию через Гая Берджесса в Лондоне, как делал это в Стамбуле. В конце концов, через четыре месяца после прибытия Филби, Москва проснулась и поняла, что один из ее старейших шпионов требует больше внимания.
Пятого марта с трапа корабля «Баторий», только что прибывшего в нью-йоркскую гавань из польского города Гдыня, сошел молодой человек. Документы у него были на имя американского гражданина польского происхождения Ивана Ковалика; на самом же деле это был Валерий Михайлович Макаев, тридцатидвухлетний офицер советской разведки, получивший указание поселиться под прикрытием в Нью-Йорке и организовать для Филби связь с московским Центром. Макаев быстро получил работу преподавателя музыкальной композиции в Нью-Йоркском университете и завязал отношения с польской танцовщицей, владелицей балетной школы в Манхэттене. Макаев был хорошим музыкантом и романтиком по натуре, но куратором оказался совершенно беспомощным. Начальство выделило ему для выполнения миссии двадцать пять тысяч долларов, которые он немедленно спустил — главным образом на себя и свою балерину. Спустя некоторое время Макаеву удалось сообщить Филби о своем прибытии. Они встретились в Нью-Йорке, и прибывший куратор вручил Филби фотоаппарат для съемки документов. После этого они договаривались о встречах в разных точках между Нью-Йорком и Вашингтоном, в Балтиморе или Филадельфии. За девять месяцев Макаев сумел организовать два канала связи с Москвой, в качестве курьера используя финского моряка, а также почтовый маршрут через агента в Лондоне. Система оказалась медленной и неуклюжей; Филби опасался встреч лицом к лицу, к тому же новый руководитель не произвел на него сильного впечатления; Макаев куда больше интересовался балетом, нежели шпионажем. Именно в этот период Филби снабжал Москву самой ценной информацией за всю свою карьеру, а куратор при этом был самым некомпетентным из всех, с кем его сводила судьба.
Фрэнк Уизнер, сотрудник ЦРУ, отвечавший за операции по внедрению инсургентов за «железный занавес», был в недоумении: каждая попытка противодействовать коммунизму, тайно разжигая восстание в СССР и на территориях его спутников, удивительным образом шла насмарку. Но Уизнер (или Уиз[12] — ему нравилось, когда его так называли) не желал ни отступать, ни менять курс. Несмотря на то что албанская операция началась с неудачи, ее все же решили продолжать. «В следующий раз у нас все получится», — пообещал Филби Уизнер.
Но и на этот раз ничего не получилось. Опять все шло наперекосяк, причем не только в Албании. Средства, оборудование и оружие потоком шли антикоммунистическому сопротивлению в Польше, но оно оказалось всего лишь фасадом, а ситуацию контролировала советская разведка. Антикоммунистически настроенные литовцы, эстонцы и армяне вербовались, а потом перебрасывались в родные страны на британских и американских самолетах; националистически настроенные белоэмигранты отправлялись на родину для продолжения борьбы с большевиками. Почти все эти люди исчезали при загадочных обстоятельствах. «Наши агенты прыгали с парашютом, добирались по суше и по воде, — говорил бывший сотрудник ЦРУ. — Почти все эти операции обернулись провалом… все они были свернуты». ЦРУ и МИ-6 во всех подробностях информировали друг друга о том, где и когда будут действовать направленные ими бригады, — чтобы избежать дублирования и путаницы. Филби в качестве вашингтонского сотрудника, отвечающего за связи, должен был передавать информацию о «времени и географических координатах» от одного агента разведки другому, а потом следующему. Украина считалась особенно благоприятной почвой для внедрения инсургентов, поскольку в Карпатах уже действовала бригада сопротивления. В 1949 году туда направили первую группу украинских повстанцев, обученных британцами и снабженных радиооборудованием. Больше никто о них не слышал. Еще две группы отправились туда же в следующем году, а потом еще три бригады по шесть человек были посланы, чтобы всколыхнуть людей на Украине и в приграничных районах Польши. Все они исчезли. «Я не знаю, что случилось с группами, о которых идет речь, — впоследствии писал Филби с жестокой иронией, — но квалифицированное предположение сделать могу».
Однако самой катастрофичной и откровенно не представляющей никакой ценности оказалась именно операция «Ценность». Не теряя присутствия духа, британцы продолжали обучать «эльфов» на Мальте, а ЦРУ даже устроила для албанских инсургентов отдельный тренировочный лагерь (теперь там уже предполагались и группы парашютистов) в обнесенной высоким забором вилле в пригороде Гейдельберга. «Мы знали, что они отыграются на наших семьях, — признался один из рекрутов, — но у нас были большие надежды». В то же самое время МИ-6 подготовила тысячи пропагандистских листовок, которые планировалось сбросить на Албанию посредством беспилотных воздушных шаров с горячим воздухом: «Ребята в Лондоне представляли себе дождь из памфлетов, который обрушится на албанские города, и тысячи албанцев будут хватать их прямо в воздухе, читать и готовиться к освобождению». Первые парашютисты были доставлены поляками — бывшими пилотами ВВС Великобритании — в конце 1950-х. Они вошли в воздушное пространство Албании на высоте всего двести футов, чтобы укрыться от радара.
Коммунисты были наготове и ждали. За два дня до того сотни сотрудников тайной полиции наводнили район, где планировался сброс листовок. В каждой деревне находился полицейский. Они даже знали имена прибывающих бунтовщиков. Некоторых парашютистов убили, когда они приземлялись, других схватили. Лишь нескольким удалось бежать. Еще одна высадка, состоявшаяся в июле следующего года, кончилась и того хуже. Одну группу из четырех парашютистов сразу же уничтожили; другую окружили, убили двоих, еще двоих взяли в плен; последняя четверка успела добежать до какого-то дома и забаррикадироваться там. Полиция подожгла здание, и все четверо парашютистов погибли во время пожара. Обученные британцами бойцы продолжали проникать в Албанию, некоторые по воде, некоторые пешком через греческую границу, но всех их перехватывали так же, как и их предшественников. Между тем по всей Албании начались повальные аресты родственников и друзей инсургентов. Обладатели таких же фамилий, как у мятежников, сразу подпадали под подозрение. За каждого партизана Сигурими арестовывала или расстреливала сорок человек. Двоих пленников «привязали к заднему бамперу джипа и таскали по улицам, пока их тела не превратились в кровавую кашу». Горстка бойцов, якобы сумевших бежать, посылала британцам и американцам радиограммы с просьбами о подкреплении. И лишь много позже выяснилось, что Сигурими вела классическую «двойную игру»: на связь выходили пленники, которых заставляли выдавать свои шифры и посылать сообщения, приставив дуло к виску. «Наша знаменитая радиоигра обрекла иностранного врага на позорное поражение, — похвалялся Энвер Ходжа. — Банды преступников, прыгнувшие с парашютом или пробравшиеся через границу, по нашему требованию явились, словно агнцы на заклание».
Впоследствии были устроены показательные суды над выжившими пленниками — пропагандистские спектакли, во время которых замученные пытками, находящиеся в полубессознательном состоянии обвиняемые признавали свою вину и проклинали своих капиталистических кукловодов, а затем их на длительный срок отправляли в тюрьму, откуда лишь немногим удалось выйти живыми.
По мере того как неудачные операции превращались в катастрофические, боевой дух Лондона и Вашингтона падал. Стали возникать подозрения. «Было ясно, что где-то течет, — сказал один из сотрудников ЦРУ. — Мы провели несколько совещаний, пытаясь понять, где могли допустить ошибку. Нам пришлось задать себе вопрос, готовы ли мы и дальше бросать этих молодых людей в ловушку». Британцы в своем кругу обвиняли во всем американцев — и наоборот. «В нашей системе безопасности не может быть бреши», — настаивал полковник Смайли.
На самом же деле операции разрабатывались и проводились в атмосфере, далекой от секретности. Советская разведка проникла не только в ряды албанских эмигрантов в Европе, но и во все остальные сообщества недовольных изгнанников. Благодаря своим итальянским контактам Джеймс Энглтон узнал, что «Ценность» была «обречена на провал» с самого начала: итальянская разведка следила за «Штормовым морем» с того момента, как корабль взял курс на Албанию. Журналисты тоже проведали об этой истории. Как только первые группы партизан были схвачены, албанские власти, само собой, стали готовиться к встрече остальных. В планирование с самого начала закралась ошибка: Ходжа куда тверже стоял на ногах, а оппозиция была куда слабее, чем представляла себе англо-американская разведка. Организаторы операции верили, что «Албания упадет с дерева советской империи, подобно спелой сливе, а за ней последуют и другие плоды». Но они попросту заблуждались.
Операция «Ценность» вполне могла бы провалиться и без участия Филби, но провал был бы не таким абсолютным — и не таким кровавым. Оглядываясь назад, разработчики операции знали, кого винить за столь унизительное и беспросветное поражение. «Почти нет сомнений в том, что Филби не только информировал Москву об общем британско-американском планировании операции, — пишет историк ЦРУ Гарри Роситцке, — но и в подробностях докладывал о высадке каждой группы агентов перед ее прибытием в Албанию». Юрий Модин, куратор НКВД в Лондоне, передававший послания Филби в Москву, тоже высказался прямо: «Он давал нам крайне важную информацию о количестве участников групп, о месте и времени высадки, об имеющемся у них оружии и о точной программе действий… советская сторона в надлежащем порядке передавала сведения, полученные от Филби, албанским властям, и те устраивали засады».
Впоследствии Филби гордился делом своих рук: «Агенты, которых мы направляли в Албанию, — вооруженные люди, настроенные вести подрывную деятельность и убивать. Они не меньше моего были согласны на кровопролитие во имя служения политическому идеалу. Они знали о рисках, на которые шли. Я служил интересам Советского Союза, и в его интересах было нанести этим людям поражение. О том, что в какой-то степени я способствовал их поражению, даже если оно привело к их гибели, я не испытываю сожаления».
Мы никогда не узнаем точного числа погибших: от ста до двухсот албанских партизан сгинули, а если вспомнить об их семьях и других жертвах, пострадавших из-за связи с ними, то цифра может достичь нескольких тысяч. Годы спустя те, кто занимался отправкой обреченных албанских инсургентов, пришли к выводу, что за два года совместных ланчей Джеймс Энглтон «за выпивкой передал Филби точные координаты всех зон высадки ЦРУ в Албании».
В самой сердцевине этой трагедии лежали близкая дружба и великое предательство. За ланч в ресторане «Харвиз» нужно было расплачиваться по солидному счету.
Глава 10
«Одиссея» Гомера
На традиционном ежегодном праздновании Дня благодарения в доме Энглтонов, состоявшемся в 1950 году, особой трезвости не наблюдалось. Джим и Сесили Энглтон пригласили в свой дом в Арлингтоне весь клан Филби, чтобы поужинать индейкой со всем, что к ней полагается. В числе гостей был также Уилфред Манн, физик из научного отдела британского посольства. По некоторым свидетельствам присутствовал там и Уильям И. Колби, будущий директор ЦРУ. Все четверо мужчин были глубоко вовлечены в растущую гонку вооружений и связанный с нею шпионаж. Советский Союз провел свои первые ядерные испытания годом раньше отчасти благодаря тому, что московским шпионам удалось проникнуть в западную ядерную программу. Перехваты в рамках операции «Венона» позволили установить личность одного из советских шпионов в лабораториях Лос-Аламоса: это был Клаус Фукс, физик-ядерщик немецкого происхождения. Филби доложил московскому Центру, что Фукса обложили, но его уже было не спасти: на допросе он признался и теперь отбывал четырнадцатилетний тюремный срок. Еще нескольких советских агентов предупредили, что они тоже в опасности. Некоторые успели бежать. Те, кто этого не сделал, — Юлиус и Этель Розенберг, организаторы советской шпионской ячейки в Нью-Йорке. В 1953 году их казнят.
Шпионы погибали. Президент Трумэн призывал наращивать вооружения, чтобы сдержать распространение советского влияния во всем мире. Шли разговоры о ядерной войне, и в напряженной борьбе западных разведок с советскими соперниками проливалось все больше крови. Противоборствующие стороны в этой тайной войне сидели за обеденным столом в доме Энглтона, где Филби вместе с друзьями слегка заплетающимся языком возносил благодарность за американское изобилие, но ни единая нота диссонанса не омрачила радость встречи. «Джим и Ким относились друг к другу с огромной симпатией, — вспоминала Сесили Энглтон. — Он всем нам пришелся по душе». Филби было всего тридцать восемь, но выглядел он намного старше. В его привлекательном облике уже чувствовалась какая-то изношенность. Глаза были по-прежнему яркими и притягательными, но мешки под ними становились все тяжелее, а ланчи в ресторане «Харвиз» начали отражаться на размерах живота. «После того как я целый год старался не отставать от Энглтона, — писал Филби, — я воспользовался советом одной пожилой знакомой и сел на диету, благодаря чему похудел с тринадцати до одиннадцати стоунов[13] за три месяца».
Жизнь в Вашингтоне била ключом, столица молодой сверхдержавы утопала в богатстве и лучилась самоуверенностью. Филби с легкостью общался с лидерами нового миропорядка, и окружающие «холодные воины» чувствовали исходящие от него теплоту и спокойствие. Ким не был жадным человеком, но он ни в чем не нуждался. «Если у вас много денег, — сказал этот тайный коммунист, находясь в самом сердце капиталистической державы, — вы сможете обустроить свою жизнь весьма приятным образом». Жизнь самого Филби была устроена приятнее некуда. Он настойчиво звал Николаса Эллиотта в гости. «Чем больше у меня гостей в Вашингтоне, — писал Ким, — тем больше шпионов окажется у меня на крючке». А Филби хотел подцепить на свой крючок их всех.
Со стороны Филби мог показаться таким же спокойным и общительным, как обычно, но внутри у него копошился маленький червь тревоги. Узнав, что в посольстве военного периода был обнаружен шпион, он слегка напрягся. И в июне 1950 года напряжение это ощутимо выросло, когда расшифровки в рамках программы «Венона» выявили, что в 1945 году в Великобритании орудовала «ценная агентурная сеть», куда входил «особенно важный» шпион под кодовым именем Стэнли. И с каждым днем дешифровщики продвигались все дальше. Филби решил нанести визит в шифровальный центр американского правительства в Арлингтон-холле, Вирджиния. Мередит Гарднер, глава проекта «Венона», принял Филби в своей секретной словесной лаборатории, а впоследствии вспоминал о том, с каким напряженным вниманием англичанин наблюдал за работой дешифровщиков, усердно разгадывающих большую шпионскую головоломку: «Филби, безусловно, наблюдал очень пристально, но не произнес ни слова, ни единого слова». Ким знал: единственного слова, которое помогло бы установить, что он и есть Стэнли, хватило бы, чтобы он пошел ко дну.
Совместное расследование ФБР и МИ-5 пока что не позволило опознать шпиона под кодовой кличкой Гомер. Несмотря на высокий уровень поставляемой Гомером информации, следователи, по-видимому, были убеждены, что крот в британском посольстве — кто-то из обслуживающего персонала, привратник или слуга. Покинув Вашингтон в 1948 году, Дональд Маклин отправился в Каир в качестве советника и заведующего канцелярией в британском консульстве. Его поведение становилось все более странным — сказывалось напряжение, вызванное двойной жизнью, — и все же никто и представить не мог, что этот светский, изысканный английский дипломат может оказаться советским шпионом. Сын бывшего министра, выпускник частной школы и Кембриджа, член «Реформ-клуба», он оставался вне подозрений. По словам Филби, его защищал «некий врожденный умственный фильтр, который упорно не допускал мысли о том, что уважаемые члены истеблишмента могут заниматься подобными вещами». Но подобные предпосылки не могли защищать вечно. Следователи копали все глубже, а Филби тем временем держал Москву в курсе их действий. «Маклин должен как можно дольше оставаться на своей должности», — ответил московский Центр, заметив, однако, что, возможно, придется эвакуировать его, «прежде чем ловушка захлопнется».
Филби подумывал и о собственной страховке, сознавая, что если расшифровки в рамках проекта «Венона» разоблачат Маклина, то подозрения падут на всех, с кем тот имел дело, и след в конце концов может привести и к нему самому. Он деликатно намекнул МИ-5, что хотел бы расширения своих полномочий в Вашингтоне — якобы для повышения эффективности, на самом же деле — чтобы с более близкого расстояния наблюдать за расследованием дела Гомера. «Он явно чувствует, что нуждается в расширении сферы деятельности, — писал Гай Лидделл. — Мне показалось, что я правильно понял его желание, выраженное в форме предположения, что нам вообще-то совершенно не нужен представитель в Вашингтоне, он, мол, и сам прекрасно справится». Шеф контрразведки МИ-5 воспротивился завуалированному предложению Филби представлять как МИ-5, так и МИ-6, хотя и не подозревал о его тайных мотивах. Кроме того, Филби добивался от лондонского Ш, чтобы тот заранее уведомлял его о любых прорывах в расшифровке, ведь так «у нас будет больше времени для изучения материала», а при необходимости — больше времени для бегства.
Брак его снова трещал по швам. Клан Филби по-прежнему рос, но хотя Ким и говорил Николасу Эллиотту, что «пятеро детей наполняют его родительской гордостью», рождение еще одного ребенка усложнило жизнь Эйлин, и она снова стала проявлять признаки нестабильности. Теперь она уже пила почти столько же, сколько и ее муж. Их отношения пережили еще один тяжелый удар, когда пришло письмо от Гая Берджесса с бодрым заявлением: «Сейчас вас удивлю. Я только что получил назначение в Вашингтон». Берджесс попросил разрешения остановиться у Филби «на несколько дней», пока он подыскивает себе жилье. Эйлин пришла в ужас. «Я слишком хорошо его знаю, — писала она друзьям. — Он так и останется у нас в доме».
Берджесс по-прежнему работал в Форин-офисе, хотя остается загадкой, как он умудрился не потерять работу в столь солидной и респектабельной организации. За свою карьеру — скорее запятнанную, нежели пеструю — он успел поработать в новостном отделе, помощником заместителя министра в Форин-офисе и в отделе Дальнего Востока. Все это время он передавал русским любые секретные документы, попадавшие ему в руки, забирая их с работы вечером и возвращая утром, после того как советские кураторы снимут с них копии. Берджесс был все таким же занятным, как прежде, и по-прежнему являл собой ходячую беду в самом чистом, беспримесном виде: похвалялся шпионскими контактами, даже не пытался скрыть свои беспорядочные гомосексуальные связи и неизменно влачил за собой шлейф хаоса. Обычно он был пьян и нередко оскорблял людей, особенно высокопоставленных. Он не платил по счетам, ввязывался в драки, опознавал сотрудников МИ-6 в общественных местах, а в Гибралтаре ушел в такой запой, что местный сотрудник МИ-5 не смог скрыть изумления: «Не думаю, что даже в Гибралтаре мне доводилось видеть, чтобы кто-то выпил такое количество крепкого алкоголя за столь краткий промежуток времени». Как-то раз Берджесс затеял драку с коллегой из Форин-офиса, грохнулся на мраморные ступени Королевского автомобильного клуба и раскроил себе череп, после чего его поведение стало еще более вызывающим. Берджесс постоянно пребывал на грани увольнения. Тем не менее его назначили представителем по связям с прессой британского посольства в Вашингтоне, а эта работа требовала деликатности и такта, на которые он по природе своей не был способен. Доходило до смешного: Гай Лидделл упорно утверждал, что Берджесс «не из тех людей, кто стал бы сознательно передавать конфиденциальную информацию неуполномоченным особам». Коллеги надеялись, что «эксцентричные выходки» Берджесса (кодовое обозначение его гомосексуальности) в США будут менее очевидными. Однако глава отдела безопасности Форин-офиса предупреждал сэра Роберта Маккензи из службы безопасности в вашингтонском посольстве, что, когда в городе Берджесс, надо быть готовым к еще худшим эскападам. Кто-то услышал, как Макензи буркнул: «Что значит — еще худшим? С козлами?»
Если перспектива прибытия Берджесса в Вашингтон тревожила некоторых чиновников, то Эйлин была просто в ужасе. Но Филби настаивал на том, что старого друга надо принять со всей душой, а жить он может в цокольном этаже дома. Протесты Эйлин вылились в яростную ссору, о которой обе стороны тут же сообщили в Швейцарию Эллиотту, в связи с чем тот написал: «Зная, что это неизбежно обернется бедой — и помня о пьяных гомосексуальных оргиях Берджесса в Стамбуле, когда он тоже останавливался у них, — Эйлин сопротивлялась его приезду, но в конце концов, как обычно, подчинилась желаниям Филби». Берджесс примчался в столицу США и ворвался в дом Филби, точно какой-то особенно разрушительный и беспокойный метеор. «Последовали неизбежные эпизоды пьянства и бесчинств, — писал Эллиот, — подвергавшие брак [Филби] тяжелому испытанию».
Впоследствии Филби оценивал свое решение приютить Берджесса как проявление преданности. Они дружили более двадцати лет, вместе пришли к коммунизму и были крепко повязаны своей службой Советскому Союзу. Берджесс был одним из тех немногих людей, с кем Филби мог говорить открыто. Он заверил посольство, что будет «присматривать» за ренегатом; эта сложнейшая задача начинала казаться почти разрешимой, когда Берджесс оказывался под одной крышей с Филби. У Кима был и собственный повод радоваться прибытию Берджесса в Вашингтон. Как сотрудник, ответственный за связи с прессой, Берджесс мог совершенно свободно путешествовать, не вызывая нареканий; это значило, что, действуя в качестве курьера, он сможет передавать информацию советскому куратору Филби в Нью-Йорке — Валерию Макаеву. Вскоре после прибытия Берджесса Филби рассказал ему об охоте на Гомера и растущей угрозе разоблачения Маклина; случись это и признайся он во всем, последствия могли быть катастрофическими.
Филби не видел Маклина с конца войны, но их давняя дружба не нуждалась в особых подтверждениях; Берджесс знал Маклина гораздо лучше, а кроме того, приходился близким другом Энтони Бланту; близкое знакомство Берджесса и Филби было очевидно; Блант также состоял в контакте с Маклином. Разоблачение Маклина позволило бы МИ-5 быстро установить связи между шпионами, и цепочка подозрений в конце концов привела бы к Филби.
Маклин слетал с катушек с потрясающей скоростью. Он попытался убедить своего куратора, что больше не желает быть советским шпионом, явно не осознавая, что от членства в этом клубе не так-то легко отказаться. Москва попросту проигнорировала его просьбу. В мае 1950 года напряжение стало для него почти невыносимым: он напился, разгромил каирскую квартиру двух секретарш посольства США, в клочья изорвал их нижнее белье и сорвал со стены огромное зеркало, надвое расколов большую ванну. Его отправили домой, поместили под наблюдение психиатра на Харли-стрит, а потом, что совершенно поразительно, после короткого периода лечения повысили до главы американского подразделения Форин-офиса. Видимо, даже пьянство и безумные выходки с растерзанием дамских трусиков не становились препятствием для продвижения на британской дипломатической службе, если человек был «подходящего сорта». Но короткий список подозреваемых все укорачивался, и там фигурировало имя Маклина. А он явно находился на грани тяжелого нервного срыва. Если бы МИ-5 вызвала его на допрос, он бы почти наверняка раскололся. Но теперь, имея в качестве посредника Берджесса, Филби был уверен, что на крайний случай «надежный канал связи с Москвой» у него есть.
Поселившись в доме Филби, Берджесс начал вести себя в своей обычной манере. Он болтался по Вашингтону, хвалился знакомствами, ввязывался в драки, напивался до зеленых чертей, полагая, что платить за него должны другие. Носил он засаленное старое пальто, избегал соприкосновения с мылом и громко провозглашал, что американцы лишены интеллектуальных способностей. Энглтону Филби представил Берджесса как «наиболее выдающегося историка своего поколения в Кембридже». (Те, кто имел представление о кембриджских историках, могут поручиться, что при всей своей гнусности привычки Берджесса не смогли окончательно затмить его профессиональные достоинства). Но, конечно же, его бесчинства тоже были выдающимися. Несколько дней спустя Берджесс, выписывая кренделя, подгреб к столику Энглтона в ресторане «Оксиденталь», уселся без приглашения и потребовал «самого дешевого бурбона». Он щеголял «в весьма специфическом наряде, а именно в белом кителе британского флота, конечно же грязном и покрытом пятнами. Берджесс еле держался на ногах, был небрит и, судя по глазам, не принимал ванну после того, как в последний раз спал». Ни с того ни с сего Берджесс ударился в объяснения какой-то безумной схемы: он предлагал импортировать такие же кители, как тот, что был на нем, и делать на них «бешеные деньги» в Нью-Йорке. Затем потребовал, чтобы его прокатили в салоне «олдсмобиля» Энглтона, а под конец попытался занять денег у сотрудника ЦРУ. После этого он ушел восвояси. Однако нет никаких свидетельств, что Энглтон сколько-нибудь возражал против такого поведения. Ему нравилась британская эксцентричность, а любой друг Кима Филби автоматически становился его другом.
Девятнадцатого января 1951 года Филби принял судьбоносное решение: в то время как жена погружалась в депрессию, опасный друг шатался по Вашингтону, а его собственные перспективы были туманны, он решил устроить званый ужин. По всеобщему мнению, ужин обернулся адской вечеринкой.
Филби пригласил всех знакомых ему высоких чинов американской разведки: конечно же Энглтонов, Роберта Ламфира, агента ФБР и охотника за «кротами», а также Маннов и еще нескольких человек. Кроме того, присутствовали Билл Харви, бывший агент ФБР, теперь отвечавший за контрразведку в ЦРУ, и его жена-невротичка Либби. Амбициозный выходец из Огайо, Харви отличался умом, но при этом являл собой тип «обрюзгшего алкоголика с манерами нелепого полицейского-взяточника из триллера Рэймонда Чандлера». Чета Харви уже побывала на одном званом ужине у Филби, завершившемся тем, что бесчувственное тело Билла Харви сползло под стол.
По традиции вечер начался с коктейлей, разливаемых прямо из кувшина. В атмосфере чувствовалось что-то едкое. Сесили Энглтон заметила, что Боб Ламфир — единственный некурящий гость. «Какой импульс по Фрейду вынуждает вас отказаться от курения?» — лукаво поинтересовалась она. Алкоголь лился ровным потоком (в случае Либби Харви — неровным). Разделавшись с ужином (впоследствии никто не мог вспомнить, что они ели и о чем говорили), гости приступили к виски. Тут-то и ворвался Берджесс. Всклокоченный и откровенно пьяный, он рвался с кем-нибудь поскандалить. Либби бросилась к новому гостю, зажала его в угол и потребовала, чтобы он нарисовал на нее шарж. Берджесс был талантливый рисовальщик, в светских кругах Вашингтона восхищались его карикатурами. Берджесс отказывался. Либби, порядком навеселе, настаивала. Наконец, утомленный ее приставаниями, Берджесс взял блокнот с карандашом и принялся делать набросок. Несколько минут спустя он с сияющей улыбкой вручил ей шарж.
К сожалению, это произведение искусства не сохранилось, но свидетели донесли память о нем в общих чертах. В изображении на карикатуре можно было без труда узнать Либби Харви, хотя черты ее лица оказались «зверски искажены». Впрочем, главным в этом шарже было вовсе не лицо: Берджесс изобразил ее с задранным до талии платьем, раздвинутыми ногами и обнаженными гениталиями. Взглянув на карикатуру, Либби завизжала и разрыдалась. Билл Харви ударил Берджесса. Поднялся гвалт. Чета Харви выбежала вон.
Берджессу инцидент показался забавным. Филби не разделял его мнения. «Как ты мог? Как ты мог?» — крикнул он другу, бессильно опускаясь на диван. Эйлин, всхлипывая, скрылась на кухне. Энглтон и Манн, прежде чем поехать домой, какое-то время постояли возле дома 4100 по Небраска-авеню, словно два подростка после драки, обсуждая, как выразился Энглтон, «социальную катастрофу».
Впоследствии Филби направил Харви «многословные» извинения за оскорбительное поведение Берджесса. «Забудем об этом», — угрюмо ответил Билл Харви. Но сам не забыл.
Прошло несколько недель, и в Арлингтон-холле случился прорыв, на который так рассчитывали дешифровщики и перед которым так трепетал Филби: Мередит Гарднер сумел наконец-то расшифровать послание, датированное июнем 1944 года, где упоминалось, что у шпиона Гомера есть беременная жена, жившая на тот момент у матери в Нью-Йорке. Мелинда, жена Маклина, родившаяся в Америке, как раз ждала ребенка в 1944 году; ее богатая разведенная мать жила на Манхэттене; значит, Гомер и есть Дональд Маклин.
Новости о прорыве достигли Лондона, а уже оттуда попали в Вашингтон к Филби. Теперь он был так же близок к провалу, как в 1945 году, когда Волков собирался его изобличить. Однако время играло ему на руку. Пока что не было улик, позволявших установить связь между ним и Маклином, вдобавок они не виделись годами. К тому же, вместо того чтобы сразу же арестовать Маклина, МИ-5 решила подождать и понаблюдать, надеясь получить новые доказательства. Материалы проекта «Венона» были слишком секретными, чтобы задействовать их в судебном разбирательстве: перехватывая телефонные разговоры Маклина, установив «жучки» у него в кабинете, просматривая его почту и держа его под наблюдением, МИ-5 надеялась застукать Маклина во время непосредственного контакта с советским кукловодом. Однако Служба безопасности, возможно, страдала от паралича того рода, что поражает подобные организации, когда они натыкаются на ситуации весьма неловкие, чреватые провалом и не имеющие прецедента. Маклин, самый высокопоставленный шпион из когда-либо обнаруженных в британском правительстве, оставался на свободе еще пять недель.
Филби мгновенно сообщил плохие новости Макаеву и потребовал, чтобы Маклина вывезли из Великобритании, прежде чем его допросят и он сдаст всю британскую шпионскую сеть, а главное — самого Филби. Но поскольку теперь Маклин находился под неусыпным наблюдением, организовать его побег было задачей не из легких, ведь любой его явный контакт с советской стороной привел бы к незамедлительному аресту. Предупредить Маклина и сказать ему, чтобы бежал, должен кто-то третий, не вызывающий подозрений. Идеальный с точки зрения Филби посланник находился как раз под рукой в лице потрепанного и загубившего свою репутацию Гая Берджесса, чьей дипломатической карьере вот-вот грозила почти в буквальном смысле автокатастрофа. Случайно или умышленно, но Берджессу за один день выписали три штрафа за превышение скорости, когда он колесил по Вирджинии в сером «линкольне» с откидным верхом. Он потребовал освобождения от уплаты под предлогом дипломатической неприкосновенности, оскорблял остановивших его полицейских, чем спровоцировал яростный официальный протест как со стороны Госдепартамента, так и со стороны губернатора Вирджинии. Хотя до козлов дело и не дошло, для посла эта эскапада стала последней каплей. Берджессу, опальному, но совершенно не раскаявшемуся, было приказано немедленно вернуться в Лондон. Впоследствии Филби утверждал, что отзыв Берджесса был тщательно спланированным маневром; но даже если это была счастливая случайность, то, так или иначе, появилась идеальная возможность предупредить Маклина, что ему необходимо бежать в Москву.
Вечером накануне отъезда Берджесса два шпиона ужинали в китайском ресторане в центре Вашингтона, выбранном по причине наличия там отдельных кабинетов с фоновой музыкой, что помешало бы желающим подслушивать. Они отрепетировали план побега: Берджесс выйдет на связь с советской стороной в Лондоне, потом навестит Маклина у него в кабинете и под предлогом не вызывающего подозрений разговора передаст листок бумаги с указанием времени и места встречи. Берджесса еще не уволили официально, так что не будет ничего предосудительного в том, что вернувшийся из Вашингтона сотрудник по связям с прессой явился с докладом к главе американского подразделения. Затем советская сторона должна была организовать побег Маклина. «Смотри, сам не уезжай», — сказал Филби полушутя, полусерьезно, высаживая Берджесса на Юнион-Стейшн. Однако Берджесс был органически неспособен делать то, что ему говорили.
Берджесс вернулся в Англию седьмого мая 1951 года, незамедлительно вышел на связь с Энтони Блантом, и тот сразу же передал сообщение Юрию Модину, советскому куратору «кембриджской пятерки». «Возникла серьезная проблема, — сообщил Блант. — Гай Берджесс только что вернулся в Лондон. Гомера вот-вот арестуют… Это вопрос нескольких дней, а может, даже и часов… Дональд сейчас в таком состоянии, что я уверен — он расколется, как только его заберут». Модин проинформировал Москву и сразу же получил ответ: «Мы согласны, чтобы вы организовали побег Маклина. Мы примем его здесь и предоставим ему все необходимое».
Выпускник Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища, Юрий Модин, по собственному признанию, «не имел предрасположенности к шпионскому делу». Однако работа у него спорилась. Унаследовав кембриджскую шпионскую сеть в тот момент, когда она стала разваливаться, он управлялся с пьянством Берджесса и нестабильностью Маклина тактично и компетентно. Впрочем, доставка Маклина в Москву оказалась самой сложной задачей, с какой ему на тот момент доводилось иметь дело.
Подразделение А4, занятое наружным наблюдением в МИ-5, в обиходе так и именовалось — «Наблюдатели». В 1951 году туда входило около двадцати мужчин и три женщины. Большинство из них раньше служили в особом отделе полиции и были выбраны за острое зрение, хороший слух и средний рост («Мужчины слишком маленького роста… так же привлекают внимание, как и высокие», — вынес вердикт главный Наблюдатель). Им полагалось носить мягкие фетровые шляпы и плащи, а между собой объясняться знаками. Они стояли на углах улиц, наблюдая и стараясь не привлекать внимание. Словом, выглядели в точности как сотрудники службы наружного наблюдения. С тех пор как закончилась война, служба А4 вела наблюдение за резиденцией советской разведки на Кенсингтон-Пэлес-Гарденс, а советская сторона, в свою очередь, пристально наблюдала за сотрудниками А4. Модин знал, что «Наблюдатели» не работают по вечерам и по выходным. Кроме того, ему было известно, что наблюдение за Маклином не распространяется за пределы Лондона, поскольку в МИ-5 опасались, что человек, ошивающийся на улице в мягкой фетровой шляпе, в условиях пригорода может выглядеть подозрительно. Маклин жил в Тэтсфилде, что в графстве Кент, — типичнейшей английской сельской местности, и ездил в Лондон и обратно на поезде. «Наблюдатели» следовали за ним по пятам в течение дня, но, как заметил Модин, «на вокзале Виктория люди МИ-5 провожали поезд со станции, а потом спешили домой, как и подобает хорошим маленьким функционерам. В Тэтсфилде [Маклина] уже никто не караулил». По предположениям Модина, Маклина собирались арестовать в понедельник двадцать восьмого мая. В пятницу двадцать пятого, в тот самый день, когда министр иностранных дел официально санкционировал допрос Маклина, план побега вступил в действие.
В тот вечер, совпавший с тридцать восьмым днем рождения Маклина, Берджесс появился в его доме в Тэтсфилде на арендованном автомобиле, с собранными чемоданами и двумя билетами на прогулочный кораблик «Фалез», отплывавший той же ночью в Сен-Мало (Франция); билеты были туда и обратно, оформленные, само собой, на вымышленные имена. Накануне Берджесс провел целый день у себя в клубе, громко разглагольствуя о том, что планирует поехать на автомобиле в Шотландию с новым возлюбленным. Берджесс поужинал с Дональдом и Мелиндой Маклин (она была в курсе их плана), а потом мужчины отправились в Саутгемптон, в состоянии крайнего возбуждения и непривычной для них трезвости. Они прибыли всего за несколько минут до полночного отплытия, кое-как припарковали машину на причале и начали взбираться по трапу. Один из докеров крикнул, что они не закрыли дверцу машины. «Мы в понедельник вернемся», — ответил ему Берджесс. Вполне возможно, он полагал, что говорит правду.
Перед отъездом Берджесса из Вашингтона Филби взял с него обещание, что тот не сбежит в Москву с Маклином. «Ты не должен ехать, когда поедет он. Если ты это сделаешь, мне конец. Поклянись, что не поедешь». Но Модин настоял на том, чтобы Берджесс сопровождал Маклина. Поначалу Берджесс сопротивлялся, упирая на то, что у него нет желания бежать, а перспектива жизни в Москве представляется ему откровенно гнусной. Однако в конце концов он согласился, видимо поняв так, что он доставит Маклина в Москву, а потом вернется и заживет по-прежнему. У советской стороны были другие планы: билеты Берджессу и Маклину оформили в один конец. Как писал Модин, «Центр пришел к выводу, что у нас на руках не один, а два отработанных агента. Берджесс практически потерял для нас ценность… Даже если бы ему удалось удержаться на службе, он уже никогда не смог бы поставлять КГБ информацию в таком количестве, как раньше. С ним было покончено». Но советские кураторы совершенно не учли тех убийственных последствий, которые двойное бегство означало для Кима Филби. Впоследствии Модин признавал: было ошибкой позволить Берджессу бежать вместе с Маклином. По идее в мире шпионажа ничто не происходит случайно, но в данном случае объяснения Модина, возможно, правдивы: «Так получилось… Иногда разведывательные службы тоже делают глупости».
«Фалез» пользовался популярностью у богатых сластолюбцев, пожелавших устроить своим любовницам увеселительное путешествие по Ламаншу на выходных. Здесь не было паспортного контроля и не задавали особых вопросов. В теории корабль должен был сразу же отплывать от берега Франции, но неофициально он всегда проводил в Сен-Мало несколько часов, чтобы пассажиры могли насладиться французской кухней и видами. «Фалез» пристал к берегу на следующее утро в 11.45. Берджесс и Маклин оставили багаж на борту, спустились по трапу вместе с другими пассажирами, а потом ускользнули, смешавшись с толпой. На такси они доехали до вокзала в Ренне, затем сели на поезд, идущий до Парижа, а потом на другой поезд — до Берна, где Николас Эллиотт, даже не подозревая о том, что два беглеца оказались в его краях, наслаждался ужином в отеле «Швайцерхоф».
Эллиотт считал ресторан этого отеля одним из лучших в Европе, а особенно ценил тамошнее фуа-гра. «Лучшего я в жизни не пробовал, — утверждал Эллиотт, — даже в Страсбурге». Метрдотель по имени Тео был одним из информаторов на жалованье у Эллиотта, а потому всегда находил для него столик. Субботний ужин в «Швайцерхофе» стал для Эллиотта своего рода традицией.
Вечером двадцать шестого мая, пока Эллиотт смаковал фуа-гра, меньше чем в миле от него у советского посольства затормозило такси. Эллиотт узнал бы обоих пассажиров. Берджесс был завсегдатаем вечеринок у Харриса, и они с Филби и Эллиоттом нередко обедали в ресторане «Прюнье» на Пикадилли. Однажды Берджесс претендовал на преподавательскую должность в Итоне, но его заявка была отвергнута, когда Клод Эллиотт узнал о его неподобающем поведении. «Жаль, что Форин-офис не потрудился таким же образом навести о нем справки», — горестно заметил Николас впоследствии. С Маклином он тоже неоднократно встречался.
Несколько часов спустя Берджесс и Маклин уже вышли из советского посольства с фальшивыми паспортами, оформленными на вымышленные имена. Потом они сели на поезд до Цюриха, а там уже — на самолет до Стокгольма, с остановкой в Праге. В пражском аэропорту, теперь уже в безопасности (за «железным занавесом»), оба перебежчика вышли из зоны прибытия и были быстро препровождены в ожидающую их машину.
В понедельник утром «Наблюдатели» понапрасну наблюдали, как поезд из Тэтсфилда прибывает на вокзал Виктория уже без Маклина. Чуть позже Мелинда Маклин позвонила в Форин-офис, чтобы сообщить, что ее муж вышел из дома в пятницу вечером с мужчиной по имени Роджер Стайлз и с тех пор она его не видела. Сотрудник Форин-офиса позвонил в МИ-5. Особый отдел сообщил, что машина, взятая на прокат Гаем Берджессом, брошена на причале в Саутгемптоне. Британское правительство волной захлестнул ужас.
Форин-офис разослал срочные телеграммы в посольства и резидентуры МИ-6 по всей Европе с инструкциями «любой ценой и любыми способами» задержать Берджесса и Маклина. Объявление об их исчезновении содержало описание беглецов: «Маклин: шесть футов три дюйма, нормального телосложения, с короткими, зачесанными назад волосами, с левым пробором, легкая сутулость, тонкие, плотно сжатые губы, длинные худые ноги, небрежно одет, много курит, много пьет. Берджесс: пять футов девять дюймов, худощавого телосложения, смуглый цвет лица, темные кудрявые волосы с проседью, круглолицый, гладко выбрит, слегка косолапит». В Берне Эллиотт дал указания собственным наблюдателям глаз не спускать с советского посольства. Один из его коллег приготовил «графин с отравленным скотчем» — на случай если бы известные своей жаждой беглецы объявились и их потребовалось бы обездвижить. Но к тому времени за Берджесса и Маклина уже поднимали бокалы в Москве.
На следующее утро после того, как обнаружили пропажу Берджесса и Маклина, в британское посольство в Вашингтоне доставили длинную шифрованную телеграмму с пометкой «совершенно секретно». Джеффри Патерсон, представитель МИ-5 в Вашингтоне, позвонил Киму Филби домой с вопросом, нельзя ли позаимствовать его секретаршу Эдит Уитфилд, чтобы она помогла ее расшифровать. Филби охотно дал разрешение. Спустя несколько часов он зашел к Патерсону — тот сидел в своем кабинете в посольстве с серым лицом.
— Ким, — полушепотом сказал Патерсон. — Птичка улетела.
— Какая птичка? — спросил Филби, стараясь придать лицу изумленное выражение. — Не Маклин?
— Да, но тут кое-что похуже… Гай Берджесс бежал вместе с ним.
Теперь тревогу уже и изображать не приходилось. Берджесс гостил у него в доме всего несколько недель назад. Филби был одним из тех, кого держали в курсе расследования дела Гомера, а значит, он мог предупредить Маклина. Все трое вместе учились в Кембридже. МИ-5 непременно заинтересуется его дружбой с Берджессом и начнет копаться в его прошлом — это был всего лишь вопрос времени, и, скорее всего, очень недолгого. В отличие от своих советских кураторов, Филби вполне осознавал, насколько серьезную угрозу побег Берджесса создал для его собственного положения. За ним в любой момент могли установить наблюдение, затем уволить и даже арестовать. Действовать следовало быстро.
Аварийный план уже существовал. Если бы МИ-5 вышла на след Филби, советские кураторы снабдили бы его деньгами и поддельными документами, и Филби смог бы сбежать в Москву через Карибские острова или Мексику. Специально для этой цели жившему в Нью-Йорке Макаеву дали инструкцию оставить две тысячи долларов и послание в шпионском тайнике. Он не смог этого сделать. Филби так и не получил этих денег. Впоследствии Макаева пропесочили за этот промах его московские начальники, отмечавшие у него «отсутствие дисциплины» и «грубые манеры»: скорее всего, он попросту спустил деньги на свою плясунью.
Британское посольство за закрытыми дверями встало на уши, когда до них докатились новости о том, что даже не один, а два высокопоставленных сотрудника Форин-офиса в Вашингтоне исчезли и, возможно, были советскими шпионами. Филби и Паттерсон вместе сообщили об этом конфузе ФБР. Филби внимательно наблюдал за реакцией друзей из ФБР, включая Боба Ламфира, присутствовавшего на памятном званом ужине, но видел только удивление с оттенком некоторого ехидного удовольствия от того, что британцы потерпели поражение. Видимо, сам Филби под подозрение пока не попал. За ланчем он сказал Патерсону, что должен пойти домой и «выпить чего-нибудь крепкого»; такое поведение казалось абсолютно нормальным всем, кто его знал. Вернувшись на Небраска-авеню, Филби поспешил вовсе не к бару, а к сараю для садового инвентаря. Вооружившись лопаткой, он спустился в цокольный этаж, где до недавнего времени обитал Гай Берджесс. Там он достал из тайника выданные ему Макеевым фотоаппарат, треногу и пленку, поместил все это в водонепроницаемые контейнеры и сложил в багажник. Затем Филби сел в машину, завел мотор и поехал на север. Эйлин была дома с детьми; если ей и показалось странным, что ее муж рано пришел с работы, заперся в подвале, а потом молча куда-то уехал, она не проронила ни слова.
Филби неоднократно ездил по дороге к Великим водопадам. Энглтон брал его на рыбалку в долину Потомака; там находился псевдоанглийский паб под названием «У старого рыбака», где они весело скоротали несколько вечеров. Дорогу эту редко использовали, и проходила она по лесистой местности. На пустынном участке (по одну сторону лес, по другую — река) Филби припарковался, достал контейнеры с лопаткой и направился в чащу. Через несколько минут он вернулся, будничным жестом застегивая пуговицы на брюках, на случай если его кто-то увидит, и поехал домой. Где-то в неглубокой ямке, вырытой в лесах рядом с Потомаком, припрятано советское фотооборудование. Зарытое там шестьдесят лет назад, оно стало своеобразным мемориалом, посвященным шпионскому мастерству Филби.
Если Филби собирался бежать, чтобы в изгнании присоединиться к Берджессу и Маклину, то момент был как раз подходящий. Но Ким не сбежал. Он решил остаться и попробовать сблефовать. Впоследствии он обосновывал свой выбор с позиции принципа (его обычная манера объяснять свое поведение): «Несомненно, моим долгом было выйти из ситуации победителем». Однако лежал в основе его решения и расчет: ФБР еще не начало его подозревать, так что предположительно МИ-5 тоже не подозревала. Никому еще не удалось установить личность Стэнли. Если бы они все-таки стали копаться в его прошлом, то могли бы обнаружить главным образом косвенные свидетельства. Давние заигрывания Филби с левыми едва ли были секретом, к тому же он рассказал Валентайну Вивьену о женитьбе на Литци. Конечно, дружба с Берджессом сильно портила картину (в 1940 году он участвовал в вербовке Филби), но если бы они оба и вправду были советскими шпионами, разве Ким разрешил бы Берджессу жить у себя дома? «Нет сомнений, что у Кима Филби поведение Берджесса вызывает глубокое отвращение», — написал Лидделл после того, как Филби связался с ним и признался, что он в ужасе от побега друга.
Сам факт, что Филби не сбежал, должен был свидетельствовать о том, что его совесть чиста. Конечно, изобличающие подсказки начали появляться еще давно: перебежчик Кривицкий описывал британского шпиона, работавшего в Испании журналистом; Волков упоминал некоего сотрудника контрразведки и исчез после того, как делом занялся Филби. Если заглядывать еще глубже, то МИ-6 могла бы припомнить и советские документы, которые он брал в архиве в Сент-Олбансе. Однако для судебного преследования МИ-5 понадобились бы более твердые улики. Они могут подозревать его, допрашивать, подталкивать к признанию и пытаться загнать в ловушку. Но обличить его будет очень непросто. И Филби об этом знал. С холодной головой и удачей, которая, похоже, неизменно ему сопутствовала, у него еще оставался шанс спастись от надвигающегося шторма. «Вопреки очевидному я считал, что у меня хорошие шансы».
У Филби оставалось еще одно оружие — возможно, самое сильное в его арсенале — умение дружить. У него были могущественные друзья по обеим сторонам Атлантики, люди, работавшие с ним и доверявшие ему много лет. Эти люди видели его таланты разведчика, делились с ним секретами и пили его коктейли. Согласившись с тем, что он виновен, они бы и сами до некоторой степени оказались втянутыми в эту историю. «Уверен, есть немало людей, занимающих высокие посты, — рассуждал Филби, — которым бы очень хотелось, чтобы моя невиновность была доказана. Они будут склоняться в сторону презумпции невиновности».
Филби знал, что может рассчитывать на заступничество друзей, прежде всего двоих: Джима Энглтона и Ника Эллиотта.
Глава 11
Персик
Требование явиться в Лондон пришло Филби в форме вежливой, написанной от руки записки от его непосредственного руководителя Джека Истона: тот сообщал, что Ким вскоре получит официальную телеграмму с приглашением вернуться домой и обсудить исчезновение Берджесса и Маклина. Истон принадлежал к числу немногих старших по должности чиновников, которых Филби уважал; человек с «острым, как рапира, умом», способным на «тончайшие интриги». Впоследствии Филби задавался вопросом, не намекали ли ему этим письмом, чтобы он тоже бежал — во избежание скандала. На самом же деле это, скорее всего, был всего лишь дружеский, ободряющий жест — мол, не о чем беспокоиться. Перед отъездом в Англию Филби еще раз обошел своих коллег в ЦРУ и ФБР, но так и не заметил никакой подозрительности в свой адрес. Энглтон держался так же дружелюбно, как обычно. Вечером одиннадцатого июня 1951 года, накануне отлета Филби в Лондон, друзья встретились в баре.
— Долго тебя не будет? — поинтересовался Энглтон.
— Примерно неделю, — небрежно ответил Филби.
— Можешь кое-что для меня сделать в Лондоне? — спросил Энглтон и объяснил, что ему нужно отправить в МИ-6 срочное письмо, но он уже пропустил дипломатическую почту на этой неделе. Не мог бы Филби доставить письмо собственноручно? Джеймс подтолкнул к нему конверт, адресованный главе контрразведки в Лондоне. Позднее Филби предполагал, что это тоже было некоей уловкой, призванной проверить его или загнать в ловушку. Паранойя уже начала его подтачивать. Между тем Энглтон не испытывал и тени сомнения: друг, которому он доверял, доставит письмо и вернется через неделю, и тогда они, как обычно, вместе пойдут на ланч в «Харвиз». Проведя, по выражению Филби, «приятный часок» в баре за обсуждением «вопросов, касавшихся их обоих», Филби сел на поздний самолет в Лондон. Больше ему не суждено было увидеть ни Энглтона, ни Америку.
Как и ожидал Филби, мрачные тучи сомнения начинали медленно сгущаться по обеим сторонам Атлантики. Надвигалась буря, которая вскоре сбила с курса корабль «особых отношений» и заставила секретные службы Великобритании вцепиться друг другу в глотки. Могло показаться, что американцы сохраняли невозмутимость, однако исчезновение дипломатов стало «крупной сенсацией» и в Вашингтоне. Уже развернулось расследование, в центре которого находился Гай Берджесс, а следовательно, и его друг, защитник и арендодатель Ким Филби. Директор ЦРУ Уолтер Беделл Смит приказал всем сотрудникам, располагавшим какими-либо сведениями о Филби и Берджессе, как можно скорее доложить об этом. Первым на стол шефа ЦРУ лег отчет Билла Харви из контрразведки; вторым, через несколько дней, — отчет Джеймса Энглтона. Документы разительно отличались друг от друга.
Отчет Харви — «высокопрофессиональный, проницательный и написанный в обвинительном тоне», — по сути дела, изобличал Филби. Бывший агент впоследствии утверждал, что подозрения насчет Филби возникли у него задолго до побега Берджесса и Маклина, а как сотрудник ФБР он, возможно, имел доступ к материалам «Веноны». Изучив карьеру англичанина в мельчайших подробностях, Харви объединил разрозненные доказательства и с сокрушительной конкретикой описал все это на пяти страницах, заполненных плотной машинописью. Он отметил связи Филби с Берджессом, его роль в деле Волкова, участие в провальных албанских операциях и полную осведомленность об охоте на шпиона Гомера, дававшую идеальный шанс предупредить Маклина о надвигающемся аресте. Ни одно из этих свидетельств по отдельности не было достаточным доказательством вины, но в целом вывод, по мнению Харви, напрашивался сам собой: Филби — советский шпион. Впоследствии Ким характеризовал эти обвинения как «сведение счетов задним числом», личную месть за оскорбление, нанесенное жене Харви на кошмарном званом ужине всего полгода назад.
Второй отчет разительно контрастировал с первым. Энглтон описывал многочисленные встречи с пьяным Гаем Берджессом, но отмечал, что Филби, похоже, смущался из-за выходок друга и старался сгладить впечатление, объясняя, что Берджесс «получил сильное сотрясение во время несчастного случая и оно периодически дает о себе знать». Энглтон решительно отвергал любые предположения, будто Филби мог быть заодно с перебежчиком, и заявлял о своей «уверенности», что, какие бы преступления ни совершил Берджесс, он действовал «вне всякой связи с Филби». По словам одного сотрудника ЦРУ, «в общем, получалось… нельзя обвинять Филби в том, что натворил этот псих Берджесс». С точки зрения Энглтона Филби был вовсе не предателем, а честным и блестящим человеком, которого жестоко обманул друг, а у того, в свою очередь, из-за ужасного удара по голове сильно пострадала психика. Согласно биографу Энглтона, «он лелеял убеждение, что подозрения с его британского друга снимут», и предупреждал Беделла Смита, что, если ЦРУ начнет выдвигать необоснованные обвинения в измене против высокопоставленного сотрудника МИ-6, это нанесет серьезный урон англо-американским отношениям, поскольку в Лондоне Филби «высоко ценят».
В некоторой степени два этих отчета отражали различные методы разведывательного дела, развивавшиеся на разных берегах Атлантики. Билл Харви воплощал собой новый, американский стиль расследования — подозрительность, быстрота суждений и готовность оскорбить. Отчет Энглтона был составлен в английской традиции, основан на дружбе и вере в слово джентльмена.
Харви прочитал отчет Энглтона, столь отличный по сути и тону от его собственного, и нацарапал внизу страницы: «И чем же кончается эта история?» Таким образом, он обвинил коллегу из ЦРУ в том, что тот закрывает глаза на правду. Расхождения между Харви и Энглтоном по поводу Филби разожгли пламя вражды, продолжавшейся в течение всей их жизни. Столь же радикальные разногласия стали возникать и в рядах британской разведки.
Днем двенадцатого июня Ким Филби прибыл в управление МИ-5 в Леконфилд-хаусе, рядом с Керзон-стрит, чувствуя истощение и испытывая «опасения», но собранный и готовый к предстоящей дуэли. Выброс адреналина, вызываемый опасностью, всегда его стимулировал. Джек Истон настоял на своем присутствии при разговоре — для моральной поддержки. Двоих представителей МИ-6 приветствовал Дик Уайт, шеф контрразведки МИ-5, который в течение следующих нескольких часов собирался подвергать Филби допросу, кое-как замаскированному под дружескую беседу. Подали чай. Кабинет наполнился едким табачным дымом. Все обменялись любезностями. Дик Уайт (не путать с Ричардом Бруманом-Уайтом, старым другом Эллиотта), в прошлом директор школы, сын торговца скобяным товаром из Кента, искренний, уравновешенный, достойный человек, впоследствии возглавил МИ-5, а потом и МИ-6. Филби знал Уайта еще со времен войны и всегда отлично с ним ладил, хотя втайне пренебрежительно отзывался о его якобы посредственном уме и нерешительном характере. «Он старался как мог, чтобы наш разговор протекал в дружеской обстановке», — писал Филби. Атмосфера в кабинете была скорее неловкой, нежели враждебной. Ш хоть и неохотно, но все-таки согласился на то, чтобы его подчиненного опрашивала МИ-5. Ему объяснили, что Филби окажет помощь следствию, ведь у него «могут быть соображения по этому делу». Уайт старательно подчеркивал: его пригласили лишь для того, чтобы он помог пролить свет на «эту чудовищную историю с Берджессом и Маклином». Но под фасадом вежливости уже намечались трещины, из-за которых две ветви британской разведки начали отдаляться друг от друга.
МИ-6 была на стороне своего человека. В папках дела Филби не было ничего, что позволило бы его обвинить, только все более восторженные песнопения в его адрес, приведшие к тому, что он получил назначение в Вашингтон. «В то время против него ничего не было», — вспоминал Истон. В худшем случае его можно было обвинить в неосмотрительности и в том, что связался с дегенератом Берджессом. Но если это считать преступлением, то многие в Форин-офисе и секретных службах были в той же степени виновны. Ким не сбежал, охотно помогал и, что самое важное, он был джентльменом, членом клуба и карьеристом, а значит, невиновным. Многие из коллег Филби в МИ-6 ухватились за эту презумпцию невиновности, как за символ веры. Если бы они поступили иначе, это означало бы, что их всех водили за нос; тогда разведка и дипломатическая служба выглядели бы совершенно по-идиотски. Однако МИ-5 занялась расследованием, и вот уже фигура дружелюбного, компанейского Кима Филби начинала принимать более мрачные очертания. В Лондоне с еще большей целеустремленностью, чем в Вашингтоне, стали исследовать нити подозрений, обозначенные Биллом Харви. За несколько недель, последовавших за побегом, была собрана толстая папка, лежавшая теперь на столе Уайта, всего в нескольких футах от того места, где сидел Филби, прихлебывая чай, куря трубку и напуская на себя непринужденный вид.
Расхождения во мнениях относительно Филби, возникшие между двумя ветвями британской разведки, обнаружили линию культурного разлома, которая предвосхитила этот кризис, надолго пережила его и существует по сей день. МИ-5 и МИ-6 — Служба безопасности и Секретная разведывательная служба — совпадали во многих аспектах, но на самом деле различались фундаментально. МИ-5 предпочитала нанимать бывших полицейских и военных, людей, подчас говоривших с региональным акцентом, порой не знавших, каков порядок использования приборов на официальном ужине, и не особенно страдавших из-за этого. Они стояли на страже закона и защищали государство, ловили и наказывали шпионов. МИ-6 же скорее являла собой продукт частной школы и Оксбриджа; акцент здесь был утонченнее, одежда более изысканной. Агенты и сотрудники МИ-6 в погоне за секретами часто нарушали законы других стран, причем делали это с некоторым бахвальством. МИ-6 — это «Уайтс», а МИ-5 — «Ротари-клуб». В МИ-6 служили представители верхнего слоя среднего класса (а иногда и аристократы); в МИ-5 — средний, а иногда и рабочий класс. С точки зрения мельчайших градаций классового расслоения, имеющего столь важное значение в Великобритании, МИ-5 «сидела на нижнем кольце стола» в силу простецкого происхождения, а МИ-6 привлекала джентльменов, отличалась элитарностью и даже снобизмом. МИ-5 занималась охотой, а МИ-6 собирательством. Филби снисходительно и даже пренебрежительно характеризовал Дика Уайта как фигуру «ничем не выдающуюся» — и это в точности отражало отношение МИ-6 к родственной службе: Уайт, согласно описанию его биографа, был «в чистом виде представителем торгового класса», тогда как Филби представлял «истеблишмент». МИ-5 смотрела на МИ-6 хотя и снизу вверх, но с презрением; МИ-6 смотрела на МИ-5 сверху вниз с легкой, но плохо скрытой насмешкой. Разгоравшаяся вокруг Филби битва стала еще одним столкновением в бесконечной, изматывающей и совершенно нелепой классовой войне.
Уайт был приличным человеком, хорошим администратором и сведущим кабинетным политиком, но допрашивать он не умел. Улики против Филби все еще были, по его мнению, «довольно расплывчатыми». Кроме того, перед ним сидел шпион, сумевший довести свое двуличие до совершенства, умудрявшийся почти два десятка лет скрывать свои дела среди бела дня. Чтобы изобличить его, требовался кто-то похитрее Уайта. Ким предположил, что кабинет прослушивается. Его заикание задавало разговору странный, запинающийся ритм: возможно, так проявлялась нервозность, а может, он хотел выиграть время и вызвать сочувствие. Сперва Уайт спросил про Маклина: Филби сказал, что помнит его по Кембриджу и наслышан о нем, но не видел его много лет и, возможно, даже не узнал бы при встрече. Затем перешли к персоне Берджесса, и напряжение в кабинете чуть возросло. Филби гнул свою линию: попросту неправдоподобно, чтобы какая-либо разведка, уж тем более русская, воспользовалась услугами столь негодного для шпионажа, «болтливого, неорганизованного, пьяного распутника-гомосексуала». Филби хорошо играл свою роль, в нужных пропорциях сочетая смущение, заискивание и самооправдание: вот он, высокопоставленный сотрудник разведки, вынужден опровергать безмолвное обвинение в том, что его обманули, и теперь может потерять работу из-за роковой ошибки в выборе друзей. Вопрос о лояльности самого Филби даже не поднимался, никто о нем и не заикнулся, и все же он словно висел в атмосфере вместе с табачным дымом. Встреча завершилась дружескими рукопожатиями. Как всегда готовый помочь, Филби предложил в письменном виде изложить краткое содержание беседы и сказал, что связаться с ним можно по адресу его матери. Уайт намекнул, что, вероятно, им вскоре придется встретиться снова.
Оба участника разговора обсудили его с Гаем Лидделлом, а тот записал в своем дневнике: «Ким не на шутку взволнован!» Уайт, в свою очередь, не нашел ответы Филби «вполне убедительными». Лидделл был другом Кима в течение двадцати лет. Кроме того, он хорошо знал Гая Берджесса. Энтони Блант входил в число его ближайших приятелей. Дневник Лидделла отражает отчаянную борьбу с осознанием того, что некоторые, а возможно, и все, его друзья — шпионы. «Обедал с Энтони Блантом, — писал Лидделл. — Я убежден, что Блант никогда не был сознательным соучастником Берджесса ни в одном из тех дел, которые тот мог совершить во имя Коминтерна». В его тоне звучала неуверенность. Мол, «трудно поверить», что Берджесс и Маклин могли быть шпионами, не говоря уже о Филби. На самом деле он просто не хотел в это верить.
Через два дня Филби снова оказался в кабинете Уайта, где атмосфера стала уже на несколько градусов прохладнее. В промежутке между двумя встречами пришло письмо от директора ЦРУ Уолтера Беделла Смита, составленное Биллом Харви, и с его же обвинительным заключением. В письме, агрессивном по тону и адресованном лично Ш, утверждалось, что ни при каких обстоятельствах Филби не получит разрешения вернуться в Вашингтон. Подтекст читался однозначно: «Увольте Филби, или мы разрываем отношения между разведками». Эти отношения переживали сейчас самые тяжелые времена за всю историю существования. Заметив, что доверие к Форин-офису «серьезно подорвано» исчезновением Берджесса и Маклина, и ранее представлявших очевидную угрозу безопасности, США требовали от британского правительства «навести порядок, даже если придется кого-то обидеть». И, что еще более оскорбительно, Вашингтон заявлял, что такая брешь никогда бы образовалась в американской системе безопасности: «В Госдепартаменте хроническое пьянство, частые нервные срывы, сексуальные отклонения и другие человеческие слабости считаются угрозами для безопасности, и сотрудники, проявляющие одну или более подобных черт, без долгих рассуждений увольняются».
Как и предчувствовал Энглтон, МИ-6 вовсе не пришла в восторг от того, что одного из ее сотрудников обвинили в предательстве без неопровержимых доказательств, не говоря уже о предположении, что в Форин-офисе работают пьющие, психически нестабильные люди с сексуальными отклонениями. Боссы МИ-6 немедленно отправили сообщение Дику Уайту в МИ-5, заявляя о «всецелой готовности защищать своего протеже и репутацию службы». Теперь Уайту предстояла не только конфронтация с Филби, но и столкновение с самой МИ-6. А досье на Филби тем временем пополнялось. Расследование выяснило, что в Кембридже он тяготел к левым взглядам, потом женился на коммунистке, а затем переметнулся в крайне правый лагерь; подняли и упоминание перебежчика Кривицкого о советском шпионе, работавшем журналистом в Испании во время гражданской войны. История с Волковым, крах операции «Ценность», расследование дела Гомера и время осуществления побега Берджесса и Маклина — все это если не прямо, то косвенно изобличало Филби. «Хотя по отдельности все улики против него могут иметь другие объяснения, их совокупный эффект весьма впечатляет», — писал Лидделл. В связи с усиливающимися подозрениями Филби было присвоено кодовое имя Персик. Кодовым именам полагается быть нейтральными, но в действительности они очень редко такими бывают. Есть соблазн увидеть скрытый смысл в кодовой кличке, присвоенной Филби, поскольку персик был самым экзотичным и заманчивым фруктом в Великобритании, истощенной сидением на скудном пайке военного времени, — и достаточно спелым, чтобы его сорвали.
Дик Уайт вел себя все так же корректно, но был настроен более критически. Он попросил Филби еще раз поподробнее рассказать, когда он встретился с Берджессом, что знал о его политических взглядах и как они стали друзьями, — мол, времени у него предостаточно. «Я никуда особо не тороплюсь», — произнес Уайт с оттенком нетерпения. Быстро соврать легче. Врать долго намного труднее, потому что на ложь, высказанную вначале, накладывается новая ложь, и они могут мешать и противоречить друг другу. Филби признал, что первая его жена была коммунисткой, но утверждал, что «впоследствии отвадил ее от коммунизма» и что «сам никогда коммунистом не был». Когда Филби спросили, откуда Маклин мог узнать о грозящем аресте, он «решительно отрицал, что когда-либо обсуждал Маклина с Берджессом».
Пока Филби растекался мыслию по древу, Уайт совершенно явственно осознал, что он лжет.
Теперь Уайт перевел разговор на 1936 год и первую поездку Кима в Испанию в качестве корреспондента «Таймс». Филби поспешил его поправить: изначально он поехал в Испанию как вольный наемник и только позднее поступил в штат газеты. Лицо Уайта покраснело, а воротничок стал ему тесен. Каким образом бедный молодой человек нашел деньги на путешествие в Испанию и смог устроиться корреспондентом? Это был, как впоследствии писал Филби, «гадкий вопросец», потому что приказ поехать в Испанию и средства на поездку были получены от советской разведки — а Уайт явно именно это и подозревал. Ким нахально ответствовал, что продал книги и граммофонные записи, чтобы добыть денег. Здесь Уайту было за что ухватиться, поскольку от нескольких дополнительных вопросов версия могла бы развалиться: сколько книг? Сколько записей? Продал ли он их за наличные? Где чеки? Но вместо этого Уайт просто мысленно пометил ответ Филби как очередную ложь. Спустя еще несколько часов Уайт поднялся из-за стола, давая понять, что встреча окончена. На этот раз обошлись без рукопожатия. Филби вышел после второй беседы, осознавая, что в глазах Уайта он теперь главный подозреваемый. Тем не менее он был убежден, что прямых улик у МИ-5 мало — вряд ли достаточно, чтобы возбудить против него дело, и почти наверняка недостаточно, чтобы осудить его. Однако их с лихвой хватало, чтобы сделать его неприемлемым для МИ-5 и неподходящим для работы в МИ-6. Уайт послал служебную записку Стюарту Мензису, подробно расписав основания для подозрений против Филби и настоятельно порекомендовав МИ-6 как можно скорее принять меры.
Теперь Киму грозила серьезная опасность. Ищейкам из МИ-5, представителям среднего класса, не терпелось вкусить его благородной крови. Он был загнан в угол, скомпрометирован, и у него заканчивались патроны. Но у него все еще оставались союзники, готовые его поддержать, в особенности один, чья преданность оставалась столь же неизменной и безоговорочной, как и раньше.
Николас Эллиотт вернулся в Великобританию в тот самый момент, когда допросы Филби достигли кульминации. Он тут же бросился на защиту друга с яростью, рвением и абсолютной убежденностью.
Возможно, Эллиотта отозвали именно в это время по чистому совпадению. Шесть лет он успешно возглавлял швейцарскую резидентуру; теперь ему полагалось повышение, он вступил в новую должность в Лондоне и отвечал за связи с разведками дружественных иностранных государств. Работа предполагала частые зарубежные поездки и, по словам Эллиотта, утоляла его «ненасытную тягу к новым местам и лицам». Но вместе с тем она давала возможность посвятить себя задаче, более близкой к дому — и к сердцу: защите Филби от обвинений, вихрем кружившихся по Уайтхоллу. Эллиотт был всецело и неколебимо убежден в невиновности Филби. Они вместе поступили на службу в МИ-6, вместе смотрели матчи по крикету, вместе обедали и выпивали. Эллиотт попросту представить себе не мог, что Филби — советский шпион. Филби, которого он знал, никогда не говорил о политике. За десять с лишним лет близкой дружбы он ни разу не слышал от Филби ни слова, хоть как-то намекающего на левые взгляды, не говоря уж о коммунизме. Возможно, Ким допустил оплошность, связавшись с таким типом, как Берджесс; возможно, он заигрывал с радикалами, учась в университете; возможно, он даже женился на коммунистке и скрывал это. Однако это были ошибки, а не преступления. Остальные так называемые улики были основаны на пересудах и слухах самого скверного рода. В США вовсю шла антикоммунистическая кампания, развернутая сенатором Джо Маккарти, и, как был твердо уверен Эллиотт, Филби стал жертвой маккартистской «охоты на ведьм», которую вела окопавшаяся в МИ-5 клика фанатиков-антикоммунистов из низших классов.
Эллиотты поселились в доме на Уилтон-стрит в фешенебельной Белгравии, всего в нескольких минутах от квартиры матери Филби в Дрейтон-гарденс, где жил Ким. Вскоре в МИ-6 стало ясно, что Эллиотт — самый бесстрашный сторонник Филби, готовый защищать его от всех обвинений и громогласно заявлять о его невиновности. Филби был его другом, наставником, союзником, а значит, в мире Николаса Эллиотта он попросту не мог быть советским шпионом. Эти отношения Эллиотт ставил выше всех остальных; он воспринимал обвинения МИ-5 не только как проверку их с Кимом дружбы на прочность, но и как нападение на высшие ценности секретного клуба, куда они вступили в самый разгар войны. Эллиотт встал на защиту невиновного, «чьим единственным прегрешением была неразборчивость в друзьях»; кроме того, с его точки зрения, он также защищал свое племя, культуру и класс.
Однако ни решительная позиция Эллиотта, ни распространенное в МИ-6 мнение, что Филби стал «жертвой ничем не подкрепленных домыслов», не могли сохранить ему должность. Поскольку и МИ-5, и американцы требовали принятия мер, у Мензиса не осталось выбора. Ш вызвал своего бывшего протеже. Филби понял, что его ждет. Согласно некоторым свидетельствам, он, возможно, предложил подать в отставку: «Теперь вам от меня не будет толку… Пожалуй, вам лучше меня отпустить». По версии Филби, Ш сказал, «явно угнетенный», что вынужден попросить его подать в отставку. Дружба с Берджессом, советским шпионом, делала его совершенно бесполезным для дальнейшей работы в МИ-6. Сам размер его выходного пособия — четыре тысячи фунтов (более тридцати двух в нынешнем эквиваленте) — доказывал, что контора провожает его с честью и оказывает ему поддержку. Филби «никак не мог быть предателем», говорил Мензис Уайту. Ким делал вид, будто с оптимизмом принимает роль козла отпущения. Но Эллиотт был в ярости и даже не пытался скрыть свое мнение, что «с целеустремленным, преданным сотрудником обращались недопустимым образом на основе свидетельств, являющихся не чем иным, как параноидальной теорией заговора».
С блистательной карьерой Филби в качестве офицера МИ-6 было покончено. Теперь он оказался безработным, под подозрением в измене и под «огромной черной тучей» неопределенности. Семье пришлось втиснуться в съемную сторожку в Херонсгейте, в сельской глуши Хартфордшира. Большую часть времени Филби проводил в деревенском пабе. Он знал, что за ним наблюдают. Примерно каждую неделю в деревне появлялся полицейский и чуть ли не демонстративно торчал на улице. Телефон прослушивался, почту перехватывали, поскольку в МИ-5 собирали улики и ждали, когда Филби проколется. Операторы не смогли найти доказательств, что он был на связи с советскими, но убедились, что коллеги из МИ-6 продолжают его поддерживать. Зная, кто его прослушивает, Филби тщательно изображал человека, которого вынудили уйти с работы, но не обидели: «Он говорил, что с ним поступили очень щедро и у него нет претензий в отношении бывшего места службы». Эллиотт пытался его подбадривать шуточками о телефонной прослушке: «Я лично был бы в восторге, если бы МИ-5 прослушивала мой телефон, ведь это гарантия, что в случае неполадок со связью (а время от времени такое бывает) их немедленно устранят». Возможно, Филби эта шутка не казалась смешной.
Николас Эллиотт часто звонил: его разговоры как с Филби, так и с Эйлин подробно записывались и расшифровывались. Один такой звонок, перехваченный в августе, вызвал приступ паники в МИ-5: операторы услышали, как Эйлин говорит Эллиотту, что Филби с другом, бизнесменом из лондонского Сити, поехал кататься на яхте, пришвартованной в Чичестере на южном берегу. «Надеюсь, он не собирается смотать удочки?» — спросила Эйлин, явно опасаясь, как бы муж не воспользовался морской прогулкой, чтобы организовать свое «исчезновение», подобно Берджессу и Маклину, и ускользнуть во Францию. Эллиотт со смехом заверил ее, что никуда Филби не убежит.
Гай Лидделл подумывал, не нагрянуть ли на яхтенную вечеринку, но пришел к выводу, что Эйлин просто «пошутила». Так или иначе, «мешать Филби попасть на яхту было уже поздно, а о чем-либо предупреждать французов пока не имело смысла». Тем вечером Филби вернулся домой, даже не подозревая о поднятом им переполохе. Но по мере накопления улик МИ-5 все больше опасалась, что Филби и вправду планирует побег. В декабре охотники атаковали снова.
Филби ехал в Лондон, чтобы ответить на новую порцию вопросов Ш; деревья вдоль дороги стояли голые. Расспросы вступили в новую фазу. «Похоже, дело против Филби принимает мрачный оборот», — писал Лидделл. Направляясь в кабинет, Ким предполагал, что МИ-5, видимо, обнаружила дополнительные улики и следующие несколько часов могут оказаться «скользкими». Он был прав по обоим пунктам. Мензис с извинениями объяснил, что дан ход «правовому разбирательству» в связи с исчезновением Берджесса и Маклина. Не очень ли затруднит Филби пройти в управление МИ-5 и ответить еще на ряд вопросов? Это был приказ, замаскированный под приглашение. Премьер-министр Уинстон Черчилль лично одобрил решение снова вызвать Филби для опроса. Предположения Кима полностью оправдались, когда его провели в кабинет на пятом этаже Леконфилд-хауса, где он обнаружил, что его ждет знакомая, внушительная и явно угрожающая фигура. «Привет, Позер!» — сказал Филби.
Эленус Патрик Джозеф Милмо, известный всем как Позер, был юристом старой закалки: агрессивным, аккуратным, напыщенным и беспощадным. Он не просто так получил свое прозвище. Ему нравилось сбивать своих оппонентов с ног огнем обвинений, произносимых рокочущим баритоном, пронизанным юридическим всеведением. Филби лично наблюдал его убийственные методы во время войны, когда юрисконсульт МИ-5 Позер Милмо помогал ему раскалывать предполагаемых шпионов, которых держали в Лагере-020, секретном следственном центре в Ричмонде. Звездный час Милмо наступил на Нюрнбергском процессе против нацистских военных преступников. После этого он стал судьей верховного суда. Вооруженный досье МИ-5, Милмо планировал расколоть Филби и выудить из него признание — одной только силой убеждения.
Филби сел и, отчасти чтобы скрыть беспокойство, достал трубку и закурил. Милмо тут же велел ее погасить, поскольку это такое же официальное расследование, как в суде. Он сказал неправду: допрос вовсе не имел подобного статуса, однако этот «обмен любезностями» определил тон последующей беседы. Милмо атаковал Кима, паля из всех орудий. Он обвинил Филби в том, что тот шпионил в пользу Советского Союза с 1930-х годов, послал на смерть сотни людей, предав Волкова и предупредив Берджесса и Маклина. Филби парировал, уклоняясь и выкручиваясь. Тогда Милмо сделал свой лучший выстрел: отметил, что объем радиограмм между Лондоном и Москвой заметно вырос после того, как Волков предложил свою сделку, и это могло свидетельствовать о том, что Филби проинформировал московский Центр, в результате чего объем трафика между Москвой и Стамбулом тоже вырос. Филби пожал плечами: «Мне-то откуда знать?»
Милмо перешел к отчету Кривицкого о таинственном советском шпионе, отправленном в Испанию под видом журналиста — якобы для того, чтобы освещать гражданскую войну, а на самом деле для убийства Франко. «Так кто же был этим молодым журналистом? — напирал Милмо. — Может быть, вы?» Филби ответил, что, если бы Советы и впрямь хотели убить Франко, они бы уж, конечно, наняли профессионального убийцу, а не выпускника Кембриджа, который и оружия-то в руках не держал. Тут рассерженный Милмо перегнул палку, обвинив Филби в передаче важных документов Берджессу. Это обвинение Филби смог опровергнуть, даже не прибегнув ко лжи.
Затем Милмо обвинил Кима в том, что тот женился на коммунистке и нелегально провез ее в Великобританию. Филби возразил, что, оставь он свою еврейскую подругу в Вене, она бы неминуемо оказалась в концентрационном лагере: «Разве я мог ей не помочь?»
У юриста заканчивались боеприпасы. Каждый раз, когда Филби удавалось вывернуться, голос Милмо становился громче, лицо багровее, а манера поведения воинственнее. Он стучал кулаком по столу. Недоверчиво фыркал. Метался и дергался.
Стенографистка записывала каждое слово. В соседней комнате группа высоких чинов разведки, включая Дика Уайта, Гая Лидделла и Стюарта Мензиса, мрачно слушала, как Милмо все больше ярится и все меньше преуспевает. «Пока он ни в чем не признался, — записал у себя в дневнике Лидделл. — Милмо наседает на него крепко».
«Все это превратилось в состязание, кто кого перекричит», — констатировал Уайт.
Прошло четыре часа. Позер охрип, Ким обессилел, а допрос окончился ничьей. Милмо знал, что Филби виновен. Ким знал, что тот знает, но еще он знал, что без признательных показаний обвинения остаются юридически беспомощными. «На допросе так и не удалось добиться от Филби признания, — написал Лидделл тем вечером, — хотя Милмо твердо убежден, что он русский шпион или, по крайней мере, был им раньше и что на нем лежит ответственность за утечку информации о Маклине и Берджессе». Прежде чем Филби покинул управление МИ-5, его попросили сдать паспорт, и он с радостью это сделал, рассудив, что, если придется бежать, советские друзья предоставят ему поддельные документы.
«Не могу не прийти к заключению, что Филби — советский агент и был им много лет», — писал Милмо. С Уайтом он был еще более прямолинеен: «На признание рассчитывать не приходится, но, черт возьми, он виновен — клейма ставить некуда». Прослушивая записи и просматривая расшифровку допроса Милмо, Гай Лидделл признал, что Филби, его уважаемый бывший коллега и друг, не сумел выдержать линию поведения человека, несправедливо обвиненного. «На протяжении допроса Филби вел себя весьма необычно. Он ни разу не возмутился, не заявил о своей невиновности, не сделал ни одной попытки доказать свою правоту». Однако в отсутствие новых твердых улик, писал Лидделл, у Филби «на руках были все карты». И если Филби виновен, то как насчет их других общих друзей? Как насчет его доброго друга Энтони Бланта, водившего знакомство и с Берджессом, и с Филби? Как насчет Томаса Харриса, еще одного бывшего представителя МИ-5, в чьем доме проходило столько хмельных сборищ? Трещины сомнения пошли по стенам разведывательной службы, а ее руководители поглядывали друг на друга, задаваясь неудобными вопросами.
Филби описал свой четырехчасовой допрос Эллиотту, сердито подчеркивая, что его пытались загнать в юридическую ловушку. Негодуя на такое обращение с его другом, Эллиотт пожаловался Малкольму Каммингу, высокопоставленному чиновнику МИ-5 и одному из немногих итонцев в Службе безопасности.
«Николас Эллиотт снова упоминал, что Персик не на шутку сердит на МИ-5 из-за допроса Милмо. По его словам, Персик ни в коей мере не возражал против проведения такого рода независимого расследования. Однако его возмущал тот факт, что после дружеских бесед с Диком Уайтом его буквально заманили в Лондон под надуманным предлогом, после чего сразу же принудили к встрече, на поверку оказавшейся формальным допросом, во время которого даже его просьба покурить была отклонена».
Как защитник Филби Эллиотт был настроен добиться извинений за форму проведения расследования. Под его предводительством МИ-6 «перешла в контратаку», мрачно заметил Лидделл.
По-прежнему намереваясь вырвать у Филби признание вины, МИ-5 обратилась к человеку, являвшему собой по всем возможным показателям полную противоположность Позеру Милмо. Уильям «Джим» Скардон, бывший инспектор уголовной полиции города Лондона, а ныне главным Наблюдатель, руководитель отдела А4, имел репутацию «величайшего в стране виртуоза» в искусстве дознания. Мягкие, скромные манеры, общения, висячие усы, фетровая шляпа, плащ, выражение лица вечно виноватое — таков был Скардон. Говорил он свистящим шепотом, словно бы тушуясь, и редко встречался взглядом с собеседником. Если Милмо шумел и запугивал, то Скардон пробирался в сознание собеседника исподволь, хитростью. В 1950 году он вытянул признание у Клауса Фукса, «ядерного шпиона», завоевав его доверие во время долгих прогулок по сельской глуши и задушевных бесед в деревенских пабах. Скардон продвигался к правде небольшими шажками, постоянно задавая, казалось бы, одни и те же вопросы, но с небольшими вариациями, пока его жертва не оступалась и не запутывалась в паутине собственной лжи. Филби многое знал о Скардоне и его репутации, поэтому, когда этот сутулый, благообразный, с виду непримечательный человек постучал в его дверь в Херонсгейте и спросил, нельзя ли зайти на чашечку чая, Филби понял, что опасность отнюдь не миновала.
Пока оба покуривали свои трубки, Скардон будто бы без особой цели переходил от одной темы к другой, «в манере почти изысканной». Вспоминая впоследствии этот разговор, Филби утверждал, что заметил и обошел «две маленьких ловушки», но с тревогой размышлял, не было ли там других, которые он не сумел распознать: «Его теплый, какой-то уютный интерес к моим взглядам и действиям льстил мне безмерно». Скардон же сообщил Гаю Лидделлу, что «еще не готов к окончательным выводам» относительно вины Филби. Это был первый из нескольких визитов дознавателя к Киму Филби. В течение следующих месяцев он зондировал и прощупывал — скромно, вежливо, изобретательно и беспощадно. Потом, в январе 1953 года беседы со Скардоном прекратились, так же внезапно, как начались, оставив Филби гадать «в подвешенном состоянии», сколько его дознавателю удалось разузнать. «Я бы многое отдал, чтобы хоть одним глазком взглянуть на итоги его расследования», — писал он. На самом же деле, судя по итоговому отчету, обаяние Филби пересилило напускное добродушие Скардона. Следователь признал, что часы, проведенные с Кимом, произвели на него «куда более приятное впечатление, чем можно было ожидать». Обвинения против Филби остались «недоказанными», подытожил Скардон. Паспорт ему вернули.
«Расследование будет продолжено, и, вероятно, окончательное доказательство вины однажды найдется, — сообщала МИ-5. — На практике же следует исходить из предположения, что Филби был советским шпионом на протяжении всей своей службы в СРС». МИ-6 резко протестовала: «По нашему мнению, вина Филби не доказана; кроме того, столь скудные улики могут иметь и куда менее зловещее объяснение». И таким вот образом странное дело Кима Филби месяцами, а потом и годами, оставалось неразгаданной тайной — не дающей никому покоя, хотя по-прежнему недоступной широкой публике — и ядовитым источником раскола между секретными службами. Филби застрял в чистилище между подозрениями недоброжелателей и преданностью друзей. Большинство высокопоставленных сотрудников МИ-5 были теперь убеждены в его виновности, но не могли ее доказать; большинство коллег из МИ-6 так же твердо верили в его невиновность, но опять-таки не могли найти доказательств, позволявших его реабилитировать. Были в МИ-5 люди, цеплявшиеся, подобно Гаю Лидделлу, за надежду, что все происходящее еще может оказаться чудовищной ошибкой и в конце концов обвинения с Филби снимут; в свою очередь, в МИ-6 попадались люди, сомневавшиеся в бывшем коллеге, но молчавшие об этом во имя службы.
Однако среди убежденных в виновности Филби был человек, знавший его лучше всех остальных, которому хранить молчание становилось все труднее, — его жена.
Глава 12
«Бароны-разбойники»
Так когда же Эйлин Филби, в свое время работавшая сыщицей в магазине, обнаружила свидетельства, доказывавшие, что ее муж, звезда Форин-офиса, заботливый отец, образцовый представитель истеблишмента, — советский шпион? Может быть, когда его вызвали на родину и он потерял работу? А может, ужасающее прозрение посетило ее раньше? Или она всегда подозревала, что с Гаем Берджессом, ее «злым демоном», сначала потащившимся за ее мужем в Стамбул, а потом и в Вашингтон, дело было нечисто? Или истина открылась ей, когда Филби заперся в подвале в день побега Берджесса, а потом уехал в неизвестном направлении с загадочным свертком и садовой лопаткой? Или же сомнения возникли еще раньше, когда Филби отказывался разводиться с первой женой, австрийской коммунисткой?
К 1952 году Эйлин знала, что муж ей лгал, постоянно и невозмутимо, с самого момента знакомства и на протяжении всего их брака. Осознание его двуличия постоянно толкало ее в психологическую пропасть, откуда она так и не смогла выбраться до конца. Эйлин откровенно заговорила об этом с Кимом — он все отрицал. Последовавшая за этим ссора не рассеяла ее страхов, а, наоборот, окончательно убедила ее, что он лжет. Она уклончиво намекала знакомым на свое внутреннее смятение. «Кому жена должна хранить верность? — спрашивала она одного из друзей. — Родине или мужу?» Когда пьяный Томми Харрис затронул эту тему на званом обеде, Эйлин призналась, что у нее «есть подозрения» по поводу мужа, но потом пошла на попятный и провозгласила его «совершенно невиновным».
Возможно, она доверилась своей подруге Флоре Соломон — и вряд ли та сильно удивилась, ведь Филби пытался вербовать ее в советскую разведку еще в 1936 году. Эйлин, безусловно, поделилась своими опасениями с Николасом Эллиоттом — тот лишь беззаботно отмахнулся. В МИ-5 сочли, что Эйлин шутит, когда она сказала Эллиотту, что Филби может «смотать удочки». Однако ей было не до шуток. Она жила в вечном страхе, что он сбежит в Москву к своему кошмарному Берджессу, оставив ее с пятью маленькими детьми и позорным клеймом жены предателя. Каждый раз, когда он выходил из дому, Эйлин беспокоилась, вернется ли он. Она угрожала через суд лишить его опеки над детьми. Она снова начала крепко пить, теряя связь с реальностью.
Как-то раз Эллиотту позвонила плачущая Эйлин и невнятно пробормотала:
— Ким уехал.
— Куда? — спросил Эллиотт.
— Кажется, в Россию.
— Откуда ты знаешь?
— Я получила от Кима телеграмму.
В этот момент даже твердая, как скала, преданность Эллиотта дрогнула.
— И что же сказано в этой телеграмме? — осторожно спросил он.
— Там сказано: «Прощай навсегда. С любовью к Детям».
В смятении Эллиотт позвонил дежурному сотруднику в МИ-5. В морские порты и аэропорты тут же отправили распоряжение схватить Филби, если он попытается бежать из страны.
Странным образом, когда Эйлин попросили показать телеграмму, она ответила, что не может этого сделать, поскольку телеграмму ей прочитали по телефону. В замешательстве Эллиотт обратился в почтовое ведомство, но не сумел найти никаких следов телеграммы, посланной Эйлин Филби. Он снова позвонил в дом в Хартфордшире. Был уже поздний вечер. На этот раз ответил Филби. При звуке знакомого голоса Эллиотт почувствовал прилив облегчения.
— Слава богу, наконец-то это ты!
— А кого ты ожидал услышать? — спросил Филби.
— Я рад, что ты дома.
— А где, по-твоему, я должен быть на ночь глядя?
— Вот увидимся, тогда расскажу, где еще ты мог бы оказаться сегодня, — сказал Эллиотт с нервным смешком и повесил трубку.
Эйлин выдумала весь этот эпизод — точно так же, как выдумала историю о нападении в Стамбуле и годами симулировала свои многочисленные хворобы и травмы. Эллиотт прекрасно относился к Эйлин и хотел ее защитить, но был слишком хорошо осведомлен о ее душевном недуге. С ней произошел еще ряд «случаев», и она въехала на машине в витрину магазина. Доктор предписал ей пройти курс лечения в психиатрической больнице. Филби говорил друзьям, что Эйлин «безумна». Таким образом, вместо того чтобы дать подсказку, поведение Эйлин лишь удвоило сочувствие Эллиотта к несчастному другу: мало того что его несправедливо обвинили и лишили работы, так теперь еще и терпит нападки собственной жены, явно живущей в воображаемой реальности. В МИ-6 подозрения Эйлин были отвергнуты как параноидальный бред сумасшедшей.
С пятью детьми, психически нестабильной женой и дорогостоящим пристрастием к алкоголю Филби нуждался в деньгах, но трудно было найти работу человеку сорока с лишним лет, якобы служившему в Форин-офисе, но не способному объяснить, почему ему пришлось уйти. Он подумывал возобновить карьеру в журналистике и предложил несколько статей в газеты, но не мог найти постоянной должности. Прослушка телефона «совершенно определенно показала, что Филби весьма активно ищет работу» и ему это не удается. Наконец Джек Айвенс, «верный бывший коллега» из Пятого отдела, нашел ему работу в своей компании, занимавшейся импортом и экспортом. Зарплата составляла весьма скромные шестьсот фунтов в год. Мать Эйлин предоставила семье средства, чтобы они могли переехать в большой уродливый эдвардианский дом в Кроуборо, «Суррей для бедных», по выражению Грэма Грина. Филби приходилось по-простецки добираться общественным транспортом до лондонской конторы, где он заполнял документы на импорт испанских апельсинов и экспорт касторового масла в США. Он не смел даже пытаться восстановить связь со своими советскими кураторами. «Филби находился под постоянным наблюдением, — писал Юрий Модин. — Несколько раз наши команды по контрнаблюдению сообщали о сопровождающих его агентах МИ-5». Никогда прежде Филби не находился в подобном вакууме.
Ким всегда был весьма работоспособным и общительным алкоголиком. Теперь же он быстро становился алкоголиком малоэффективным, к тому же со скверным характером. Прослушивая его телефон, сотрудники МИ-5 заметили, что «Персик склонен напиваться до зеленых чертей и отвратительно вести себя с лучшими друзьями». Многострадальный преданный Эллиотт терпел выходки Филби. Для Кима старый друг был главной опорой. По законам странного двойственного мира Филби здесь не было противоречия: он искренне ценил дружбу Эллиотта, нуждался в его поддержке и надеялся на его советы, хотя при этом лгал ему. Ким не скрывал от Николаса, что его брак трещит по швам, однако затрагивалась эта тема только вскользь. Как большинство англичан своего класса, они старались обходить стороной щекотливые эмоциональные вопросы.
Эллиотт одалживал Филби денег, когда тот оказывался на мели, оплачивал его счета в клубе и вывозил его на стадион «Лордс» смотреть крикет. Он побуждал Филби переходить в наступление: «Ты должен драться, как лев. Если бы меня обвинили в шпионаже, я бы дошел до самого премьер-министра», — говорил он Киму. Тот «вяло улыбнулся» в ответ. «Вся семья переживала дурной период», — писал Эллиотт. Он пытался подбодрить друга, уверяя, что изгнание из МИ-6 строго временное: скоро Филби вернется в клуб и возобновит карьеру с того места, где она прервалась.
Сэр Стюарт Мензис так же твердо поддерживал Кима. Первого апреля 1952 года Ш пригласил его на обед в Клуб путешественников и спросил, «не хочет ли он получить авансовый платеж в счет выходного пособия, назначенного ему по выходе в отставку». Впоследствии Мензис обсудил этот ланч с Гаем Лидделлом, и тот доложил:
Ш, по-видимому, пришел к выводу, что Ким невиновен. По моему же мнению, единственное, что следует делать в подобных случаях (когда знаешь человека достаточно близко), — это держать свое мнение при себе и не мешать специалистам работать — исключительно с целью установления фактов. Иначе рискуешь пойти по ложному пути… Ким, похоже, не держит зла на наше управление. Сам бы он на нашем месте отреагировал точно так же, вплоть до изъятия паспорта
Убежденность Эллиотта в том, что его друг скоро вернется в лоно МИ-6, разделял и главный сторонник Филби в США. В 1952 году Джеймс Энглтон заверял одного коллегу, что «Филби сумеет выйти из своего нынешнего тяжелого положения и еще станет главой британской секретной службы». Ким знал, что такому не бывать. Он был отрезан от своих советских кукловодов, застрял на малооплачиваемой и отвратительной ему работе, в любой момент ожидал удара со стороны МИ-5 и жил с женой, знавшей его тайну. Его жизнь стремительно катилась по наклонной.
Эллиотт, прилагал все усилия, чтобы друг не падал духом, всячески подбадривал и поддерживал его. Сотрудники МИ-5, пролистывая расшифровки телефонных разговоров Филби, выражали удивление и раздражение от того, «что МИ-6 до сих пор так тесно общается с Персиком и спонсирует его». Старшему сыну Филби Джону исполнилось одиннадцать, и, пусть даже сам Ким по-прежнему стремился уничтожить британский истеблишмент, сыновей он тем не менее мечтал отдать в хорошую частную школу. Итон и Вестминстер были ему не по карману, но Эллиотт придумал, как помочь другу. Он обратился к своему отцу Клоду (ныне ректору Итона), и тот согласился устроить Джона Филби, а впоследствии и его брата Томми, в Лорд-Уондсворт-колледж в Хэмпшире, «которым он управлял и который благодаря щедрым пожертвованиям стоил не слишком дорого». «Галстук старой школы» все еще помогал Филби пробиваться.
Эллиотт внимательно наблюдал за развитием дела Филби или, точнее сказать, за отсутствием оного, поскольку схватка между МИ-5 и МИ-6 завершилась враждебной ничьей. Ронни Рид, сотрудник МИ-5, знавший Кима еще с войны, свидетельствовал «о напряженном противостоянии между двумя службами по поводу Филби». В июне 1952 года Стюарт Мензис ушел в отставку, и на смену пришел его заместитель, генерал-майор сэр Джон Синклер по прозвищу Синдбад, высокий консервативный военный со своими устоявшимися привычками. (Его ланч неизменно выглядел так: жареная селедка и стакан воды.) Так же, как и его предшественник, Синклер твердо стоял на стороне Филби: новый Ш «не хотел бросать в беде одного из своих парней». Однако он был согласен с тем, что действующим сотрудникам следует рекомендовать не общаться с Филби, каковое предписание Эллиотт и другие попросту игнорировали. Сотрудники МИ-5 между тем продолжали искать улики в полной уверенности, что в рядах истеблишмента затаились другие «кроты», и глубоко возмущались тем, что МИ-6 так плотно сомкнула ряды. «Наблюдатели» слушали и смотрели, выжидая, когда Филби оступится.
Объем расшифровок телефонных разговоров, прослушанных МИ-5, в конечном итоге достиг тридцати трех томов: они никоим образом не уличали филби в шпионаже, зато наглядно показывали, как его брак катится в тартарары. Завязав интрижку с одной государственной служащей в Лондоне, Ким иногда целыми днями не показывался дома. Стоило ему появиться, как начинались яростные ссоры. Он даже стал ночевать в палатке в саду. Друзьям он говорил, что жена донесла на него в Форин-офис и это помешало ему получить приличную работу. Он даже заявлял, что она пыталась его убить. Эйлин, в свою очередь, подозревала мужа в обдумывании планов убийства. Ее психиатр, нарушая законы этики, тайно передавал информацию в МИ-5. В одном отчете значилось: «По мнению [Эйлин], а также по мнению ее психиатра, Филби, проявляя своего рода психологическую жестокость, „приложил все усилия, чтобы заставить ее покончить с собой“». Тот же самый психиатр предполагал, что Филби, вероятно, гомосексуален, несмотря на многочисленные подтверждения обратного. Поскольку от мужа Эйлин получала сущие гроши, ей пришлось устроиться кухаркой в один богатый дом на Итон-сквер, просто чтобы хватало на оплату счетов. Николас Эллиотт не оставлял ее, оказывая финансовую и моральную поддержку. Место ее работы, писал он, «располагалось довольно близко от нашего дома на Уилтон-стрит, так что она могла навещать нас в свободное время».
После восемнадцати несчастливых месяцев торговли касторовым маслом и апельсинами Филби снова оказался без работы, поскольку фирма Джека Айвенса по импорту и экспорту разорилась. Он рыскал в поисках трудоустройства, пытался подрабатывать в журналистике, но ему мало что удавалось. Теперь он в буквальном смысле зависел от друзей и семьи. Отец, живший в Саудовской Аравии в ранге советника Ибн-Сауда, посылал ему сколько мог. Эллиотт оплачивал обучение его детей. Томми Харрис устроил ему заказ на книгу о гражданской войне в Испании для лондонского издательства, с авансом в шестьсот фунтов. Книга так и не была написана, да и сам договор, похоже, был лишь уловкой, позволившей состоятельному Харрису подбросить Филби денег так, чтобы тот не догадался об их происхождении.
Филби продолжал поддерживать отношения с друзьями из разведки, но они становились все более натянутыми. Как-то вечером Гай Лидделл отправился ужинать с Томми Харрисом и обнаружил, что Филби тоже приглашен. Он приветствовал Кима «как ни в чем не бывало», хотя оба понимали, что более странную ситуацию представить себе трудно. МИ-5 не сомневалась в предательстве Филби; теперь и сам Харрис был под подозрением, а его телефон прослушивался, на случай если они с Филби как-то себя выдадут во время разговоров. За ужином все гости старались делать вид, будто эта встреча ничем не отличается от множества предыдущих. Филби, казавшийся, согласно дневниковой записи Лидделла, «слегка взволнованным», ушел довольно рано.
В самые мрачные минуты Филби раздумывал, не реанимировать ли свой план побега, чтобы сбежать в Москву, но установить контакт с советской разведкой так, чтобы об этом не узнала МИ-5, было невозможно — и Филби это понимал. Он очутился в ловушке и в изоляции, сознавая, что достаточно всего одного советского перебежчика, чтобы его раскрыли.
Владимир Петров был сибирским крестьянином; благодаря усердному труду и неизменному послушанию он сумел выжить во время сталинских чисток, неуклонно поднимаясь по ступеням карьерной лестницы в советской разведке. Прослужив коммунизму три десятка лет, он стал полковником КГБ и резидентом в советском посольстве в Канберре. Внешне Петров был обычным коньюнктурщиком, а в глубине души — бунтарем. Он видел, как голод и насильственная коллективизация уничтожили его родную деревню. Работая шифровальщиком, он в полной мере узнал о преступлениях сталинского режима. В августе 1954 года он получил у австралийцев политическое убежище. Его жену Евдокию задержала группа захвата, чтобы помешать ей бежать вслед за ним, но, когда ее уже пытались насильно затащить в самолет в Дарвине, австралийские спецслужбы отбили ее; женщина отделалась потерей одной туфельки.
Самый высокопоставленный перебежчик со времен войны, Петров предоставил огромный объем информации о шифровальщиках и агентурных сетях, а также имена шестисот агентов КГБ, состоящих на дипломатической службе по всему миру. Он предъявил первые твердые доказательства того, что Берджесс и Маклин действительно находятся в Советском Союзе (до сих пор это оставалось неподтвержденным предположением) и живут в Куйбышеве. Но еще больший эффект произвело сообщение Петрова, что о необходимости бежать их предупредил другой британский чиновник, некто третий. В Уайтхолле, на Флит-стрит и в прочих подобных местах личность этого призрачного Третьего стала объектом слухов, намеков и некоторых вполне обоснованных гипотез.
Узнав о побеге Петрова, Филби взволнованно ждал, когда Скардон снова появится на его пороге, на сей раз в сопровождении полиции и с ордером на арест. Шли недели, а в дверь к Филби никто не стучался, и он пришел к справедливому выводу, что перебежчик не назвал его имени. Однако его преследовала «тревога, что Петров мог сообщить какую-то важную информацию, которой я еще не знал» и которая могла быть использована, чтобы подловить его, если снова станут допрашивать.
Дик Уайт, давний антагонист Филби, затевал как раз такую ловушку — теперь он стал генеральным директором МИ-5. Гай Лидделл ожидал, что эта должность достанется ему, однако его дружеские связи непоправимо испортили ему репутацию. МИ-6 даже намекала, что Лидделл и сам мог быть советским шпионом-геем, подчеркивая, что он «расстался с женой, отличался некоторым гомосексуальным флером и во время войны был близким другом Берджесса, Филби и Бланта». Горько разочарованный, Лидделл сердечно поздравил Уайта с назначением и ушел в отставку.
Усмотрев в побеге Петрова возможностью избавиться от Филби раз и навсегда, Уайт настоятельно просил министра иностранных дел Энтони Идена предать огласке откровения насчет Третьего: «Это подорвет положение Филби. Это лишит его уверенности. Мы выманим его на новый разговор и снова попытаемся добиться признания». Иден отказался, отчасти потому, что сэр Джон Синклер из МИ-6 настаивал: Уайт «развязал вендетту против Филби, и лучше ее игнорировать». Распри между МИ-5 и МИ-6 были все такими же яростными и по-прежнему наносили ущерб общему делу.
Филби не мог об этом знать, но советские кураторы наблюдали за ним с тревогой. В отчете, составленным британским отделом КГБ, сообщалось: агент Стэнли «отчаянно нуждается в деньгах» и сильно пьет. Юрий Модин попросил у Москвы инструкций, напомнив, что Филби «оказал нам неоценимые услуги [и], возможно, еще понадобится в будущем». Центр приказал выдать Филби «большую сумму денег» и заверить, что Советский Союз его не оставит. КГБ руководствовался не соображениями щедрости или преданности, а чистым прагматизмом: пьяный, нуждающийся агент — обуза, ведь он может расколоться, или его придется вызволять. В Москве надеялись, что солидная сумма наличными поддержит его на плаву — и удержит на месте. Но, как нередко случалось с распоряжениями Москвы, отдать приказ было куда легче, чем собственно передать деньги, поскольку за Филби все еще следили. Более того, Модину строго-настрого наказали не выходить на связь с Филби напрямую; ему предписывалось передать деньги прямо под носом у МИ-5, избегая при этом личной встречи. Офицеру КГБ удалось вывезти из Англии Берджесса и Маклина, а вот оставить там Филби оказалось задачей посложнее.
Вечером шестнадцатого июня 1954 года профессор Энтони Блант, бывший сотрудник МИ-5, советский шпион и видный историк искусства, готовился выступить с лекцией в Институте искусства Курто, где он был директором. Темой была арка Гальена, римская триумфальная арка, которой грозило разрушение, поскольку на ее месте собирались построить современный жилой комплекс. Аудитория состояла из любителей классики, студентов художественных факультетов и образованных людей, прочитавших о лекции в «Таймс» и желавших поддержать стоящее дело, защитить классическое наследие Рима. В первом ряду, прямо напротив кафедры, сидел коренастый светоловолосый молодой человек, представившийся в книге посещений как некто Грингласс из Норвегии.
С выражением ученой сосредоточенности на длинном, дряблом лице, Блант раздавал фотографии несчастной арки, прежде чем ринуться в атаку на «подлые итальянские власти», считавшие, что им это сойдет с рук. Под конец раздались аплодисменты, и громче всех хлопал Грингласс, который никогда не был в Италии, ничего не знал о классической архитектуре и плевать хотел на римские арки, пусть их хоть все снесут бульдозерами и зальют бетоном. После лекции профессора Бланта обступила, как часто бывало, стайка пылающих энтузиазмом дородных дам, жаждущих поговорить об искусстве и «наперебой демонстрирующих свои познания». Грингласс какое-то время маячил на заднем плане, а потом внезапно рванул сквозь толпу, двинув одну из почитательниц профессора локтем по ребрам, и сунул открытку с репродукцией ренессансной картины Бланту в руку. «Извините меня, — произнес неотесанный норвежец, — вы не знаете, где я могу найти эту картину?»
Любительницы искусства обдали норвежца холодом; Блант перевернул открытку. На обратной стороне было написано: «Завтра. 8 вечера. Ангел». Блант сразу же узнал характерный почерк Гай Берджесса.
Энтони наградил норвежца «долгим пристальным взглядом» и узнал в нем Юрия Модина, советского куратора, которого последний раз видел в 1951 году, как раз перед побегом Берджесса и Маклина. Потом снова посмотрел на открытку и надпись на ней. «Да, — сказал он. — Да. Да».
Следующим вечером Блант и Модин встретились в пабе «Ангел» в Ислингтоне рядом с Каледониан-роуд — эту ничем не примечательную рюмочную они использовали для тайных встреч в прошлом. Сначала обсудили положение самого Бланта — его вызывали на разговор в МИ-5, но пока что, кажется, не считали подозреваемым, — а потом перешли к Филби. Блант сообщил, что его коллега-шпион в неважной форме, у него ни работы, ни денег и его уже подвергли нескольким враждебным допросам в МИ-5. Модин попросил Бланта передать Филби немного денег. Неохотно — поскольку он давным-давно оставил шпионаж, чтобы опекать римские арки, — Блант согласился.
Несколько дней спустя Филби на машине приехал из Кроуборо в Тонбридж и купил билет на первый же поезд до Лондона. Он сел на поезд только тогда, когда все остальные пассажиры уже зашли в вагоны и платформа опустела. В Воксхолле он сел на метро до «Тоттенхэм-Корт-роуд», где купил длинный плащ и шляпу. Примерно час Ким бродил по округе, заглядывая в витрины магазинов, чтобы удостовериться в отсутствии слежки, потом выпил в баре, а затем купил билет в кино. Сел он в последний ряд. Примерно на середине фильма вышел. Похоже, никто за ним не следовал. Однако он еще два часа разгуливал без всякой цели, потом сел в автобус, затем вышел из него. К вечеру он был в северном Лондоне. «Я был практически уверен, что за мной не следят».
На закате три шпиона сошлись на небольшой площади рядом с Каледониан-сквер. По-видимому, Модин, следуя указаниям, в ту ночь не вступил в прямой контакт с Кимом и общался только с Блантом, передавая ему пакет, тогда как Филби держался на расстоянии, готовый пуститься в бегство. Как мелодраматично вспоминал Модин, «темный силуэт следовал за нами на некотором расстоянии по тропе, обрамленной деревьями; плотная, четырехугольная фигура, закутанная в плащ». Филби вернулся в Кроуборо с пятью тысячами фунтов наличными, «в приподнятом настроении», радуясь возобновлению связи с советской разведкой после четырехлетнего перерыва. Модин также заверил его через Бланта, что перебежчик Петров «ничего не знал о его карьере советского агента». Передача, состоявшаяся в темном лондонском парке, изменила как финансовое положение Филби, так и его душевное состояние: «Я больше не был одинок».
Советские друзья Кима поспешили ему на помощь; то же самое сделали теперь и его британские друзья. В тот период, когда состоялся побег Петрова, группа сотрудников МИ-6 во главе с Николасом Эллиоттом начала согласованную кампанию по возвращению Филби его доброго имени.
Теперь у Эллиотта была новая должность — глава лондонской резидентуры МИ-6. Получившая кодовое название БИН и размещенная в Лондондерри-хаусе (Виктория), лондонская резидентура действовала, по сути дела, как любая другая резидентура МИ-6, но только на британской почве, со штатом в двадцать сотрудников, которые вели разведывательные операции против дипломатов, бизнесменов и шпионов, вербуя агентов в иностранных посольствах и отслеживая деятельность высокопоставленных лиц, приезжающих в Великобританию. Новая роль Эллиотта позволяла вести жизнь зарубежного шпиона, не отходя далеко от своего клуба.
К 1954 году в МИ-6 образовалась заметная фракция, имевшая сильное влияние на шефа, сэра Джона Синклера: «младотурки» разведслужбы, люди вроде Эллиотта, освоившие шпионскую игру в горячее время войны, когда при наличии храбрости и воображения все казалось возможным. В стенах конторы Эллиотта и ему подобных стали называть «баронами-разбойниками», подразумевая под этим головорезов с острым чувством собственной важности и недостатком уважения к гражданской власти. Они верили в секретные акции, в риск и в нарушение правил, когда это необходимо. Но более всего они верили в разведку, видя в ней нечто вроде патриотической религии, британский бастион, противостоящий варварству. Джордж Кеннеди Янг, добрый друг Эллиотта и Филби, впоследствии поднявшийся по карьерной лестнице до позиции заместителя главы МИ-6, сформулировал кредо этой амбициозной, набирающей вес группы. «Именно шпиона призывают, когда нужно спасать ситуацию, сложившуюся по милости министров, дипломатов, генералов и священников», — со зловещим высокомерием заявлял Янг.
Сознание людей, конечно же, определяется их окружением, и мы, шпионы, хотя и не чужды своей профессиональной мистики, живем, пожалуй, ближе к реальности и голым фактам международной политики, чем прочие правительственные работники. Мы относительно свободны от проблем статуса, очередности, позиции департамента, перебрасывания личной ответственности — словом, от всего того, что и формирует официальный склад ума. В отличие от парламентариев, на которых накладывает отпечаток вся их государственная жизнь, нам не нужно вырабатывать умение говорить готовыми фразами, быстро давать умные ответы и сиять улыбкой. Таким образом, неудивительно, что в наши дни именно шпион оказывается главным хранителем интеллектуальной честности.
Люди, подобные Янгу и Эллиотту, считали себя тайными хранителями Великобритании, членами братства избранных, не подчиненными обычным условностям. Ким Филби служил образцом для подражания многим из «баронов-разбойников»; его светский лоск и военные успехи укрепляли их чувство общности. Теперь они решили его спасти.
Двадцатого июля 1955 года Синдбад Синклер направил Дику Уайту, своему коллеге из МИ-5, письмо, где заявлял, что расследование Позера Милмо в отношении Кима Филби было «предвзятым» и что бывший сотрудник МИ-6 стал «жертвой судебной ошибки». В более поздней докладной записке, направленной сэру Айвону Киркпатрику, постоянному заместителю министра иностранных дел, Ш подытоживал аргументы в защиту Филби.
Отчет Милмо, не выявивший ни единой твердой улики, доказывающей, что Филби был советским агентом или Третьим, является, таким образом, неприемлемым для предъявления в суде и к тому же провальным с точки зрения обеспечения безопасности разведки. Отчет, состоящий из фальшивых и косвенных свидетельств, завершается логически неверными выводами, включающими в себя все, что только мог измыслить обвинитель, желающий непременно наказать подозреваемого. Похоже, это так и останется обвиняющим перстом, постоянно направленным на Филби, [который], по существу, ни в чем не был обвинен по итогам расследования 1951 года и, несмотря на четыре года последующего расследования, по-прежнему ни в чем не обвиняется. Это полностью противоречит английской традиции, ведь в данной ситуации человеку приходится доказывать свою невиновность… хотя обвинение не основывается ни на чем, кроме подозрений.
Дело необходимо расследовать по новой, писал Синклер, а Филби нужно дать возможность себя защитить. «Предъявите доказательства, и больше не будет никаких споров», — сказал Уайту Синклер. Уайт нехотя согласился на то, чтобы Филби еще раз опросили, понимая, что улики против него едва ли более сильны, чем в 1951 году. Сцена для финального противостояния была готова, и Эллиотт, «главный защитник» Филби, ждал за кулисами, чтобы срежиссировать драму.
Восемнадцатого сентября газета «Пипл» опубликовала рассказ о побеге Владимира Петрова с несколькими драматическими откровениями: и Берджесс, и Маклин были завербованы советской разведкой еще студентами в Кембридже; их бегство в Москву ровно в тот момент, когда Маклина готовились арестовать, было срежиссировано русскими; они были не «пропавшими дипломатами», как долгое время называло их правительство, а сбежавшими шпионами. Британский закон о неразглашении использовался, чтобы скрыть правду и защитить правительство от позора.
Гарольд Макмиллан, новый министр иностранных дел, столкнулся с серьезным кризисом. «Нам придется что-то сказать», — мрачно констатировал он. Пять дней спустя правительство опубликовало восьмистраничную «Белую книгу», призванную объяснить дело Берджесса и Маклина. Этот официальный документ являл собой специфическую смесь полуправды и умолчаний с целью замять скандал, а о Киме Филби там вообще не упоминалось, хотя в последнее время многие называли его имя — кто шепотом, а кто и вслух. На званом ужине Эйлин Филби на нетвердых ногах поднялась из-за стола и бросила мужу в лицо: «Я знаю, ты Третий». Даже супруга разоблачала Филби на публике, а значит, следовало ожидать, что вскоре подтянется и пресса. «Белую книгу» сочли не стоящей внимания попыткой замести следы.
Тем временем по другую сторону Атлантики Дж. Эдгар Гувер был настолько же убежден в виновности Филби, насколько Джеймс Энглтон — в его невиновности; Гувер был просто в ярости из-за того, что Великобритания никак не может арестовать Кима. Шеф ФБР решил довести дело до конца при помощи типичной для него хитрой уловки. Но пока что Филби готовился к заключительному допросу.
Седьмого октября, через две недели после публикации «Белой книги», Филби прибыл на явочную квартиру МИ-6 возле Слоун-сквер, где его провели в комнату с узорчатым диваном и стульями, расставленными вокруг небольшого стола; возле одной стены стоял старинный буфет, на нем телефон. Внутри телефона был скрыт высококачественный микрофон. Усилитель, спрятанный под досками пола прямо под стулом Филби, подводил звук к микрофону, а оттуда уже — в Леконфилд-хаус, главное управление МИ-5. Там разговор записывался на ацетатные грампластинки, а потом передавался машинисткам, расшифровывавшим каждое слово.
Филби нервничал. Это был его четвертый официальный допрос. Несмотря на заверения Модина, он опасался, что Петров мог вооружить тех, кто вел расследование, какой-нибудь новой подсказкой, способной его разоблачить. Филби сказал МИ-6, что «рад возможности восстановить свое доброе имя», но на самом деле чувствовал себя усталым и нервничал. Он готовился к тому, что его снова начнут освежевывать.
Однако происходило все совсем не так. Как раньше, и напоминало скорее беседу у камина, нежели допрос. Комиссия по расследованию, назначенная Макмилланом, официально постановила: ответственность за этот разговор несет МИ-6, а не МИ-5. Требуются не следственные действия в духе Позера Милмо, а внутренняя оценка ситуации, производить которую предстоит двум бывшим коллегам Филби, «хорошо его знавшим». Вполне вероятно, что один из них был Ник Эллиотт.
Разговор начался, записывающие устройства заработали, и сотрудники МИ-5 с нарастающей яростью наблюдали, как друзья опрашивают Филби с максимально возможной мягкостью. «Это не допрос, а карикатура на него», — впоследствии написал один сотрудник МИ-5.
Получился внутренний разбор полетов в рамках МИ-6… Они очень мягко разговаривали с ним о хорошо известных вещах. Сначала о его коммунистическом прошлом, потом о карьере в МИ-6, а затем о дружбе с Гаем Берджессом. Филби заикался, и запинался, и заявлял о своей невиновности. Однако если слушать отделенные от телесной оболочки голоса, ложь становилась слишком явной. Каждый раз, когда Филби сбивался, один или другой собеседник подводил его к приемлемому ответу: «Что ж, полагаю, то-то и то-то может служить объяснением». Филби с благодарностью соглашался, и беседа продолжалась.
Филби отправили домой с дружеским рукопожатием и вердиктом «невиновен»: «Вам, наверное, будет приятно узнать, что мы пришли к единодушному решению относительно вашей невиновности». Филби ликовал. «Следы стерлись или покрылись грязью, — писал он. — Тот факт, что я в течение долгого времени не пытался сбежать, стал весомым свидетельством в мою пользу». Прочитав расшифровки, Дик Уайт пришел «в негодование»; расшифровщики МИ-5 официально зафиксировали свое «убеждение, что один из спрашивавших был расположен к Филби, постоянно пытался помочь ему найти ответы на неудобные вопросы, а если не получалось, то и вовсе не настаивал на ответе». «Бароны-разбойники» начали весьма эффективную контратаку. Однако Филби еще не был в безопасности.
Всего неделю спустя, в воскресенье двадцать третьего октября 1955 года, семья Филби проснулась и обнаружила, что их дом окружен сворой репортеров, кричащих «Ату его!». В то утро в Нью-Йорке газета «Санди ньюз» опубликовала статью, где назвала Филби Третьим, наводчиком, способствовавшим побегу предателей. Это было дело рук Гувера, который подкинул имя Филби прикормленному журналисту, чтобы с помощью такой публикации заставить британцев провести полное судебное расследование. Более четырех лет имя Филби не попадало в газеты, хотя на Флит-стрит о нем хорошо знали. Теперь охота началась. «Дом в Кроуборо находился в осаде», — сообщал Эллиотт, посоветовавший Киму отбиваться от прессы как можно дольше, насколько хватит сил. Если бы британские газеты повторили то, что сообщала «Санди ньюз», на них можно было бы подать в суд за клевету. Однако теперь имя Филби попало в прессу, и все только и судачили о Третьем. Прошло еще два дня, прежде чем дамбу прорвало.
Глава 13
Третий
Полковник Маркус Липтон, член парламента и лейборист от Брикстона, был кряжистый смутьян со старомодными взглядами, не доверявший правительству и презиравший современную музыку, которая, по его мнению, когда-нибудь погубит монархию. «Если поп-музыка будет использоваться, чтобы разрушить наши фундаментальные институты, то ее следует разрушить в первую очередь», — заявил он однажды. Он был мастером по части неудобных вопросов. Никто бы не обвинил Липтона в особой тонкости, зато его отличала железная хватка во всем, что касалось политической процедуры, в особенности же «парламентских привилегий», то бишь исконного права парламентария делать в Вестминстере заявления, не опасаясь судебного преследования.
Во вторник, двадцать пятого октября, когда премьер отчитывался перед законодателями, он поднялся, и его вопрос прозвучал, как разорвавшаяся бомба:
Я правильно понимаю, что премьер-министр принял решение любой ценой покрывать деятельность сомнительного Третьего, мистера Гарольда Филби, который еще недавно работал в Вашингтоне первым секретарем посольства? И намерен ли он подавлять всякую дискуссию по поводу столь серьезной темы, даже не затронутой в правительственном докладе, что является оскорблением здравого смысла нации?
Пресса жадно набросилась на кусок сырого мяса.
Вечером, когда Ким Филби возвращался домой, в лондонской подземке его взгляд невольно упал на заголовок передовицы «Ивнинг стандард»: «Парламентарий заговорил о деятельности „сомнительного Третьего, мистера Гарольда Филби“». Издание процитировало Липтона слово в слово. После двух десятилетий подпольной жизни Филби вытолкнули на всеобщее обозрение.
Из Кроуборо он тут же позвонил Николасу Эллиотту.
— Мое имя попало в газеты. Мне надо что-то делать.
Эллиотт был невозмутим:
— Да, согласен. Но давай хотя бы денек поразмышляем. Ничего пока не предпринимай, хорошо? Завтра я тебе позвоню.
Выступить сразу же с заявлением означало бы только подбросить дрова в уже пылающий костер и, «возможно, усугубить положение дел». Если бы Маркус Липтон располагал новыми доказательствами, изобличающими Филби, он бы непременно передал их в соответствующие органы, а МИ-5 на это отреагировала бы. Липтон же, пользуясь парламентской привилегией, просто повторял то, что появилось в американской прессе. Гарольду Макмиллану как министру, курирующему Форин-офис и МИ-6, придется сделать заявление в поддержку либо в осуждение Филби, а поскольку у МИ-5 очевидно нет улик для судебного преследования, то велика вероятность, что с Филби будет снято обвинение. Совет Эллиотта сводился к следующему: держаться твердо, ничего не говорить и ждать, пока буря сама собой утихнет, предоставив друзьям из МИ-6 проделать за него необходимую работу.
— Мы решили, что ты, само собой, должен дать ответ, — сказал ему Эллиотт на следующий день. — Но только в случае парламентских дебатов. А пока прошу тебя пару недель подождать.
Дом в Кроуборо являл взору глазам странное зрелище: на лужайке расположились десятки журналистов. Во время ланча они сопровождали Филби до паба и обратно, забрасывая вопросами, на которые он вежливо отказывался отвечать. Его телефон разрывался. Кто-то из «Санди экспресс» подсунул ему под дверь письмо с предложением 100 фунтов в случае, если он примет участие в публичных дебатах с Маркусом Липтоном. Чтобы «уберечь Эйлин и детей от лишнего стресса», Эллиотт помог перевезти их к родне. Сам Филби нашел прибежище у матери в Южном Кенсингтоне, где отсоединил дверной колокольчик, а телефонный аппарат накрыл подушками. Рвавшиеся в квартиру журналисты сорвали дверное кольцо. Какой-то репортер пытался проникнуть внутрь через пожарную лестницу, чем страшно напугал повариху.
Правительство пообещало сделать официальное заявление и седьмого ноября устроить дебаты. Принимаясь за работу, Эллиотт поставил себе задачу: Макмиллан должен произнести правильные слова. Посвятить секретаря Форин-офиса в деликатные подробности должен был не кто-нибудь, а Ричард Бруман-Уайт, приятель Эллиотта по Итону и Тринити-колледжу, помогавший завербовать Филби в МИ-6 во время войны. Бруман-Уайт оставил секретную службу ради политической карьеры, и в 1951 году был избран в парламент от Консервативной партии по округу Рутерглен. Филби, Эллиотт и Бруман-Уайт дружили с 1939 года. Во время заседаний парламента Бруман-Уайт жил у Эллиотта на верхнем этаже в доме на Уилтон-стрит, Элизабет Эллиотт работала его секретаршей, а Клаудия Эллиотт была его крестницей. Эллиотт и Бруман-Уайт даже были совладельцами скаковой лошади. Бруман-Уайт был парламентским рупором «баронов-разбойников» и рьяным защитником Филби в Палате представителей. По словам самого Филби, Эллиотт, Бруман-Уайт и другие его союзники оставались «абсолютно убежденными в том, что я был обвинен несправедливо, и просто не могли себе представить, что их друг мог быть коммунистом. Они искренне мне верили и меня поддерживали».
Хотя резюме, которое Бруман-Уайт подготовил для Макмиллана, претендовало на объективность, в нем просматривался «сильный крен в сторону невиновности Филби». Против его бывшего коллеги нет никаких серьезных улик, настаивал Бруман-Уайт, а работу тот потерял из-за юношеского заигрывания с идеями коммунизма и опрометчивой дружбы с Гаем Берджессом. Эти выводы были созвучны настрою самого Макмиллана. Классический итонский аристократ, Макмиллан считал работу в разведорганах грязноватой, а скандал вокруг Филби — ненужной перебранкой между МИ-5 и МИ-6. Ему очень хотелось избежать скандала, не говоря уже о судебном разбирательстве. «Что может быть хуже публичных разборок и инсинуаций», — произнес Макмиллан на заседании кабинета министров всего за пять дней до того, как Липтон бросил перчатку. Глава Форин-офиса желал одного: поскорее закончить эту постыдную, неподобающую мышиную возню.
Седьмого ноября Макмиллан поднялся на трибуну Палаты представителей и сделал заявление, вероятно написанное Николасом Эллиоттом и Ричардом Бруманом-Уайтом:
Мистер Филби водил знакомство с коммунистами во время и после университетской учебы, однако не обнаружено никаких доказательств того, что именно он предупредил Берджесса или Маклина. Находясь на государственной службе, он исполнял свои обязанности квалифицированно и добросовестно. У меня нет никаких оснований полагать, что мистер Филби когда-либо предавал интересы страны, или отождествлять его с так называемым Третьим, если таковой вообще существовал.
Следом за ним Ричард Бруман-Уайт разразился горячей речью в защиту Филби — «человека, чье имя очернили» — и яростной атакой на Маркуса Липтона, последователя сенатора Маккарти и охотника на ведьм, который слишком труслив, чтобы повторить свои обвинения за стенами Палаты представителей и тем самым подвергнуть себя риску судебного преследования.
Он [Липтон] предпочитает действовать по подозрению, очернять по подозрению, направлять общественные подозрения на человека, чья вина не доказана. Оставим на его совести, исправит ли он моральный ущерб, нанесенный жене, детям и друзьям обвиняемого. Единственное, что можно предъявить мистеру Филби, это то, что Берджесс у него останавливался и что у него были приятели среди коммунистов. Возможно, он был не слишком разборчив в выборе друзей, но кто из этой почтенной аудитории готов утверждать, что все его друзья были и остаются вне всяких подозрений?
Со скамей лейбористов раздались недовольные выкрики — дескать, это очередная попытка отмыть козла добела.
— Те, кто кого-то выгораживает, чем бы они ни руководствовались, принадлежностью ли к узкому кругу или закрытому клубу, дружескими ли отношениями или чем-то еще, пусть хорошенько подумают и прямо сейчас, — заявил Фрэнк Томни, жесткий северянин.
Липтон перешел в контрнаступление.
— Никто в этом зале и там, за его пределами, не заткнет мне рот, пока я исполняю свой долг, — взъярился он.
— Скажи это там! — хором закричали тори.
Ответ Липтона прозвучал не слишком убедительно:
— Даже мистер Филби не потребовал, чтобы я повторил это там. — После чего он сел и заметно сник.
Теперь Филби оставалось только добить врага. Эллиотт сообщил ему по секрету, что Макмиллан его выгородит. Впрочем, одной реабилитации недостаточно, надо заставить Липтона взять назад все обвинения, и как можно скорее, унизив его публично. И после этой телефонной консультации Филби велел матери говорить всем звонящим, что завтра утром в Дрейтон-гарденс, в квартире Доры, он собирает пресс-конференцию.
Когда восьмого ноября, за несколько минут до одиннадцати, Филби вошел в дом, он получил приятное подтверждение своему новоявленному звездному статусу. Лестница была забита представителями ведущих мировых изданий.
— Господи! — воскликнул он. — Добро пожаловать.
Филби тщательно подготовился. Свежевыбритый и аккуратно подстриженный, хорошо сидящий костюм в полосочку и строгий официальный галстук, плюс обворожительная улыбка. Поток журналистов хлынул в гостиную его матери, где все рассредоточились по стеночкам. Заработали вспышки фотокамер. С подчеркнутой (и расчетливой) старомодной галантностью Филби попросил журналиста, усевшегося в кресло, уступить место стоящей в дверях даме. Мужчина вскочил на ноги. Все это под камеры.
А дальше был драматический tour de force[14], невозмутимая демонстрация публичного вранья, доступного лишь немногим политикам или адвокатам. Никакого заикания, ни намека на нервы или смущение. Филби смело глядел миру в глаза и врал напропалую. Видеозапись знаменитой пресс-конференции по сей день используется МИ-6 в качестве рабочего пособия, такой мастер-класс по части лицемерия.
Сначала Филби прочитал заготовленное заявление о том, что он до сих пор хранил молчание, так как в свое время дал подписку о неразглашении (Официальный секретный акт) и потому по закону не мог обнародовать информацию, связанную с его статусом правительственного чиновника.
— Эффективность нашей службы безопасности может быть подорвана раскрытием деталей, касающихся ее организации, личного состава и методов работы, — читал он размеренно, что твой чиновник Уайтхолла, стоящий на страже некогда установленных заповедей британской секретности.
Эдвин Ньюман из американской корпорации Эн-би-си был уполномочен задавать вопросы.
— Если существовал Третий, им были вы?
— Нет.
— По-вашему, такой человек был?
— Без комментариев.
— Мистер Филби, через несколько месяцев после исчезновения Берджесса и Маклина Форин-офис попросил вас подать в отставку. Министр сказал, что в прошлом у вас были связи с коммунистами. Вам поэтому предложили уйти в отставку?
— Мне предложили уйти в отставку из-за неосмотрительных связей.
— Вы имеете в виду вашу дружбу с Берджессом?
— Верно.
— А как насчет утверждений о связях с коммунистами? Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу?
— Последний раз я говорил с коммунистом, зная о том, что он коммунист, примерно в 1934 году.
— Вы хотите сказать, что после этого вы не отдавали себе отчета в том, что разговариваете с коммунистом.
— Последний раз я говорил с Берджессом в апреле или мае пятьдесят первого.
— Он не давал вам понять, что он коммунист?
— Никогда.
— По-прежнему ли вы считаете Берджесса, который одно время жил у вас в Вашингтоне, своим другом? Что вы к нему сейчас испытываете?
— Я нахожу его действия достойными сожаления…
Тут Филби на мгновение умолк, как человек, судя по всему, борющийся с целой гаммой эмоций: чувством долга, своей совестью, личной преданностью и болью от предательства близкого друга.
— …по поводу дружбы я бы предпочел не распространяться, поскольку это очень сложная тема.
Что качается Липтона, то Филби призвал оппонента повторить свои обвинения вне стен Палаты представителей либо передать информацию, которой он располагает, в соответствующие инстанции.
Пресс-конференция закончилась. В гостиной матери Филби как гостеприимный хозяин угощал журналистов пивом и шерри.
— Я вижу, предпочтения прессы вам хорошо знакомы, — пошутил американский репортер.
В публикациях о пресс-конференции Филби выглядел не иначе как честный, добросовестный правительственный чиновник, который пострадал из-за дружбы с тайным коммунистом, но сегодня к нему больше нет претензий. Советский разведчик Юрий Модин, посмотревший репортаж с пресс-конференции в вечерних новостях, пришел в восторг от «бесподобного» выступления Филби: «Ким разыграл эту партию с неподражаемой ловкостью. Мы, как и он, пришли к выводу, что у британского правительства нет против него серьезных улик». А зачем еще кавычки? Или убирать прямую речь.
Маркусу Липтону ничего не оставалось, кроме как с позором пойти на попятный, официально, «с глубоким сожалением» сняв свои обвинения. «Я не располагал доказательствами, — признал он. — И когда пришло время раскрыть карты, мои юристы посоветовали мне взять назад свои слова». Филби дал короткий и великодушный комментарий: «Полковник Липтон поступил правильно. Я считаю инцидент исчерпанным».
Для Филби это был полный триумф. Эллиотт «ликовал» по поводу его победы и вероятного возвращения в контору. Есть традиция выделять это словечко как такое специфическое название, но я не настаиваю. Теперь «бароны-разбойники» будут активно «добиваться его восстановления на прежней службе», что, в свою очередь, открывало перед Филби перспективу «послужить еще стране Советов».
Эллиотт реабилитировал своего старого друга, в то время как его собственную карьеру ждало крутое пике.
На рассвете девятнадцатого апреля 1956 года необычный персонаж в резиновом костюме аквалангиста и ластах спустился бочком по Королевской лестнице в портсмутской гавани и забрался в поджидавшую его шлюпку. Ростом мужчина был не больше пяти футов и пяти дюймов. На голове резиновая шапочка поверх шерстяной балаклавы, за плечами кислородный баллон, рассчитанный на полтора часа под водой. Героя войны, награжденного знаками отличия, самого известного британского водолаза, звали коммандер Лайонел «Бастер» Крэбб.
В отдалении сквозь подвижную завесу тумана просматривались очертания трех советских боевых кораблей, недавно прибывших в Великобританию с миссией доброй воли и бросивших якоря напротив мола, где заканчивалась южная железнодорожная ветка. Человек на веслах отгреб ярдов на восемьдесят от берега. Крэбб поправил кислородный баллон, взял в руки новую экспериментальную камеру, выпущенную исследовательским отделом Адмиралтейства, и затушил последнюю из сигарет, которые в то утро, с момента подъема, он курил одну за другой. Ему было дано задание проплыть под крейсером «Орджоникидзе», обследовать и сфотографировать киль, гребные винты и руль, после чего вернуться назад. Ему предстоял долгий заплыв в одиночку, в очень холодной и грязной воде, почти с нулевой видимостью, на десятиметровой глубине. Что было бы вызовом и для молодого здорового аквалангиста. А для сорокасемилетнего растренированного заядлого курильщика, в доску пьяного всего несколько часов назад, это было почти равносильно самоубийству.
Эта операция под кодовым названием «Кларет» имела все признаки эскапады в духе Николаса Эллиотта: дерзкая, изобретательная, нешаблонная и абсолютно самодеятельная.
Семью месяцами ранее Никита Хрущев объявил, что он совершит первый официальный визит в Великобританию вместе с премьером Николаем Булганиным. Доставит первого секретаря коммунистической партии недавно спущенный на воду крейсер «Орджоникидзе» в сопровождении двух миноносцев. Затем специальный поезд перевезет советского лидера в Лондон, где он отобедает на Даунинг-стрит, 10 вместе с британским премьер-министром Энтони Иденом. Этот визит приветствовался всеми дипломатами как важная оттепель в «холодной войне». А для шпионов открывались совсем другие возможности.
Ходили слухи, что Советы изобрели новый тип гребного винта, а также усовершенствованный гидролокатор для защиты от подлодок. Гонка вооружений была в самом разгаре, и МИ-6 вместе с морской разведкой жаждали подробностей. Не обошлось и без мотива «зуб за зуб». Не так давно британские военные корабли стояли в ленинградском доке, и, по словам Эллиотта, «море вокруг кишело водолазами». То, что сделали Советы, МИ-6 могла сделать лучше и незаметнее.
Разведслужбы засучили рукава. МИ-5 нашпиговала «жучками» апартаменты советского лидера в отеле «Кларидж» и вставила в телефон подслушивающее устройство. Департамент морской разведки объявил подводное обследование корпусов советских кораблей «вопросом первостепенной разведывательной важности». Эллиотту, главе лондонской штаб-квартиры МИ-6, было поручено воспользоваться шансом, который сам приплыл в руки. Последний выразился с характерной для него вульгарностью: «Мы хотели разглядеть поближе задницы этих русских баб». Для этой цели у него нашелся подходящий кандидат.
Лайонел Крэбб получил свое прозвище от американского актера, спортсмена и красавчика Бастера Крэбба, сыгравшего Флэша Гордона в сериале и выигравшего золотую медаль по плаванию на Олимпиаде 1932 года. Практически во всех отношениях английский Бастер Крэбб был не похож на американского: маленького роста и неважный пловец (без ласт он не мог преодолеть пятидесятиметровый бассейн). Такой носатый, ясноглазый, щуплый водяной гном. Но при этом отчаянно смелый живчик. Родившийся в Лондоне, в бедной семье, он послужил в торговом флоте, а когда началась война, поступил в Королевский флот, где прошел подготовку в качестве подводника. В сорок втором его отправили в Гибралтар для участия в набиравшей обороты подводной битве за Скалу[15], в которой итальянские аквалангисты, используя управляемые торпеды и магнитные мины, пускали на дно тысячи тонн морских грузов союзников. Крэбб со товарищи решили положить этому конец и в том весьма преуспели: они подрывали вражеских аквалангистов с помощью глубинных бомб, перехватывали торпеды и обезвреживали мины на корпусах английских кораблей. После войны Крэбб разминировал порты Венеции и Ливорно, а когда боевые сионистские группы «Иргуна» начали подводные атаки на британские корабли, его призвали снимать взрыватели. Риски были огромные, но Крэбб выжил и был по заслугам награжден медалью короля Георга «за бесстрашную преданность долгу». Он сделался знаменитостью, пусть и ненадолго. Мальчишки ходили за ним табуном, о нем часто писали газеты. И после демобилизации Крэбб еще долго продолжал выполнять необычные, секретные или особо опасные погружения по заданию морфлота.
Эллиотт, познакомившийся с Крэббом во время войны, считал его «обаятельнейшим и честнейшим человеком… а также лучшим в стране, если не в мире, подводником». В гражданской жизни он выглядел экзотически: бежевые твидовые брюки, в глазу монокль, на голове шляпа с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а в руке трость с вкладной шпагой и серебряным набалдашником в виде краба. Но этот «бантамский петух» имел еще и темную сторону. Крэбб страдал от тяжелых депрессий и питал слабость к картам, алкоголю и барменшам. Приглашая женщину в ресторан, он любил надевать водолазный костюм; неудивительно, что это редко приводило к желаемому результату, и он пребывал в эмоциональном раздрызге. В пятьдесят шестом году он находился в бракоразводном процессе после брака, продлившегося всего несколько месяцев. Он перепробовал разные профессии — модели, гробовщика, торговца произведениями искусства, — но, как многие мужчины, пережившие яркие эпизоды военных действий, находил мирную жизнь бледным слепком. А еще на него давил возраст. Когда Эллиотт с ним связался, Бастер Крэбб работал в «Эспрессо Фёнишингз» на Симор-плейс, где продавал столики для кафе. Крэбб без колебаний согласился выполнить задание. Пора, как он выразился, «снова намочить ноги и вспомнить про мои жабры». Денежное вознаграждение не обсуждалось. Зато Эллиотт пошутил, что, если обследование «Орджоникидзе» пройдет успешно, он может рассчитывать на «многолетний запас виски». Не все считали, что Крэббу это задание по силам. Джон Генри, технический сотрудник МИ-6, полагал, что у того «может случиться инфаркт». Но Эллиотт настаивал: «Крэбб — самый опытный аквалангист во всей Англии, и ему можно полностью доверять… Он рвется в бой из патриотических и личных побуждений». Тэд Дэвис, бывший моряк, начальник подразделения МИ-6 по связям с морскими службами, был откомандирован для проведения операции.
Операция «Кларет» шла по накатанному пути, из чего следовало, что никто из начальства не уделял ей должного внимания. Майкл Уильямс, сотрудник Форин-офиса, недавно назначенный приглядывать за МИ-6, получил перечень возможных операций, приуроченных к советскому визиту. «Рискованные операции приведены в начале, а безопасные в конце списка», — получил он устное пояснение. В то утро голова Уильямса была занята другим в связи со смертью отца. Вскоре он вернул доклад без комментариев. МИ-6 посчитала это молчаливым одобрением со стороны Форин-офиса; Уильямс посчитал, что начальство повыше уже дало «зеленый свет»; Адмиралтейство посчитало, что ответственность лежит на МИ-6, поскольку она проводит операцию; в МИ-6 посчитали, что всем руководит Адмиралтейство, так как оно затребовало информацию. Ну а премьер-министр посчитал, что отечественные шпионы ничего не предпринимают, как им и было велено.
Еще в сентябре, когда впервые обсуждался визит Хрущева, Энтони Иден выразился категорично: «Это наши гости, и чего бы мы от них ни ожидали, мы не должны предпринимать действий, чреватых малейшим риском обнаружения». Иден разделял макмиллановскую неприязнь к шпионству и не желал, чтобы из-за авантюр МИ-6 пострадала тонкая материя международной дипломатии. Когда Эллиотта позже спросили, кто и в каком статусе отдал непосредственную команду о начале операции, он пожал плечами, и его ответ прозвучал весьма красноречиво: «У нас нет субординации. Мы работаем по клубному принципу».
За неделю до приезда советской делегации Энтони Иден, узнав, что разрабатываются планы подводного обследования «Орджоникидзе», повел себя еще решительнее. «Прошу прощения, но в данном случае мы не можем себе позволить ничего подобного», — написал он в официальной записке. Впоследствии Эллиотт будет стоять на том, что «операцию запустили после письменного заверения о заинтересованности морского ведомства и общего понимания, что правительство дало добро». Либо он не знал про вето премьер-министра, либо, что более вероятно, его проигнорировал.
В это время Ким Филби находился в Ирландии. Вскоре после его триумфальной пресс-конференции Уильям Аллен, хороший приятель, когда-то работавший советником по делам прессы в британском посольстве в Турции, предложил ему написать книгу о столетней истории семейной фирмы «Дэвид Аллен и сыновья», крупной типографии, выпускавшей в числе прочего плакаты. Аллен был выпускником Итона, и можно предположить, что этот «рабочий праздник» был устроен с легкой руки Эллиотта. Аллен симпатизировал фашистам и был близким другом Освальда Мосли, то есть его с гостем [его] в политическом смысле разделяла пропасть. Но это Филби не остановило, и он прожил несколько месяцев за хозяйский счет в родовом доме Аллена в графстве Уотерфорд, излагая скучные типографские подробности. В Англию он вернулся как раз к началу операции «Кларет». Филби хорошо знал «Крэбби». Будучи главой иберийского филиала Пятого отдела, он был связан с военными операциями Крэбба в Гибралтаре. Эллиотт вряд ли мог удержаться от искушения рассказать Филби, как он вернул в строй знаменитого подводника, их старого товарища по оружию, чтобы тот проведал под водой советскую делегацию.
За день до прибытия советской мини-флотилии Бастер Крэбб и Тед Дэвис приехали поездом в Портсмут и заселились в отель «Салли Порт». Дэвис, не слишком напрягая воображение, зарегистрировался как Смит, правда, с добавлением «связан с Форин-офисом»; Крэбб записался в регистрационном журнале под собственным именем. После чего связался с приятелем, лейтенантом Джорджем Франклином, инструктором по дайвингу на «Верноне», тренировочном корабле Королевских военно-морских сил, и тот согласился неофициально помочь ему с погружением и предоставить дополнительную оснастку. На следующий день Крэбб наблюдал в мощный бинокль, как советские военные суда входят в порт. А потом он загулял. У Крэбба в Портсмуте было много друзей, и все жаждали его угостить. В пабе во время затянувшейся попойки Крэбб хвастался, что ему заплатили шестьдесят гиней за то, чтобы он «заглянул русским под киль». В ночь перед погружением Крэбб выпил пять порций двойного виски и «догнался» таким же количеством пива.
На следующее утро Франклин помог ему влезть в двухсекционный гидрокостюм «Пирелли», купленный у Хайнке в Чичестере, подал ласты и отрегулировал клапан на кислородном баллоне. Двое полицейских в форме сопроводили их через док и вниз по Королевской лестнице. Франклин сел на весла, а Крэбб курил на корме. Около 7 утра он последний раз проверил снаряжение и выбросился спиной через планшир с легким всплеском, оставив дорожку пузырьков в мутной воде. Двадцатью минутами позже он неожиданно вынырнул и на сбивчивом дыхании попросил Франклина добавить «еще фунт отягощений». После чего скрылся окончательно.
На борту «Орджоникидзе» его уже ждала советская команда.
Последующие события сделались предметом спекуляций, оригинальных трактовок и фантастических измышлений.
В 2007 году семидесятилетний моряк-пенсионер Эдуард Кольцов сделал признание. Он утверждал, что как боевой подводник прошел спецподготовку в советских морских частях, а конкретно в команде под названием «Барракуда». В пятьдесят шестом ему было двадцать два года, и он находился на борту «Орджоникидзе». Ранним утром девятнадцатого апреля он получил приказ совершить погружение и охранять корабль от возможных вражеских аквалангистов. Около восьми утра в районе кормы по правому борту он заметил подводника с магнитной миной в руках, как ему показалось. Аквалангист был такого маленького роста, что Кольцов принял его за подростка. Подплыв сзади и полагая, что судну грозит опасность, Кольцов, по его словам, достал нож и перерезал аквалангисту сначала дыхательную трубку, а затем горло. Мертвое тело пошло на дно. Кольцов утверждал, что за это он был награжден медалью, и даже продемонстрировал нож, которым он якобы убил Лайонела Крэбба.
Утверждения Кольцова не более и не менее правдоподобны, чем десятки других теорий вокруг странной истории коммандера Крэбба, истории, обросшей столькими мифами, что правду мы уже никогда не узнаем. Но в одном моменте рассказа Кольцова явственно звучит нотка подлинности: «Утечка информации от британского шпиона означала, что он сидит в засаде». Сегодня практически ни у кого нет сомнений в том, что советская делегация была абсолютно готова к подводному визиту. Трое моряков видели, как аквалангист вынырнул между двух кораблей и снова ушел под воду. Больше Бастера Крэбба никто и никогда не видел.
Когда над портсмутской гаванью взошло солнце, а ушедший на задание так и не вернулся, Джордж Франклин с ужасом понял, что случилось непоправимое. Он пригреб обратно к лестнице и сообщил Теду Дэвису, что Крэбб пропал. В нормальной ситуации тотчас были бы посланы спасатели для прочесывания гавани в надежде обнаружить подводника еще живым, но это означало бы раскрыть карты перед советскими гостями. Дэвис понесся в отель «Салли Порт», быстро собрал вещички, свои и Крэбба, и поспешил назад в Лондон. Известие об исчезновении Крэбба подняло волну паники в высшем эшелоне британской разведки. «Полетят головы, — предсказал один офицер МИ-5, а затем прибег к метафоре из крикета, как это часто делают англичане в тревожные моменты: — Сейчас все побегут в павильон».
Началась классическая операция прикрытия: МИ-5, МИ-6 и морская разведка стакнулись, чтобы сокрыть правду от своих политических боссов, советской делегации и общественности. Была запущена официальная ложь о том, что Крэбба «специально привлекли для испытания подводного оборудования» и что он не вернулся после тестового погружения в бухте Соукс, примерно в трех милях от Портсмута; «предположительно он утонул». В отель «Салли Порт» отправили офицера полиции, чтобы он вырвал инкриминирующие страницы из журнала регистрации. Владельца отеля предупредили, что дело в высшей степени деликатное и ему следует держать рот на замке. Но Дик Уайт из МИ-5 чувствовал: запахло жареным. «Боюсь, что пар вот-вот выбьет крышку», — мрачно предрек он. Семья и друзья Крэбба встревожились не на шутку, репортеры активно пытались что-то разнюхать, а Советы уж постарались извлечь из этой ситуации максимальный дипломатический капитал.
В тот вечер, когда пропал Крэбб, Энтони Иден давал в Лондоне ужин для советского лидера, на котором присутствовали министры и члены королевской семьи. В разгар банкета Никита Хрущев упомянул «Орджоникидзе», отпустив шутку про «недостающую или потерянную собственность». Хрущев частенько высказывался невнятно, поэтому все заулыбались, хотя ничего не поняли. На следующий вечер контр-адмирал В. Ф. Котов, капитан советского корабля, был приглашен на официальный ужин, устроенный морским департаментом Портсмута. За кофе он сообщил своему английскому визави, что тремя днями ранее моряки с эсминца «Совершенный», стоящего на якоре бок о бок с крейсером, заметили на воде аквалангиста. С напускной озабоченностью Котов заметил, что ныряльщик, судя по всему, «был в плохом состоянии» и «хочется верить, что с ним все в порядке». Британский адмирал категорически отрицал, что в тот день проводились какие-либо погружения.
Хорошо спланированный советский демарш сделал невозможным дальнейшее утаивание правды от британского премьера. Когда Энтони Иден понял, что его прямые указания были проигнорированы и секретная операция запущена, что знаменитый ныряльщик пропал и, возможно, погиб, а Советам про это все известно, он взвился до потолка. Он желал знать, кто отдал приказ о погружении и почему о провале операции ему четыре дня не докладывали. Пресса уже вовсю прессовала, родственники Крэбба требовали ясности, а новость о том, что из журнала регистрации в отеле были вырваны страницы, лишь подлила масла в огонь. Пятого марта Советы усилили давление, подав официальную ноту протеста, в которой потребовали исчерпывающих разъяснений «столь необычного инцидента, как проведение секретной подводной операции возле советских кораблей, пришедших на военно-морскую базу Портсмута с дружеским визитом». В уклончивом дипломатическом ответе выражалось «сожаление по поводу инцидента», однако вновь содержалось утверждение, что появление Крэбба возле эсминцев было «никем не санкционировано». Стыдно сказать, но в черновике неопубликованного ответа Форин-офиса была предпринята попытка обвинить в смерти Крэбба его самого; там утверждалось, что «помощник безуспешно пытался его остановить», и делался вывод, что, «очевидно, дух авантюризма подтолкнул его к тому, чтобы проинспектировать российские корабли без всяких на то санкций… и это явилось причиной его гибели».
Девятого мая в Палате представителей Иден сквозь зубы сделал заявление, в котором отказался раскрыть детали операции, но ясно дал понять, что он в этом не участвовал.
Не в общественных интересах раскрывать обстоятельства предположительной смерти коммандера Крэбба. Хотя принято, чтобы министры брали на себя ответственность, мне кажется, это тот особый случай, когда надо ясно дать понять, что это было сделано без санкции и ведома министров ее величества. В настоящее время принимаются дисциплинарные меры.
Газета «Правда» с нескрываемым торжеством осудила «позорную операцию подводного шпионажа, направленного против тех, кто прибыл в страну с дружественным визитом».
Операция «Кларет» закончилась тотальным оглушительным провалом: она подставила правительство, дала Советам открытую мишень, усугубила взаимную подозрительность участников «холодной войны», не принесла никаких полезных разведывательных данных, превратила дипломатический триумф Идена в настоящую катастрофу, спровоцировала новый виток конфронтации между секретными службами и привела к смерти общепризнанного героя войны. Даже по прошествии месяца Иден все еще кипел от негодования и требовал головы виновных в этой «необдуманной и некомпетентной операции». Полные бюрократической невнятицы двадцать три страницы доклада о данном эпизоде были украшены яростными пометами премьера: «Абсурд… Невыполнение приказа… Это ничего не доказывает». Первый лорд Адмиралтейства подал в отставку. МИ-5 возложила вину на МИ-6; как выразился один офицер, «типичный пример авантюризма, не просчитанная и бездарно проведенная операция». Главной жертвой разборок стал сэр Джон «Синдбад» Синклер, глава МИ-6. Иден потребовал его скорейшего выхода на пенсию, и в июле пятьдесят шестого его уже заменил Дик Уайт из параллельной структуры МИ-5. Его помощник Джек Истон сразу предупредил шефа: «Мы остаемся рыцарями плаща и шпаги. Любителями кулачных боев. А послушать разных травоведов, так мы вот-вот начнем новую мировую войну». Вполне прозрачный намек.
Николас Эллиотт должен был бы потерять работу, после того как, по выражению коллеги, «выставил всех идиотами». Удивительно, но он уцелел; взбучку, может, и получил, но не уволили — где еще такое было бы возможно? Клуб своих не сдает, как вскоре доказал и сам Эллиотт. Со свойственной ему беззаботностью он написал: «Из-за неумелых действий буря в стакане превратилась в настоящий дипломатический скандал, в результате которого была незаслуженно дискредитирована МИ-6. Вина лежит на некомпетентных политиках, и в первую очередь на Идене, не сумевших это дело разрулить». Оставшись шефом лондонской штаб-кв