Читать онлайн Богиня прайм-тайма бесплатно
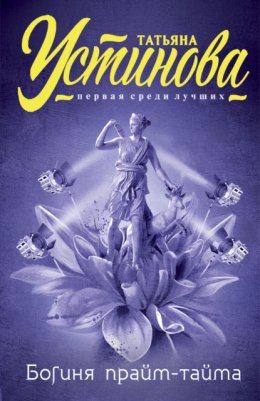
Ему говорят, что закончен бой
И пора вести учет
несбывшимся снам.
Ему говорят, что пора домой.
Дома, по слухам, уже весна.
Максим Леонидов
Во вторник в Кабуле в первый раз пошел дождь.
Низкие тучи, похожие на сгустившийся туман, наползли со стороны гор, и казалось, что, если встать на цыпочки, можно потрогать кудлатое серое небо. Из-за низкой облачности город с утра не бомбили. Тоже первый раз за все время.
Телефоны не работали уже дней десять. Из крана в крохотной ванной лилась отвратительная желтая вода, нечто среднее по цвету между квасом и знаменитой «ослиной мочой», которой следует разбавлять бензин. Одна канистра оставалась нетронутой, на дне другой болталось пол-литра «пригодной для питья» воды. Умываться ею в группе считалось смертным грехом, но Ольга все-таки умылась, чувствуя себя почти преступницей.
Зеркало было размером с ладонь, с растрескавшейся от старости и перепада температур амальгамой. Ольга посмотрелась в него, но ничего хорошего там не увидела.
Я вернусь домой и три дня буду лежать в ванне. В очень полной и чистой ванне. Я даже спать буду в ванне, и есть буду в ней, и пить буду из нее – столько, сколько захочу.
Она повязала на голову платок, подумала и перевязала по-другому – украсилась. Кофе не было ни капли. Зато есть надежда, что сегодня будет связь и они передадут репортаж в Москву.
Есть бомбежка, нет связи. Нет бомбежки, есть связь. Может быть, есть.
Она нацепила темные очки и осторожно выглянула в коридор. Там было пусто, и она проворно заперла свою дверь и постучалась в соседний номер. Произошло короткое шевеление, дверь распахнулась, и волосатая рука, схватив ее за майку, втянула внутрь так стремительно, что она чуть не упала.
Паника поднялась из живота и залила голову и горло. Стало нечем дышать, и сердце, кажется, разорвалось.
– Ты что? Обезумела? – спросил кто-то рядом. – Сколько раз тебе говорил, я сам зайду! Что ты шляешься, черт побери!..
Ольга потерла стиснутое горло, подышала открытым ртом. Паника, как удав, чуть расслабила кольца, но совсем не отпустила. Впрочем, они все время жили, объятые этой паникой со всех сторон. От нее спасала только работа, которой, как назло, в последнее время было мало.
Есть бомбежка, нет работы. Нет бомбежки, есть работа. Да и то не всегда.
– Ники, – сказала Ольга и откашлялась, – ты меня напугал.
– Иди на фиг, – предложил оператор и ушел в крохотную комнатку, точную копию ее собственной, сел там на кровать и стал обуваться, вид у него был сердитый. Из-за майки вывалился крест и качался на широкой цепочке у него под носом. Он сгреб его и закинул обратно. Шнурки на армейских ботинках были непомерной длины, и Ники пыхтел, старательно и замысловато завязывая.
Он сам придумал себе это идиотское имя, похожее на кличку собаки колли. Его звали Никита Беляев, вполне прозаично и очень по-русски. Свое прозаичное русское имя он почему-то терпеть не мог, особенно после «выхода на экраны» одноименного сериала с белокурой бестией в главной роли, и долго придумывал, как бы его изменить на иностранный манер. И придумал.
Ники, ужас какой-то!..
Ольга подошла к окну и, чуть раздвинув полоски древних жалюзи, посмотрела на улицу. Под козырьком гостиницы стоял БТР, и еще один за желтым углом соседнего дома. Бородатые афганцы в платках в точно таких же ботинках и камуфляже, как у ее оператора, сидели вокруг БТР на корточках.
– Когда же это кончится, твою мать… – бормотал у нее за спиной Ники, прилаживая шнурки.
Ольга отпустила полоски и вытерла о джинсы пыльные пальцы. Пыль была везде – на мебели, простынях, подоконниках, в ушах, в горле, в волосах. Синий кофр «Бетакама» казался серым из-за нее. У Ники в глазах появлялось страдание, когда он смотрел на кофр. Камеру он жалел больше, чем себя, – как все высококлассные операторы.
– У тебя осталась вода?
– Одна канистра и еще чуть-чуть. А кофе есть?
Ники кивнул на тумбочку, и Ольга посмотрела. Кофе в банке был, даже довольно много, и она чуть-чуть воспрянула духом.
– Только света с утра не было, – сказал Ники и почесал затылок, а потом живот под майкой. Они все время чесались, как вшивые. – Как его кипятить без электричества?
Ни на что не надеясь, Ольга повернула резиновый тумблер древнего советского выключателя – все здесь было советским или американским, даже выключатели, – и голая лампочка под потолком засветилась тусклым желтым светом, нервически задрожала тоненькая проволочка внутри стеклянной колбы.
– Дали! – восхитился Ники. – Ну, не иначе сегодня праздник у них большой. Ты не знаешь, что они сегодня отмечают?
Он поднялся с кровати, потопал ботинками, проверяя, хорошо ли они наделись и надежно ли зашнурованы, – иногда от этого зависела жизнь.
Можешь бежать, останешься в живых. Не можешь, останешься лежать на чужой желтой пыльной земле. Боб Фелтон погиб, потому что не мог бежать так быстро, как надо, – у них на глазах упал лицом вперед, и камера отлетела в сторону, подпрыгнула и повалилась набок, как будто тоже подстреленная, и Би-би-си потом долго пыталась получить его тело, но так и не получила. Неизвестно почему афганцы решили его не отдавать, и Боб навсегда остался здесь – в твердой, как камень, растрескавшейся желтой земле. Впрочем, если похоронили в земле, значит, ему крупно повезло.
Боб говорил, что больше всего на свете ему хочется английского пива. Просто пива и больше ничего. И еще он говорил про свою лошадь, только Ольга позабыла ее имя, какое-то замечательное имя, то ли Изумруд, то ли Кристалл. У него был титул – герцог, кажется, или граф, – и всех это почему-то очень веселило, и его самого тоже.
«Британия потеряла одного из своих лучших сыновей», – печально констатировал ведущий новостей Би-би-си в программе, посвященной операции «Буря в горах», – и все. Жизнь и смерть Боба Фелтона больше никого не интересовали.
Ну и что? Погиб при исполнении служебных обязанностей. Это просто такая работа.
– Я принесу воды, а ты запри за мной дверь, – распорядился Ники, перестав чесаться. – Стой и слушай. Я постучу три раза, тогда откроешь.
– У тебя паранойя.
– Я жить хочу. Меня Бахрушин на проходной повесит, если с тобой что-нибудь…
– Ладно, заткнись, – перебила Ольга довольно резко. О Бахрушине думать было никак нельзя. У нее почти все время получалось не думать и только иногда ничего не выходило.
– Давай!
Она кинула ему ключи, он поймал, выскочил за дверь и пропал. Ольга задвинула хлипкую щеколду – как будто это сможет их от чего-то уберечь! – и прислушалась. В коридоре было тихо. Под окном хохотали давешние афганцы. Пахло гарью вчерашней бомбежки – дождь прибил дым к земле, сегодня трудно будет дышать.
Впрочем, здесь всегда трудно дышать.
Вернулся Ники, стукнул три раза, и она ему открыла.
– Давай быстрей, а то свет выключат. Может, мне пока побриться?..
Ольга налила воды из канистры в литровую банку – каждому по полторы кружки, – сунула кипятильник и оценивающе посмотрела на Ники. Он весь зарос светлой щетиной, белые, сильно выгоревшие, отросшие кудри торчали в разные стороны. В обычной жизни ее оператор был почти наголо брит, может, поэтому сейчас выглядел как-то особенно дико.
– Побрейся, – решила она, – только все равно это как-то… неконструктивно.
– Почему неконструктивно? – спросил Ники из ванной. В трубах засипело и затряслось, словно кто-то пытался выдрать их из пазов. Ники негромко выругался.
– Завтра опять зарастешь, а бриться будет негде.
– Да ла-адно! Завтра будет завтра!
– Телефон не работает. – Ольга смотрела, как крохотные воздушные пузырьки облепляют спираль кипятильника, отрываются и поднимаются наружу.
– Подумаешь, бином Ньютона, – пробормотал Ники невнятно, наверное, от того, что рассматривал в крохотном зеркальце свою небритую шею. – Он уже сто лет не работает.
– Не сто лет, а десять дней.
Десять дней связи не было – кроме спутника, который время от времени выходил из тени, и тогда им удавалось передать очередной сюжет. В корпункте еще до войны обещали специальный спутниковый телефон и надули, конечно. То есть дали, но с этой линией моментально что-то случилось, наверное, так и было задумано – в начале войны с корреспондентскими линиями обязательно что-нибудь случается. И цензура, цензура, твою мать!.. Чего только они не делали, чтобы ее обойти, чтобы снять хоть что-то, отличное от «официальной точки зрения», на какие ухищрения ни пускались! Особенно старались сиэнэновцы, которым «официальная точка» совсем не годилась. Время от времени их высылали, и появлялись следующие. Ольга удивлялась – сколько у них там желающих снимать войну!
Пузырьки от спирали кипятильника отрывались все быстрее, всплывали и лопались. Ольга наблюдала.
– Ну чего? Еще не кипит?
Ники хотелось кофе. Еще ему хотелось яичницы с сосиской и свежим черным хлебом. Помидора хотелось невыносимо. А еще помыться и спать – несколько суток подряд, и чтобы не бомбили.
Он протиснулся мимо столика, на котором закипала вода, раздвинул полоски жалюзи, как давеча Ольга, и посмотрел на улицу. Гор не было видно, сплошные облака. Даже соседнего дома, наполовину снесенного «скатом», не разглядеть.
Дождь, туман, запах гари, арабская речь.
Ему вдруг показалось, что среди удручающе одинаковых бородатых лиц он увидел знакомое, которому вовсе не следовало там находиться, и это было странно.
– Оль!
– Что?..
– Подойди! Быстро только!
Она подошла и оказалась у него за плечом. Он слышал, как она дышит, легко и редко. Тонкие пальцы взяли его за майку – он скосил глаза. Розовые женские пальцы на его черной пыльной майке в белых разводах от пота.
Будь оно все проклято.
– Что, Ники?
– Вон справа, видишь, на броне?
Она еще придвинулась.
– Вижу. И кто это?
– Не Масуд ли, часом?
Ольга сбоку посмотрела на Ники, очень близко, но он выдержал характер и поворачиваться не стал – не заметил как бы! – и она опять глянула на улицу.
Человек в камуфляже, в распущенной пестрой косынке, с «калашниковым», болтавшимся на бедре – он все время придерживал его рукой, – был похож и не похож на корреспондента агентства «Аль Джазира».
– Ну чего? Он? Не он?
Ольга пожала плечами:
– Черт его знает. Может, и он.
Ники отпустил жалюзи и вытер о штаны пыльные пальцы.
– Так мы с ним на север поедем? – осведомился он мрачно. – И где тогда наш «калаш»? Или что? У него есть, а у нас нет? Так нечестно.
– Это точно, – пробормотала Ольга и посмотрела на банку. Вода в ней кипела белым ключом. Пусть покипит пять минут – на всякий случай.
– Надо этих найти, из «Рейтера», которые с нами едут.
– Найдем.
– А есть чего будем?
– Чего-чего!.. Консервы!
– Вот они у меня где, эти консервы! – злобно сказал Ники и попилил себя по свежевыбритой шее. Лицо от лба до скул было сильно загорелым, ниже тоже загорело, но меньше, от этого казалось, что верхняя часть лица у него намного грязнее нижней. Впрочем, Ники, наверное, не тратил драгоценную воду на умывание. Купить можно было только кока-колу, которой умываться нельзя, да и пить опасно.
– С какой точки снимаем?
– Да ни с какой! Разве они дадут снимать откуда-нибудь!
– Значит, опять дворец?
Съемки разрешались только на фоне разбомбленного президентского дворца, очень живописно, если не каждый день.
– Опять, Ники. Что ты спрашиваешь, когда сам все знаешь!
– Я знаю все, – подтвердил оператор и выдернул желтый шнур кипятильника. – У меня галеты есть. Будешь?
– Буду.
Некоторое время они молча пили кофе и хрустели галетами, как две собаки улучшенным кормом «Чаппи».
Ольга стряхнула крошки с колен и заглянула в свою кружку. Кофе удручающе быстро кончался. Ники наблюдал за ней.
– И как это тебя Бахрушин отпустил?.. – вдруг задумчиво спросил он и поболтал в кружке ложкой. – Был бы я Бахрушин, ни за что бы не отпустил.
– Вот потому ты – не он, Ники!
– Это точно.
В дверь загрохотали, так что вздрогнули древние жалюзи на окнах, и паника приналегла на грудь и горло, сжала пыльные холодные кольца.
Впрочем, те, кто на прошлой неделе увез из гостиницы американскую девушку-фотографа, которую с тех пор никто не видел, не стали бы стучать.
Ники преувеличенно осторожно поставил на стол свою кружку, чтобы не расплескать ни капли драгоценного кофе, и шагнул к двери, кося напряженным глазом. В кулаке у него что-то блеснуло, и Ольга вдруг поняла, что это… нож.
Господи Иисусе!..
– Ники!..
– Ти-хо! – одними губами приказал он, бесшумно прыгнул и прижался спиной к стене. В дверь опять постучали, правда, немного тише. Ники мотнул головой, что означало – открывай! – и Ольга отодвинула щеколду.
Все его прыжки и ужимки напоминали боевик под названием «Спецназ» – там тоже так прыгали и гримасничали.
В коридоре произошло какое-то шевеление. Потом осторожный голос сказал негромко:
– Мужики! Вы здесь?!
Оператор молниеносно выбросил руку с ножом, и как давеча Ольгу, схватил посетителя за майку и втащил внутрь. Лезвие тускло сверкнуло у самой щеки незваного гостя.
– Твою мать!..
Человек ввалился в комнату головой вперед, сделал несколько торопливых шагов, чтобы не упасть, и почти уткнулся носом в стол, на котором стояла кружка. Ничуть не обескураженный бесцеремонным обращением, он повел носом, живо понюхал, схватил кружку и сделал большой глоток.
– Поставь на место!
– Да ладно!
– Поставь, тебе говорят!
Посетитель еще раз торопливо хлебнул, утер губы и сказал насмешливо:
– Ники, ты жадина! Вот Оленька не такая! Ведь правда? Я знаю, что ты ничего не пожалеешь для друга. Для своего старого друга! А, Оленька?
– Я тоже жадина, – буркнула Ольга, забрала со стола кружку и сунула ее Ники. Борейко и без кофе обойдется.
Все знали, что Толя каким-то волшебным образом умел добыть все, что угодно, даже в осажденном Кабуле. Поговаривали о его связях с контрабандистами и талибами, с узбеками и пакистанцами – впрочем, журналисты всегда склонны усложнять, выдумывать, «играть в детектив». Может, он просто оборотистый и ловкий, этот самый Толя Борейко, корреспондент агентства «Интерфакс».
– А у меня телефон сдох, – поделился Толя, покосился на Ники и усмехнулся. Оператор даже не хлебал, а словно лакал кофе, торопливо, словно боялся, что у него отнимут драгоценную кружку. Толе совсем не хотелось кофе – он мог пить его сколько угодно.
– У всех телефоны сдохли, – пробормотала Ольга.
Афганцы все хохотали под окнами. Они или хохотали, или стреляли, или кричали гортанными, как будто раздраженными голосами – казалось, что вот-вот подерутся. Ольга никогда не видела, чтобы они были спокойны.
– Так у меня спутниковый! Детям такие в руки не дают.
– Дети – это мы?
– Оленька, что ты там высматриваешь, за окошком? Вот лично я ничего хорошего там никогда не видал. Посмотрела бы на меня, лапонька.
– Нет, спасибо, Толь, я лучше в окошко.
– Тебе нравятся бородатые мужчины в платках?
Человек в пестрой косынке, похожий на корреспондента «Аль Джазиры», куда-то делся с БТР.
– Ники, а что это у тебя с мордой?
– В каком смысле?
– Грязная вроде.
Ники вытянул шею и уставился на свое отражение в мутной полировке гардероба. Дверь, словно следуя за его взглядом, вдруг приотворилась с медленным скрипом, и Ники отшатнулся.
Паника, словно атакующая змея, выметнулась из гардероба и зашаталась перед их лицами, разинув отвратительную пасть.
Ольга почувствовала, как по виску проползла капля пота.
– Вы чего? – оторопело спросил Толя Борейко. – Или у вас тут привидения… обитают?
– Черт знает, кто тут обитает, – пробормотал Ники, прицелился и ногой захлопнул дверцу гардероба. Паника пропала за ней, будто ее и не было вовсе.
– Ну, вы даете. – Толя даже головой покрутил в знак того, что несказанно удивлен тем, как они «дают». – Нервные все какие-то стали.
Ники молчал. Ему было стыдно, что он так перепугался. И стыдно, что Ольга это видела.
С нервами на войне дело вообще обстоит не слишком хорошо, прав Борейко. Как там это называется, в другой жизни, – ПТС?.. ПСС?.. – ужасная штука, замучившая американцев после войны во Вьетнаме! В кино это выглядело очень трагично – небритые парни, на костылях или без, проводящие все свое время в кабаках и публичных домах, сбивающиеся в стаи или пропадающие поодиночке. Кажется, это называлось «сломаться». «Он сломался после Сайгона» – произносить следует низким, сочувствующим голосом, отводя глаза.
Ники не хотелось «ломаться», но нервы были и впрямь на пределе.
– Вчера конвой пришел, – сообщил Толя. Покопался двумя пальцами в хрустящем пакете, на дне которого болтались остатки галет, выудил какой-то обломок и решительно отправил в рот. – Из Ходжа-Багаутдина. Девчонки красивые приехали.
– Какие девчонки? – встрепенулся Ники, очень озабоченный поддержанием собственного имиджа Казановы. В Кабуле этот имидж пропадал зря и, можно сказать, уже почти совсем пропал.
– Француженки, – Толя осмотрел свои пальцы и аккуратно отряхнул с ладоней крошки.
Ники огорчился:
– Да от них никакого толку!
– Конечно, никакого.
– А чего ты тогда говоришь?!
– Так просто.
Ники запустил пятерню в кудри и энергично там почесал. Ольге его затея с отращиванием кудрей в воюющем Афганистане решительно не нравилась, но она благоразумно помалкивала. Знала, что как только начнет учить его жизни, он моментально упрется рогом и сделает что-нибудь гораздо более бессмысленное – например, станет отращивать еще и бороду.
Его упрямство можно сравнить только с его чудовищным профессионализмом – если таковой может быть чудовищным.
Кроме того, в нем жил еще «дух противоречия», в полной гармонии с которым он всегда делал не то, чего от него ожидали, а то, что считал нужным, и «собственные взгляды» тоже присутствовали. Эти «взгляды» Ольгу очень забавляли, если не подавались в слишком больших количествах, как баклажаны в армянском ресторане «Ноев Ковчег» в тихом и старом центре тихой и старой Москвы.
Почему-то только из такого далекого далека, как Кабул, Москва казалась тихой и старой. И баклажанов захотелось невыносимо.
– А я вчера ванну принимал, – похвастался Ники неизвестно зачем и на секунду перестал чесаться.
– В ACTED ездил?! – ахнула Ольга.
Только в домике ACTED – международной организации, строившей в Афганистане дороги, – можно было помыться. Наверное, этот домик войдет в историю как самое популярное среди всех работавших здесь европейцев место. Чтобы попасть внутрь, надо было постоять или посидеть на полу в длинной очереди. Непосредственно ванная – грязная комнатка с серыми цементными стенами и двумя баками, с горячей и холодной водой, и несколько металлических кувшинов. Самое главное попасть внутрь. Попал – как будто в рай. Можно мыться или чистить зубы.
Бахрушин, наверное, и не подозревает, какое это счастье – почистить зубы…
– А вы правда на север едете?
Ольга пристально взглянула на корреспондента «Интерфакса».
Вот зачем ты пришел. За информацией. Тебе до смерти любопытно, куда мы едем, с кем и зачем. Любопытно «по-журналистски» – как же, вдруг пропустишь что-то важное и интересное, и «чисто по-человечески» – слухи об их с Ники романе будоражили не только коллег «на местах», но и московское бюро тоже. В последнем телефонном разговоре главный редактор Костя Зданович что-то уж больно игриво расспрашивал, как там Ники, – словно не мог спросить у него сам! – и эта игривость резала Ольге ухо, сверлила прямо.
Косте Здановичу в Москве кажется, должно быть, что Афганистан – это сплошная романтика, слегка подсоленная опасностью и сдобренная восточными пряностями в духе Ходжи Насреддина!
Ошибается Костя. И относительно романтики, и относительно Ники.
Никакой романтики. Никакого Ники.
Толя Борейко помолчал и, так как никто ему не ответил, спросил снова, теми же самыми словами:
– А вы правда на север едете?
Он мог так спрашивать до бесконечности – Ольга знала.
Однажды они снимали пресс-конференцию министра МЧС, который долго и старательно не отвечал на Толин вопрос, а Борейко все повторял и повторял его – слово в слово! Министр в конце концов озверел и велел ему катиться с этим вопросом и даже уточнил, куда именно, и вышел небольшой скандал, который в конце концов замяли.
С тех самых пор министр МЧС, по слухам, каждый раз интересовался, кто будет на конференции от «Интерфакса», и если ему отвечали, что может быть и Борейко, министр весело сообщал своей пресс-службе, что тогда пусть она, то есть служба, катится туда же, куда он чуть было не отправил Толю.
Вспомнив про министра, Ольга улыбнулась.
Он был молодой, решительный, сердитый и веселый – самый лучший из всех известных ей министров, а уж она-то их повидала, как любой высокоуровневый журналист! С Бахрушиным министр дружил, и они даже один раз ездили куда-то на своих громадных, тяжелых, вездеходных машинах, напялив куртки и болотные сапоги, и там, куда приехали, сидели на берегу чистой и быстрой речки и до утра разговаривали о делах. На их мужском языке это называлось «вырваться на рыбалку».
Ольга сидела с ними только до полночи, а потом ушла в домик спать и до рассвета сквозь сон слышала, как они хохотали. И деревья шумели высоко-высоко, и холодно было, и тяжелые капли стучали в крышу, и костер трещал, и река под горой перекатывалась по камушкам. Под двумя одеялами было тепло, только нос все время мерз, и она, как собака, зарывала его в подушку. Ей как-то очень радостно и легко дремалось под этими самыми одеялами, и ночь была глухая, совсем осенняя, и Ольга все время помнила, что завтра еще один выходной, а в Москву они вернутся только в понедельник, до которого целая жизнь!..
А потом пришел Бахрушин и разбудил ее грохотом своих сапожищ.
И, не открывая глаз, она слушала, как он топает и сопит, сдирая с себя свитер и джинсы, и это так ее волновало!.. Он повалился рядом, полежал и стал решительно раскапывать одеяла, раскопал и обнял ее, – у него была прохладная кожа, и щеки, колючие от щетины, и от него пахло дымом, осенью, одеколоном и чуть-чуть спиртным.
Он долго целовал ее холодными, настойчивыми губами, и прижимался щекой к виску, и гладил ее горло, и за ухом, где она особенно любила, а потом зачем-то спросил:
– Ты спишь?..
И у него был странный, перехваченный голос, как будто он тоже сильно волновался…
Вдруг сейчас ей показалось, что ничего этого не было.
Она все придумала. Оттого, что сильно устала за эту командировку, оттого, что бомбили каждый день, что выключился телефон, оттого, что приперся Толя Борейко, испортил настроение.
– А вы правда на север едете?
– Правда! – гаркнул Ники. – Мы! Едем! На север!
– А кто везет?
– Никто не везет. Мы сами себя везем.
– А машину где взяли?
«Взять» машину было невозможно, и все это знали. Все местное население от мала до велика делало бизнес на приезжих, и населению было абсолютно наплевать, что это за приезжие – журналисты, военные, гражданские, строители, врачи без границ – «и без мозгов», прибавлял обычно Ники, – кто угодно.
Машина до Панджера – шесть тысяч долларов. Не хочешь платить, не поедешь, а ехать надо, и мало того, еще оборудование везти – камеру, генератор, монтажный стол. Будешь выламываться, скажут – семь. Или десять, им все равно, кто-нибудь да поедет, а им не к спеху. Некий документ местного МИДа, разрешающий выезд из Кабула, стоил двести долларов с каждого выезжающего, если официально, и еще нужно выстоять очередь в несколько дней, из которой нельзя уйти, записав номерок на ладони. Можно заплатить триста, и документ выдадут без очереди. А еще бумаги и разрешение на оборудование! А еще бензин, вода и жилье, за которое тоже нужно платить! Например, номер в данной гостинице стоит примерно как пятизвездочный люкс в Москве. Всем приходилось раскошеливаться, чтобы снимать войну.
Кому война, а кому мать родна…
Вот умная и, главное, свежая мысль.
– И чего?! Кто платит? Бахрушин, что ли?! – продолжал недоумевать Толя Борейко. – Да нет, ребята, что-то вы мне темните!
– Это неправильно, – лениво поправила его Ольга. – «Мне темните» не говорят.
– Да нет у Российского телевидения таких денег и не было никогда! За ваши разъезды платить!..
Толя был настоящий журналист, и мысль о том, что коллеги-конкуренты могут его обскакать, казалась ему невыносимой.
– Да какое тебе дело, кто за нас платит?! – из ванной крикнул Ники. Кажется, он опять рассматривал себя в зеркале, искал следы былой молодецкой удали.
И девицы, только что приехавшие из Ходжа-Багаутдина, оказались француженками – что толку от этих француженок!.. Расстройство одно.
В их поездке была небольшая тайна, но открывать ее Толе Борейко они не собирались. По крайней мере, Ольга так поняла своего оператора, засевшего в ванной, а главным «носителем тайны» был именно он.
– На базар надо сходить. Слышишь, Ники?
– Чего ты там не видала? Тазы с кувшинами? Воды все равно нет.
– Там хлебушек, – пробормотала Ольга и сглотнула – вдруг очень захотелось хлеба. – Лепешки.
Ники выглянул из ванной, вид у него был недовольный.
– Я один схожу. Без тебя.
Толя Борейко основательно уселся на шаткий металлический стул, крепко взял себя за колени – и навострил уши.
Недаром об их романе с Ники говорили все заинтересованные лица не только в Кабуле, но и в Москве.
Говорили и жалели Бахрушина.
…А что он может? Ей вожжа под хвост попадет, она и начинает вытворять, чего ей охота! В прошлом году в Антарктиду летала, а теперь вот в Афган понесло ее! Книгу написала, читали? Да ладно, все читали! Ну и что? Особенная какая-то книга, что ли? Да ничего особенного, книга как книга. Тогда почему ее напечатали?! И целое событие было, по телевизору показывали, а теперь говорят, что ей премию какую-то дадут, то ли Пулитцеровскую, то ли Букеровскую, шут ее знает. А все из-за чего? Из-за того, что спит со всеми – и с тем, и с этим, и еще вроде с министром печати и с эмчеэсовским, и с генеральным продюсером, и еще с кем-то, от кого зависит… А вы не знали?! Да она ни одного мужика не пропустит, у нее, наверное, как у этих… которые зарубки на кровати делали, кто это такие были? Потащилась вот в Афган, а он отпустил, Бахрушин-то, как он может ее остановить?! А ей все мало – небось Нобелевскую теперь подавай, премию-то. Феминистка, блин. Профессионалка.
Бедный Бахрушин. Не повезло ему.
Ники из-за двери в ванную еще поизучал ее, а потом опять скрылся. Им надо было бы поговорить, а Толя мешал.
Впрочем, не к спеху. Поговорить они еще успеют.
Хотя можно и не успеть. Дней десять назад «томагавк» снес у гостиницы правое крыло – ошибка вышла, извиняйте, граждане журналисты, промазали мы. Про американские карты, на которых обозначено все вплоть до форточек в сортирах, мир узнал, когда какой-то бравый капитан со своего «Бигфайера» взял да и саданул по японскому посольству.
Тоже ошибся, видимо. Хотел по какому другому садануть, а вышло по японскому.
Человечество содрогнулось. Мир замер.
Ждали катастрофы – во вселенском масштабе.
Лидеры держав по очереди промямлили, что они тоже предпочли бы, чтобы капитан саданул по какому-нибудь другому посольству, попроще, но изменить ничего было нельзя.
Во вселенском масштабе обошлось, – выдержав тяжеленную паузу, чтобы все как следует прочувствовали близость пропасти, японцы холодно приняли холодные американские извинения.
…Перед журналистами никто не извинялся – выразили соболезнования семьям погибших, мировые новостные каналы показали дымящиеся развалины и испуганных людей в джинсах и майках, кучками стоявших вокруг в серых и плотных клубах пыли.
Ольга тоже там стояла. Телефон тогда еще работал, но от шока она забыла сразу позвонить и потом долго не могла понять, в чем дело, откуда длинные свербящие звуки – как будто из середины черепа.
Звонил Бахрушин, посмотревший видео WTN.
– Ты жива?
Она знала, что сигнал идет долго, и ей вдруг представилось все это – как висящий над другим континентом спутник сейчас примет сигнал от ее телефона и в нем будет что-то мигать и щелкать, передавая сообщение дальше. Антенны наземных станций подхватят его, развернув острые решетчатые носы, и погонят дальше на запад, на запад и потом на север, через горы, леса, города, пустоши и болота, в которых зреет клюква, и пахнет мхом и хвоей, и сеет мелкий дождь, – и дальше, дальше.
А там, вдалеке, «дворники» мотаются по стеклу, и в приемнике звучит песня про любовь, и в мокром асфальте дрожат огоньки машин, и заваленный бумагами стол в кабинете, и привычные сигареты, пиджак на спинке кресла и нагревшаяся тяжелая трубка телефона в ладони.
Он звонил и не знал, жива ли она, или то, что от нее осталось, тоже там, в пыльных обломках, которые уже не разобрать; не знал, что кровь в пыли становится черной, как будто сворачивается. Только если наступить в лужицу, изнутри брызнет алым. Он звонил и ждал, ответит она или нет.
Сигнал идет долго, и надо пережить, переждать, глядя вниз, в пропасть московского асфальтового двора, на окна соседнего крыла, освещенные желтым светом, и понимать совершенно отчетливо – все это имеет смысл, только если она сейчас ответит.
А она сразу не позвонила, потому что у нее был шок.
Если сегодня будет связь, она скажет ему, что любит его больше жизни.
Прямо так, прямо вот этими самыми словами.
И наплевать на шум аппаратной, который всегда слышно в наушнике, и истерические вопли выпускающего, и вой спутника, и на то, что там тьма народу – прямой эфир в федеральных новостях, шутка ли! Но она все равно скажет – он ведь там, и Ольга это знает, а больше ей ничего не нужно.
Почему она никогда не говорила, что любит его?!
Чертов характер.
– Чертов характер, – повторила она вслух.
– У кого?
– Что – у кого?
– Характер. У кого?
– Толь, – попросила Ольга, – дай мне сигарету.
– Я не курю, – весело удивился Толя Борейко, – ты что, забыла?
Курили все, кроме Толи. Он, конечно, заботился о своем здоровье – как это она позабыла?!
Афганцы опять загалдели под окнами, Ольга все пыталась расслышать, на каком языке они говорят. Здесь много языков – таджикский, пушту, фарси и дари. Впрочем, кажется, дари – это не отдельный язык, а диалект. Чем-то они друг от друга отличались, но разобраться было трудно.
Ники выучил два слова: ташакор – спасибо, хоп – хорошо, договорились – и пользовался ими виртуозно.
Он протиснулся из ванной мимо Толи и сунул Ольге пачку сигарет.
– Спасибо.
– Не за что.
Хороший, вежливый мальчик. Заботливый.
Бахрушину, наверное, не десять, а уже сорок раз доложили, что у них роман, а как же!..
– Ну ладно, – заключил Толя, поднялся и недовольно поморщился в сторону Ольгиной сигареты, – я пойду тогда. Да, Ольга, я чего пришел-то! Тебе с конвоем посылка пришла. Из Парижа. У тебя там есть кто-то?
– Где?! В Париже?!
– Съезди в корпункт Евровидения. Мне вчера ребята сказали, что там ее оставят.
– Да что за ребята?!
– Не знаю. Просили передать. А что там, от кого, я не знаю. У тебя чего, и в Париже свои?
В Париже было много разных людей, в разное время имевших к Ольге разное отношение, но она только пожала плечами.
– У вас эфир сегодня?
Ники пожал плечами и опять почесался.
– У нас-то эфир, а там кто знает. Человек предполагает, а тут только Аллах располагает.
Толя дико на него взглянул, пошел было к двери, но остановился, подхватил мятую пачку из-под галет и покопался в ней, как будто проверял, сколько там еще осталось.
– Давай-давай!
Толя быстро ссыпал крошки в рот и выбрался в коридор. Ники закрыл за ним дверь и посмотрел на Ольгу. Та приложила палец к губам, и они секунду молчали.
– На базар надо идти, – от двери сообщил Ники. – Есть охота. И за посылкой. Как ты думаешь, сигарет прислали?
– Да я вообще не очень понимаю, кто и что прислал.
– А колбасы?..
Ники любил колбасу с черным хлебом, и еще сыр, и крепко заваренный кофе. И чай, хорошо бы большую кружку, очень много заварки и очень много сахара.
– Придется тебе со мной ехать. Если она на твое имя, мне не дадут.
– Поеду.
У Ники был «Лендровер» – все сотрудники Би-би-си ездили на «роверах», и именно в этом и заключалась страшная тайна, в которую были посвящены Ольга и Бахрушин, а больше никто.
Ники работал не только на Российское телевидение, но и на Би-би-си.
Он в самом деле был классным оператором, и англичане предложили ему заключить контракт перед самой войной. И он согласился, потому что это был сказочный шанс – стрингер мировых новостных компаний отличается от простого российского журналиста, как зеленый дипломатический паспорт отличается от «серпастого и молоткастого». У него были всевозможные ксивы, и разрешенные доступы куда угодно, и бумажка с просьбой о содействии, подписанная каким-то высоким английский военным чином. Кроме того, у него еще была машина, за которую не надо платить шесть тысяч долларов, потому что ее честно выдали в корпункте Би-би-си, и спутниковый телефон, и постоянная линейка для выхода в эфир – мечта любого журналиста.
Работа на иностранцев подразумевала «право первой ночи». Никто, кроме Би-би-си, не мог посягать на отснятые Беляевым материалы, а он как-то ухитрялся мухлевать – снимал для Российского телевидения. Бахрушин его об этом еще в Москве попросил, и он согласился.
Вот этого Ольга никак не могла понять.
Она потом несколько раз приставала к оператору с неизменным вопросом, почерпнутым из фильма всех времен и народов под названием «Покровские ворота»:
– Савва, а зачем тебе нужно, чтобы я у вас жил?!
Но он только хохотал, показывал крупные белые зубы – и не отвечал.
Так и осталось невыясненным, зачем это нужно «Савве», то есть Ники. Если бы в Лондоне узнали, выгнали бы его немедленно. Если бы прознали в Москве – кто-то, кроме Бахрушина, – выгнали бы немедленно. Куда ни кинь, всюду клин.
Но Бахрушин попросил, и Ники согласился.
Наверное, это было что-то из «особого мужского мира», в правилах которого, не будучи мужчиной, разобраться невозможно.
Трудно найти оператора, который сумел бы хорошо снять войну. Еще труднее найти такого, который согласился бы снимать войну. И невозможно сделать это быстро. У Бахрушина не было выхода – Ники позвали на Би-би-си примерно недели за две до войны, – и оказалось, что отправлять в Кабул решительно некого. То есть были несколько патлатых, худосочных и гениальных юнцов, мечтающих о мировой славе – «Быть может, меня наградят. Посмертно», – но Бахрушину они никак не годились.
Ольга не припомнит больше ни одного случая, чтобы оператор так работал – и нашим и вашим, – но Ники это как-то удавалось.
Если станет известно в Москве, все скажут, что Бахрушин его «подставил», потому что он любовник его жены.
Ужас.
Ники любил это слово, и Ольга иногда повторяла его за ним.
– А Толян-то, – сказал Ники издалека, – приперся! Все ему знать надо, куда мы едем, да зачем!..
– А как же? Он проворонить боится, вдруг нам Бен Ладен интервью обещал. Мы снимем и прославимся.
– Сказал бы я, чего он и кому обещал, да воздержусь пока. Здесь женщины и дети.
Ольга усмехнулась.
– Ну что? Сначала за посылкой, а потом сюжет, или сначала сюжет, а потом за посылкой?
– Как хочешь, Ники.
– Что важнее, – продолжал веселиться оператор, – деньги или стулья? Утром деньги, вечером стулья. Утром стулья, вечером деньги.
– Ники, ты что? Обалдел? Какие стулья? Какие деньги? – Я давно обалдел. Какого хрена я на эту войну езжу?! Да еще на чужую? Вот чего мне не хватает? Почему я не могу, как все люди, снимать ток-шоу «Все дело в перце, или Поговорим про это»? Куда меня несет?
– Я не знаю.
– А кто знает?! – вопросил Ники оскорбленным голосом. – Дед Пихто?!
– Должно быть, ты рвач и выжига, – предположила Ольга лениво. – И деньги для тебя самое главное в жизни, и страсть к стяжательству и наживе в твоих мозгах затмевает все остальное.
– Я рвач и выжига, – согласился Ники. – Это всем известно, хоть у кого в «Останкино» спроси. Но жизнь-то одна!..
– Это точно.
– А тогда зачем мне…
– Ты мне надоел, – перебила его Ольга. – Давай поедем уже, если ты рассмотрел себя в зеркале.
– Да я и не рассматривал.
– Да ты только и делал, что собой любовался. Толя Борейко чуть шею не свернул. Наверное, решил, что ты голубой.
– Может, он сам голубой. А, говорят, знаешь, кто голубой?..
– Ники, мне наплевать, кто голубой, а кто зеленый!
– Ну вот, – пробормотал оператор и выдвинулся на середину комнаты – пятнистые камуфляжные штаны, майка, бывшая когда-то черной, но от пота и солнца ставшая рыжей, бандана на отросших кудрях. Вид вполне мужественный и вызывающий жгучее уважение к самому себе, как у заправского американца.
Ольга была совершенно убеждена, что эта великая нация достигла своих великих высот, потому что каждый ее гражданин, глядя на свое отражение в зеркале, истово и с удовольствием уважал себя – и так на протяжении нескольких столетий.
– Поехали сначала в Евровидение. Сюжет потом, да и снимать нечего.
Со дня на день ожидали штурма Кабула «войсками талибов и моджахедов», но пока не происходило ничего такого– по окраинам постреливали не только ночью, но и днем, пыльные БТР время от времени мчались неведомо куда, и все замирало – началось, не началось?.. А еще Ольга решительно не могла понять, чем отличаются «свои» от «чужих» – те же злые настороженные глаза, те же бороды почти до гладких загорелых лбов, та же гортанная речь.
Говорят, что «чужие» довели страну до ручки. Ольга вовсе не была уверена, что «свои», перехватив инициативу, не доведут страну «до ножки», или до чего они еще могут ее довести, по логике?..
«Ровер», принадлежавший Ники, то есть Би-би-си, всегда стоял в одном и том же месте, прямо за гостиницей, во дворе какого-то странного дома. Он был необитаем и напоминал советский долгострой конца семидесятых, но почему-то считался «безопасным» – почему?.. Впрочем, «ровер» там прекрасно себя чувствовал, с ним никогда ничего не случалось, и Ники каждый раз, встречаясь с ним утром, любовно хлопал его по пыльному крылу, как будто это была не машина, а лошадь.
До корпункта Евровидения было не слишком далеко – если ехать как положено, по улицам, но «как положено» ехать не разрешалось. Надо было в объезд, через несколько КПП, с предъявлением ксив и физиономий. Ксивы предъявлялись в развернутом виде, а физиономии без солнечных очков, и Ольге всегда становилось не по себе, когда в нее впивались темные странные глаза проверяющего.
Мы никогда не найдем общего языка. Никогда. Мечты об этом – утопия. Мы не готовы жить, понимая их, а им нет до нас никакого дела. Нас для них нет. Есть только некая цель – переделать мир так, чтобы он стал похож на Кабул в данную минуту. В этом мире можно будет только одно – воевать, а именно это и есть то, что они умеют и делают лучше всего.
Ужас, сказал бы Ники.
Машину сильно трясло на разбитой дороге. Ники под настроение любил так ездить – «без башки» это называлось на мужском языке. Ольга держалась руками за щиток и думала о посылке – вот интересно, есть там колбаса или нет?! – о разбитой дороге, о том, что снимать нечего, и о Бахрушине, конечно.
Думала примерно так – как он там, без нее? Невозможно было вообразить ничего глупее этого вопроса, но ей почему-то только это шло в голову. Колесо тряслось и прыгало на капоте в такт ее мыслям, серое от грязи. Мысли тоже были какие-то серые. Вчерашний дождь превратил пыль в грязь, зато во дворе гостиницы обнаружились несколько чахлых кустиков с робкими цветочками. Ольга долго на них умилялась.
– Может, связь сегодня восстановится, – пробормотал рядом Ники и вдруг повернул руль, сильно выкрутив кисть, и нажал на тормоз. Ольга чуть не ткнулась лбом в щиток.
– Ты что?!
– Остановка по требованию. Не видишь, что ли?
Ну да, конечно. Первая проверка документов.
Их долго рассматривали, особенно Ольгу – как лошадь или ишака, которого собираются купить на базаре, – пристально, оценивающе, но довольно равнодушно. Все равно ведь не человек, а лошадь или ишак! Какие-то оборванные дети перестали бегать друг за другом, подошли и тоже стали смотреть серьезными взрослыми равнодушными глазами.
– Черт, – пробормотала Ольга.
– Да ладно, – не поворачиваясь, сказал Ники, – в первый раз, что ли?
Документы зачем-то понесли в фанерную будку, именно Ольгины, Беляеву вернули сразу – Би-би-си есть Би-би-си.
– Ники, – негромко сказала Ольга, – вот ответь мне, почему от тебя никогда никому ничего не надо, а от меня всегда и всем?!
– Баба на войне, – все так же не глядя на нее, начал Ники. – Это раз. Русская. Это два. Красивая, это три.
– Мне кажется, что просто они не уважают меня как представителя моей страны.
Ники коротко глянул на нее и опять перевел взгляд на «ровер», чтобы не пялиться на детей, молча стоявших вокруг, и на проверяльщиков.
– Они вообще никого не уважают как представителя какой-то страны. Англичан боятся. Американцами пользуются. То есть это им кажется, что пользуются.
Бородатый афганец показался на пороге будки и повелительно махнул Ольге рукой. Она медленно подошла, а Ники остался. Она спиной чувствовала, как он вдруг напрягся, даже мышцы вздулись, и паника выползла из-под машины, задрала плоскую змеиную голову, разинула отвратительную пасть.
Афганец что-то длинно сказал – у него были дерзкие глаза и веселый рот. Это был самый страшный афганец из всех, кого она видела. Почему-то стало совершенно ясно, что ему ничего не стоит вернуть ей документы или перерезать горло. И то, и другое действие не потребует от него никаких усилий.
Он ткнул в ее сторону бумагами и опять что-то сказал.
– Что? – по-английски спросила Ольга.
– Куда?.. – он выговорил простое слово с таким трудом, что она поняла не сразу, а следовало бы понять, чтобы не раздражать его.
– Евровидение.
Он посмотрел в бумаги, потом обернулся и что-то громко прокричал внутрь каморки, махнул рукой, засмеялся, сунул бумаги ей почти в лицо. Она отшатнулась и перехватила их унизительным быстрым подчиненным движением, а он повернулся и ушел.
Спина у нее была совершенно мокрой.
Ольга вернулась к «роверу», возле которого курил Ники, и, не глядя друг на друга, они забрались в высокую машину и проехали железный задранный шлагбаум. Никто не давал себе труда ни поднимать, ни опускать его.
– Я больше не могу.
– Да ладно.
– Не могу я больше.
– Не можешь, – неожиданно жестко сказал оператор, – давай тогда первым рейсом в Душанбе, а оттуда в Москву! Снимешь сюжет про выставку собак, мне сюда перегонишь, я оценю.
– Я не умею снимать собак.
– Не умеешь, тогда снимай то, что снимаешь сейчас. «Не могу» скажешь, когда в Москву вернемся. Логично?
– Логично.
В корпункте Евровидения наблюдались оживление и бурная активность – и то, и другое было неотъемлемой частью данного корпункта, так сказать, его визитной карточкой и лицом.
Ольга понятия не имела, где и у кого станет искать здесь посылку. Попался знакомый журналист с TF-1, но он ничего не знал о посылке, слышал только, что вчера пришел конвой из Ходжа-Багаутдина, с ним кто-то приехал, а кто… ищите сами.
Ники из поисков моментально выключился – флиртовал с прибывшими француженками. То, что они только прилетели, было видно за версту – ухоженные гладкие лица, чистенькие джинсики, косыночки, шарфики, маникюр и общая радость жизни. По сравнению с ними Ольга моментально почувствовала себя грязной оборванной старухой. Все вместе они весело и неправильно говорили по-английски, ибо Ники по-французски вовсе не говорил, а она, всеми забытая и покинутая, двинулась дальше искать свою посылку.
Именно так она о себе и думала в данный момент – покинутая и забытая.
После нескольких бесцельных заходов в заполненные людьми тесные комнатенки с голыми стенами и неизменными циновками на серых глиняных полах посылка нашлась. Ее прислала какая-то неизвестная Валя из Парижа. Ольга понятия не имела, что это за Валя и откуда она взялась. К коробке прилагалось письмецо в длинном конверте, и Ольга села прямо на пол в людном коридоре, чтобы прочесть его как можно скорее.
Бумажка была хрусткая и беленькая, похожая на тех самых француженок, и еще добавила Ольге уныния.
«Оленька, – было набрано стандартным компьютерным шрифтом, – я узнала, что ты в Афганистане. Мне сказал Рене Дижо, с которым ты в прошлом году летала в Пхеньян. Я очень за тебя волнуюсь. Робер улетает в Кабул, и я решила с ним отправить тебе небольшую посылку. Здесь все, что ты любишь, а на кассете наш последний выходной в Довиле, помнишь? Я не знаю, можно ли передавать через границу кассеты, но даже если она пропадет, не беда, у нас есть копия. Возвращайся скорее и немедленно позвони мне, как только появишься в Москве, я беспокоюсь о тебе. Валя Сержова. Сто лет не виделись!»
Ольга дочитала до того, что они так долго не виделись, и стала читать сначала. Дочитала и опять начала.
Тут в коридор влетел Ники. Очевидно, у француженок обнаружились какие-то дела, сам бы он от них ни за что не отстал – Казанова чертов!..
Он пробежал глазами толпу, Ольгу не заметил и рванул было дальше, но вернулся – попятился, вытягивая шею, споткнулся, чуть не упал, толкнул толстого дядьку в оранжево-желтом одеянии буддийского монаха и пробормотал почему-то:
– Пардон, мадам.
– Какая я тебе мадам! – возмутился дядька по-русски. – Мадам!.. Осатанели все!
– Ты чего тут сидишь? – спросил Ники у Ольги.
– А где мне сидеть?
– Где посылка?
Ольга кивнула на белую коробку, и Ники моментально подхватил ее – должно быть, чтоб не сперли. Посылка была довольно тяжелой.
– А что там есть? – Одной рукой Ники держал коробку, а другой пытался подковырнуть крышку, чтобы посмотреть. Вдруг там и вправду колбаса, или чай, или ветчина в большой розовой банке, или…
– Там кассета о нашем последнем дне в Довиле.
Ники перестал ковырять крышку и снизу вверх мотнул головой, спрашивая – ты о чем?
– О… каком дне в Довиле?..
– Последнем. Ты что, не слышал?
Ольга поднялась и отряхнула пыльные ладони о пыльные джинсы.
– Пошли, Ники.
– Дай почитать.
Он выхватил у нее письмо, пробежал глазами, сунул ей обратно и перехватил коробку.
– Ну и что тебя смущает? Письмо как письмо. Видишь, она в беспокойстве. Ребят нашла, чтобы они тебе ящичек передали. Слушай, а когда ты в Пхеньян летала?..
Пропустив вперед каких-то молодых мужиков в камуфляже, они выбрались во всегда запруженный народом двор Евровидения и зашагали к «роверу».
– Ольга!
– А?..
– Что-то я забыл про Пхеньян.
Они остановились возле машины, и Ники поставил коробку на капот. Ольга посмотрела на него.
– Ники, я никогда не летала в Пхеньян. Я никогда не была в Довиле. Понятия не имею, что это за «последний день». Чушь какая-то.
Ники почесал руку, а потом шею.
– Ну, черт его знает… Может, ты забыла просто…
– Ники, ты когда вернулся из Сердобска?
Он сверху глянул на нее и пожал необъятными плечами.
– Ну да. Ты не была в Пхеньяне, а я не был в Сердобске. Ты точно знаешь, и я точно знаю. Логично.
Она полезла в машину, а Ники затолкал посылку на заднее сиденье и плюхнулся рядом с Ольгой.
– Давай только сразу посмотрим, что там, – попросил он жалобно и запустил двигатель.
Ольга рассеянно кивнула.
Он сдал назад, дернул рычаг и стал осторожно выбираться из многолюдного двора.
– Ну, и что это за Валя? Откуда ты ее знаешь?
– Ники, – сказала Ольга, помолчав секунду. – Я не знаю никакой Вали.
– Алексей Владимирович, Песцов на второй линии. Поговорите?
Бахрушин читал бумаги и не сразу сообразил, кто и чего от него хочет. Он некоторое время смотрел на огромный плазменный экран, в котором без звука шел сериал про хороших бандитов и плохих ментов – краса и гордость нынешнего сезона, – потом перевел взгляд на свой мобильный телефон, а после на селектор.
– Алексей Владимирович?..
– Да, – сказал он, сообразив. – Поговорю.
Разговор был не слишком приятным, но тянуть с ним Бахрушин не стал – он никогда не тянул с трудными вопросами, предпочитал решать их быстро и часто из-за этого попадал в ловушку. Для некоторых трудных вопросов требовалось время, и больше того, по прошествии этого самого времени их можно было вовсе не решать. Он знал это и все равно предпочитал не тянуть.
Песцов был «директором дирекции развлекательных программ» – вот как красиво и благозвучно называлась его должность! – и хлопотал о деле, в которое Бахрушину ввязываться не хотелось. Бахрушин должен был или сию же минуту сказать, что он Песцову не помощник и не соратник, или, наоборот, взять на себя все его проблемы.
– Алексей? – Здравствуй, Паша.
– Ну, как там Ольга?
Бахрушин помолчал – дежурный вопрос, должен последовать дежурный ответ.
– Все нормально, спасибо, Паша.
– Я вчера в восьмичасовом выпуске видел ее. Материал был хороший.
– Хороший, – согласился Бахрушин. Зажигалка лежала далеко, и он рассматривал стол, соображая, чем бы ее подцепить. Попалась газета «Коммерсант», и Бахрушин подцепил ей.
– А снимал кто?
Он прикурил и, скосив глаза, посмотрел на кончик своей сигареты.
Это что за вопрос – Пашу Песцова тоже до смерти интересует связь его жены с оператором или он узнал что-то? Или вообще этот вопрос просто ни о чем?
– Я точно не знаю, это, по-моему, вообще чье-то чужое видео. А что, Паш?
– Да нет, ничего. Леш, я, собственно, почему тебе звоню…
Как обычно, в любых подковерных играх, в которые в разной степени играли абсолютно все, требовались конспирация и осторожность. Паша Песцов законспирировался как следует.
– Я поговорить хотел, только в городе где-нибудь.
«В городе» означало в каком-нибудь ресторане, часа три, а то и больше, с шептанием друг другу в уши. Бахрушин терпеть этого не мог, обедал там только с журналистами, которых невозможно было выносить «в кабинетном формате» – они, как мартышки в клетке, начинали метаться, косить глазами, бросаться на стены, рассыпать по полу пепельницы и опрокидывать чашки.
– Паш, ты приходи лучше ко мне.
– К тебе? – усомнился Песцов.
Должности у них были абсолютно равновеликие, согласно штатному расписанию. Песцов – директор дирекции развлекательных программ. Бахрушин – директор дирекции информационных. Однако согласно неписаным телевизионным законам Бахрушин был почти бог, а Песцов – простой чиновник. Информация есть информация.
– Леш, ну в кабинете неудобно, ты же понимаешь.
– Тогда давай по телефону, – предложил Бахрушин, у которого не было никакого резона облегчать Паше жизнь.
Вот на этом месте Песцову все должно было стать ясно и понятно, но не стало, или он сделал вид, что не понял.
– По телефону нельзя, – сказал он приглушенно.
Бахрушин стряхнул пепел с сигареты, повернулся с креслом к окну и посмотрел.
Шел дождь – «редкое» явление для октябрьской Москвы! Он шел так давно и нудно, что казалось, весь город канул внутрь дождевой тучи. Жить в брюхе у тучи было нелегко и безрадостно – дождь, и серость, и мокрые зонты, и светофоры, отражающиеся в асфальте, и темнеет уже в пять, и тоска такая, что тянет прыгнуть с какого-нибудь моста в серую, холодную асфальтовую воду.
– Паш, у меня расписание на эту неделю…
– Да мне буквально на… несколько минут.
Тут Бахрушин решил, что точно чего-то недопонимает.
– Паша, ты что? Если ты про обращение, то я не стану его подписывать. И обсуждать не хочу. Я уже принял решение.
– Леша, ты что… по телефону?!
Бахрушин смял в пепельнице сигарету, прижал трубку ухом и вытащил из пачки следующую.
Надо же чем-то заниматься. Вот хоть курить, раз уж работать не дают.
Время от времени все подписывали «обращения» – то к президенту страны, то к премьеру, то к кому-нибудь попроще, например, к министру печати или к председателю Российского телевидения. К премьеру и президенту «обращались» с убедительной просьбой сместить министра или председателя. К министру – с просьбой повлиять на правительство и президента. К председателю – с просьбой «остановить беспредел в компании», улучшить, углубить, усугубить, а лучше бы всего, конечно, денег прибавить. Бахрушину ловко удавалось подписаний избегать – он точно знал, что денег не прибавят, а профессионализм и чувство юмора все как-то не давали ему сосредоточиться на проблемах «космического масштаба». У него полно было своих проблем, масштаба вовсе не космического, а как раз очень приземленного – вот вчера перед вечерним выпуском зависла система «New Star», а в ней работают все компьютеры, задействованные в подготовке выпуска.
Паника, катастрофа, у выпускающего инфаркт, с бумажки читать все давно разучились, в глазах ужас и предчувствие конца света, и взять себя в руки никто не может. Всех в руки взял Бахрушин – и ничего. Вышли в эфир, и новости были как новости, и ведущая как ведущая, чуть бледновата только и излишне много улыбалась.
Бахрушин понюхал дым от собственной сигареты, еще покрутился в кресле, удобнее устраивая спину, и прислушался к Паше в трубке.
Он гудел о том, как опасна «открытая связь».
– Ну, тогда пока, – неожиданно решительно попрощался Алексей Владимирович, вклинившись в паузу, во время которой Песцов, специалист по паролям, явкам и конспиративным квартирам, набирал в грудь воздуху.
– Нет, как пока!.. Леш, я хотел с тобой на самом деле… поговорить.
– Ну, приходи, – с досадой предложил Бахрушин во второй раз за время их плодотворной и интересной беседы. – Поговорим. Только если не про обращение.
– Да нет, – вдруг сказал Песцов, – не про обращение. Про Храброву.
Бахрушин перестал качаться в кресле.
Храброва? Алина? Что такое с ней?
– А… что ты хотел про нее узнать?
– Я тебе скажу… не по телефону.
Дался ему этот телефон!..
Бахрушин положил трубку и подумал немного до того, как нырнуть в бездонную пропасть бумаг и компьютера.
Алина Храброва была новым сотрудником – он принял ее на работу всего месяца полтора назад, но знакомы они были давно.
Звезды такого масштаба очень медленно перемещаются по телевизионному небосклону и редко покидают свои орбиты – разве что перед эпохальными событиями вроде выборов, войны или «конфликта хозяйствующих субъектов». Последнее стало особенно актуальным как раз в минувший год.
Новый сотрудник Алина, знаменитая ведущая новостей, узнаваемая, как циферблат часов Спасской башни в новогоднюю ночь, была и осталась «символом страны».
Ее улыбку знали все. Ее манеру говорить – очень правильно, глядя прямо в глаза, – ее привычку наклонять голову и переспрашивать, и чуть-чуть щурить карие горячие веселые глаза изо всех сил копировали звездочки поменьше и побледнее, и всем им это приносило успех и признание. Но она оставалась первой, единственной, неповторимой. Все остальные дамы-ведущие на шаг от нее отставали.
Никто не знал, почему вдруг она решила поменять один канал на другой. Бахрушин поймал несколько слухов – вернее, специально для него поймали знающие люди, – внимательно изучил, оценил и отверг. Ни один из них в качестве реальной причины не годился. Генеральный продюсер четвертого канала, с которого она переходила на второй, тоже проявил невиданную деликатность, дескать, она просто решила поменять работу, и мы не можем ей в этом препятствовать, она звезда, а мы подмастерья, ремесленники и всякое такое!
Бахрушин повстречался с продюсером, тем самым, генеральным во всех отношениях, и осторожно навел справки – с кем ему угрожает насмерть рассориться, если он пригласит Храброву на свой канал.
– Да нет, старик, – сказал генеральный тоскливо. Он пил водку, и лицо у него было несчастным, как будто пить ему не хотелось, а кто-то нарочно в него вливал. – Ты не беспокойся. Политики никакой.
– А экономика?
– Что значит – экономика?
– Ты сколько ей платил? Миллион долларов в год?
– Ты что, старик, – обиделся продюсер, – у нас миллион сам знаешь кто получает…
– Больше или меньше?
– Да ладно, – окончательно оскорбился продюсер, – что ты, смеешься надо мной, что ли!
Бахрушин не смеялся, но должен был выяснить все до конца. Алина Храброва, если бы только все сложилось, стала бы бесценным приобретением для канала – бесценным, но все же не на миллион долларов!
– Если экономики и политики никакой, тогда что? Личная жизнь?
– А вот тут я тебе, старик, ничем помочь не могу.
Бахрушин смотрел, как генеральный морщится, опрокидывая в себя водку, длинно и продолжительно глотает и морщится еще больше.
– Почему? Все так секретно? Или так… высоко?
– Да я не знаю, правда, Леш! Вот те крест! – И продюсер размашисто перекрестился, покосившись на рюмку. – Из наших она ни с кем… не спит, это точно, я бы знал. Любовь-морковь если только на стороне какая-нибудь, не на работе. Говорят, муж ее кинул, или она его кинула, но вряд ли из-за мужа она стала бы работу менять…
Конечно, быстро подумал Бахрушин, что там муж – работа, работа, работа страсть моя, как в пьесе Сергея Михалкова! Какой муж – или какая жена! – сравнится с ней!
– А кто муж?
– А никто. Бизнесменчик какой-то, что ли. Или журналистик, но не из наших.
Бахрушин навел еще кое-какие справки, поговорил там и сям – и Алина уже полтора месяца работала в «Новостях» на втором канале.
Алексей решительно не понимал, какое дело Паше Песцову, директору развлекательной дирекции, до Алины Храбровой?
Погружаясь в пучину срочных бумаг, он мельком подумал, что сегодня должно быть «прямое включение» из Кабула – «прямое включение» его жены. Он только так и мог об этом думать – мельком.
Когда же это кончится, черт побери все на свете!
Никогда. Никогда.
– Алексей Владимирович, Зданович на третьей линии. Поговорите?
– Да.
– Леш, привет.
– Привет.
– Мы сегодня даем Грозный или хватит Афгана?
– Хороший вопрос, – пробормотал Бахрушин.
Грозный или Афган? Там война и тут война. Там беда и тут беда.
Только вчера на совещании в Минпечати всесильный, великий и могучий Дмитрий Юрьевич Потапов тихим голосом интеллигента и недотепы говорил о «балансе плохих и хороших новостей», о преобладании «чернухи», о том, что «народ устал» и ему, народу то есть, надо что-нибудь повеселее, поживее, полегче!.. Евгений Петросян и передача «Шутка юмора» – то, что надо! Только вот как это с информацией совместить, министр не объяснил. Наверное, забыл, а может – о, ужас! – и сам не знал.
– Леш, ну чего?..
– А что там в Грозном?
– Да все то же. Нового ничего.
– Что в Грозном сегодня, Костя? – чуть настойчивее спросил Бахрушин, и Костя послушно зашелестел бумажками и забубнил.
– Можно к тебе, Алексей?
– Да, заходи, Паша.
Главный сменный редактор все бубнил. Пока он бубнил, Бахрушин принял решение.
– Кость, давай так. Значит, в свете новых установок Грозный пусть идет сообщением. Храброва прочтет, и все. А из Кабула сюжет.
– Ладно.
Бахрушин помолчал немного. Песцов прямо у него перед носом возился в кресле, доставал сигареты. Мешал.
– Связи так и нет?..
Он отлично знал, что нет.
– Леш…
– Да, все понятно. Пока. На эфир я приду.
Бахрушин пристроил трубку на многокнопочный телефон и с тоской посмотрел на бумаги – с утра не убавилось нисколько.
– Меня тоже писанина замучила, – Песцов сочувственно кивнул на стол. – Пишем и пишем, писатели!.. Говорят, что у нас канал плохой. А когда нам каналом заниматься, если мы вон… пишем!
– Все каналы плохие, Паша. Один только и есть хороший. «Евроспорт» называется.
– Это точно.
Помолчали, порассматривали каждый свою сигарету – довольно глубокомысленно. Бахрушин твердо знал, что первым никаких расспросов не начнет – он Песцова не звал, тот сам напросился, пусть теперь и объясняет, зачем.
Песцов еще покурил и посмотрел на Бахрушина.
– Ну? – спросил тот. – И что ты хотел узнать?
– Леш, ты… хорошо все прикинул, когда Храброву на эфир брал?
Бахрушин ничего не понял.
– Ну… да. А что?
– Да ничего такого, конечно, но… шут ее знает. Она почему с четвертого ушла?
– А в чем дело?
– Да ни в чем, только до меня слухи дошли, что… обижаются некоторые.
– Кто это… некоторые?
– Да наши ведущие, которые у нас уже много лет работают. Говорят, Бахрушин взял звезду, потому что у канала рейтингов никаких нет, а теперь будут… из-за нее.
– А это плохо? – уточнил Бахрушин.
Песцов помолчал:
– Что плохо?
– Ну, что у нас рейтинги будут?
– Да не о них речь, а о том, что она так себе ведущая-то, раскрученная только, а на самом деле ничего особенного. И говорят, что ты ее взял на какие-то бешеные бабки и теперь…
– И теперь она со мной спит, – подсказал Бахрушин скучным голосом, взял карандаш, постучал им по столу и посмотрел на место, по которому только что постучал. – А с моей женой в Афганистане в это время спит Беляев. А когда жена прилетит, мы будем спать втроем. Нет, вчетвером. С Беляевым. Ты это мне хотел рассказать?
Песцов смотрел на шефа информации с изумлением, а тот все постукивал карандашом, и непонятно было, почему постукивает.
– Леш, ты что? Обиделся?
– Если бы я на такие вещи обижался, Паша, меня бы давно перевели в народное хозяйство, как один мой приятель говорит.
Тут Песцов вдруг сообразил, что как-то так получается, будто он именно за этим и пришел – расспросить Бахрушина, не спит ли тот с Алиной Храбровой, – и перепугался.
– Нет, Леш, ты не понял ничего!
– Чего я не понял?
– Леш, я разговаривал тут с нашими, и они все от нее… не в восторге. Тем более ты ее сразу на большие деньги посадил, без всякого испытательного срока, без…
– Храброву на испытательный срок брать?!
– А чем Храброва лучше других?
– Да всем!
– Ничем она не лучше, Леша, просто выскочила вовремя, а теперь только купоны стрижет! Ну, улыбка у нее, зубы… бюст тоже…
– Мозги, – подсказал Бахрушин мрачно. – Когда бюст без мозгов, это «Фабрика грез», а не Алина Храброва.
– Леш, да ладно тебе!
Странный был разговор, и Бахрушин вдруг холодно подумал – странный.
Какое дело Песцову до Храбровой? Кто эти «наши», с которыми он разговаривал? Какое отношение это имеет к Паше?
Корпоративная этика ничего такого не допускала – дирекция развлекательных программ, несмотря на то что размещалась на соседнем этаже, не имела к информации никакого отношения, и ее директор к Бахрушину тоже никакого отношения не имел, хотя обе дирекции были телевизионными структурами. Гораздо более тесные отношения связывали информацию, например, с Российским радио, хотя они были далеко, в Останкине.
Бахрушин перевернул в пальцах карандаш и нарисовал цветок розу. Роза оказалась похожей на кочан капусты, но Бахрушина это не смутило, и он стал методично ее раскрашивать.
Песцов молчал.
– Ну чего, Паша?..
– Да ничего… Леша. Только зря ты взял ее. Все говорят – зря. Ты же не знаешь, кто за ней стоит.
– И кто стоит?
– Леш, она же не сама по себе столько лет звезда! Ее же этот тащит…
И Паша Песцов показал глазами на потолок и немного вбок.
Бахрушин следом за ним посмотрел на потолок и немного вбок. Там была сплошная побелка и темная штучка противопожарной сигнализации, а больше ничего.
Интересно, сегодня удастся поговорить с Ольгой или опять нет?.. И хорошо бы Зданович сам написал информашку по Грозному или Храброва бы написала – так надо, чтобы было похоже на человеческую речь, а как написать про войну, чтобы и интересно, и за душу брало?!
– А ты ни с кем не посоветовался и взял!
– С кем я должен был советоваться?
– Да хоть… с Потаповым.
Бахрушин вдруг рассердился.
– Паша, я ни разу за десять лет не согласовывал своих ведущих с министром печати и информации! Что тебе надо, давай говори уже, и… мне работать нужно.
– Ты напрасно взял на наш канал Храброву, – тихим и злым голосом сказал Песцов. – Просили передать. Напрасно.
– Кто просил передать?!
– Да ладно, Алексей, ты маленький, что ли?!
Бахрушин смял свою розу, похожую на кочан капусты, прицелился и метнул ее в урну.
– Кто?
– Леша, ты чего, не знаешь, кто ее двигает, твою Храброву?!
– Если речь о Баширове, знаю. Только мне нет до него дела, Паша. Она профессиональный телевизионный ведущий. Самый лучший в этой стране.
– Прежде всего она баба! – вдруг почти взвизгнул Паша Песцов. – Она баба, которую поддерживает Ахмет Баширов, а ты ее на работу берешь!
– Я беру, я, а не ты, Паша! Чего ты так взбаламутился-то?!
– Короче, просили тебе передать, что это большая ошибка с твоей стороны. Пока не поздно, лучше бы…
– Кто просил?!
– А это ты сам, Леша, догадайся. Мне никого смысла нет… Ты же герой, всех умнее, – раз, и Храброву на работу взял!..
На столе, почти под локтем у Бахрушина зазвонил мобильный, и они оба вздрогнули, как будто и впрямь вели секретный разговор.
Рассердившись на себя, Бахрушин двинул локтями, чуть не свалил трубку на пол и, наконец, нажал кнопку:
– Да!
Звонила как раз Храброва.
– Лешка, привет!
– Привет, – буркнул Бахрушин.
– Ты что? Занят? Давай я тебе перезвоню через час или когда?!
– Алин, я свободен. Давай. Что у тебя?
Паша Песцов не донес сигарету до рта, округлил глаза и сделал встревоженно-вопросительное лицо. Бахрушин повернулся в кресле и стал смотреть в окно.
– Точно свободен? У тебя голос странный.
Если она сейчас скажет, что мы с ней тоже должны поговорить не по телефону, вдруг подумал Бахрушин, я заплачу.
…Позвонит Ольга или не позвонит?
– Лех, смотри. Зданович мне сказал, что репортажем пойдет Афган, а из Чечни только информашка.
– Ну?
– Лех, давай наоборот, а? Нам такое видео из Грозного перегнали – сказка!
– Что за видео и кто перегнал?
– Наши перегнали, а картинка… – она коротко вздохнула, – как МЧС дома там строит, ну, собака бежит, ребенок стоит чумазенький. Еще склад оружия, который нашли вчера…
– Вчерашний склад вчера и показали.
– Да знаю, но там, правда, видео замечательное!
– Алин, я тебе верю, но сегодня, как запланировано, пойдет Афган в прямом эфире, а про Грозный ты так прочтешь, на видеоряде.
Храброва помолчала в трубке, оценивая бахрушинскую серьезность – все сотрудники знали, что, если голос твердый, злой почти, договориться еще можно. Если равнодушный – никогда.
Все-таки она сделала попытку.
– А давай мы все-таки сюжетик соберем, ну, хоть на полторы минуточки…
Бахрушин перебил:
– Не давай и не соберем, Алин, этот вопрос решен. Все у тебя?
Алина Храброва была не просто «лицом в экране», она была руководителем программы и отличным журналистом – и всегда умела вовремя остановиться.
– Все, спасибо, Леха. Ты на эфир придешь?
– Конечно.
Она помолчала в трубке. – Я хотела тебя пригласить… поужинать, – вдруг сказала она. – Давай? Заодно поговорили бы.
– Давай, – согласился Бахрушин. – Только не сию минуту, ладно? Сию минуту я не могу.
– Ты не один, да? – догадалась сообразительная Алина. – Ладно, тогда после эфира.
Бахрушин кинул телефон на газеты и посмотрел на Песцова.
– Откуда она узнала, что я здесь?!
– Кто?! – оторопел Бахрушин. – Храброва? Как она могла… узнать?
– Вот именно – как?!
Бахрушин моргнул.
– Ну, ладно, Паш, все! У меня то ли Афган, то ли Чечня, а Дмитрий Юрьевич нам всем только что объяснил про взвешенную политику и про то, что выборы на носу!
– Почему она позвонила именно сейчас?!
– Потому что они программу верстают! Именно сейчас!
– Но откуда она узнала, что я у тебя в кабинете?!
– Да она не знала, она просто так позвонила!
– Храброва?! Просто так?! Леша, она ничего и никогда не делает просто так! И Баширов ей деньги не за «просто так» ссужает, а за определенные услуги!
– Ну, конечно, за услуги, а как же иначе, – пробормотал Бахрушин, незаметно придвигая к себе папку с надписью «Управление делами» на крышке. Папка была очень пухлая, вся разлезшаяся какая-то. – И я даже знаю, за какие.
– Да я тебе не говорю, что она проститутка!.. И не за это он ей платит, а за информацию!
– А-а, – протянул Бахрушин, – то есть она Ахмету Салмановичу стучит. А он передает ей агентурные данные о том, что ты у меня в кабинете. Ты что, Паша? С ума сошел?
Песцов поднялся, прорабским движением отряхнул колени и посмотрел на Бахрушина. Кажется, с сожалением.
– Ну, как хочешь, Алексей. Я тебя предупредил.
– Спасибо, – пробормотал Бахрушин, справа налево перекладывая в папке бумаги.
Песцов вышел, дверь прикрыл осторожненько, и сразу затрезвонил аппарат на столе. Бахрушин помедлил и нажал кнопку.
– Алексей Владимирович, к вам Наталья Ивановна и Шехов из пресс-службы заходил.
– Петровскую попроси через час, а если Шехов перезвонит, соедини.
– Хорошо. Кофе?
Бахрушин кивнул, и хотя секретарша не могла его видеть, он был уверен – поняла. Он держал сотрудников, которые понимали его не то чтобы даже без слов, но иногда и без взглядов.
В кабинете висел дым, от которого слезились глаза и сохло во рту.
Нужно бросать курить. Добром это не кончится.
Бахрушин отлично знал, что курить ни за что не бросит.
Он отшвырнул в сторону негнущиеся полоски жалюзи, дотянулся и открыл окно. Полоски ерзали по затылку и воротнику рубахи.
С улицы дохнуло холодом, запахом дождя и мокрого асфальта. Сквозняк дернул раму, которая глухо стукнула.
– Кофе, Алексей Владимирович.
– Спасибо, Марина.
Она дошла до двери и остановилась, с сомнением глядя в его сторону.
– Что ты? Вопрос? Ответ? Замечания?
Она улыбнулась.
– Зря вы окно открыли. Холодно на улице.
– Лучше холодно, но чтоб дышать, Марина. Или ты думаешь, у меня жабры? Как все хорошие секретарши, Марина боготворила своего шефа – в пределах разумного, конечно.
– Давайте я закрою окно и включу кондиционер.
Бахрушин решительно не хотел никакого кондиционера. Он хотел, чтобы было холодно, дождь шелестел и пахло мокрым асфальтом.
– Спасибо, не надо.
По тону она моментально поняла, что он хочет, чтобы его оставили в покое, и убралась за матовую дверь – у всех в компании были такие матовые двери, высший класс и суперлюкс, почему-то напоминавшие Бахрушину медпункт в пионерском лагере.
Он походил по кабинету, снял очки, сунул на полку и потер глаза.
Что это такое? Вот только сейчас – это что такое было? Паша Песцов не был похож на сумасшедшего, и Леша Бахрушин вроде пока тоже… Он поймал свое отражение в стекле – нет, не похож. Физиономия, конечно, малость перекошенная – от сигарет и судьбоносного разговора, но все же… довольно вменяемая.
Итак.
Паша Песцов позвонил ему полчаса назад и намекал на то, что у него «не телефонный разговор». Потом пришел и решительно поинтересовался, зачем Бахрушин взял на работу Храброву. В том, что Алина работает в «Новостях» на втором канале, не было никакой тайны – она благополучно выходит в эфир каждый вечер. Ее выпуск в двадцать ноль-ноль, самый прайм, ничего «праймее» быть не может. Тем не менее Паша почему-то счел разговор «не телефонным» и пришел «лично».
Паше не может и не должно быть никакого дела до информации – и не было никогда, по крайней мере, Бахрушин никогда Пашиного интереса к своим делам не замечал.
С кем он мог разговаривать про Храброву? Кто недоволен?!
Бахрушин вполне допускал, что недовольны все – собственно, кто будет доволен тем, что тебе на голову сел конкурент, да не просто сел, а отлично и удобно устроился – свесил ножки, угнездился, пристроил задницу как следует?! Алину взяли сразу руководителем программы и ведущей, и всем было понятно, что ведет она лучше всех и как руководитель программы тоже вполне сносна – значит, остальные что?.. Правильно, остальные хуже! И рейтинги вниз, и летучки, и собрания, и Бахрушин зол, как черт, и сменные редакторы каждую неделю по-новому молчат, потому что по-старому молчать не получается – из оскорбленных чувств.
Ну и что? Да ничего, собственно. Через полгода все привыкнут. Через год она станет неотъемлемой частью жизни канала.
Ее полюбят операторы, которые пока ее не любят и снимают кое-как, – но она так хороша собой и телегенична, что ее трудно сильно испортить. Кроме того – она всегда так сама о себе говорила, – Алина Храброва всегда отличалась от других своей «крайней вменяемостью». На прошлой неделе на очередном собрании коллектива смотрели запись какого-то эфира, где она выглядела скверно, – и понятно было, что просто «так сняли», плохо, гадко. Специально так сняли. Бахрушин бесился, а Храброва – ничего. Посмеялась, увидав чучело в кадре, подмигнула шефу операторов, оставшемуся вместо Ники Беляева, – шеф немедленно отворотился в угол, – и все дела.
Жаль, что ушел Беляев. Он умеет снимать – главный оператор «Новостей» как-никак.
После операторов ее полюбят редакторы – потому что она грамотная, а все редакторы это любят. И еще потому, что она делает за них почти всю работу, такое у нее представление о своих обязанностях, а это всегда приятно и как-то вдохновляет!
После редакторов ее, наконец, полюбят главные сменные, режиссеры, корреспонденты, гримерши, и мальчики и девочки на подхвате, которые, как флюгеры на крышах, всегда разворачиваются именно в ту сторону, в которую дует начальственный ветер.
Все это так. Все так.
Вот только объяснил бы кто, при чем тут Паша Песцов с его концертами, певицей Задирой, певцом Римасом, группой «Турбуленция» и развлекательным утренним шоу «Колбаса в шоколаде»?!
Получалось, что решительно ни при чем.
И почему он сказал – «просили передать»? Кто просил? Что за тайны мадридского двора?
О покровителе Храбровой знали все.
Ахмет Баширов был абсолютно законопослушный миллионер и налогоплательщик, легальный бизнесмен, отродясь не замеченный ни в каком криминале, очень милый и приятный во всех отношениях человек.
Однажды какой-то бойкий журналист в прямом эфире спросил, есть ли у него враги, – была такая история.
– Не-ет, – протянул милый и приятный Ахмет и ласково улыбнулся в камеру, – у меня врагов нет. По крайней мере, живых.
Никто не осмелился бы так ответить – да еще на всю страну, а он посмел, потому что был уж так силен, что дальше некуда. Говорили о его связях с «семьей», о Тимофее Кольцове, с которым у них пакт о ненападении, и еще говорили, что именно из-за пакта Кольцов – Баширов экономика страны пришла в некое равновесие, пусть и условное.
Кольцов – гроза и гордость державы – в списке олигархов шел номером первым, а Баширов никаким номером не шел, его как будто вовсе не было. Да и фамилия сомнительная, и акцент какой-то странный – гарвардский, сказала однажды Ольга, послушав его, – и подчеркнутая элегантность, как на приеме у королевы, – все было не то, ну никак он в русские олигархи не годился! В круг его интересов входили нефть, алмазы, отчасти шоу-бизнес и телевидение. Говорили, что телевидение его интересует исключительно из-за Храбровой.
Бахрушин всегда подозревал, что все наоборот – Храброва интересует Баширова исключительно из-за телевидения.
…Выходит, Паша Песцов в контакте с какими-то врагами Ахмета Баширова, которые озабочены назначением Храбровой и усилением его влияния на втором канале?!
Бахрушин даже засмеялся в тишине собственного кабинета – так странно все это было.
Нужно работать, и он, сделав над собой привычное усилие, вернулся за стол. Некоторая отсрочка от приведения в исполнение бумажного приговора получилась, потому что он сунул куда-то очки и не сразу нашел.
Пока искал, думал об Ольге. Как только нашел – перестал.
Он умел «выключать» мысли, которые мешали ему жить, на работе это получалось особенно хорошо. Именно поэтому он ненавидел вечера и ночи – нечем было занять свободное пространство в голове, именно поэтому он был рад, что Храброва пригласила его ужинать. Ну хоть еще два часа с «выключенными» мыслями.
Он всегда знал, что так будет. Он женат на Ольге и ее работе, а они обе – Ольга и ее работа – не могут существовать отдельно друг от друга. Как-то так получилось, что Алексей Бахрушин тоже не может существовать без них.
Он был бы просто счастлив, если бы ничего такого не случилось.
Он терпеть не мог зависимость и какую-то собственную недостаточность, кособокость, которая появлялась, когда Ольги не было рядом.
Как и все, он попал однажды в рай студенческого брака – съемная квартирка, матрас на четвертинах красных кирпичей, нелепая сетка с едой, вывешенная за окно. Много кофе, гостей, песен под гитару – как же без них! – интересных и очень умных разговоров и огненного секса.
Она читала Гауфа и жарила гренки из заплесневелого белого хлеба на тяжеленной чугунной сковороде, полученной в придачу к квартире. К сковороде все вечно прилипало намертво, и иногда они ели гренки, по очереди отдирая их вилкой от черного дна.
Та, первая жена им очень гордилась – он был отличник, староста курса, и преподаватели время от времени благосклонно интересовались, из каких он Бахрушиных, не из тех ли самых?
Он окончил университет и распределился в ГУВС – Главное управление внешних связей тогдашнего телевидения, как будто вместе с дипломом ему выдали пропуск в райскую жизнь, такое сказочное было распределение! Она распределилась в школу. Преподавать детям русский язык.
Все правильно. Училась она не так чтобы очень, приехала издалека и уехала бы обратно, если б замуж не вышла. За Бахрушина.
Дальше все было банально и скучно до ломоты в затылке.
Почему-то так получалось, что в Москве как будто всегда ноябрь – грязные лужи в бетонных берегах, автобусная давка, смрадная пасть метро. Тетрадки пачками на шатком столе. Гренки на чугунном дне древней сковороды. Много умных разговоров – чуть в другую сторону. Про подрастающее поколение и про легкое диссидентство, которым она очень гордилась, разрешив им не писать сочинение по «Что делать?». Директор ретроград и вообще склочная баба. Завуч вчера возле туалета на третьем этаже строил ей глазки. Онегин и Чацкий – лишние люди. Чуть меньше секса, потому что оба они стали очень заняты и, возвращаясь домой, неожиданно для себя сознавали, что можно лечь спать «просто так».
Он заскучал очень быстро.
Он просто не мог не заскучать.
На работе он был в центре, эпицентре и черт знает где.
Приезд Мирей Матье – он снимал, и разговаривал с певицей, и даже был на съемочное время допущен в свиту. Фидель пожал ему руку – он всем пожимал и Бахрушину тоже. Еще был первый в его жизни «паркет» – официальные съемки в Георгиевском зале, где кого-то награждали, – сияние ламп, белоснежные «маркизы» на окнах, сверкание бесценного паркета, всполохи фотоаппаратов и острые огоньки бриллиантов, словно коловшие глаза. Командировка – самолет, американские сигареты, коньяк в пластмассовом стаканчике, и очень умные разговоры, гораздо умнее тех, что на матрасе, и очень красивые женщины, гораздо красивее той, что…
Как он мог не заскучать?!
Только поначалу он еще не понимал, в чем дело, потому что не догадывался о том, какой это опасный вирус – телевидение. Ничем не оправданное чувство причастности к «большому», значительному, важному. Никто не был причастен, кроме самых высоких начальников, а Бахрушин тогда не был начальником, но иллюзия-то была!
Он больше не мог видеть тетрадки на столе и на подоконнике, и гренки ему надоели, а другого ничего ему не предлагали, потому что она тоже работала и от молодости и неумелости решительно ничего не успевала. И про завуча он знать ничего не желал. При этом слове ему представлялся его собственный завуч – толстая тетка в комсомольском костюме, с перхотью на синем воротнике, с пучком, из которого в разные стороны лезли шпильки.
А тогдашняя его жена неожиданно для него и для себя вдруг осознала, что самое главное в жизни каждого интеллигентного человека – протест. Причем она осознала это совершенно всерьез.
Бахрушин представлял себе протест совсем не так, как она, – например, в виде увязших в треске глушилок передач Би-би-си или «Немецкой волны» – отстраненные, холодные, правильные голоса, говорившие страшное.
Или, например, разговор в «первом отделе», ведавшем в университете, как, впрочем, и везде, «секретностью».
На четвертом курсе Бахрушина пригласили на разговор и задавали разные вопросы – как, к примеру, студент Подушкин? Надежен ли, с его, бахрушинской, точки зрения?
Алексей улыбался идиотской улыбкой и убеждал серьезного дядьку в тесной петле серого галстука, что студент Подушкин – душа компании, умница, но вот с успеваемостью у него, конечно… а так вполне… ему бы успеваемость подтянуть, и отлично… а так очень даже…
За Подушкиным последовал Ватрушкин, а за Ватрушкиным Лягушкин, и приблизительно на семнадцатой фамилии – отличный студент, душа компании, и с успеваемостью все хорошо! – Бахрушина вежливо проводили к железным дверям и с тех пор больше в «первый отдел» не вызывали.
Даже как-то и непонятно было до конца, выразил он таким образом протест или все-таки нет.
У жены с ее протестом вовсе вышел казус – оставила в учительской на столе репринтную копию «Красного колеса», почти слепой оттиск. Бахрушин, как ни пытался, так и не смог ничего прочесть, только моргал над папиросной бумагой близорукими глазами.
Дальше все было «по схеме», как говорили на кафедре вычислительной математики.
Заседание парткома и комитета комсомола. Валидол директрисе. Выговор завучу. Кому доверили воспитание будущих строителей коммунизма?! «Волчий билет» в перспективе. Слезы на диване, вместо ножек у которого по-прежнему были четвертинки кирпичей. Слезы и горячий шепот в ухо – давай уедем! Ну, прямо сейчас! Далеко-далеко! Ну, пожалуйста!
Он никуда не хотел ехать. Он вдруг почувствовал вкус легко складывающейся карьеры – его везде приглашали, он оказался лучшим корреспондентом «из молодых», его все хотели заманить к себе, и именно это было здорово, а не какие-то там идиотские проблемы с директрисой и подрастающим поколением!
С «протестом» тогда все обошлось – ее оставили на работе, объявили выговор по линии комсомола и вместо восьмых дали четвертые классы, все-таки год был уже не шестьдесят восьмой и даже не семьдесят шестой.
И все пошло, как и шло – тетрадки, диван, шалька на плечах, теплые боты, четвертинки кирпичей, умные разговоры, репринтная слепая копия «Архипелага ГУЛАГ».
Сам бы он ее ни за что не бросил – у него была модель «идеальной семьи», точная копия родительской, а у них не принято было разводиться – какой позор, какая безответственность!
Все вышло гораздо веселее и проще.
Бахрушин приехал домой рано, чтобы собраться в очередную командировку, и «застукал» свою жену с физруком – все на том же диване. Вернее, непосредственно дивана он не видел – но две пары башмаков под вешалкой выглядели красноречиво, и жена за тонкой стенкой хохотала мелким смехом. Из-за этого смеха все стало Бахрушину абсолютно понятно. Он постоял-постоял, послушал, морщась от отвращения, потом зачем-то стукнул кулаком в фанерные перекрытия.
Они издали непристойный пукающий звук.
От этого звука и оттого, что за стенкой сразу испуганно примолкли и затаились, Бахрушин почувствовал жуткую гадливость и перепугался, что его вырвет прямо в прихожей, на физруковы ботинки.
Все обошлось – он успокоился на удивление быстро, не пришлось даже делать ничего трогательно-драматического, напиваться, к примеру, или вызывать соперника на бой.
Схватку с физруком Бахрушин точно проиграл бы – тот был больше, тяжелее, смотрел исподлобья, «настоящий мужик», одним словом, и Алексею все время казалось, что тот едва удерживает себя, так ему хотелось наподдать «хлипкому интеллигентишке»!
Много лет после той истории он был неуязвим – то есть совсем. Были какие-то связи, вроде бы даже продолжительные и прочные, которые в одночасье обрывались, и он потом не мог вспомнить, почему.
Что-то ведь случалось, но вот что?.. Он никогда не помнил и считал – это оттого, что он холодный и непригодный к семейной жизни человек.
Так бывает. Кто-то пригоден, а он нет.
Он пригоден для работы – лучше всего.
Он пережил революции, сотрясавшие страну, – одну за другой, и остался на работе. В какой-то момент, когда было нужно, он ушел на радио и быстро сделал там карьеру. Голос, низкий и твердый, интонации как будто чуть ироничные, безупречный русский язык, – барышни во всех конторах, где, не выключаясь, день и ночь бубнили репродукторы, обмирали, расслышав затаенную усмешку в этом самом голосе. Письма ему приносили в коричневых мешках, как картошку, и он немного стыдился этого, словно обманывал кого-то.
На радио он начал политобозревателем, затем стал главным редактором, потом заместителем директора. В «Новости» уходил с должности директора.
В «Новостях» работала Ольга, и Бахрушин пропал. Нет, какое-то время он сопротивлялся – ну, очередной роман, ну, это займет его еще на какое-то время, а потом так же непонятно и внезапно оборвется.
Не тут-то было.
У него имелась черта, которую он разглядел в себе еще в университете и очень ее любил. Он никогда не врал самому себе. Он мог кого угодно убедить в чем угодно – собственно, именно из-за этого и сложилась вся его карьера! – но только не себя. Про себя он все знал наверняка.
Месяцев шесть спустя, проводив ее в первый раз в какую-то долгую командировку, он приехал домой, задумчиво что-то такое налил в стакан и сел подумать.
Надо было только спросить себя и получить ответ.
Он спросил и получил – ничего хорошего в этом ответе не оказалось, по крайней мере, для него самого.
Он еще даже не начал провожать ее, но странное неудобство, и раздражение, и дурацкое чувство брошенности и одиночества уже поселились у него в голове. Он даже работать не мог как следует.
Он не хотел, чтобы она уезжала, вот что. Так не хотел, что даже зубы у него стискивались, как будто сами по себе, когда он думал о том, что она уедет.
Хорошо, хоть догадался не сказать ей об этом – она пришла бы в изумление и что-нибудь ответила бы ему эдакое, ироничное. Как бы он остался потом наедине с ее иронией?!
Вот вам и одинокий мустанг в закатной прерии. Вот вам и гордая мужская независимость. Вот вам и прививка от семейной жизни – как там физруковы ботинки?!
Когда она вернулась, он сделал ей предложение – хоть кольцо было и без бриллианта, зато роз целое ведро. Ольга посмотрела на цветы, хотела было сказать что-то эдакое, даже губы сложила и брови подняла, он видел, но передумала и уставилась на него.
Потом сняла с него очки. Он не любил, когда ему смотрели прямо в глаза. Не любил и боялся.
– Почему ты решил на мне жениться?
– Потому что я люблю тебя.
– А-а, – протянула Ольга уважительно. – Бывает.
– Бывает, – согласился Бахрушин.
Она еще помолчала, а потом сказала решительно: – Ну, хорошо.
– Что хорошо?
– Давай поженимся. Попробуем, по крайней мере.
И они попробовали, и все вроде бы получалось, только она ни разу так и не сказала ему, что любит его.
Никогда. Ни в постели, ни на работе, ни до, ни после очередной разлуки.
Он все знал про себя, а про нее ничего.
…Позвонит она сегодня или не позвонит?!
Бахрушин нацепил очки и переложил бумаги в пухлой папке с надписью «Управление делами».
Почему он стал об этом думать?! Почему?! Он ведь умеет «выключать» ненужные мысли!
Мысль о ней была самой ненужной из всех.
В следующий раз он просто никуда Ольгу не пустит. Эта простенькая мысль доставила ему удовольствие, хотя он прекрасно понимал, что при первой же его попытке ее «не пустить» все кончится навсегда.
И он даже не знал как следует, любит она его или принимает как своего рода удобство, такое тоже могло быть, вполне!
Он усердно работал, довольно долго, сердито и преувеличенно внимательно читал бумаги, отвечал на звонки, кому-то дал по шее, кого-то похвалил, и стопка бумаг немного уменьшилась и поредела, как осенний лес, и про Пашу Песцова он совсем забыл, и когда в очередной раз позвонил телефон, он ни о чем не думал, только о том, что по новой структуре «Новости» и сам Бахрушин подчиняются напрямую председателю, хотя до последнего времени починялись первому заму, и это было очень удобно, потому что первого зама Бахрушин знал последние лет двадцать и…
– Алексей Владимирович, Зданович. Трубку возьмете?
– Але, Костя, слушаю тебя.
– Ольга позвонила, – сказал главный сменный редактор, и голос его странно отдался в пластмассовом телефонном теле. – Связь появилась. Они сегодня в эфире. Я поставил двадцать ноль семь – двадцать ноль восемь пятьдесят.
Бахрушин вытряхнул сигарету из пачки и поискал глазами зажигалку.
– А новости какие?
– В Кабуле ждут штурма. И еще они собирались в Калакату, где первая линия фронта, не знаю, как они разрешение получили, Леш.
Бахрушин отлично знал – как.
Ники Беляев со своим удостоверением Би-би-си, вот и все дела!
– Там бывшая ставка Масуда, а Ольга еще записала каких-то женщин, губернаторскую сестру, что ли, и жену. Они говорят, как плохо было при талибах и всякое такое.
Зажигалки не было. Бахрушин еще поискал, а потом раздраженно вытащил изо рта сигарету – сидеть с незажженной сигаретой во рту было как-то глупо.
– Они на связь выйдут без десяти восемь. Ты придешь?
– Конечно. Кость, ничего она не сказала, как у них дела?
– Сказала, что все нормально. Воды мало, но она получила какую-то посылку из Парижа. Передавала тебе привет.
Отлично. Его собственная жена передавала ему привет из Афгана через главного сменного редактора. Очень по-телевизионному.
– Спасибо, Костя. Храброву попроси мне позвонить.
– О'кей.
Бахрушин положил трубку, и под телефоном обнаружилась зажигалка. Он вытянул ее и бесцельно пощелкал, позабыв про сигарету.
Значит, Калаката и первая линия фронта.
Господи, помоги мне!..
Как это похоже на его жену – позвонить редактору и так и не позвонить ему! Конечно, связь – самое дорогое и важное, что у них есть, и когда связь восстанавливается, первым делом они звонят на работу, а уж потом… Но у них с Ольгой никакого «потом» тоже почти не бывало.
Ни на что не надеясь, он раскопал на столе бумажку и, поминутно сверяясь, набрал многозначный номер. Он помнил его наизусть, но на всякий случай всегда набирал по бумажке.
Телефон хрюкнул, как будто подавился, и замер. На панели горели два красных огонька – кто-то висел на линиях, – и Бахрушину казалось, что аппарат таращится на него выпученными больными глазами.
– Алексей Владимирович…
– Подожди, Марин. Через пять минут.
В трубке что-то щелкнуло, и обвалились далекие короткие гудки, и что-то завыло угрожающе. Бахрушин нажал отбой и набрал еще раз.
Давай. Соединись. Ну, давай же, чего тебе стоит!..
На этот раз телефон думал значительно дольше, и за это время у Бахрушина взмокли ладони.
Давай! Попробуй, ты же можешь!
Телефон «не смог» и на этот раз. Что-то в нем словно лопнуло, и снова посыпались короткие гудки, как осколки стекла.
Ну и черт с тобой!..
Если все будет в порядке, сегодня он увидит ее по телевизору в прямом эфире, и, может быть, ему удастся сказать ей что-нибудь.
Например, «привет». Это было бы отлично.
Он посмотрел на часы, чтобы узнать, сколько времени осталось до эфира. Посмотрел, но, сколько осталось, так и не понял.
Часа в два переводчик Халед привез разрешение местного МИДа на выезд из города – просто так, без разрешения и без Халеда, выехать не удалось бы.
Халед когда-то учился в Ташкенте, и у него даже была какая-то очень мирная профессия, кажется, хлопкороб или текстильщик. Впрочем, «текстильщика» придумал Ники, и Халеду это очень подошло. Что-то было в этом сюрреалистическое – вроде «парфюмера» или «газонокосильщика». Он говорил по-русски бегло, зато на вопросы почти не отвечал – словно не понимал. Как и у всех здесь, у него была борода почти до глаз, смуглая кожа и веселый и дерзкий взгляд.
С некоторых пор Ольге снились их дерзкие веселые глаза.
У Бахрушина сказочные глаза – орехового цвета, внимательные, как будто все время настороженные, и мелкие морщинки в уголках, и темные длинные ресницы. Голливуд, одним словом.
Почему-то он очень стеснялся, когда оставался без очков, даже с ней.
Она сразу набрала его номер, как только дозвонилась до Здановича, но не соединилось, а у нее решительно не было времени продолжать попытки.
Экая вредная, говорилось про одну юную леди в английском романе. Иногда Ольга примерно так себя и чувствовала, но у нее не было возможности часами ему дозваниваться!
Чертов характер.
Ники допивал, кажется, уже пятую чашку кофе – в посылке из Парижа была здоровая банка. И еще две бутылки виски, две палки копченой колбасы, несколько пачек сухого печенья, ананасовый компот и головка сыру – целое богатство, особенно виски, которого никто тут в глаза не видал. Какое может быть спиртное в мусульманской стране?!
Все было бы замечательно, если бы Ольга еще знала, кто такая Валя, приславшая посылку, а так ей казалось, что они с Ники жулики – взяли и съели чужое! По крайней мере, начали поедать.
Халед сидел на корточках возле «ровера», рядом стоял какой-то незнакомый афганец, они опять громко говорили – будто вот-вот подерутся!
Ники издалека посмотрел на них – и отвернулся.
Ольга вполне его понимала.
– Зато я сегодня много всего наснимаю, – пробормотал он, словно утешая себя. – И для наших, и для англичан.
– Наши – это Бахрушин? – осведомилась Ольга.
– А кто, по-твоему?!
– А англичане – это Би-би-си?
– Кто же еще?!
– Ники, – вкрадчиво поинтересовалась Ольга, – а какого черта ты так работаешь?!.. И тем, и этим? Выгонят ведь к чертям собачьим!..
– Не выгонят, – буркнул он и полез в карман камуфляжных штанов за ключами от машины.
Халед, завидев их, лениво поднялся с корточек, а незнакомый афганец вдруг глянул на Ольгу цепким и внимательным взглядом. Ей стало не по себе – да что такое с ней сегодня?!
Нервная стала, и впрямь в Москву пора!
– Ники, – продолжала она, изо всех сил развлекая себя, – вот зачем Бахрушину надо, чтобы ты на него работал, я понимаю, а тебе зачем?! Или ты у нас…
– Я у вас благородный рыцарь, – перебил Ники и открыл ей дверь, – ты что, не в курсе?
Он кивнул Халеду, приглашая садиться, обошел машину и плюхнулся на водительское место. Халед полез назад.
– Во-первых, я самый лучший оператор на свете. Во-вторых, я сам могу сюжеты делать. В-третьих, я езжу на всем, что ездит, – он повернул ключ, мотор заработал, и «ровер» как будто ожил, оттого, что к нему прикоснулся Ники. – В-четвертых, я очень умный.
– По-моему, во-первых, во-вторых и в-третьих, ты хвастун. А в-четвертых и в-пятых, самодовольный осел.
– Я осел?! – поразился Ники и, вывернув здоровенную кисть и почти оторвав от земли боковые колеса «ровера», вылетел из гостиничного двора. Ольга схватилась за щиток. Халед засмеялся. – Ничего я не осел. Я просто знаю себе цену.
– То есть ты искренне уверен, что ты лучший оператор на свете?!
Ники сбоку взглянул на нее, и с веселым изумлением Ольга вдруг поняла, что пожалуй… вправду уверен.
– Еще я очень благородный, правильный и настоящий друг, – продолжал резвиться Ники. – Бахрушин попросил, а как можно отказать, если он просит!
– Это точно, – согласилась Ольга. – Никак нельзя.
– И ты тоже!
– Что я?
– С кем бы ты полетела, если бы я… не смог?
– Господи, Ники, вот только не рассказывай, что все дело во мне и ты так из-за меня стараешься!
– Не из-за тебя, конечно, – признался он почти серьезно. – Просто я так трепетно отношусь к работе.
Это было совершенно неожиданно и очень глупо, но Ольга вдруг оскорбилась, услыхав, что она для него – «работа».
Позвольте, а как же последняя сигарета – одна на двоих, – и последняя чашка кофе, тоже одна на двоих, и пятилитровая канистра воды, которую он незнамо как раздобыл для нее на прошлой неделе, и вся его забота, и нежность, и внимание, и…
В конце концов, во всех корпунктах в Афганистане и на всех каналах в Москве уже давно все знают, что у них роман!
Ольга ни за что на свете не завязала бы роман с Никитой Беляевым, но он сказал, что старается «не из-за нее», а «по работе»! И это почему-то было ужасно.
Ники моментально почувствовал, что сболтнул не то – она засопела, отвернулась и стала смотреть в боковое стекло, верный признак, что рассердилась.
А что такого он сказал?!
Он отличный оператор, но это и так всем известно, и вряд ли она рассердилась именно поэтому.
Тогда что не так?.. Благородный герой? Настоящий друг?
Вот пойди пойми женщин!
Нет, эти самые, один из которых подпрыгивает сейчас на заднем сиденье его машины, абсолютно правы – на всех паранджу, всех на «женскую половину», и чтобы сидели там, рожали детей, красили ногти, мазали пятки хной, и… и…
– Оль, ты чего? – спросил он, не додумав до конца свою конструктивную мысль.
– Ничего.
– Да ладно, я же вижу!
– Все нормально.
– Да ладно!..
– Ники, смотри на дорогу.
На дорогу действительно лучше было бы смотреть.
Аль-Ханум, вторая линия обороны Кабула, находился километрах в двадцати от города.
Дороги нет. Вернее, есть нечто, что раньше, очевидно, было дорогой.
Большая дорога, вспомнилось Ольге из историй про Ходжу Насреддина. Насреддин и его верный ишак очень любили большие дороги. Вряд ли эта понравилась бы им.
Огромные ямы, как будто куча землекопов специально трудилась несколько лет, чтобы накопать их побольше. Все ямы разные, как по размеру, так и по форме. Некоторые уже старые, с круглыми, словно зализанными ветром краями. Другие совсем свежие – видно, землекопы все еще продолжают свои упражнения. Ольга даже знала, что эти самые землекопы называются «скаты». Машину бросает и качает, и Ники, сильно выпрямившись, смотрит куда-то вперед и вниз, за капот. Рот сжат, и руль он держит обеими руками. Только один раз быстро оглянулся через плечо, на свою драгоценную камеру в синем кофре. Она на заднем сиденье, ее придерживает Халед, и Ники это, кажется, не нравится.
Впереди ничего не видно – кругом пыль, коричневая, мелкая, противная. Не пыль – какао. К вечеру какао будет в волосах, в ушах, в носу, во всех складках одежды, в подмышках, в сгибах локтей, в глотке, везде!.. Сильный ветер крутит эту пыль, как будто кто-то мешает мутное коричневое зелье в ведьмином котле.
– Ники, ты, может, помедленнее поедешь?
– Помедленнее мы как раз к вечеру доберемся.
Он выкрутил руль, и Ольга повалилась на бок и стукнулась виском о стойку.
Халед опять засмеялся, и Ольге стало противно от его веселья.
Ники покосился на нее, взявшуюся рукой за голову, и пробормотал:
– Извини.
По обе стороны дороги, спотыкаясь, бежали назад сплошные заборы из пыльных камней и коричневой глины. Объезжая очередную яму, Ники резко поворачивал и притормаживал, и тогда щербатая растрескавшаяся стена вдруг появлялась прямо перед капотом из клубящейся мути. Вдоль заборов семенили ослы, тащили поклажу и наездников, закутанных в коричневые шали.
Шлагбаум с будкой вынырнул из пыли, и Ники остановил машину.
Приехали.
Пока проверяли документы, Ольга, выбравшись из «ровера», изучала тот берег – там «противник», талибы. Кокча, как все местные реки, мелкая, желтая, мутная и сердитая. Говорят, что весной они разливаются, эти реки, так что даже на джипе не проедешь.
Ольга смотрела на взбаламученную мелкую воду и думала с вялым удивлением – как она может разлиться, если ее почти нет?!
Подошел Ники, толкнул ее в бок – такая у него была манера, совсем не романтическая.
– Ты как? Все злишься?
Она уже почти успокоилась, кроме того, даже под угрозой немедленной смерти не призналась бы ему, на что именно рассердилась.
– Да я и не злилась.
– Я знаю, когда ты злишься, а когда нет.
– А почему мы дальше не едем?
– Потому, что наши документы еще не проверили. А пока их не проверили, ехать нельзя. Логично?
Ольга повернулась и посмотрела вверх, ему в лицо. Он улыбался, сверкали белые зубы, и мелкая пыль, попавшая в морщинки у глаз и рта, делала его старше.
Он взял ее за руку и покачал в разные стороны.
– Ну что? Мир?
– Мир, Ники.
– Вот узнать бы, из-за чего ты злилась.
– Ни-ког-да, – отчетливо выговорила она и вырвала у него руку. Его ладонь была жесткой, как будто он только и делал, что занимался тяжелой крестьянской работой. – А там что, на той стороне? Не видно никого.
– А что там должно быть? Татарское воинство на конях и с мечами?
Ольга пожала плечами. Ники вытряхнул из пачки две сигареты, одну для себя, другую для нее.
– Там все то же самое, что и здесь, – сказал он негромко, закурил и, прищурившись, посмотрел на тот берег. – Все ждут наступления, а пока вяло палят друг в друга. Кажется, журналюги называют это «позиционные бои».
– Ну тебя, Ники.
Сигаретой, зажатой в загорелых сильных пальцах, он показал куда-то вправо, в сторону лысых серебристо-бежевых гор:
– Там деревня, а за ней стрельбище, что ли. И военный лагерь. А во-он, видишь, мазанка? В ней местный штаб.
– Откуда ты знаешь?!
Не глядя на нее, он сильно затянулся и уверенно по-мужски усмехнулся:
– Я здесь работаю, Оленька.
Ах, как самодовольно это прозвучало!..
Ветер приналег, разметал облако пыли, с ног до головы обдал их песком, и Ники моментально встал так, чтобы загородить Ольгу.
Очень здоровый, очень сильный, очень высокий молодой мужик, закрывающий ее от ветра, вот черт возьми!..
От невесть откуда взявшейся неловкости она отступила на шаг – словно затем, чтобы отряхнуть штанину от какой-то белой гадости, запорошившей ее. Наклонилась и долго отряхивала.
– Ну что там так долго?! Может, пойти поторопить их?
Ники промычал что-то, явно не соглашаясь. Он поворачивался так и эдак, прятал от ветра сигарету.
– Почему?..
– Потому что спорить с системой бессмысленно. Все равно не победишь.
– Ники, ты философ?
– Не-ет! Я умница.
Из будки выскочил Халед и замахал руками – можно ехать, все в порядке.
– Давай, пошли, Ольга! Видишь, ветер какой, сейчас совсем темно станет, я снимать не смогу!
Он далеко швырнул окурок и почти побежал к машине – Ольга знала такое за ним. Он был абсолютно расслабленным, когда от него ничего не зависело или ему казалось, что не зависит, и моментально кидался в работу, как только было можно. Помимо всего прочего, он еще был вынослив, как индийский слон-тяжеловоз, и работать с ним непросто – он выматывал всех до последнего, но получал столько своего драгоценного видео, сколько ему требовалось, даже если корреспонденты при этом падали замертво от усталости.
За шлагбаумом некоторое время ехали в гору и, въехав в развалины, остановились.
Ники выскочил первым и потянул с заднего сиденья камеру.
Какие-то солдаты в пятнистой камуфляжной форме и высоких черных ботинках жались в «укрытии» – загородке, похожей на дачный сортир, из прутьев и циновок. Халед помахал им рукой, но они не ответили.
– Солдат – хорошо, – неожиданно объявил Халед и улыбнулся. – Талиб – плохо. Масуд – хорошо.
Ники уже снимал панораму, мелкие камушки с тихим шелестом осыпались из-под точно таких же черных военных ботинок, как у тех солдат, которые «хорошо». Ники переступал ногами, улегшись щекой на камеру.
– Ольга, давай из кадра! Попадаешь!
Она забежала ему за спину.
– Ники, сними землю!
– Зачем? – От объектива он так и не отрывался.
– Ну, посмотри.
Он довел до конца свою панораму, выключил камеру и посмотрел под ноги.
– Вот черт возьми.
Осколки античных амфор, гильзы от патронов, мелкие камни.
– А что тут такое было, блин?! Древняя Греция?!
– Сам ты Древняя Греция, Ники! Аль-Хануму две с половиной тысячи лет, тут Александр воевал!
– Македонский, что ли?
– Ну, конечно, какой же еще!
Ники, совершенно сраженный такой потрясающей новостью, снял с плеча камеру, присел и поковырялся в пыльных осколках.
– И чего, они все времен Александра Македонского, что ли?!
– Не знаю. Вряд ли.
Ники вытащил осколок и старательно потер его о штаны.
– Наверное, все-таки древние. А, Оль?
– Ты же здесь работаешь, – язвительно сказала Ольга. – И все знаешь!
– Ну-у, не все, конечно!
Он еще подобрал какие-то черепки, сунул в карман, плюхнулся на колени в пыль и пристроил на плечо камеру.
– Надо снять, – бормотал он, – значит, снимем.
Ольга отмахивалась от мух, которые начинали лезть со всех сторон, как только утихал ветер, и думала о том, что бы еще такого снять.
Вечная проблема на войне – нечего снимать!
Когда есть что – не разрешают. Когда разрешают – нечего. То-то им так подозрительно быстро выдали разрешение на съемку, знали, что показывать тут решительно нечего, – все те же пустынные горы, все тот же унылый до крайности пейзаж, все те же солдаты – «наши», но как будто не «наши».
Ольга шла по краю истекающего песком холма, пока Ники ползал на коленях, то так, то эдак прилаживая камеру.
Профессионал.
Ольга знала, что даже землю он может снять так, что все станут смотреть, разинув рты и не отрываясь от экрана. Именно ему принадлежал знаменитый план, обошедший все мировые новостные каналы, – один-единственный уцелевший на улице дом, уцелевший по-настоящему, как будто ничего вокруг него и не происходило, раскрашенный синими мусульманскими цветами, а вокруг конец света, катастрофа, бетонные завалы, ощерившиеся арматурой и битым стеклом. Мертвый солдат, далеко откинувший смуглую руку с автоматом, под самой стеной, а рядом с ним задумчивая чумазая девчонка – смотрит не отрываясь на черное пятно у него под головой.
Кажется, сиэнэновские комментаторы назвали этот план «символом войны».
Ники так и не рассказал никому, где и как он это снял.
За холмом маялись японцы. Им тоже нечего было снимать, но они оказались предприимчивей. Невесть как – потому что переводчика с ними не было – они заманили одного из тех солдат, что жались в камышовой будке, и теперь тот с удовольствием позировал крохотному японскому оператору. Оператор приседал и цокал языком, похожий со своей камерой, неудобно пристроенной на плечо, на подбитую камнем птицу-галку. Солдат взобрался на обломок коринфской колонны. Стоять ему было неудобно, и подошва армейского ботинка ерзала по лепесткам знаменитого цветка.
Ольга никогда с точностью не могла припомнить эту легенду – то ли цветок принял форму черепицы, то ли наоборот.
Две с половиной тысячи лет! Тысячелетия не справились – зато люди разрушили все моментально. Раз – и не было никаких двух с половиной тысяч лет. Остались только пыль и осколки амфор.
Господи, когда же это кончится!..
Никогда.
Человечество никогда не договорится с человечеством. И надеяться не на что. Какой там гипотетический враг, прилетевший из космоса на сверкающем металлическом аппарате, ощерившемся лазерными пушками и аннигиляционными двигателями! Зачем?
Мы сами справимся, без пришельцев.
Мы уничтожим друг друга, но есть некоторая надежда, что уничтожать будем долго, потянем еще.
– Ольга!
– Что?!
– Давай сюда!
И голос недовольный – Ники не любил, когда она пропадала из поля его зрения. Наверное, Бахрушину пообещал что-то такое, тоже очень мужское.
Ты там присмотри за ней, Ники!
Ну, не вопрос, старик!
Идиоты.
Она вдруг поняла, что больше ни минуты ждать не может, скинула с плеча рюкзачок, покопалась и выпростала тяжелую трубку спутникового телефона.
– Ольга!
– Иду сейчас!
Она набрала номер, прижала трубку к уху и, старательно обходя камни и пустые гильзы от снарядов, которые откатывались со странным, словно стеклянным звуком, потащилась в его сторону.
Солдат все стоял на колонне, японский оператор поправлял на нем кепочку – для красоты.
Телефон молчал каменным молчанием, ничего в нем не хрюкало и не трещало – плохой признак. Скорее всего не соединится.
– Оль, ты куда звонишь?! Халед говорит, что можно на позиции сбегать. Командир даст сопровождающего. Давай я сбегаю, а ты подождешь тут, а?
Она даже не очень понимала, о чем он, прислушиваясь к молчанию в телефоне.
– Куда сбегаешь, почему я останусь?
Ники нетерпеливо дернул широкой шеей и перехватил камеру.
– Ольга, там вторая линия обороны и военный лагерь. Туда можно сходить поснимать, я пойду, а ты останешься. Да кому ты звонишь-то, блин?! Нашла время!
Ольга отвернулась от него.
Давай! Давай же, прямо сейчас.
Телефон еще секунду молчал, а потом разразился ехидными короткими гудками.
– Чтоб тебя, – пробормотала она и даже стукнула его о бедро, так чтобы Ники не видел.
– Ольга!
– Куда мы должны идти? Я ничего не поняла.
– Да никуда не должна, а я на позиции сбегаю с Халедом, и нам сопровождающего…
– Ники, я с вами, – перебила его Ольга.
– Да ладно!
– Я с вами.
– У нас только один бронежилет.
– Ники, у нас два бронежилета.
– Нам с Халедом как раз и надо два. Логично?
– Халед здесь у кого-нибудь возьмет.
– Баба на войне, – процедил Ники сквозь зубы, – хуже не придумаешь!
Ольга предпочла не услышать.
– Ольга, я тебя не возьму.
– Ты не можешь меня брать или не брать. Я сама за себя отвечаю.
– Это тебе только так кажется, – пробормотал он и сердито оглянулся на камышовую будку. Он думал только про «первую линию обороны», ему не хотелось с ней препираться, а она его вынуждала!
– Почему ты мне заранее не сказал про военный лагерь?
– Оль, – сказал он нетерпеливо, – ну что ты, маленькая?!..
Ну да, конечно. Она уже большая девочка, а все «большие девочки» в Афганистане должны знать, что если ты работаешь на Би-би-си или Си-эн-эн, которые давно открыли в стране настоящие бюро и «прикормили» всех, кого могли и даже кого не могли, значит, тебе открыт практически любой объект. Но об этом было не принято распространяться.
Деньги решают все – особенно в Афганистане.
Немедленно по возвращении в Москву напишу капитальное исследование «Деньги на войне». Нет, «Война на деньги».
Нет, лучше «Деньги и война».
– Ольга, если идешь, шевелись!..
Она скатилась с холма, почти черпая ботинками песок и камушки, и потрусила за оператором в сторону крохотных низких домиков с узкими дверьми и щелями окон.
Оказалось, для того чтобы переправиться через реку, надо садиться на лошадей. О них надо предварительно «договариваться», то есть долго и темпераментно торговаться – деньги на войне!
Ники сходу ввязался в торговлю, а Ольга снова набрала московский номер и повернулась ко всем спиной, чтобы хоть недолго никого не видеть.
На этот раз телефон мучил ее неизвестностью как-то особенно долго и подло, и когда наконец стало ясно, что опять обманул, она вдруг чуть не заплакала.
– Не получается?
Ольга прерывисто и длинно вздохнула, «сделала лицо» и только тогда повернулась – она не любила, когда ее заставали врасплох.
Молодой невысокий мужик рассматривал ее с необидным любопытством.
– Вы с Российского телевидения, да?
– Да, – согласилась Ольга.
– Я вас знаю, видел в ACTED. Меня зовут Саша.
– А вы откуда?
Он усмехнулся.
– Я-то? В данный момент я из Испании. Информационное агентство EFE. А так из Москвы, конечно.
И они улыбнулись друг другу.
Он испанец, этот неизвестный Саша. Ники недавно переквалифицировался в англичанина. Где-то здесь, наверное, Алка, давняя приятельница, всю жизнь прожившая на улице Чаянова. Она теперь француженка, корреспондент France Press.
Эти милые люди – испанцы, французы, англичане – все русские как один.
Русские могут все и лучше всех – вот, пожалуй, в чем должна состоять следующая национальная идея, а больше… что же? Никаких других идей и не нужно. Зачем?
– Вы давно здесь?
– С начала войны. А вы?
– А мы приехали еще до.
– А в первую? Были?
Ольга немного удивилась.
– В какую первую? Когда здесь СССР воевал?
«Испанец» засмеялся.
– Да нет! В первую кампанию, когда войны еще не было, но и мира уже тоже…
– А здесь когда-нибудь разве был мир?
Ники издалека окинул их взглядом и снизу вверх вопросительно кивнул головой.
Ольга махнула ему рукой.
– Это мой оператор, – пояснила она, – мы должны в военный лагерь… попасть.
– Там сегодня бомбили.
Это известие Ольге не понравилось.
«Горячие» новости – это здорово, но в погоне за этими самыми новостями угодить под американскую бомбежку в ее планы никак не входило.
Саша глянул на нее, словно проверял, испугалась или нет, потом махнул рукой – то ли поприветствовал, то ли попрощался.
– Когда будете в ACTED, заходите. Я в палатке живу, у них на территории.
И вправду, во дворе AСTED Ольга видела несколько армейских палаток.
– Начнутся дожди, все развезет, и… Лучше сейчас приходите.
– А в палатке несладко, наверное, – неизвестно зачем сказала Ольга. Все и так было ясно.
– Ольга!
– Да! Иду!
– Так вы заходите.
– Обязательно. Спасибо, и удачи вам, Саша. – И вам.
Ники, как только она подбежала, спросил «с пристрастием»:
– Это кто?
– Журналист из EFE. Ники, ты представляешь, он живет в палатке.
– Может, он беженец, а не журналист? Хотя какие-то жили в палатках на территории ACTED.
– Все-то ты знаешь!..
Иногда ее уязвляло то, что поразить его воображение ей почти никогда не удавалось. Он или уже заранее все знал, или делал вид, что ничему не удивляется.
– Давай поехали, Ольга! Сейчас стемнеет, что я там буду снимать? Где Халед?
– Тут Халед.
Переводчик-»газонокосильщик» выдвинулся из-за лошадиного хвоста и одним движением взлетел в седло. Ольга лезла долго и трудно. Ники придерживал стремя и, кажется, только в последнюю секунду остановил себя, чтобы не подтолкнуть ее под задницу. Лошадь прядала ушами и переступала нетерпеливо и подозрительно, ей не нравилось, что Ольга так долго лезет. Мальчишки-погонщики, бравшие по двадцать долларов с человека за переправу, месили коричневую жидкую грязь. Большинство босиком, а на некоторых – галоши. Ольга решила, что галоши – это признак состоятельности семейства. Поверх длинных штанов и грязных рубах на них были надеты пиджаки и куртки.
«Рибок», прочла Ольга поперек вымазанной сухими коричневыми полосами темной болоньи.
Ну да. Все правильно.
«Рибок», «Кока-кола», «Самсунг». Машины – «Лендроверы» или «Тойоты». Медикаменты французские. Гуманитарная помощь немецкая и российская. Камуфляжи, как «свои», так и «чужие», шили в Китае.
Они сами только воюют. Больше ничего.
– Ольга, подержи!
Ничего не успев сообразить, она схватила руками что-то большое, и оказалось, что это Никин рюкзак. Сам он уже работал – левой рукой держал поводья, правой прижимал к плечу камеру. Красный огонек горел. Ольга посмотрела вперед – ничего особенного, все те же лысые горы, изрытые воронками от взрывов, серое небо, какая-то муть, взбаламученная ветром.
Халед, ехавший чуть впереди, что-то длинно спросил у мальчишки-проводника в куртке «Рибок», и тот громко застрекотал в ответ, а потом оглянулся на нее. И Халед оглянулся. Ольге не нравилось, когда она не понимала, о чем речь.
– Ники, о чем они говорят?
– Понятия не имею.
– Ты же знаток всех местных языков.
Он молчал. Мальчишка с Халедом переговаривались и оглядывались, Ольга чувствовала себя неуютно. Один из французов, ехавших сзади, вдруг по-мушкетерски прицыкнул на лошадь и помчался галопом, обдав Ольгу с левой стороны градом мелких холодных брызг.
– Черт тебя побери!..
Небо над головой вдруг как будто дернулось, проткнутое чем-то тупым и длинным, Ольга посмотрела с недоумением, приставив ладонь козырьком к глазам, Ники замер с камерой на плече, лошадь под бравым французом резко и странно скакнула вбок, так что он едва удержал ее.
Далеко впереди из склона в разные стороны выплеснулась земля и спустя несколько секунд отдаленно бабахнуло. Мальчишка-проводник и Халед громко и сердито закричали друг на друга, потом мальчишка повернулся к ним, вытянул грязный указательный палец в сторону гор:
– Талиб! Талиб!..
Ники махнул на него рукой, и он моментально заткнулся. Ники как-то умел их останавливать, и они почему-то его слушались – все, как один.
– Американцы?!
Подскакал француз и стал что-то возбужденно кричать. И сзади все тоже загомонили, и маленький оператор-японец застрекотал, сдерживая свою мохнатую степную лошадку.
Война неожиданно для всех стала похожа на всамделишную.
Ну что? Будет продолжение – налет, обстрел, бомбежка?
Сколько на самом деле стоят «горячие» новости?! Столько же, сколько и жизнь? Или дороже? Или все-таки дешевле?!
Ники не отрывался от камеры. Снаряды больше не падали. Ольга вдруг поняла, что очень замерзла – так, что пальцы не разжимаются. Она вымокла почти по пояс, и ветер теперь казался холодным и плотным.
Вот сейчас грянет настоящая война, а она так и не дозвонилась Бахрушину!..
Лошади остановились, дошли до какой-то определенной черты, за которую им было нельзя, и журналисты живо попрыгали с них – все странно возбужденные, как будто навеселе или и впрямь пережившие бомбежку.
Ольга сунула руки в лямки операторского рюкзака.
– Ты куда?!
Она оглянулась, Ники стоял спиной, но тем не менее за ней «присматривал»!
– Я найду командира, договорюсь об интервью. Халед со мной.
– Да, давай!
Вдалеке еще бабахнуло, гораздо тише, эхо прокатилось по всем склонам и кануло за дальней горой.
– Ольга, оставь рюкзак, там аккумуляторы!
Она стянула рюкзак, кинула в пыль и помахала Халеду. Стремительно темнело, и ей неожиданно и очень сильно захотелось «домой» – в гостиницу, где горит желтый дрожащий свет, где булькает вода в поллитровой банке, и пузырьки отрываются от спирали кипятильника, и канонада где-то очень далеко, и можно лечь на трясущуюся сетку, застланную жидким матрасиком, и подумать – просто так.
В прошлый раз она решила, что больше никогда и ни за что не поедет на войну – сколько можно?! Ники говорит, что его «тянет», а она-то?! Ее разве тоже «тянет»?!