Читать онлайн Снобы бесплатно
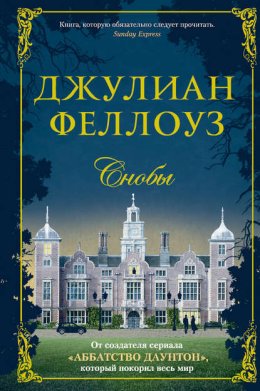
Julian Fellowes
SNOBS
Серия «The Big Book»
Copyright © 2004 Julian Fellowes
The right of Julian Fellowes to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
All rights reserved
First published in 2004 by Orion, London
© П. Щербатюк, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Милой Эмме и Перегрину,
а еще – дражайшему Микки, без которого эта книга была бы невозможна
Часть первая
Impetuoso-Fiero
Глава первая
Не знаю, как вышло, что Изабел Истон свела знакомство с Эдит Лавери. Вероятно, у них был общий знакомый или они вместе заседали в каком-нибудь благотворительном обществе, а может быть, просто ходили в одну парикмахерскую. Но я помню, что довольно давно, буквально с самого начала, по какой-то причине Изабел решила, что Эдит – это такая немного необычная особа, обществом которой можно гордиться и понемногу угощать ею своих соседей из ближних поместий. Последующие события, конечно, подтвердили ее правоту, но когда я впервые встретил Эдит, ничто не предвещало ее большого будущего. Эдит, вне сомнения, уже тогда была весьма привлекательна, но все же не настолько, насколько она стала хороша позже, когда, как говорят модельеры, нашла свой стиль. Она была превосходным образчиком своего типа: светловолосая англичанка с приятными манерами.
Я знал Изабел Истон с раннего детства, мы вместе росли в Гемпшире и с тех пор поддерживали ту уютную нетребовательную дружбу, основу которой может составить только давнее знакомство. У нас было очень мало общего, но мы по пальцам могли сосчитать людей, которые помнили нас, когда нам было лет по девять и мы еще катались на пони, а потому время от времени нам приятно было встретиться. После университета я стал актером, а Изабел вышла замуж за биржевого брокера и переехала в Суссекс, так что наши пути редко пересекались. Мы жили в разных мирах, но Изабел льстило то, что к ней иногда заезжает на пару дней актер, которого показывают по телевизору (хотя так уж сложилось, что никто из ее друзей фильмов с моим участием не видел), а что до меня, то мне иной раз было приятно провести выходные с подругой детских игр.
Я оказался в Суссексе и в тот раз, когда Эдит впервые приехала к ним погостить, и могу свидетельствовать, что Изабел с большим энтузиазмом встречала свою новую подругу, пусть даже некоторые из наименее великодушных ее знакомых и отрицали это впоследствии. И радость ее была неподдельной: «Эту девушку ждет необычное будущее. В ней что-то есть». Изабел любила выражаться так, будто ей доступно некое тайное знание устройства мира. Я вспомнил эту ее фразу полчаса спустя, когда Эдит выходила из машины. Казалось, миловидная внешность и мягкое обаяние – это все, что у нее есть, но я склонен был согласиться с нашей хозяйкой. Если сейчас оглянуться назад и задуматься, то некий намек на то, что должно было вскоре произойти, можно было усмотреть в форме ее губ. Рот Эдит был безукоризненно правильный – четко очерченные, скульптурно вылепленные губы, напоминающие о кинозвездах сороковых годов. И еще – ее кожа. Англичане, как правило, вспоминают о коже в тех случаях, когда уже совершенно нечего больше похвалить. О хорошем цвете лица зачастую подолгу разглагольствуют, к примеру, когда речь заходит о тех членах королевской семьи, кому менее прочих повезло с внешностью. Что бы там ни говорили, у Эдит был самый восхитительный цвет лица, какой мне доводилось видеть: прохладные, чистые, пастельные тона словно под тонким и безупречно гладким слоем воска. Всю жизнь я питал слабость к красивым людям, и мне кажется, я стал на сторону Эдит в тот самый миг, когда впервые залюбовался ее лицом. В любом случае Изабел суждено было стать одним из тех пророков, что сами претворяют в жизнь собственные предсказания, потому что именно она отвезла Эдит в Бротон.
Бротон-Холл, да-да, тот самый дом Бротонов, был той незаживающей раной, что отравляла жизнь Истонов в Суссексе. Сперва бароны, затем – графы Бротоны, а позже, с 1879 года, – маркизы Акфилдские. Бротоны царили в этой части Восточного Суссекса намного дольше, чем большинство знатных фамилий ближайших к Лондону графств. Еще лет сто назад их соседи и вассалы, скромные фермеры, кое-как перебивались скудными плодами равнинной и болотистой земли у подножия холмов, но автомобильные и железные дороги, а также появление возможности работать в городе, а выходные проводить за городом привели сюда толпы нуворишей, и, как Байрон в свое время, Бротоны однажды утром проснулись знаменитыми. И очень скоро, для того чтобы принадлежать к высшему свету, той или иной семье просто необходимо было значиться в списке гостей Бротон-Холла. По совести говоря, эта семья не искала известности, по крайней мере сначала, но, будучи самыми заметными аристократами в этой стремительно богатеющей местности, они не могли уйти от своей судьбы.
Им повезло не только в этом. Два брачных союза – один с дочерью банкира, другой с наследницей значительной части Сан-Франциско – помогли семейному кораблю Бротонов пересечь бурное море сельскохозяйственной депрессии и Первой мировой войны. В отличие от многих подобных родов, они почти полностью сохранили свою лондонскую недвижимость, а разнообразные манипуляции с собственностью в шестидесятые вынесли их к сравнительно безопасным берегам тэтчеровской Британии. Затем, когда социалисты и вправду начали пересматривать свои взгляды, они, к счастью для всех представителей высших классов, получили новое рождение и стали Новыми лейбористами, оказавшись значительно сговорчивее своих алчных политических предшественников. В общем, Бротоны представляли собой живой пример уцелевшей английской аристократической семьи. Они достигли 1990-х, практически не утратив ни престижа, ни – что еще важнее – своих владений.
Не то чтобы Истонам претило богатство или знатность Бротонов, напротив, они боготворили своих родовитых соседей. Нет, вся беда была в том, что хотя они и жили всего в двух милях от Бротон-Холла и сколько бы Изабел ни говорила подружкам за ланчем на Уолтон-стрит, как им повезло – живут буквально по соседству, но за три с половиной года Истонам так и не удалось ни ступить на эту благословенную землю, ни познакомиться с кем-нибудь из членов семейства.
Конечно, Дэвид Истон не первый представитель верхушки среднего класса, обнаруживший, что в Лондоне поддерживать иллюзию аристократического происхождения значительно проще, чем среди жителей сельских поместий. Беда была в том, что, много лет обедая в клубе «Брукс», проводя вечера в «Аннабелс», посещая скачки по субботам и во всеуслышание заявляя о своем неприятии современного, «мобильного» общества, он совершенно упустил из виду, что и сам является плодом этого общества. Такое впечатление, будто он забыл о том, что его отец был управляющим на небольшой мебельной фабрике где-то в центральных графствах и родителям не без труда далось его обучение в Ардингли[1]. Ко времени нашего знакомства, мне кажется, он бы искренне удивился, если бы не нашел своего имени в «Дебретте»[2]. Как-то мне на глаза попалась статья, в которой Родди Ллевелин жаловался на то, что ему не довелось учиться в Итоне (в отличие от его старшего брата), а ведь именно в Итоне человек находит себе друзей на всю жизнь. В этот момент мимо моего кресла проходил Дэвид. «Очень верно, – сказал он. – Не могу не согласиться». Я оглянулся, чтобы перехватить взгляд Изабел, но по тому, с каким сочувствием она кивнула, понял, что она не разделяет моей иронии и полностью поддерживает мужа.
Со стороны порой кажется, что для брака жизненно важно, чтобы супруги разделяли иллюзии друг друга. Обычно Дэвиду ничего не грозило благодаря удачному сочетанию доброты Изабел и безразличия лондонских салонных львиц, которым все равно, о чем говорят их гости, лишь бы они были в состоянии поглощать выставленную на стол еду и поддерживать беседу. Однако ему бывало по-настоящему мучительно больно, когда на званом ужине его начинали расспрашивать о последнем путешествии Чарльза Бротона в Италию или о том, удается ли новому мужу Кэролайн прижиться в семье, а Дэвиду в ответ приходится бормотать, что он с Бротонами не слишком близко знаком.
– Удивительно, просто невероятно, – немедленно следовал ответ. – А мне казалось, вы соседи.
Но, даже утверждая, что не слишком близко знаком с Бротонами, Дэвид кривил душой. Он был с ними совсем незнаком.
Однажды, на коктейле на Итон-сквер, он высказался об этом семействе, а в ответ услышал:
– Смотрите, вон там – это же Чарльз! Вы просто обязаны меня ему представить. Посмотрим, вспомнит ли он, где мы встречались в прошлый раз.
И Дэвиду пришлось сказать, что ему нехорошо (что более-менее соответствовало истине), поехать домой и пропустить блестящий ужин, на который компания отправлялась в полном составе. В последнее время у него вошло в привычку принимать этакий слегка пренебрежительный вид, когда речь заходила о Бротонах. Он не участвовал в беседе, и его молчание было громче любых слов, как будто именно он, Дэвид Истон, предпочел бы не заводить знакомства с этой семьей. Будто он уже пробовал их и они пришлись ему не по вкусу. Хотя в действительности все обстояло ровно наоборот. Отдавая Дэвиду должное, я обязан сказать, что все эти неутоленные светские амбиции оставались для его сознания такой же тайной, какой они должны были оставаться для нас. Или, по крайней мере, мне так казалось, когда я наблюдал, как он застегивает свое пальто из «Бабур» и свистом подзывает собак.
А потому неудивительно, что только Эдит могла предложить съездить в Бротон-Холл. Изабел спросила нас за завтраком в субботу, чем бы мы хотели заняться, а Эдит поинтересовалась в ответ, нет ли поблизости какой-нибудь местной «величественной твердыни», а если есть, то, может быть, туда и съездить? Она посмотрела на меня.
– Я не против, – отозвался я.
Я заметил, как Изабел бросила взгляд на Дэвида, с головой ушедшего в «Телеграф» на том конце стола. Я знал о ситуации с Бротонами, и Изабел знала, что я знаю, хотя, будучи англичанами, мы, естественно, никогда это не обсуждали. Так уж вышло, что я пару раз встречал Чарльза Бротона, не блещущего сообразительностью увальня, в Лондоне, на этих чудовищных вечерах, где шоу-бизнес и общество сходятся, но, как это случается при слиянии двух рек, редко смешиваются. Это мимолетное знакомство я держал в тайне от Изабел, не желая сыпать ей соль на рану.
– Дэвид? – произнесла она.
Он перевернул страницу широким, исполненным безразличия жестом:
– Езжайте, если хотите. Мне еще надо в Льюис. Саттон опять потерял крышку от бензобака газонокосилки. Ест он их, что ли.
– Я могу заняться этим в понедельник.
– Не стоит. Мне все равно нужно еще пару картриджей. – Он посмотрел на нее. – Нет, правда, ты поезжай.
В его взгляде читался упрек, Изабел в ответ состроила такую мину, будто ей выкручивают руки. А дело было в том, что между ними существовало молчаливое соглашение не появляться в этом доме в качестве обыкновенного посетителя с билетами в руках. Сперва Дэвид избегал этого, потому что рассчитывал вскорости узнать семейство поближе и ему не хотелось рисковать, – первая встреча ни в коем случае не должна была произойти при неудачных обстоятельствах. Но проходили месяцы, годы, и непосещение этого дома постепенно стало чем-то вроде принципа, как будто Дэвид не хотел давать Бротонам возможности злорадствовать, увидев, как он платит немалые деньги за то, что по праву причитается ему бесплатно. Но Изабел была прагматичнее мужа – женщины вообще прагматичнее мужчин, – и она постепенно сжилась с мыслью, что им предстоит занять подобающее место в этих краях с некоторым запозданием. И теперь ей было просто любопытно своими глазами увидеть владения, ставшие символом непрочности их собственного положения в обществе. Особенно уговаривать ее не пришлось. Втроем мы погрузились в «рено» не первой молодости и отправились в путь.
Я спросил Эдит, много ли она знает о Суссексе.
– Не очень. У меня одно время был друг в Чичестере.
– Это модный уголок.
– Правда? Я не знала, что у графств одни уголки моднее других. В этом есть что-то американское. Как хорошие и плохие столики в ресторане.
– Вы знаете Америку?
– Я прожила несколько месяцев в Лос-Анджелесе после школы.
– Зачем?
Эдит рассмеялась:
– Почему бы и нет? Зачем люди едут куда-то в семнадцать лет?
– Я не знаю, зачем ехать в Лос-Анджелес. Чтобы стать кинозвездой разве что.
– А может, я и хотела стать кинозвездой. – Она улыбнулась мне с едва уловимой грустью (позже я понял, что это очень характерное выражение ее лица), и я заметил, что глаза у нее не голубые, а скорее дымчато-серые.
Мы свернули на широкую, усыпанную гравием дорожку, проехав между двумя каменными колоннами, увенчанными свинцовыми оленьими головами – с рогами, все как полагается. Изабел остановила машину.
– Потрясающе, не правда ли! – сказала она.
Перед нами возникли внушительные стены Бротон-Холла. Эдит восхищенно улыбнулась, и мы поехали дальше. Она не сочла дом изумительным, да и я тоже, хотя в своем роде он производил впечатление. В любом случае он был очень большой. Казалось, его спроектировал предшественник Альберта Шпеера, родом из XVIII века. Основную часть здания, гигантский гранитный куб, соединяли с двумя кубами поменьше приземистые и громоздкие колоннады. К сожалению, кто-то из Бротонов в XIX веке окна с частыми переплетами заменил на большие окна с зеркальными стеклами, и теперь дом слепо смотрел на парк. По углам дома высились четыре купола, как наблюдательные вышки в концентрационном лагере. В целом здание не столько дополняло вид, сколько загромождало его.
Машина остановилась, довольно хрустнув гравием.
– С чего начнем, с дома или с сада? – Изабел, как советский военный инспектор, попавший на военную базу НАТО в разгар холодной войны, была намерена ничего не упустить.
Эдит пожала плечами:
– А в доме есть на что смотреть?
– Непременно, – твердо отозвалась Изабел и уверенно направилась к входу, и мы покорно последовали за ней.
Массивная, изогнутая подковой гранитная лестница вела в парадные помещения.
Одной из любимейших историй Эдит навсегда останется рассказ о том, как она впервые попала в Бротон, купив входной билет, и от личной жизни обитателей ее отделял красный канат на металлических стойках.
– Хотя, – добавляла она со своей забавной усмешкой, – личной жизнью этот дом никогда не был особенно богат.
Бывают на свете дома, настолько полные духом личности того, кто их построил, и всепроникающим запахом жизней, прошедших в этих стенах, что посетитель чувствует себя то ли взломщиком, то ли призраком, исподтишка наблюдающим за жизнью обитателей, выпытывающим их секреты. Бротон не принадлежал к этому типу. От фундамента до каминной решетки и конька крыши он был создан с одной лишь целью: производить впечатление на посторонних. И надо сказать, к концу XX века его роль совсем не изменилась. Единственная разница состояла в том, что теперь посторонние покупали билеты, вместо того чтобы подкупать экономку.
Однако современному посетителю великолепие парадных залов открывается не сразу, и холодная, сырая комната, куда мы вошли (позже мы узнали, что она зовется Нижний холл), показалась нам не уютнее пустого стадиона. Жесткие даже на вид стулья для лакеев выстроились вдоль стен, вызывая в воображении бесконечные часы ожидания, проведенные на этих стульях и наполненные неизбывной скукой. Пол был выложен стертыми каменными плитами, а посередине комнаты находился длинный черный стол. Кроме четырех грязных видов Венеции в стиле Каналетто, только похуже, на стенах больше ничего не было. Как и все остальные помещения в Бротоне, эта комната была совершенно немыслимых размеров, и мы трое чувствовали себя просителями.
Из Нижнего холла, сжимая в руках путеводители, мы поднялись по парадной лестнице, резные дубовые пролеты которой неуклюже карабкались вверх, обогнули тяжеловесную, немного депрессивную бронзовую статую умирающего раба, затем пересекли широкую верхнюю площадку и попали сначала в Мраморный зал, огромное помещение высотой в два этажа, окруженное с четырех сторон галереей. Если бы мы поднялись по внешней подковообразной лестнице, то сразу попали бы в этот зал, подавляющий своим великолепием. Оттуда мы прошли в Красную гостиную, еще одну огромную комнату, – здесь стены были оклеены тиснеными малиновыми обоями, а потолок украшала тяжелая красно-коричневая лепнина, оттененная золотом.
– Чур, мне тикку из цыпленка! – воскликнула Эдит.
Я рассмеялся. Она была права: комната очень походила на гигантский индийский ресторан.
Изабел открыла путеводитель и начала читать вслух тоном учительницы географии:
– «Обои, украшающие стены Красной гостиной, сохранились со времен постройки, этим интерьером Бротон-Холл гордится по праву. Позолоченные пристенные столики созданы Уильямом Кентом специально для этого помещения в тысяча семьсот тридцать девятом году. Морские мотивы в украшенных резьбой трюмо посвящены назначению третьего графа Бротона в британское посольство в Португалии в тысяча семьсот тридцать седьмом году. В память об этом графе в гостиной, которую он считал своей любимой комнатой, находится его парадный портрет кисти Джарвиса, рядом с портретом его жены кисти Хадсона, картины расположены по обеим сторонам итальянского камина».
Мы с Эдит рассматривали картины. Портрету леди Бротон автор попытался придать некоторую живость, поместив молодую даму с тяжелыми чертами лица и крупными руками, держащими летнюю шляпу с широкими полями, на цветущий луг.
– К нам в спортзал ходит точно такая же женщина, – сказала Эдит. – Она постоянно пытается продать мне лотерейные билеты консерваторов.
Изабел продолжала бубнить:
– «Шкаф у южной стены – работы Буля, он был получен в подарок от Мари-Жозеф де Сакс, дофины Франции, для невесты пятого графа Бротона по случаю свадьбы. В простенке между окнами…»
Я подошел к упомянутым окнам и взглянул на парк. Стоял один из тех знойных, тяжелых августовских дней, когда деревья будто изнывают под гнетом листвы и сплошная зелень сельского пейзажа кажется давящей и душной. Пока я смотрел, из-за угла дома вышел мужчина. Несмотря на жару, на нем были вельветовые брюки, твидовый пиджак и один из тех коричневых фетровых котелков, которые английские сельские джентльмены считают неотразимыми. Он поднял голову, и я узнал его: это был Чарльз Бротон. Он едва бросил взгляд в мою сторону и отвернулся, но потом остановился и снова посмотрел на меня. Я подумал, что он, наверное, вспомнил меня, и поднял руку в знак приветствия, он ответил мне тем же, а затем пошел по своим делам.
– Кто это был? – спросила Эдит. Она стояла позади меня, оставив Изабел наедине с ее молитвами.
– Чарльз Бротон.
– Один из сыновей графа?
– Единственный сын, насколько я знаю.
– Он пригласит нас на чай?
– Не думаю. Он видит меня третий раз в жизни.
Чарльз не пригласил нас на чай, и я уверен, что он и не вспомнил бы обо мне, если бы мы не столкнулись с ним по дороге к машине. Он разговаривал с одним из многочисленных садовников, работавших в саду, и закончил как раз в тот момент, когда мы проходили через двор.
– Привет, – кивнул он вполне дружелюбно. – Что вы здесь делаете? – Он явно забыл, как меня зовут и, скорее всего, где мы встречались, но держался очень мило и подождал, пока его не представят остальным.
Изабел это неожиданное путешествие в Страну, Где Сбываются Мечты, застигло врасплох, и теперь она лихорадочно подыскивала фразу, которая бы навеки пленила Чарльза своей оригинальностью и привела к незамедлительному зарождению близкой дружбы. Но вдохновение ее не посетило.
– Он остановился у нас. Мы живем в двух милях отсюда, – незамысловато объяснила она.
– Правда? Вы часто бываете в этих краях?
– Мы здесь все время.
– А, – отозвался Чарльз и повернулся к Эдит. – Вы тоже из местных?
Она улыбнулась:
– Не волнуйтесь, меня можно не опасаться. Я живу в Лондоне.
Он рассмеялся, и его дородное открытое лицо на мгновение стало довольно привлекательным. Он снял шляпу и явил нам те самые светлые, как у Руперта Брука, волнистые локоны на затылке, что так характерны для английских аристократов.
– Надеюсь, дом вам понравился.
Эдит улыбнулась и ничего не сказала, предоставив Изабел выкладывать глупые сведения, почерпнутые из путеводителя.
Я, извинившись, вмешался:
– Нам пора. Дэвид будет за нас волноваться.
И мы все снова принялись улыбаться и кивать, потом обменялись легкими рукопожатиями и несколько минут спустя уже были в пути.
– Ты не говорил, что знаком с Чарльзом Бротоном, – произнесла Изабел без выражения.
– Я и не знаком.
– Ты не говорил, что встречался с ним.
– Разве?
Хотя, естественно, я прекрасно знал, что не говорил. Остаток пути Изабел вела машину молча. Эдит, сидевшая впереди, обернулась ко мне и скорчила гримасу: опустила уголки рта и поджала губы, будто говоря «ну вот и все, приехали». Было очевидно, что я допустил серьезный промах, и до конца выходных Изабел держалась со мной подчеркнуто холодно.
Глава вторая
Эдит Лавери была дочерью преуспевающего бухгалтера, внука еврейского эмигранта; тот приехал в Англию в 1905 году из России, спасаясь от погромов. Я так и не узнал фамилии ее деда – Леви, наверное, или Левин. Во всяком случае, имя портретиста времен короля Эдуарда, сэра Джона Лавери, вдохновило их сменить фамилию. Когда их спрашивали, состоят ли они с этим художником в родстве, Лавери неизменно отвечали: «Разве что в очень отдаленном», таким образом связывая себя с английской аристократической семьей, но избегая сомнительных притязаний. У англичан так принято – на вопрос, знакомы ли они с такими-то, отвечать: «Да, но вряд ли они меня вспомнят» или «Ну, мы встречались, но я их толком не знаю» – в тех случаях, когда они попросту незнакомы. Все это из-за подсознательного стремления к утешительной иллюзии, что Англия, точнее Англия аристократии и обеспеченной буржуазии, опутана миллионами невидимых шелковых нитей, которые сплетают эти слои в блестящее общество, средоточие высоких должностей, власти и бесконечных родословных, куда остальным путь заказан. При этом они почти не кривят душой, потому что, как правило, хорошо понимают друг друга. Для англичанина определенного воспитания фраза «Ну, мы встречались, но я их толком не знаю» означает «Мы незнакомы».
Миссис Лавери, мать Эдит, супруга очень любила, но считала себя птицей совершенно иного полета. Ее отец был полковником в индийской армии, но интересная подробность заключалась в том, что, в свою очередь, его мать была правнучкой банкира-баронета. Миссис Лавери была во многих отношениях очень славной женщиной, но ее снобизм граничил с помешательством, и даже такое смутное родство, как нижайший из возможных рангов наследования, согревало ей сердце ощущением принадлежности к тому кругу избранных, где ее бедный муж навеки обречен быть чужаком. Мистер Лавери не обижался за это на жену. Нисколько. Напротив, он ею гордился. В конце концов, она была статная, красивая женщина, умела одеваться, и если ее притязания и вызывали у него какие-то чувства, то его скорее забавляло, что слова «noblesse oblige»[3] (одно из любимейших выражений миссис Лавери) могут иметь хоть какое-то отношение к его семье.
Они жили в большой квартире в Элм-Парк-Гарденс, которая находилась слишком близко к сомнительной стороне Челси и вообще была миссис Лавери не совсем по вкусу. И все-таки это был не Фулем и даже не Баттерси – эти названия только начали появляться на воображаемой карте миссис Лавери. Как бесстрашному исследователю, все дальше и дальше уходящему от последних оплотов цивилизации, ощущение новизны все еще будоражило ей кровь каждый раз, когда ее приглашали на обед семейные дети кого-нибудь из ее друзей. Она во все уши слушала их рассуждения о том, как хорошо, что они вложили деньги в те или иные бумаги, и как их дети обожают Тутинг, особенно по сравнению с этой убогой квартиркой на Марлоу-роуд. Все это было для миссис Лавери китайской грамотой. Про себя она решила, что выберется из ада, только переправившись через реку, ее личный Стикс, навеки отделивший Низший Мир от Настоящей Жизни.
Лавери не были богаты, но и не бедствовали, а так как у них был только один ребенок, им никогда не приходилось особо экономить. Эдит отправили в модный детский сад, а затем в Бененден («Нет, принцесса здесь совершенно ни при чем. Просто мы перебрали варианты и решили, что это – самое вдохновляющее место»). Миссис Лавери хотелось бы, чтобы ее дочь продолжила обучение в университете, но когда результаты экзаменов Эдит оказались недостаточно хороши, чтобы обеспечить ей поступление в одно из тех заведений, куда им бы хотелось ее отправить, миссис Лавери не была разочарована. У нее был еще один честолюбивый замысел – вывести дочь в свет.
Самой Стелле Лавери не довелось дебютировать. И этого она стыдилась до глубины души. Она старалась скрыть это, не раз вспоминая со смехом, как весело ей жилось в юности, и если от нее настойчиво требовали подробностей, могла со вздохом сказать, что дела ее отца сильно пошатнулись в тридцатые (таким образом связывая себя с обвалом на Уолл-стрит и с героями Скотта Фицджеральда). Или же, перевирая даты, она винила во всем войну. Но действительность, как миссис Лавери приходилось признаваться самой себе в глубине души, состояла в том, что в социально менее гибком мире пятидесятых границы между теми, кто входил в Общество, и остальными были значительно более четкими. Семья Стеллы Лавери к Обществу не принадлежала. Она завидовала тем своим подругам, которые были представлены друг другу во время своего первого выхода в свет, страстной и тайной завистью, и эта зависть грызла ее нещадно. Она их даже ненавидела за то, что они вели себя так, будто и Хенриетта Тайаркс, и Миранда Смайли жили не только в их, но и в ее воспоминаниях, будто они верили, что и она, Стелла Лавери, была в свое время дебютанткой, хотя прекрасно знали – и она знала, что они это знают, – дебютанткой она не была. По этой причине она с самого начала приняла твердое решение, что подобные пробелы не омрачат жизнь ее любимой Эдит. Даже имя было выбрано за легкий отзвук той прежней, неспешной доброй Англии; такое имя могло бы передаваться в семье из поколения в поколение и некогда принадлежать знаменитой красавице эпохи короля Эдуарда. Ничего подобного в действительности не было. В любом случае нужно было с самого начала втолкнуть девушку в этот зачарованный круг. Благодаря тому, что к девяностым годам XX века представление ко двору (что могло бы оказаться проблематичным) уже отошло в прошлое, миссис Лавери оставалось только убедить мужа и дочь, что и время, и деньги будут потрачены не зря.
Долго уговаривать их не пришлось. У Эдит не было четких жизненных планов, и идея отложить момент принятия решения на год – год, наполненный приемами и вечеринками, – показалась ей замечательной. А мистеру Лавери нравилось представлять жену и дочь среди лондонского бомонда, и он был согласен за это заплатить. Тщательно взлелеянных связей миссис Лавери хватило, чтобы Эдит попала в список приглашенных на чаепития к Питеру Таунсенду, а внешность девушки позволила ей стать одной из моделей на выставке платьев «Беркли дресс-шоу». Дальше ветер был уже попутный. Миссис Лавери обедала вместе с другими матерями дебютанток, выбирала дочери платья для загородных балов и в целом прекрасно провела время. Эдит тоже неплохо повеселилась.
Вот только миссис Лавери огорчало, что, когда Сезон подошел к концу, когда окончился последний зимний благотворительный бал и вырезки из «Татлера» были вклеены в альбом вместе с приглашениями, ничего как будто не изменилось. За этот год Эдит принимали у себя дочери нескольких пэров, включая одного герцога, отчего у Стеллы в особенности перехватывало дыхание, и все эти девушки посетили коктейль, который устраивала сама Эдит в отеле «Кларидж» (один из самых счастливых вечеров в жизни миссис Лавери), но те подруги, что остались с Эдит, когда музыка стихла и танцы закончились, точь-в-точь походили на девочек, которые приезжали к ней погостить из школы: дочери преуспевающих бизнесменов, представителей верхушки среднего класса. То есть, по сути, точно такие же, как Эдит. Миссис Лавери считала, что это неправильно. Она так долго списывала собственные безуспешные попытки проникнуть в эти восхитительные высшие эшелоны лондонского общества, которые она с определенным лукавством называла Двором, на то, что в свое время ей не удалось начать по всем правилам, что теперь возлагала огромные надежды на свою дочь. Ее энтузиазм не давал ей заметить одну простую вещь: уже сам факт, что Сезон встретил ее дочь с распростертыми объятиями, означал, что к 1980-м годам Общество уже в значительной мере утратило свою эксклюзивность и многое изменилось со времен юности миссис Лавери.
Эдит видела разочарование матери, но, хотя и на нее, как мы увидим, действовали чары богатства и знатности, Эдит не очень понимала, каким образом может оправдать ожидания и завести по-настоящему близкую дружбу с дочерьми Благородных Семейств. Все они знали друг друга чуть ли не с рождения, да и вообще, она сознавала, что будет очень нелегко принимать аристократок в соответствии с их вкусами в квартире на Элм-Парк-Гарденс. Она сохранила знакомство со всеми девушками, дебютировавшими вместе с ней, и, случайно где-нибудь встретившись, они приветливо кивали друг другу, но жизнь вернулась в прежнюю колею, и все стало почти так же, как сразу после окончания школы.
Обо всем этом я узнал вскоре после нашей первой встречи у Истонов. Оказалось, Эдит нашла работу – отвечала на телефонные звонки – у одного агента по недвижимости на Милнер-стрит, как раз за углом от моей полуподвальной квартирки. Я теперь постоянно сталкивался с ней в «Питере Джонсе» или в ближайших пабах, куда она забегала съесть сэндвич, или когда она заходила после работы купить пинту молока в «Партриджсе», и незаметно мы довольно близко сошлись. Однажды я увидел, как она выходит из «Дженерал трейдинг компани», и пригласил ее где-нибудь пообедать.
– Ты когда в последний раз видела Изабел? – спросил я, когда мы примостились на банкетках в одном из тех итальянских ресторанчиков, где официанты кричат названия блюд в кухню.
– Я ужинала с ними на прошлой неделе.
– Все хорошо?
Так и было, по крайней мере неплохо. Они были поглощены своим ребенком и драматическими событиями на школьном фронте. Изабел открыла для себя дислексию. Я посочувствовал директору школы.
– Она спрашивала о тебе. Я сказала, что мы виделись, – ответила Эдит.
На это я заметил, что вряд ли Изабел уже простила мне, что я скрывал от нее знакомство с Чарльзом Бротоном. Эдит рассмеялась. Я спросил, рассказывала ли она матери о нашей поездке в Бротон. Как раз в то утро я вспоминал о Чарльзе – мне попалась на глаза одна из этих идиотских статей со списком самых завидных холостяков, и Чарльз вел с неплохим отрывом. Неловко признаться, но меня немало впечатлил список его ценных вкладов.
– Не стоит. Не хочу давать пищу ее воображению.
– Она, должно быть, очень впечатлительна.
– Более чем. Она напялит на меня фату – я и пискнуть не успею.
– А ты не хочешь замуж?
Эдит посмотрела на меня как на сумасшедшего:
– Хочу, конечно.
– Как, разве ты не видишь себя в роли деловой женщины? Я считал, сейчас все девушки только о карьере и думают. – Не знаю, почему меня потянуло на такой напыщенный антифеминизм, поскольку эти слова совершенно не отражают моих взглядов.
– Ну, всю оставшуюся жизнь отвечать на телефонные звонки в агентстве по недвижимости я не жажду, если ты об этом.
Мне досталось по заслугам.
– Я не совсем это имел в виду.
Она взглянула на меня снисходительно, будто ей приходилось втолковывать мне таблицу умножения.
– Мне двадцать семь. У меня нет никакой квалификации и, что еще хуже, никаких талантов. Но у меня есть вкусы, которые требуют по меньшей мере восемьдесят тысяч в год. Когда отец умрет, то все деньги он оставит моей матери, к тому же вряд ли кто-нибудь из них уйдет со сцены раньше две тысячи тридцатого года. И что бы ты мне посоветовал?
Не понимаю, почему я вдруг потерял дар речи, услышав рассуждения, достойные Аниты Лус, от нежного цветочка, сидевшего передо мной, в аккуратном темно-синем костюме и с лентой в волосах в стиле Алисы в Стране чудес.
– Так ты намерена выйти за богатого человека? – спросил я.
Эдит с недоумением взглянула на меня. Может, она почувствовала, что была со мной слишком откровенна, может, старалась понять, не пытаюсь ли я судить ее, а если да, то каков будет вердикт. Должно быть, выражение моего лица ее успокоило. Мне всегда казалось, что если человек сумеет как можно раньше честно признаться себе, чего он действительно хочет от этой жизни, то тогда у него есть все шансы избежать столь популярного теперь и считающегося неизбежным кризиса среднего возраста.
– Не обязательно, – ответила она, как будто немного оправдываясь. – Просто не могу представить себя счастливой с бедняком.
– Это я понимаю.
Потом какое-то время мы с Эдит не виделись. Меня пригласили в один из этих американских мини-сериалов, которые невозможно смотреть, и я уехал в Париж и, подумать только, Варшаву на несколько месяцев. Из-за работы и Рождество, и Новый год я отпраздновал очень уныло – за границей, в отеле, где на завтрак дают сыр, а хлеб вечно черствый, и когда в мае я вернулся в Лондон, то был очень далек от ощущения, что как-то продвинулся по стезе искусства. Но, по крайней мере, мои финансовые дела пошли лучше. Вскоре после приезда я получил записку от Изабел, она собиралась с друзьями в Аскот, на второй день королевских скачек, и звала меня присоединиться. Должно быть, пока меня не было, она меня простила. Я думал, что придется отказаться, потому что я не предпринимал никаких шагов для получения пропуска на трибуну, но оказалось, что мама (по подобным жестам видно, насколько она не принимала всерьез и работу, и стиль жизни, которые я для себя избрал) позаботилась об этом за меня. По правде говоря, она считала это своей обязанностью со времен моей юности и теперь не спешила передавать ее в чужие руки.
– Ты пожалеешь, если пропустишь что-нибудь интересное, – обычно отвечала она, если я пробовал возражать.
И на этот раз мама оказалась права. Я принял приглашение Изабел с легкой улыбкой, какую у меня всегда вызывает перспектива провести день на скачках в Аскоте.
В действительности Королевская трибуна совсем не похожа на то, какой ее представляют. Одно название (не говоря уже о многословных репортажах в газетах, рассчитанных на невзыскательного читателя) рождает образы принцесс и герцогинь, знаменитых красавиц и миллионеров, прогуливающихся по тщательно ухоженным лужайкам в нарядах от-кутюр. Из всего перечисленного я могу подтвердить только качество лужаек, наверное. Большинство посетителей трибуны оказываются бизнесменами средних лет из самых дорогих пригородов Лондона. Их сопровождают жены, одетые совершенно неподходящим образом, в основном в шифон. Но одно обстоятельство делает это расхождение мечты и реальности необычным и забавным: сами участники добровольно закрывают на него глаза и стремятся во что бы то ни стало сохранить чудесную иллюзию. Даже люди из Общества, а скорее, представители верхушки среднего класса и самых обеспеченных слоев, которые приходят сюда, только чтобы повидаться с нужным человеком, с трогательным удовольствием одеваются и ведут себя так, будто собираются на то самое утонченное и эксклюзивное событие, о котором пишут газеты. Их жены надевают приталенные костюмы, которые столь же неуместны, как и шифоновые платья (но, по крайней мере, идут своим хозяйкам), и прохаживаются, приветствуя друг друга с таким светским видом, будто встретились в Ранела-Гарденс в 1770 году. На один или два дня в году эти люди позволяют себе роскошь забыть о том, каким трудом они зарабатывают на жизнь, и притвориться, что принадлежат к некоему исчезнувшему праздному классу, что мир, который они оплакивают, которым восхищаются, к которому они принадлежали бы, если бы он все еще существовал (а вот это неверно), – что этот мир живет и здравствует здесь, неподалеку от Виндзора. Их притязания кажутся мне очаровательными в своей открытости и ранимости. Я всегда рад провести день в Аскоте.
Дэвид заехал за мной на своем «вольво», где уже сидела Эдит, как я и ожидал, и еще одна пара, Рэтреи. Саймон Рэтрей, кажется, работал в «Стратт энд Паркер» и постоянно рассуждал об охоте. Его жена Венеция говорила очень немного и в основном о своих детях. Мы осторожно продвигались по М4 и через Большой Виндзорский парк, пока не подъехали к несколько мрачноватой парковке ипподрома, где Дэвиду предстояло оставить машину. Ему никогда не доставалось место номер один, и это из года в год служило для него источником раздражения, которое он постоянно срывал на Изабел, когда она обращала его внимание на дорожные знаки. Мне это не мешало: для меня это стало неотъемлемой частью поездки с ними в Аскот (как, например, одно из моих самых живых детских воспоминаний – мой отец под Рождество кричит на непослушную электрическую гирлянду).
Вскоре машина уже благополучно стояла около определенного ей номера, и мы распаковали ланч. Было очевидно, что Эдит не приняла в его приготовлении никакого участия, и Изабел и Венеция немедленно взяли все в свои руки, они суетились, звенели посудой, что-то резали, смешивали, пока пиршество не предстало перед нами во всем своем великолепии. Мужчины и Эдит наблюдали за происходящим с безопасного расстояния, сидя на раскладных стульях и сжимая в руках пластиковые стаканчики с шампанским. И как всегда, в этих приготовлениях было что-то очень трогательное, ведь всю эту еду нам предстояло проглотить как можно скорее. Едва мы успели придвинуть стулья к шаткому столику, как Изабел – и это тоже было частью ритуала – посмотрела на часы:
– Нам придется поторопиться. Уже без двадцати пяти два.
Дэвид кивнул и положил себе клубники. День был расписан по минутам, заполнен традициями и предсказуем, как рождественская месса. Очень важно было оказаться на трибуне к моменту прибытия из Виндзора представителей королевской семьи и их гостей, и добраться туда надо было достаточно рано, чтобы занять хорошие места и ничего не пропустить. Эдит глянула на меня и закатила глаза, но мы оба послушно проглотили кофе, прикололи бейджи и направились к скаковому кругу.
Мы миновали распорядителей у входа, усердно отделявших зерна от плевел. Как раз перед нами двоим посетителям не повезло, их не пустили внутрь, не знаю только, бейджи у них были неправильные или одежда не соответствовала случаю. Эдит сжала мою руку и снова улыбнулась мне своей таинственной улыбкой.
– Что тебя рассмешило?
Она покачала головой:
– Ничего.
– А что тогда?
– У меня есть одна маленькая слабость, люблю проходить туда, куда других не пускают.
Я рассмеялся:
– Бывает. Не ты одна такая. Но признаваться в этом – недостойно.
– Бог мой! Боюсь, я очень недостойный человек. Надеюсь, меня за это не задержат на входе?
В этих нескольких фразах есть одна интересная деталь – искренность. Эдит была типичной представительницей своего племени, слоун-рейнджер[4], но я уже начал понимать, что она очень трезво оценивала жизнь и свое положение в обществе, что и приводило собеседника в замешательство, ведь такие девушки обычно устраивают целое представление, тщательно разыгрывая неведение. Ее отличало вовсе не желание попасть в круг избранных. Англичане, причем представители самых разных классов, жить не могут без ощущения исключительности. Заприте в комнате троих англичан – и они тут же придумают правило, согласно которому четвертый не будет иметь права к ним присоединиться. Но, в отличие от Эдит, многие, и уж точно все франты до единого, изо всех сил притворяются, что они этого не замечают. Любой аристократ (или стремящийся таковым казаться) встретит непонимающим взглядом и напускным недоумением предположение, что быть приглашенным в гости туда, куда простые люди должны покупать билеты, или пропущенным в комнаты, когда другие вынуждены остаться за дверью, может доставить удовольствие. Умудренная опытом матрона, возможно, еще и намекнет легким движением бровей, что сама мысль об этом уже указывает на отсутствие хороших манер. Все это, естественно, настолько лживо, что дух захватывает, но, как обычно бывает с подобными людьми, стойкость и непоколебимость, с которыми они придерживаются своих правил, вызывают определенное уважение.
Должно быть, мы замешкались, остальные уже стояли на ступенях трибуны и махали нам: свободного места оставалось все меньше. Шум моторов вдалеке сообщил нам, что кортеж уже близко, и лакеи, или распорядители, или кто они там, бросились открывать ворота. Эдит подтолкнула меня локтем и кивнула в сторону Изабел, когда показался первый открытый автомобиль, где сидела ее величество и смуглый премьер какого-то нефтяного государства. Как и остальные мужчины, я снял шляпу с совершенно искренним воодушевлением, но выражение лица Изабел просто приковывало мой взгляд. У нее были безжизненно-экстатические глаза, как у кролика перед удавом, она была почти в трансе от восторга. Чтобы оказаться среди приглашенных в королевский кортеж, Изабел согласилась бы на медленную смерть. По-моему, это только подтверждает, что, как бы более образованные классы ни презирали склонность массовой публики поклоняться певцам и актерам, они сами не менее подвержены фантазиям, если их преподнести в удобоваримой форме.
Честно говоря, в том году процессия была не самая блестящая. Принц Уэльский, воплощенное совершенство в глазах Изабел, не приехал, да и другие принцы тоже. Единственной представительницей младшего поколения королевской семьи была Зара Филлипс, одетая в яркий, открытый пляжный костюм. Эдит самым непочтительным образом критиковала проезжавших, чем очень раздражала Изабел и женщину с голубыми волосами, стоявшую рядом. И чтобы больше не портить им удовольствие, мы повернулись и собрались уйти, как вдруг за моей спиной раздался голос:
– Привет, как поживаете?
Я обернулся и оказался нос к носу с Чарльзом Бротоном. На этот раз неловкой сцены со вспоминанием имен не последовало. Что мне нравится на королевской трибуне, так это то, что все носят бейджи с именами. Здесь уже не нужно мяться, пытаясь заново представиться кому-то, и никто не притворяется, что уже с вами знаком. Беглый взгляд на лацкан пиджака или на платье незнакомки – и все в порядке. Вот бы карточки с именами были обязательным аксессуаром на всех светских мероприятиях. На бейдже Чарльза значилось «Граф Бротон» – округлый, разборчивый почерк благовоспитанных девиц из аскотской конторы.
– Привет, – сказал я. – Помните Эдит Лавери? – Именно так следует говорить, когда вы почти уверены, что человек позабыл представляемую вами особу, но на этот раз я ошибся.
– Конечно помню. Вы та, которой можно не опасаться, и живете в Лондоне.
– Ну, надеюсь, в какой-то мере меня опасаться все-таки стоит, – улыбнулась Эдит и по собственной инициативе или по приглашению Чарльза взяла его под руку.
Истоны и Рэтреи буквально напирали на нас, я спиной почувствовал их разочарование, когда предложил прогуляться к загонам. Это может показаться жестокостью и, возможно, говорит о моей глубокой неуверенности в себе, но мне было стыдно за энтузиазм бедняжки Изабел и просто зловещее честолюбие Дэвида. К счастью, Чарльз, который все-таки был парнем вежливым, приветственно кивнул Изабел, и хотя этим же жестом он с ней и попрощался, но показал, по крайней мере, что узнал ее. Дэвид, кипя от ярости, попятился, и мы втроем направились к загонам, где уже выводили лошадей к первому заезду.
Нетрудно было предугадать, что Чарльз оказался неплохим знатоком лошадей, и очень скоро он уже с удовольствием рассуждал о формах крупа и копытах, что меня ни в малейшей степени не интересовало, но мне занятно было наблюдать, с каким зачарованным, лестным вниманием смотрела на него снизу вверх Эдит. Такие женщины, кажется, владеют этой техникой с рождения. На ней был аккуратный костюм из льняного полотна голубовато-зеленого цвета, по-моему, он называется eau-de-nil, и маленькая плоская круглая шляпка без полей, сдвинутая чуть на лоб. В этом наряде она выглядела легкомысленной, но, по сравнению с матронами из Уэйбриджа с их оборками из органзы, не сентиментальной, а элегантной. Казалось, что она девушка сообразительная и с чувством юмора, а ее лицо, как я к этому времени уже успел заметить, было чрезвычайно привлекательно. Пока она рассматривала свою карточку и делала карандашом Чарльза пометки рядом с кличками лошадей, я наблюдал, как он смотрит на нее, и, наверное, именно в этот момент мне впервые пришло в голову, что он может испытывать к ней какие-то серьезные чувства. Не то чтобы это меня удивило. У нее было все необходимое. Эдит хороша собой, остроумна, и, как она сама отметила, ее можно не опасаться. Она была не его круга, но ни образом жизни, ни манерой речи нисколько не отличалась от людей, с которыми он привык общаться. Существует популярное заблуждение, что по поведению и манерам можно с первого взгляда отличить представителя среднего класса, пусть сколь угодно обеспеченного, от миллионера и аристократа. По правде говоря, в обыденном общении они почти на одно лицо. Конечно, круг знакомств аристократа значительно уже, что неизбежно влечет за собой чувство избранности, принадлежности к некоему закрытому клубу. И потому они склонны выражать свое ощущение социальной защищенности бесцеремонным и просто грубым обращением, что нисколько не мешает им самим, но больно задевает любого постороннего человека. Но, кроме этого (а грубости научиться очень легко), разницы в их поведении на людях почти никакой. Так что Эдит Лавери определенно была именно той девушкой, которая подходила Чарльзу.
Мы посмотрели пару забегов, но я чувствовал, что Эдит самым деликатнейшим образом пытается от меня избавиться, и потому, когда Чарльз неизбежно предложил выпить чая в клубе «Уайтс», я извинился и отправился искать остальных. Эдит оглянулась на меня с благодарностью, и рука об руку они направились прочь. Я нашел Изабел и Дэвида у одной из стоек с шампанским за трибуной, они пили теплый «Пиммз». Лед у официантов закончился.
– Где Эдит?
– Пошла в «Уайтс» с Чарльзом.
Дэвид надулся. Бедняга! Ему так и не удалось добиться, чтобы его пригласили в «Уайтс» в Аскоте, ни в старую палатку, ни, насколько мне известно, в новое, более современное помещение. Он руку бы отдал, чтобы стать там завсегдатаем.
– Здорово, – выговорил он, скрипя зубами. – Я бы не отказался от чашечки чая.
– По-моему, они должны встретиться с остальными из компании Чарльза.
– Не сомневаюсь.
Изабел, в отличие от него, молчала, только потягивала тепловатую жидкость, где, как полагается, плавали четыре ломтика огурца.
– Мы договорились встретиться у машины после предпоследнего забега.
– Ладно, – мрачно отозвался Дэвид, и мы погрузились в молчание.
Изабел – и это говорило в ее пользу – казалась скорее заинтересованной, чем раздраженной, разглядывая свой неаппетитный напиток.
Эдит уже стояла, прислонившись к запертой машине, когда мы подошли, и я с первого взгляда понял, что день у нее выдался удачный.
– Где Чарльз? – спросил я.
Она кивнула в сторону трибуны:
– Ему нужно найти тех, у кого он сегодня ночует. Он приедет еще завтра и в пятницу.
– Удачи ему.
– А вы как время провели?
– Неплохо, – ответил я. – Но до тебя нам далеко.
Она рассмеялась и ничего не сказала, и тут подошел Дэвид и открыл автомобиль. Он не упомянул Чарльза и держался с Эдит достаточно натянуто, а потому она не стала сообщать всем, а только прошептала мне на ухо, что Чарльз пригласил ее на обед в следующий вторник. Оставить новость при себе было, конечно же, выше ее сил.
Глава третья
Эдит сидела у своего туалетного столика, нежная и ароматная, только что из ванной, и готовилась нарисовать на лице светскую маску. Она не сказала матери, с кем именно ужинает сегодня, и теперь размышляла, почему так поступила. Это известие, несомненно, доставило бы Стелле немало удовольствия. Возможно, именно опасаясь ее излишнего энтузиазма, Эдит и предпочла умолчать о своем спутнике. И в любом случае на этом этапе Эдит еще не решила, есть ли у этого знакомства, как выражаются в журналах, будущее.
Эдит Лавери ни в коей мере не была склонна к беспорядочным связям, но к этому моменту она уже, естественно, давно не была девственницей. В свое время у нее было несколько парней, ничего серьезного лет до двадцати трех, а потом появился биржевой брокер, по поводу которого она решила, что, когда он сделает ей предложение, она согласится. Они встречались около года, много ездили к друзьям на уик-энд, их объединяло немало общих интересов, и в целом они были счастливы, по крайней мере не хуже многих. Парня звали Филип, его мать была довольно благородного происхождения, у него водились деньги – достаточно, чтобы обосноваться в Клэпхеме, – и, по правде говоря, все вроде бы шло хорошо, а потому Эдит была удивлена больше всех, когда однажды вечером он, запинаясь, объяснил ей, что встретил другую и все кончено. Несколько секунд Эдит просто ничего не могла понять. Отчасти потому, что местом признания он выбрал «Сан-Лоренцо» в Бичамп-плейс, где посетители за двумя соседними столиками слышали каждое их слово, отчасти потому, что, даже призвав всю свою скромность, она представить не могла, что такого могло быть в этой «другой», чего не было в самой Эдит. Они с Филипом нравились друг другу, хорошо смотрелись вместе, оба любили проводить выходные за городом, оба катались на лыжах. В чем проблема?
Так или иначе, Филип ушел, а три месяца спустя она получила приглашение на его свадьбу. Эдит согласилась и пришла туда вся такая великодушная и (что входило в ее планы) восхитительная. Невеста была не красивее ее, естественно, и в ней не было ничего необычного, честное слово. Но, наблюдая, как та смотрит на Филипа снизу вверх, не отрываясь, будто перед ней бог на земле, Эдит почувствовала легкое подозрение, от которого ей стало неуютно, что вот именно в этом и кроется разгадка.
Потом ее еще приглашали на свидания, но не слишком часто. Один из кавалеров, агент по недвижимости по имени Джордж, продержался полгода, но только потому, что впервые ей попался по-настоящему хороший любовник, и новые ощущения, которые он ей открыл, заставили ее некоторое время закрывать глаза на его недостатки. Но однажды в Хенли, куда он привез ее, трогательно вообразив, что это великосветское мероприятие, пока они обедали в одной из палаток только для своих, она посмотрела на него через стол – он громко хохотал и так широко открывал рот, что были видны десны, – и поняла: он ее просто пугает. Дальше это был только вопрос времени.
Ее родители очень огорчились из-за Филипа, он им нравился, и совсем не огорчились из-за Джорджа, и в целом не придерживались вообще никакого мнения по поводу остальных, которые мельком появлялись в Элм-Парк-Гарденс, но Эдит начала замечать, что завуалированные намеки и полушутливые, полувстревоженные замечания матери участились после ее двадцать седьмого дня рождения. И впервые она почувствовала приближение паники. Допустим только, для удобства рассуждения, ради примера, что никто так и не сделает ей предложения. Что она станет делать?
Что, скажите на милость, ей тогда делать?
Но ведь, подумала она, снимая бигуди и доставая щетку, все может так внезапно измениться. Быть женщиной – совсем не то же самое, что быть мужчиной. Мужчины либо рождаются обеспеченными, либо долгие годы корпят на работе, чтобы заработать состояние, а женщины… Сегодня женщина может быть беднее церковной мыши, а завтра оказаться богатой, или, по крайней мере, замужем за богатым человеком. Может быть, сейчас и не принято это признавать, но даже в наш бурный век удачно подобранное кольцо может кардинально изменить жизнь женщины.
После подобных рассуждений легко можно представить себе Эдит грубой, даже отвратительно расчетливой особой в этот период ее жизни, но это было бы несправедливо. И это очень удивило бы ее саму. Если спросить ее, меркантильна ли она, она бы сказала, что она человек практичный. Присущ ли ей снобизм? Скорее житейская мудрость и любовь к жизненным благам. В конце концов, читает же она романы, ходит в кино, она знает, что такое счастье, и верит в любовь. Но она видела перед собой только светскую карьеру (как же иначе?), а раз так, то как ей достичь хоть чего-нибудь без денег и положения в обществе? Конечно, к 1990-м годам подобные цели в жизни уже считались вышедшими из моды, но Эдит не обладала необходимыми качествами, чтобы основать империю фитнеса или начать издавать новый журнал. Что касается настоящих профессий, здесь она упустила свой шанс, а теперь с окончания школы прошло уже десять лет. И ведь желание жить в достатке больше не считается старомодным. Поколение ее детства, питавшееся коричневым рисом и носившее широкие юбки в сборку, уступило место более напористому, посттэтчеровскому миру, и разве ее мечты в каком-то смысле не соответствуют веяниям времени?
И все же, несмотря на свое честолюбие, она, пусть и неохотно, соглашалась с мыслью, что именно мужчина откроет перед ней золотые ворота в новую, прекрасную жизнь, и было бы неверно сказать, что по сути своей Эдит была снобом. Особенно по сравнению с ее матерью. Она сама сказала, что ей больше нравится быть внутри и смотреть из окна наружу, чем стоять под окнами и пытаться заглянуть внутрь, но ее больше интересовала самореализация (или власть, если говорить прямее), чем знатность. Ей хотелось быть в центре событий. Ей нужен был победитель, а не человек с хорошей родословной. Без крайностей. Она не искала просто удачливого уличного торговца, но и графа она тоже не искала. Возможно, именно поэтому граф ей и достался.
Она разглядывала свое отражение в зеркале. На ней было короткое черное шелковое платье – ее мать назвала бы это маленьким черным платьем, – извечный оплот лондонской леди. Оно было хорошо сшито, довольно дорого стоило. Кроме браслета со стразами, никаких украшений. Она была красива и изящно одета, с тем легким оттенком строгости, который англичане определенного типа находят интригующим. Она осталась довольна. Эдит не отличалась тщеславием, но была рада или, скорее, испытывала облегчение, что ей не выпало на долю маяться с некрасивым лицом. В дверь позвонили.
Она задумалась, не попросить ли Чарльза просто подождать внизу, но тогда он мог бы подумать, что она скрывает что-нибудь значительно более компрометирующее, чем очень обычный отец и снобка-мать, поэтому она решила пригласить его наверх, но представить по-американски, только по имени. Эту новомодную привычку она, вообще-то, не любила, потому что так за кадром оставалась единственная часть имени, которая может нести хоть какую-то информацию. Но мать поставила ей мат в два хода.
– Чарльз, а дальше? – спросила она, пока Кеннет разливал напитки.
– Бротон. – Чарльз улыбнулся.
Эдит почти слышала, как в голове у матери шевелятся и бродят мысли, складываясь в планы и расчеты, но недаром ее мать всю жизнь была страстной поклонницей Елизаветы I. Улыбка не дрогнула на ее лице.
– И где вы познакомились с Эдит?
– Мы встретились в Суссексе, в доме моих родителей.
– Когда я ездила к Изабел и Дэвиду.
– А, так вы знакомы с Истонами?
Чарльз кивнул, и Эдит была ему за это благодарна. Он был не готов сказать: «Нет, я их не знаю, и нас познакомили не на частной вечеринке, я встретился с вашей дочерью, когда она купила билет, чтобы осмотреть мой дом». В этом не было ничего страшного, никаких скрытых смыслов, но тогда вечер начался бы несколько странно.
Как бы там ни было, избежав этой ловушки, Эдит постаралась поскорее закончить разговор, не желая рисковать еще раз. Итак, она не только не была взволнована, но, напротив, вздохнула с облегчением, когда они сели в блестящий «порше», ожидавший их внизу.
– Я подумал, не поехать ли нам в «Аннабелс»?
– Прямо сейчас? – От удивления она не успела подредактировать свою реплику.
– Что-то не так? Ну, мы можем поехать куда-нибудь еще… – На лице Чарльза отразилась легкая обида, и Эдит стало неловко за то, что она вот так, с ходу, отмахнулась от того, чем он, возможно, хотел ее порадовать. А от мысли, что он спланировал вечер специально для нее, ей стало тепло на душе.
– С удовольствием. – И она с симпатией улыбнулась ему, его открытому, располагающему, немного простоватому лицу. – Просто я обычно попадала туда позже. По-моему, я там ни разу не ужинала.
– Мне там нравится.
И они погрузились в молчание, пока машина не остановилась у знаменитого входа на Беркли-сквер. Чарльз вышел и отдал ключи портье. Когда Эдит случалось приходить сюда с кем-нибудь раньше, они всегда парковались на площади, а до клуба шли пешком. Ей стало уютно от осознания, что сейчас она с человеком, которому незачем искать обходные пути. Они спустились вниз по лестнице и вошли. Чарльз расписался в книге посетителей, а со всех сторон наперебой раздавалось: «Добрый вечер, милорд».
В баре практически никого не было, ресторан казался еще более пустынным. На безлюдном танцполе было сумрачно, черные зеркала, в которых никто не отражался, навевали грусть. Сначала Чарльз как будто растерялся, а потом смутился:
– Вы правы. Еще слишком рано. Кажется, раньше десяти тут почти никого не бывает. Хотите, мы пойдем куда-нибудь еще?
– Спасибо, не хочу. – Она слегка улыбнулась и устроилась на диванчике. – А теперь расскажите, что здесь стоит заказывать.
Она еще не составила окончательного мнения о Чарльзе, но одно знала точно: этот вечер будет очень удачным, чего бы ей это ни стоило. Меню на несколько минут предоставило им тему для непринужденной беседы, что было очень кстати. Чарльз разбирался в кухне и напитках и с удовольствием взял все в свои руки, хотя, по правде говоря, она попросила его совета, только чтобы оказаться в роли беспомощной скромницы, пай-девочки, на которой так хочется жениться. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы он начал извиняться. Это она уже знала по опыту. Но он сделал выбор очень удачно, и обед получился чудесный.
Чарльза Бротона нельзя было назвать красивым. Для этого у него был слишком большой нос и слишком тонкие губы. Но при свечах он был довольно привлекателен. Он выглядел настоящим английским джентльменом, будто его специально подбирали на эту роль, и Эдит чувствовала, что ее влечет к нему и чисто физически. Значительно сильнее, чем она предполагала. Она была несколько удивлена, обнаружив, что с нетерпением ждет, когда он пригласит ее танцевать.
– Вы много времени проводите в Лондоне? – спросила она.
Он покачал головой:
– Нет, боже упаси! Как можно меньше.
– Так обычно вы живете в Суссексе?
– Бо́льшую часть времени. У нас есть еще дом в Норфолке. Мне приходится ездить туда время от времени.
– Забавно. Я думала, вы человек светский.
– Я? Вы шутите! – Он громко рассмеялся. – Почему бы это?
– Не знаю.
Она знала, но была не готова признаться, что читала о нем в колонках светской хроники. А так как они столкнулись в Аскоте, все это вместе складывалось в достаточно стройный образ. Это ошибочное впечатление она сохраняла еще некоторое время, пока наконец не выяснила, что к чему.
А правда заключалась в том, что, как и большинство представителей рода людского, Чарльз ходил на вечеринки, если его приглашали и если ему нечем больше было заняться, но друзей у него было немного, и почти всех их он знал с детства. Он считал себя исключительно сельским жителем, помогал отцу управлять поместьями и домами, которые Бог счел должным доверить его заботам. Он никогда специально не раздумывал об этом и не сопротивлялся своему положению, но и не пользовался им без необходимости. Если он и задумывался иногда о знатности и доставшемся ему в наследство состоянии, то мог бы только сказать, что считает, что ему очень повезло. Впрочем, вслух бы он этого не произнес.
В противоположность представлению Эдит, он привез ее в «Аннабелс» не в качестве части тщательно разработанной стратегии завоевания ее сердца. Просто, хотя он и не признавался себе в этом, Чарльзу нравилось привозить девушек туда, где его знают. Это придавало ужину оживленность, чему анонимность совсем не способствовала.
Наступила его очередь что-нибудь сказать.
– Вам случалось жить в сельских краях?
– Не часто. – Как только Эдит произнесла эти слова, она тут же осознала, что ответ получился странный, потому что за всю жизнь она и получаса не жила в деревне. Школа-интернат, конечно же, не считается. И все-таки сельская местность ей нравилась. Она часто приезжала туда на выходные и погостить. Она ездила на охоту с мужчинами и стояла рядом, пока они поджидали дичь. Она не раз ездила верхом. Так что она не совсем соврала. Она пояснила: – Ну, вы понимаете, дела моего отца требуют…
Чарльз кивнул:
– Полагаю, ему приходится немало путешествовать.
Эдит пожала плечами:
– Да, немало.
Надо сказать, что Кеннету Лавери приходилось вот уже тридцать два года подряд ежедневно путешествовать от метро до одного и того же офиса в центре. Один раз ему довелось съездить в Нью-Йорк и один раз в Роттердам. Все. Но этого она не стала уточнять. Это легкое смещение акцентов так никогда и не было исправлено. С этого момента у Чарльза навсегда осталось впечатление, что отец Эдит – этакий преуспевающий делец, проводящий полжизни в самолетах – из Гонконга в Цюрих и обратно. Но, создавая эту иллюзию, Эдит верно прочитала мысли Чарльза. Бизнесмен, постоянно недосыпающий из-за разницы во времени между часовыми поясами, – это все-таки значительно менее мелкобуржуазно, чем канцелярская крыса с постоянным проездным на одну и ту же линию метро; Чарльзу так значительно больше нравилось.
Прошло какое-то время, зал постепенно наполнялся людьми.
– Чарли!
Эдит подняла глаза: к их столику взяла курс хорошенькая брюнетка в коктейльном платье строгого покроя, усыпанном блестками. Ее сопровождал, вернее, она тащила на буксире настоящего кита. На нем был костюм – портному, должно быть, потребовалась целая штука шерстяной материи – и большой галстук в горошек. Когда они причалили, Эдит заметила, что по жирной красной шее новопришедшего струйками стекает пот.
– Джейн, Генри, добрый вечер. – Чарльз встал и кивнул в сторону Эдит. – Вы знакомы с Эдит Лавери? Генри и Джейн Камнор.
Джейн мимоходом и почти неощутимо пожала руку Эдит, затем снова обернулась к Чарльзу и, усаживаясь, налила себе вина.
– Умираю от жажды. Как поживаешь? Что с тобой случилось в Аскоте?
– Ничего не случилось. Я там был.
– Я думала, мы все вместе обедаем в четверг. С Уитерби и его женой. Мы тебя искали-искали, но потом махнули рукой. Камилла была страшно разочарована. – Джейн заговорщически улыбнулась Эдит, будто приглашая и ее посмеяться над шуткой. На самом деле она, конечно же, сознательно подчеркивала, что Эдит здесь чужая и понятия не имеет, о чем речь.
– Не понимаю, почему она была разочарована. Я и ей, и Энн говорил, что обедаю с родителями.
– О чем они тут же забыли. Ладно, теперь уже не важно. Кстати, скажи-ка, а ты едешь в августе к Эрику и Кэролайн? Они клялись и божились, но что-то это очень непохоже на тебя.
– Почему?
Джейн ленивым, змеиным движением пожала плечами:
– Не знаю. Ты вроде терпеть не можешь жару.
– Я еще не решил. А вы едете?
– Мы не знаем, правда, дорогой? – Она протянула руку к своему пыхтящему супругу и сжала его рыхлую ладонь. – Нас ждет еще так много дел в Ройтоне. Мы и дома-то почти не бываем с тех пор, как Генри занялся политикой. У меня ужасное предчувствие, что мы застрянем там на все лето. – Она улыбнулась еще шире, уже не только Чарльзу, но и Эдит.
Эдит улыбнулась в ответ. Ей не в новинку была эта острая потребность представителей высших классов демонстрировать, что они знают друг друга и регулярно занимаются одним и тем же с одними и теми же людьми. Сейчас перед ней был довольно экстремальный пример этого менталитета закрытых вечеринок, но, глядя на лорда Камнора, он же Генри Зеленый Паровоз, нетрудно было догадаться, что Джейн пришлось многим пожертвовать ради своего нынешнего положения, каким бы оно ни было, и ей трудно было бы, даже мгновение, не придавать этому положению значения.
– Вы всерьез занимаетесь политикой? – спросила Эдит у Генри, который, похоже, все еще приходил в себя после изнурительного перехода через зал.
– Да, – сказал он и опять повернулся к остальным.
Эдит сначала чуть не пожалела его, но скоро заметила, что сам он не понимает, что достоин жалости. Его вполне устраивало быть самим собой. Так же как ему нравилось демонстрировать, что он знаком с Чарльзом и не знаком с Эдит. Но Чарльз совсем не собирался позволить Камнорам вести себя грубо с девушкой, которую он пригласил на ужин, и он, сознательно и не скрывая этого, снова подключил ее к разговору:
– Генри просто ужасно серьезный с тех пор, как получил свой пост. За что вы там боролись в последний раз? За обеспечение заключенным права соблюдать вегетарианскую диету?
– Ха-ха, – отозвался Генри.
Джейн пришла мужу на помощь:
– Не будь таким гадким. Он столько сделал для улучшения рациона наших граждан, правда, дорогой?
– Не уменьшая при этом собственного, как я понимаю, – улыбнулся Чарльз.
– Смейся-смейся, они еще придут за тобой, когда твой отец сыграет в ящик. Вот увидишь, – пригрозила Джейн.
– Не придут. В следующий раз победят лейбористы и отменят право наследования, ты и ахнуть не успеешь.
– К чему такой пессимизм? – Джейн и слышать не хотела, что миру, на который она поставила все, грозит исчезновение. – И вообще, у них годы уйдут, чтобы придумать систему распределения мест в палате лордов получше существующей, а пороть горячку они не станут.
Чарльз встал и пригласил Эдит на танец.
Она подняла на него полувопросительный взгляд, пока они шаркали ногами на площадке, уже забитой под завязку иранскими банкирами и их любовницами.
– Генри неплохой парень, – улыбнулся Чарльз.
– Он ваш близкий друг?
– Что-то вроде кузена. Мы с детства знакомы. Боже, ну и растолстел он, правда? Настоящий дирижабль.
– Они давно женаты?
– Четыре-пять лет, по-моему, – покачал головой Чарльз.
– А дети у них есть?
– Две дочери, – усмехнулся он. – Бедный старина Генри. Его заставляют пить портвейн, есть сыр и еще бог знает что.
– Зачем?
– Чтобы родился мальчик, зачем еще? Им чертовски нужен наследник.
– А если у них так и не будет сына?
– Братьев у него нет. – Чарльз нахмурился. – По-моему, титул достанется какому-то парню из Южной Африки, а вот кому отойдет состояние, этому парню или девочкам, я не уверен. Но они оба еще довольно молоды. Еще пара попыток у них есть, я думаю.
– Это может стать им довольно дорого.
– Это точно. Никогда не угадаешь, когда стоит остановиться. Взять хотя бы Кланвильямов. Шесть девчонок, и только тогда они угомонились, а в наше время с этим даже тяжелее, чем раньше.
– Почему?
– А вы как думаете? Даже девочек надо отправлять в приличные школы.
Еще какое-то время они танцевали молча, только Чарльз изредка кивал проплывающим мимо знакомым. Эдит с благодарностью узнала двух девушек, с которыми познакомилась в год своего выхода в свет, и ослепительно им улыбнулась. Заметив, с кем она, они помахали ей в ответ, и она почувствовала себя не такой невидимой. Когда они вернулись к столику, Эдит уже начала думать, что очень даже неплохо проводит время.
Камноры сидели все там же, и когда Эдит с Чарльзом подошли к столику, Джейн вскочила на ноги и схватила Бротона за руку:
– Пора тебе и со мной потанцевать. Генри терпеть не может танцев. Пойдем.
Она повела Чарльза обратно, оставив Эдит наедине со своим свиноподобным мужем.
Он неопределенно улыбнулся:
– Она всегда так говорит. А я совсем ничего не имею против танцев. Не хотите попробовать?
Эдит покачала головой:
– Нет, с вашего позволения, надеюсь, вы меня простите. Я очень устала. – От одной мысли о том, чтобы прижаться к этому необъятному брюху, у нее мурашки шли по коже.
Он кивнул с философским спокойствием. Очевидно, ему не впервой было получать отказ.
– Вы хорошо знаете Чарли?
– Нет. Мы недавно познакомились за городом, а потом встретились в Аскоте, и вот я здесь.
– Где именно? Кто там еще был? – Он слегка оживился, предвкушая еще немножко поиграть в имена.
– С Истонами. В Суссексе. Дэвид и Изабел. Вы их знаете? – Эдит прекрасно понимала, что не знает. И оказалась права.
– Я знаю Чарли с самого детства.
Эдит лениво попыталась подыскать подходящий ответ.
– По-моему, я ни с кем так долго не знакома. Разве что с родителями, – со смехом добавила она.
Генри оставался столь же суров и сдержан.
– Мм, – отозвался он.
Эдит попробовала еще раз:
– Кто такие Эрик и Кэролайн?
– Кэролайн – сестра Чарльза. Ее я тоже знаю с раннего детства. – Он мягко кивнул самому себе, удовлетворенный таким длительным знакомством. – Эрик – это тот тип, за которого она вышла.
– Я так понимаю, с ним вы не знакомы с детства.
– В глаза его не видел до свадьбы.
– Он приятный человек?
– Не могу вам сказать.
Очевидно, по мнению Генри, Кэролайн совершила нечто крайне непристойное. В этом межвидовом браке двух незнакомых ей людей было что-то преступное. Эдит почувствовала, что и сама оказалась на грани грубого нарушения приличий только потому, что заговорила об этом наглом чужаке.
– А где это – Ройтон?
На этот раз на лице Генри выразилось скорее удивление, чем отвращение. То, что она не знает местонахождение Ройтона, очевидно, означало, что она эксцентричная особа.
– Норфолк.
– Там хорошо? – Эдит испытывала почти физическую усталость от попыток занять Генри, будто она не беседу поддерживала, а вспахивала неподатливую целину.
Он пожал плечами и поискал глазами бутылку, чтобы налить себе еще стаканчик.
– Люди вроде так говорят.
Эдит открыла рот и готова была попробовать еще раз, но закрыла его, так и не произнеся ни звука. Ей еще много раз придется поразиться, какими тиранами становятся люди от простого неумения общаться. Из сил выбиваешься, поддерживая вялый и скучный разговор, и все только для того, чтобы тупица-собеседник не догадался о своей несостоятельности. Самое смешное, что такие зануды и не подозревают о своем недостатке. Если бы Генри вообще заметил, что беседа тащится еле-еле, он бы, не задумываясь, обвинил во всем Эдит, ведь это она не знает ни одного из его знакомых. Тишина уже начинала угнетать, когда вернулись Чарльз и Джейн, и все оставшееся время они сплетничали о людях, которых Эдит никогда не видела.
– Какой чудесный вечер! – произнесла она, когда Чарльз остановил машину у ее дома. Он и не пытался припарковаться, явно понимая, что никакого сексуального продолжения у этой встречи не будет.
– Рад, что вам понравилось. Мне жаль, что нам помешали.
– Не стоит. Они мне понравились, – соврала Эдит.
– Да? – Он как будто слегка встревожился. – Я рад.
– Генри рассказывал мне о Ройтоне.
Чарльз кивнул, оказавшись на знакомой территории.
– Да, у них там дом по соседству с моим. Собственно, потому я с ними и знаком.
– А я так поняла, вы родственники.
– Ну, так и есть. Породнились где-то в тридцатых годах прошлого века. Но я их знаю, потому что мы живем по соседству.
– Звучит неплохо.
– Так и есть. Не знаю, хороший ли из старины Генри управляющий, но там довольно мило. Кроме того, денег у них куры не клюют, так что, наверное, это не важно. – Невооруженным глазом было видно, что Чарльз считает, что он-то великолепно управляет Бротоном.
Какое-то время они смотрели друг на друга не отрываясь. Эдит поняла, что очень даже не против, чтобы он ее поцеловал. Отчасти для того, чтобы быть уверенной в собственном успехе, и отчасти потому, что ей просто хотелось его поцеловать. Он неловко наклонился к ней и прижал свои губы к ее. Губы у него были неподатливые и плотно сжаты. Ага, подумала она. Скорее Филип, чем Джордж. Ладно. А вслух сказала:
– Спокойной ночи и еще раз спасибо. Я замечательно провела время.
– Вам спасибо, – ответил он, вышел из машины и проводил ее через дорогу до двери, но, прощаясь, целовать больше не пытался и о том, когда они увидятся снова, тоже не упомянул.
Справедливо будет сказать, что до этого момента Эдит и не замечала, что ждет от этой встречи чего-то большего, ей хотелось только убедиться, что Чарльз считает ее привлекательной, что ему приятно находиться в ее обществе и он хочет увидеться с ней снова. Но теперь, когда вечер заканчивался как-то скомканно, ее охватило разочарование, ощущение, что она упустила свой шанс. Что у нее была некая великолепная возможность, а она все испортила, причем даже не поняла толком как. И вот, с чувством сожаления о собственном провале, она прокралась на цыпочках в свою комнату, стараясь не разбудить мать, которая лежала, глядя в потолок, в своей спальне дальше по коридору.
А между тем Эдит совсем не стоило так огорчаться. Она плохо знала Чарльза и неправильно поняла его сдержанность. Люди обычно воспринимали его как приз, награду, за которую нужно бороться, и Эдит была уверена, что он о себе такого же мнения, но она ошибалась. Чарльз считал, что именно он, а совсем не Эдит отвечает за то, чтобы вечер удался. Он был застенчив (не из тех, кто грубит от смущения, а по-настоящему застенчив), а потому, хотя он и не мог этого продемонстрировать, ему очень польстило, что ей как будто бы нравилось проводить с ним время. И по правде говоря, вставляя ключ в замок квартиры своих родителей на Кадоган-сквер, Чарльз с удовольствием вспоминал прошедший вечер. Эдит ему очень приглянулась. Еще ни к одной девушке его так не тянуло. Уважая лицемерие как обязательную составляющую общения в нашем лицемерном обществе, он еще сильнее восхищался ею из-за того, что она сумела притвориться, что Камноры ей понравились, хотя было ясно: они, или как минимум Джейн, вели себя с ней весь вечер просто непотребно. Он открыл дверь и вошел в квартиру.
Лондонская квартира Акфилдов занимала первый и второй этажи одного из тех высоких голландских домов из красного кирпича, что окружают эту престижную, пусть и не совсем чарующую площадь. Это было довольно милое жилище, обставленное с той тщательно взвешенной смесью уюта и величественности, которую мать Чарльза переняла у Джона Фаулера и позже сделала своей характерной манерой. Картины, не самые лучшие из семейной коллекции, были тщательно подобраны таким образом, что создавали ощущение влиятельности и древности рода, но не подавляли пространство. Украшения, ковры, сами столы и стулья заявляли о положении семьи, но не оглушительно, а скромно, вполголоса. «Мы заглядываем сюда время от времени, – будто бы говорили артефакты, – но не судите о нас по этой обстановке». И точно так же никто из членов семьи, даже Кэролайн, прожившая здесь после замужества четыре года, не называла это место домом. Дом – это Бротон. «На следующей неделе я буду в квартире», «пойду-ка я в квартиру», «давай встретимся в квартире» – все это очень хорошо, но «мне пора домой», даже после затянувшегося за полночь приема в Лондоне, означало, что данный представитель семейства собирается в тот же вечер ехать в Суссекс. У этих людей может быть особняк на Честер-сквер и маленький коттедж в Дербишире, но вы можете не сомневаться, что «домой» – это туда, где под окнами растет трава. А если подобного убежища не существует в принципе, то они ясно дадут вам понять, что для хорошего самочувствия им жизненно необходимо как можно чаще сбегать из города погостить к своим сельским друзьям, прочь от дыма и пыльных мостовых, подразумевая, что, пусть им и приходится всю жизнь бродить между каменными стенами или сидеть за столом в Сити, в душе они навсегда останутся деревенскими жителями. Редко встретишь аристократа, который предпочитает Лондон, по крайней мере такого, кто честно бы в этом признался.
У Чарльза была и своя квартира, несколько скромных, тесных комнат на четвертом этаже на Итон-плейс, но он обычно о ней не вспоминал. На Кадоган-сквер было приятнее и уютнее, и там он в любое время мог спуститься за почтой, не привлекая пристального внимания соседей. Но, может быть, потому, что Бротон-Холл создавался вкусами многих поколений, каждый раз, приезжая в городскую квартиру, где всегда останавливалась его мать, он повсюду чувствовал отпечаток ее личности. Настоящая лондонская штаб-квартира Бротонов – Бротон-Хаус – была разрушена прямым попаданием бомбы во время воздушных налетов во Вторую мировую, и потому им не пришлось, в отличие от многих своих родственников, мучительно решать по окончании войны, разумно ли будет отказаться от дома в городе. Бабка и дед Чарльза приобрели довольно сырую квартиру в Альберт-Холл-Мэншнс, от которой его мать отказалась не раздумывая, и именно она выбрала и создала из ничего это жилище в качестве достойных декораций для благотворительной работы и развлечений, которые время от времени требовали ее присутствия в столице.
Усевшись в кресло со стаканом виски на сон грядущий, Чарльз задумался о своей матери. Он смотрел на эскиз в красивой рамке, изображавший семилетнюю Хэрриет Триван (девичья фамилия леди Акфилд). Набросок работы Аннигони стоял на небольшом столике эпохи регентства рядом с камином в гостиной. Даже у этой маленькой девочки с лентой в угольно-черных кудрявых волосах он заметил знакомый непреклонный, кошачий взгляд. Пора было взглянуть правде в глаза. Эдит не понравится его матери. Это он знал наверняка. Если бы Эдит представили его матери в качестве жены кого-нибудь из друзей, девушка могла бы ей даже приглянуться, если бы леди Акфилд вообще ее заметила, но в качестве девушки Чарльза ее встретят отнюдь не с распростертыми объятиями. И еще меньше, если вдруг так сложатся обстоятельства, его матери понравится перспектива приветствовать Эдит как свою преемницу, как женщину, заботам которой ей придется в будущем доверить свой дом, свое положение, то самое графство, на благо которого она так усердно и так долго трудилась.
Сказанное совсем не означает, что Чарльз не испытывал симпатии к своей маме. Напротив, он очень любил ее. Он видел то, что таилось за светским образом настоящей леди, совершенной во всех отношениях, и это ее истинное «я» вызывало у него симпатию. Леди Акфилд очень нравилось создавать видимость, что все в этой жизни ей принесли на блюдечке, а ей не пришлось и пальцем шевельнуть. Она предпочитала, чтобы ей завидовали, а не жалели ее, и всю жизнь старалась, как поется в песенке, прятать горести в косметичку и улыбаться судьбе. Как правило, ей это давалось без особого труда, потому что она считала собственные беды не менее скучными, чем чужие, но Чарльз уважал ее философию и любил мать за нее. Он, возможно, не в полной мере осознавал, насколько в постоянных попытках сохранять хорошую мину она всего лишь хранила верность принципам своего класса.
Представители высших классов в целом жаловаться не любят. Они предпочтут скорее не распространяться об этом. Короткая прогулка и стаканчик чего-нибудь покрепче – вот какие способы они выбирают, чтобы оправиться от ударов судьбы, и не важно, поразила злодейка их сердце или кошелек. Уж сколько было написано в бульварных газетах об их холодности, однако от обычных людей их отличает совсем не бесчувственность, а привычка не показывать своих чувств. Естественно, они не считают это своим недостатком и отнюдь не восхищаются публичным проявлением эмоций у других. Их искренне поражает открытое горе рабочего класса: скорбящие матери, которых, поддерживая под руки, чуть не вносят в церковь, фотографии солдатских вдов, обливающихся слезами над его последним письмом. Одна мысль об этом заставляет содрогнуться любого истинного представителя благородного семейства. И конечно же, они не понимают одного: такие трагедии, несчастные случаи, автокатастрофы на М3 предоставляют даже самому заурядному человеку, потерявшему родных и близких, может быть, единственную в его жизни возможность получить, пусть мимолетную, толику известности. В кои-то веки он может утолить ту самую, чисто человеческую жажду внимания, добившись, чтобы общество признало его бедственное положение. Этой потребности представители высших сословий не понимают, потому что не разделяют ее. Известность достается им от рождения.
Среди многих битв, которые вела его мать, Чарльзу по-настоящему хорошо известна была только одна – война, которую вела леди Акфилд с его бабушкой, вдовствующей маркизой, не самой простой свекровью. Бабушка была высокая, худощавая, с характерным профилем, дочь герцога, и ее совсем не впечатлила хорошенькая маленькая брюнеточка, которую сын привел в дом. Старая леди Акфилд стала королевой Марией[5] для леди Элизабет Боуз-Лайон[6] в исполнении ее невестки, и отношения между ними никогда не были теплыми. Даже после того, как ее муж передал все дела сыну, в те времена, когда Чарльз был уже во вполне сознательном возрасте, вдовствующая маркиза не изменила своего отношения к невестке. Все так же пыталась менять ее распоряжения экономке, лично давать инструкции садовникам и отменять заказанные у бакалейщика товары с тем, чтобы заменить их на более «подходящие», – до самой своей смерти, которая по большому счету осталась неоплаканной. Все эти попытки были безуспешными, ибо она утратила свою власть в результате единственного случая, когда между свекровью и невесткой произошло столкновение, одна мысль о котором невольно заставляла Чарльза улыбнуться.
Вскоре после того, как она была свергнута с престола, бывшая хозяйка Бротон-Холла велела перевесить по-новому развешенные в салоне картины, пока леди Акфилд была в Лондоне. Вернувшись и обнаружив, что ее предписания нарушены, новая леди Акфилд настолько разозлилась, что впервые в жизни она, как теперь выражаются, вышла из себя. Это привело к настоящей сваре с воплями и взаимными обвинениями – уникальному событию в истории этого салона по крайней мере с окончания XVIII века, когда нравы были более свободными. К восторгу и ликованию прислушивавшейся к крикам прислуги, леди Акфилд объявила свою свекровь невоспитанной выскочкой и назойливой старой стервой.
– Выскочка?! – взвизгнула вдовствующая маркиза, выбрав из списка оскорблений то, что сумело пробить ее панцирь. – Выскочка! – И, высоко подняв голову и печатая шаг, она величественно покинула дом с намерением никогда больше не появляться на его пороге.
Мать много раз говорила Чарльзу, что очень сожалеет о случившемся и что она испытала огромное облегчение, когда старая леди Акфилд, продемонстрировав свое отношение, все-таки стала появляться в Бротоне на традиционных праздниках. Но в этом сражении она одержала победу и добилась желаемого. С этого момента хозяйкой в доме стала молодая маркиза, и ни в доме, ни в поместье, ни в деревне ни у кого не осталось на этот счет никаких иллюзий.
По этой и по многим другим причинам, простым и сложным, Чарльз восхищался своей матерью и уважал ее самодисциплину. Он восхищался даже тем, как она уживалась с глупостью своего мужа, никогда не упоминая этого факта и не выказывая ни малейшего раздражения. Он знал, что и сам, пусть и не был настолько же туп, как его отец, особой сообразительностью не отличался. Мать хорошо направляла его по жизни, не давая слишком отчетливо осознать свои изъяны, но тем не менее они не были для него тайной. По всем этим причинам ему бы очень хотелось порадовать ее, когда дело дойдет до выбора спутницы жизни. Он был бы очень рад на каком-нибудь приеме с охотой в Шотландии или лондонской вечеринке найти именно такую женщину, какую его мать хотела бы видеть его женой. По идее это должно быть несложно. Должна же быть на свете какая-нибудь дочь пэра, выросшая в старом, добром, знакомом мире, которому леди Акфилд доверяла, умная, сообразительная и элегантная. Его мать не особо любила неброских деревенских девиц с их пушистыми волосами и юбками из благотворительных магазинов. И чтобы эта девушка могла его развеселить, а он бы гордился ею и не сомневался в ней, и ее появление многое изменило бы в его жизни.
Но, сколько он ни старался найти такую девушку, она все не появлялась. Ему попадалось немало приятных юных леди, которые старались изо всех сил, но… той самой среди них не было. Именно поэтому, наверное, у Чарльза было одно важное убеждение, на которое он ориентировался, – простое, как и он сам, но достаточно сильное: если бы он только смог жениться по любви, найти девушку, которая оживляла бы его ум (он высоко ценил, пусть и ограниченную, активность своего мозга) и тело, тогда жизнь, уготованная ему, была бы приятной и осмысленной. Если же он женится пусть и на подходящей кандидатуре, но неудачно, то обратного пути не будет. Он не считал развод возможным вариантом (по крайней мере, не для главы семейства Бротон), и потому если в браке он окажется несчастным, то страдать ему до самой смерти. Короче говоря, он и сам не подозревал, насколько честным и порядочным человеком он был. И оттого его еще больше беспокоило, что он может влюбиться в женщину, которая хотя и не окажется какой-нибудь поп-дивой или акробаткой-наркоманкой, но все же не оправдает надежд его матери.
И потому не без легкой меланхолии пару дней спустя Чарльз позвонил Эдит и снова пригласил ее на свидание.
Глава четвертая
К моему изумлению, очень скоро известие о том, что Эдит и Чарльз встречаются, стало привлекать все больше внимания. Разделы светских сплетен, у которых не нашлось новостей получше, подхватили эту историю, и в их однообразных статьях о том, что самые модные люди едят по выходным, или носят в Париже, или чем занимаются на Рождество, фигурировал теперь и роман Чарльза и Эдит. В то время публика следила за жизнью звезд разинув рот, а так как настоящих звезд для удовлетворения спроса вечно не хватает, то журналисты – даже в менее алчные времена, чем 1990-е годы, – вынуждены вытаскивать на свет божий утомленных светских львиц и бывших телеведущих, чтобы как-то заполнить пробел. По иронии судьбы, именно заурядность Эдит сыграла ей на руку. Кто-то увидел ее Золушкой наших дней, обыкновенной работающей девушкой, вдруг оказавшейся в стране своей мечты, и в одном из воскресных выпусков опубликовал очерк, озаглавленный «Эдит Лавери – новое открытие». К очерку прилагались несколько крупных и очень ярких фотографий.
Она тут же вошла в моду. Сперва Эдит злило, что ее постоянно представляют как девушку, отчаянно стремящуюся повысить свой социальный статус, но постепенно, когда изначальная причина интереса прессы скрылась под наплывом статей в модных журналах, разнообразных церемоний вручения наград и приглашений на телевидение, Эдит вошла во вкус, внимание ей понравилось. Ситуация, когда за вами охотятся папарацци, соблазнительна тем, что постепенно вам начинает казаться, раз стольких людей интересует ваша жизнь, ваша жизнь действительно интересна, и Эдит хотелось верить в это не меньше, чем всем остальным. Конечно – и я подозреваю, неизбежно, – она все реже вспоминала, что становится все популярнее только потому, что так внезапно стала популярна. Однажды я присутствовал на благотворительном обеде, куда ее пригласили вручать награду от какой-то желтой газетки, и помню, как потом она критиковала остальных ведущих: какие ужасные все эти спортивные комментаторы и гуру из мира моды, зачем их вообще пригласили? Я заметил, что даже самый непритязательный спортивный комментатор так или иначе заработал свою славу, чего нельзя сказать о ней. Эдит улыбнулась, но я понял, что она обиделась на меня. Она очень рано, опасно рано начала верить собственной славе.
Все эти фотоснимки и строчки в светской хронике показывали, что каким-то загадочным образом она начала одеваться лучше и дороже, чем раньше. Не знаю уж, как ей это удавалось, но не думаю, что она брала деньги у Чарльза. Возможно, она заключила одну из тех сделок, когда дизайнеры одалживают вам одежду на вечер, если есть вероятность, что вы попадете в газеты. А может, раскошелилась миссис Лавери. Если у нее были на это деньги, она точно не стала бы возражать.
Все это время я видел Эдит значительно реже. Сейчас я уже не уверен, продолжала ли она работать на Милнер-стрит, но скорее да, потому что она была не из тех, кто считает цыплят до наступления осени. И все-таки ей определенно теперь было с кем проводить обеденные перерывы. Но однажды, в марте следующего года, через несколько месяцев после того, как она начала встречаться с Чарльзом, я увидел ее на углу Остралиан-стрит, она ела сэндвич с тунцом, и, купив себе выпить, я подошел к ее столику.
– Привет, – сказал я. – Можно к тебе присоединиться или ты предаешься уединенным размышлениям?
Она подняла на меня взгляд и удивленно улыбнулась:
– Садись. Ты-то мне и нужен.
Она была рассеянна и серьезна и совсем не похожа на непроницаемую блондинку, к которой я привык.
– Что нового?
– Ты, случайно, не собираешься к Истонам в следующие выходные?
– Нет. А надо?
– Было бы жутко удобно, если бы собирался.
– Ну, ничего другого у меня не запланировано. Я, наверное, могу просто позвонить и напроситься в гости. А зачем?
– Мать Чарльза устраивает званый ужин в Бротоне в субботу, и я хочу, чтобы там были и мои люди. Мне кажется, Дэвид и Изабел не отказались бы.
– Шутишь?
– Именно. Ты мне нужен, чтобы их немного успокоить. Чарльзу ты нравишься.
– Чарльз меня не знает.
– Ну, он тебя видел, по крайней мере.
Я понимал, что ее тревожит. Она устала быть невидимкой. Быть постоянно в окружении людей, которые, не задумываясь, решают, что, если бы она стоила знакомства, они бы уже были знакомы. Ей нужен был знакомый, которого не нужно было бы представлять Чарльзу.
– Я приеду, если Изабел сможет оставить меня ночевать.
Она кивнула с благодарностью:
– Я бы предложила тебе остановиться в Бротон-Холле, если бы могла.
– Изабел мне бы этого в жизни не простила. Ты их раньше приглашала?
– Нет. – Заметив мое удивление, она пожала плечами. – Я сама там была буквально несколько раз, всегда по какому-то конкретному поводу и только на одну ночь, и ты же знаешь, какие они…
Я знал. Мне достаточно было вспомнить горящие глаза Дэвида в Аскоте, чтобы все прекрасно понять.
– Ну и как оно вообще? Про вас постоянно пишут в газетах. – (Она покраснела. Вот глупышка!) – И еще я видел тебя в «Утре с Ричардом и Джуди».
– Боже. Да у тебя, наверно, не все гладко, раз ты по утрам дома сидишь.
– У меня было воспаление миндалин, и потом – Джуди мне даже нравится. Она всегда такая встревоженная и настоящая. И ты тоже неплохо смотрелась.
– Правда? – поразилась она. – А мне показалось, я выглядела полной дурой. Я не против фотографов, но стоит мне рот раскрыть, как я становлюсь похожа на полоумную. Уверена, они меня пригласили только потому, что Тара Палмер-Томкинсон отказалась.
– А она отказалась?
– Не знаю. Я сочиняю на ходу.
– Может быть, попробовать вообще ничего не говорить?
– Вот и Чарльз говорит то же самое, но это ничего не изменит. Они все равно потом цитируют.
Совершенно справедливо.
– Вы с Чарльзом – великолепная команда, твоя мать, должно быть, в восторге.
Эдит закатила глаза:
– Она вне себя. Она все боится, что застанет в душе Бобби, а все остальное окажется сном.
– А такое может случиться?
Лицо Эдит окаменело и превратилось в светскую маску, которая более уместно смотрелась бы в оперной ложе в belle époque[7], чем в этой забегаловке.
– Нет, не думаю.
Я приподнял брови:
– Поздравления будут уместны?
– Пока нет, – твердо сказала она. – Но обещай, что приедешь в субботу. Восемь часов. Черный галстук.
– Хорошо. Но обязательно предупреди Изабел. Хочешь, я напишу леди Акфилд?
– Нет-нет. Я все сделаю сама. Только приходи.
Когда вечером того же дня я позвонил Изабел, оказалось, что Эдит с ней уже поговорила, и нам не составило труда условиться о деталях. И вот, несколько дней спустя, я оказался в гостиной Истонов, мы собрались выпить по стаканчику перед тем, как отправиться в путь. Дэвид недовольно ворчал, стараясь скрыть бьющее ключом возбуждение от того, что ему наконец-то предстоит ступить в эту неприступную цитадель. Изабел волновалась значительно меньше, а потому и меньше боялась, что кто-нибудь заметит ее чувства.
– А может быть, это благотворительный обед в пользу чего-нибудь? – хихикая, говорила она, когда я вошел.
– Не знаю, – отозвался я. – А такое возможно?
Дэвид сунул мне в руку стакан. Виски у него в доме всегда было теплое, и мне это уже давно надоело. Он вычитал где-то, что настоящие джентльмены не держат в доме льда.
– Изабел считает, что они собираются объявить о помолвке.
Такая мысль, естественно, и мне приходила в голову, и это могло объяснить, почему Эдит так нужны были приглашенные и с ее стороны, но еще няня научила меня опасаться очевидных объяснений.
– Но в этом случае пригласили бы и ее родителей, как я понимаю?
– Может быть, их и пригласили.
Неплохая мысль. Я представил, как Стелла Лавери поднимается к себе в комнату, а там горничная уже распаковала ее чемоданы и разложила на кровати вечернее платье, и искренне за нее порадовался. Каждый заслуживает в своей жизни несколько мгновений Ничем Не Замутненного Счастья.
– Ну, очень скоро мы все увидим своими глазами.
Изабел посмотрела на часы:
– Не пора ли нам выходить?
– Нет. У нас еще полно времени. – Теперь, уже почти вонзив когти в свою добычу, Дэвид мог позволить себе немножко с ней поиграть. – Еще по стаканчику?
Но последнее слово осталось за Изабел, и мы отправились в путь, нанести первый, но, как каждый из нас втайне надеялся, не последний частный визит в Бротон-Холл.
Дом выглядел так же неприветливо, как и в прошлый раз, но теперь мы знали, что твердыня пала, и от этого осознания даже внушаемая этим домом робость была приятна. Мы подошли к той же самой двери и позвонили.
– Я вот думаю, тот ли это вход? – произнесла Изабел, но никто из нас не успел ей ответить – дверь открылась, и дворецкий проводил нас наверх, в Красную гостиную.
Кажется, меня удивило, что Бротоны принимают гостей в тех же самых комнатах, куда приходят с экскурсией туристы. Я-то ждал, что меня пригласят в какую-нибудь другую, более фешенебельную гостиную на первом этаже, где портреты и мебель эпохи Людовика XV будут сдобрены мягкими диванами, куда сядь – утонешь, – именно так обычно бывают обставлены подобные церемонии. Мне предстояло убедиться, что мои несмелые предположения были верны: нам подали аперитив в Красную гостиную, а столы накрыли в Парадном обеденном зале, что должно было сразу же выдать суть происходящего. В любом случае, когда я вошел в комнату и увидел у камина миссис Лавери рядом с тучным лордом Акфилдом, я все понял. Эдит одержала победу, и мы присутствуем при ее триумфальном шествии.
Леди Акфилд вышла нам навстречу. Невысокая, хрупкая, привлекательная женщина, в молодости она, должно быть, была невероятно хороша, но изначально совсем не производила сильного впечатления, от нее даже будто веяло домашним уютом. Первые впечатления нередко бывают обманчивыми, но еще никогда мне не приходилось настолько ошибаться в человеке, как в тот раз. Когда она заговорила, голос у нее оказался легкий, звонкий, как колокольчик, но с той проникновенной интонацией, с какой в войну читали новости по радио.
– Ужасно мило с вашей стороны, что вы пришли. – Она улыбалась нам, просто светясь от радости. – Вам ведь пришлось приехать из самого Лондона. – Эти слова были уже обращены непосредственно ко мне. Сказано было затем, чтобы показать, что она выполнила домашнее задание и потому отлично знала, кто я и откуда.
– Это приглашение – большая честь для нас. – Знакомая игра, я знаю все ответы наизусть.
– Что вы! Мы просто счастливы, что вы к нам пришли!
Леди Акфилд сказала это с той настойчивой интимностью, что пронизывала все ее реплики, как будто по-настоящему смысл ее слов мог понять только тот, с кем она в данный момент говорила. Сейчас я могу сказать, что она самая великолепная светская львица, с какой мне довелось свести более-менее близкое знакомство. Она была крайне уверена в себе. Она была самой красивой из дочерей богатого графа, и по молодости лет я предположил, что в ее уверенности нет ничего удивительного. Однако теперь мне известно, что такие вещи не всегда взаимосвязаны, а позже я узнал, что ей выпало не меньше неприятностей, чем каждому из нас. Может быть, они сделали ее сильнее, а может быть, сильный характер достался ей от рождения. Каковы бы ни были причины, к моменту нашей первой встречи она была законченной и неуязвимой перфекционисткой, и любые компромиссы были для нее немыслимы. Все вечера, где мне случалось присутствовать по ее приглашению, были выстроены тщательнейшим образом, от сорта картофеля до расположения подушек на кушетках – ничто не оставлялось на волю случая.
И конечно, как только она произнесла: «Я так рада видеть у нас друзей нашей дорогой Эдит», я понял, что будущая невестка ей не нравится. Вообще, «не нравится» не совсем верное выражение. Ее изумляло, что собственный сын женится на девушке, с которой она не только не была знакома – о которой она даже не слышала. Она поверить не могла, что друзья этой девушки не дети ее собственных друзей. Поразительно, что Эдит вообще попала к ним в дом. Как это случилось? Подобные размышления, к несчастью для Эдит, навели леди Акфилд на мысль, что ее Чарльза окрутила какая-то авантюристка, и хотя позже (значительно позже) она смягчила свое мнение, окончательно она от него так и не отказалась. И честно говоря, я совсем не уверен, что она ошибалась.
Мы с Изабел медленно дрейфовали к камину.
– Добрый день, миссис Лавери, – произнес я.
Мать Эдит обернулась к нам с той фатальной робкой величественностью, что с первого взгляда выдает тех, кому удалось-таки всеми правдами и неправдами пробиться в высшее общество. Эта манера поведения недвусмысленно сообщает их настоящим ровням, что мосты сожжены, пути назад нет и быть не может. На месте нашей старой знакомой, энергичной, высокомерной миссис Лавери вдруг оказалась Снежная королева.
Почти нехотя, как будто зная нас не лучше, чем лорд Акфилд, она представила нас хозяину.
Он с добродушным безразличием пожал нам руки.
– Вот здорово, – сказал он. – Вам очень трудно было добираться?
– Мы с мужем живем в Рингмере, – ответила Изабел. – Это недалеко.
– Правда? – отозвался лорд Акфилд. – Пробок на дороге много было? Стоит синоптикам пообещать хоть лучик солнца, как все эти чертовы бедолаги тут же бросаются вон из города. Трудно было доехать?
Изабел собралась было снова пуститься в объяснения, что ей совсем не пришлось ехать из Лондона, но я спас ее.
– Я приехал поездом, – вставил я.
– Очень разумно. – Он широко улыбнулся нам своей румяной улыбкой и кивком показал, что мы можем идти.
Маркиз Акфилд был человек глупый и неинтересный, но в целом совершенно безобидный. Всю жизнь, как это свойственно людям вроде него, лорд Акфилд окружал себя подхалимами: бедные родственники, седьмая вода на киселе, и вовсе случайные люди – с ними ему было хорошо и уютно. Отец Чарльза был так безнадежно избалован их обществом, что понятия не имел, насколько глуп и неинтересен он сам. Его банальные и неграмотные суждения встречали с таким восторгом, будто их произнес сам Соломон, а его несмешные, бородатые шутки вызывали оглушительные взрывы хохота. Если только практический опыт и превратности судьбы закаляют наш характер, стоит ли удивляться, что типы вроде лорда Акфилда так вопиюще бесхарактерны? Даже когда лорда не было поблизости, люди хвалили его мудрость и проницательность, хотя ни того ни другого и в помине не было. А все потому, что если им удалось убедить себя, что они и в самом деле видят в нем эти качества, значит им не придется признаваться самим себе, что они подхалимы, а это в светских кругах очень и очень серьезный мотив. И если вдруг их знакомые, не вхожие в избранное общество, выражали сомнение в мощном уме его светлости, всегда можно вздохнуть в ответ: «Ах, вы бы так не думали, если бы лучше знали его» – и таким образом, во-первых, показать, что находишься в близкой дружбе с представителем одного из Благородных Семейств, во-вторых, иметь возможность похвалить себя за искренность.
Лорд Акфилд не был мелочен или скуп, но был ленив. Именно эта фундаментальная лень накладывает неизгладимый отпечаток на любые дружественные отношения представителей привилегированного сословия. Уже очень давно он решил для себя, что поддерживать отношения с кем-нибудь, кроме лизоблюдов и представителей его собственного сословия, необходимых для поддержания имиджа, – слишком тяжкий труд, и оставил всякие усилия, но решение это было подсознательное, так что он до сих пор считал себя человеком добрым и сердечным. И по правде говоря, позднее он всегда был добр к Эдит. В нем не было ничего достойного восхищения, но и снобом он тоже не был, и вообще-то, кроме всего прочего, он был очень рад, что она такая хорошенькая.
Я заметил, что стоявший в дверях дворецкий переглянулся с леди Акфилд. Она кивнула, профессиональным взглядом окинула комнату и подошла ко мне:
– Обед подадут буквально через минуту. Не могли бы вы проводить к столу леди Тенби? – Она легким жестом указала на дородную особу лет шестидесяти с лишним, втиснувшуюся в кресло у камина.
Я кивнул, пробормотал нечто неразборчивое, и леди Акфилд продолжила свое кружение по комнате. Мы прибыли почти последними, так что, я думаю, всем остальным партнеров уже назначили.
Я направился к своей будущей спутнице, размышляя, хватит ли у меня сил вырвать ее из тесных объятий кресла. Она подняла на меня глаза и протянула мне толстую, украшенную кольцами и браслетами руку.
– Вы проводите меня к столу? – спросила она, и я кивнул. – Гуджи так прекрасно умеет все организовать. Надо было ей открыть сеть гостиниц. Помогите мне встать.
Мне всегда становится неловко от этой ребяческой псевдонепринужденности, которая у представителей высших классов выражается в пристрастии к прозвищам. Все у них Тоффи, Бобо или Снук. Сами они считают, что эти прозвища подразумевают некую игривую легкомысленность, вечное детство, напоенное ароматами нежных воспоминаний о няне, теплой пижаме в детской у камина, напоминая о том, что их объединяет нечто недоступное выскочкам, то есть еще один способ продемонстрировать на людях, как близко они знакомы. Так что детские прозвища служат прекрасной преградой. Новичок зачастую оказывается в ситуации, когда знает некую даму уже слишком хорошо, чтобы продолжать обращаться к ней «леди Такая-то», но недостаточно, чтобы называть ее «Колбаска», а если он воспользуется ее настоящим именем, то продемонстрирует всем и каждому, что он и вовсе с ней не знаком. И завязавшаяся было дружба вязнет в этой неопределенности, вместо того чтобы развиваться так же плавно и естественно, как это принято у представителей других классов.
Дворецкий объявил, что обед подан, моя спутница неуклюже поднялась и теперь тяжело опиралась на меня. Я понял, что по крайней мере в нашем случае предложить даме руку и проводить ее к столу было не пустой данью уважения эпохе короля Эдуарда. Через головы идущих впереди нас я разглядел леди Акфилд. Она что-то весело щебетала остолбеневшему Кеннету Лавери. Это напомнило мне, как министры и лидеры оппозиции парами шествуют в палату лордов, чтобы послушать речь королевы. Во всех кинохрониках и новостях тори обязательно неистово разглагольствуют, обращаясь к неизменно угрюмым и серьезным представителям социалистов. За ними шла Эдит с лордом Акфилдом. На ней было черное бархатное платье с глубоким вырезом и длинными узкими рукавами и никаких украшений. Она была прекрасна и triste[8], как Джульетта в трауре. Подозреваю, она сочла, что было бы бестактностью выглядеть слишком радостно.
Леди Тенби проследила за моим взглядом:
– Очень красивая. Здесь все ясно. Но кто она такая, скажите на милость?
Я улыбнулся ей в ответ:
– Она мой большой друг.
– Ой, – сказала леди Тенби, и дальше мы пошли молча.
Позже я узнал, что графиня Тенби была вдовой и матерью четырех дочерей и, будучи троюродной кузиной леди Акфилд, сильно надеялась заполучить Чарльза для одной из них. Вполне обоснованное желание. Все они были милые, довольно приятные девушки. Любая из них вполне могла составить его счастье. Но в результате только старшая из них, леди Дафна, вышла замуж хоть сколько-нибудь достойно, по мнению своей матери. Муж был из хорошей семьи, но не наследник. Две вышли за неродовитых аристократов, а младшая, самая хорошенькая, уехала в Калифорнию и живет с основателем какой-то довольно мрачной секты. Суть в том, что леди Тенби совсем не была злобной или вздорной женщиной, но она вложила много труда в своих дочерей и получила более чем скромное вознаграждение. И вот сегодня ей предстоит присутствовать при торжестве незнакомки, которая под покровом ночи прокралась в их лагерь и сбежала с самой жирной овцой. Конечно, леди Тенби будет дарить улыбки, поздравления и поцелуи, но потом придет домой и расскажет, как великолепно держались Гуджи и Тигра, так что никто и не догадался, насколько они разочарованы, и что девушка в конце концов на редкость хорошенькая, и кажется, Чарльз ей так нравится. Чем навеки заклеймит Эдит удачливой чужачкой.
Обед был превосходен, что меня удивило. Я-то ожидал обычные деревенские блюда, какие подавали на таких сборищах во времена моих родителей – там еда скорее напоминала кухню начальной школы для девочек, чем столовую благородного дома. Однако я недооценил умение леди Акфилд предусмотреть все до мелочей. Слева от меня сидела леди Тенби, и во время первой перемены блюд мы поддерживали беседу с классическим лейтмотивом: «Ах, вы актер? И где же я могла вас видеть?» – такие разговоры всегда приводят меня в уныние. Но когда унесли тарелки и правила хорошего тона позволили мне повернуться к моей соседке справа, я оказался лицом к лицу с довольно суровой на вид, но интригующей женщиной примерно моего возраста, которая представилась как Кэролайн, сестра Чарльза.
– Так вы старый друг Эдит? – спросила она.
– Уж не знаю, насколько старый. Я знаком с ней года полтора.
– Дольше, чем мы, – с резким смешком произнесла Кэролайн.
– И как вы думаете, она вам понравится?
– Пока не составила еще мнения, – ответила моя собеседница, глядя, как Эдит слегка кокетничает с будущим свекром. – По правде говоря, лично мне она может и понравиться. Но вот будет ли ей все так же нравиться Чарльз? Вот в чем вопрос.
Конечно, вопрос заключался именно в этом. Вслед за Кэролайн я посмотрел туда, где сидел Чарльз. Его тяжеловатое, добродушное лицо выражало задумчивость над тем, что, по всей вероятности, являлось несложной интеллектуальной проблемой, поставленной перед ним собеседником. Я подумал: готова ли Эдит примириться с тем, насколько он в действительности несообразителен? И кстати, насколько безрадостной и однообразной может быть жизнь в сельской усадьбе. Кэролайн прочла мои мысли.
– Знаете, здесь чудовищно скучно. Я надеюсь, Эдит к этому готова. Цветочные выставки все лето, замерзшие трубы всю зиму. Она любит охоту?
– Она ездит верхом, так что и охотиться, наверное, сможет.
– Хотя, может, это не важно. Все равно оппозиция со дня на день запретит охоту.
– Может, она тоже не одобряет охоту. В наше время невозможно угадать заранее, не спросив.
– О, сомневаюсь, чтобы Эдит не одобряла кровавых видов спорта, – осторожно сказала Кэролайн. – На мой взгляд, вид у нее достаточно плотоядный.
– А вы? Вы любите охоту?
– Нет, что вы! Терпеть не могу деревню! Я даже в Гайд-парк стараюсь не ходить.
– Чем занимается ваш муж? Или об этом все спрашивают?
– Так и есть. Но я все равно отвечу. Рекламой в основном, но еще он организует благотворительные мероприятия.
Я часто думаю, как просто, должно быть, было жить сто лет назад, когда каждый ваш знакомый мужского пола мог либо служить в армии или во флоте, либо быть священнослужителем или землевладельцем. Мне становится неуютно оттого, что то и дело приходится слышать о профессиях и должностях, о существовании которых я и не подозревал. Специалист по подбору кадров или фьючерсам, управлению кредитом или по связям с общественностью. Когда они начинают объяснять подробнее, мне каждый раз кажется, что они пытаются скрыть, чем занимаются на самом деле. Может, во многих случаях так оно и есть.
– Он увлечен каким-нибудь конкретным благотворительным проектом?
– А как вы познакомились с Эдит? – перебила Кэролайн, которую, похоже, занятия мужа интересовали так же мало, как и меня. Я рассказал про Истонов. – А я-то думаю, что они здесь делают. Забавно, что мы раньше не встречались. Они так близко живут.
Хорошо, что Дэвид сидел от нас далеко и не слышал этого. Затем мы перешли к более общим темам, и вскоре я узнал, что леди Кэролайн Чейз была из тех дворянских детей, кому удается выбрать стиль жизни, убеждения, спутника жизни и место жительства вопреки своему воспитанию, но тем не менее принести свой снобизм абсолютно нетронутым в новую жизнь. Она мне понравилась, но по-своему она была не менее высокомерна, чем ее мать, только ей, пожалуй, не хватало уверенности леди Акфилд в собственном моральном превосходстве. Для леди Акфилд ее собственное социальное положение было предметом веры, для Кэролайн – просто действительностью.
Обед продолжался, на десерт подали нечто вроде яблочного сорбета, потом сыр, и я уже ожидал, что хозяйка сейчас уведет с собой дам, оставив нас предаваться вялым рассуждениям о политике, потягивая портвейн, как вдруг с удовольствием отметил, что пустовавший до сих пор бокал рядом с моей тарелкой наполняется шампанским. Момент настал.
Лорд Акфилд поднялся:
– Я думаю, все мы знаем, зачем собрались здесь сегодня. – (Полагаю, так оно и было, хотя кое-кто из присутствующих все-таки выказал некоторое удивление. Сам Кеннет Лавери, сидевший рядом с леди Акфилд, казалось, был крайне удивлен.) – Мы собрались здесь для того, чтобы поприветствовать пополнение нашей семьи.
Я посмотрел на застывшую от счастья миссис Лавери, ее посадили справа от лорда Акфилда. Сегодня, один-единственный раз, все права старшинства были отброшены. По-моему, никогда больше она не оказывалась за столом на таком почетном месте.
– Поднимем бокалы. За Эдит и Чарльза!
Задвигались стулья, чертя по паркету, запыхтела рядом со мной леди Тенби, мы встали.
– За Эдит и Чарльза!
Мы выпили и сели, а бедняга Чарльз, красный как рак, попытался произнести что-нибудь вроде ответной речи необычно хриплым голосом:
– Мне нечего сказать, честное слово. Кроме того, что мне необычайно повезло и я считаю себя очень счастливым человеком.
– Ура, ура!
Послышались одобрительные возгласы, со всех сторон раздались комплименты и пожелания. Я наблюдал за Эдит. Она смотрела на Чарльза с таким чистым, открытым обожанием, что напомнила мне Элизабет Тейлор в «Национальном бархате». В той сцене, где ей дарят коня. Не знаю, переняла Эдит это у невесты своего бывшего ухажера четыре года назад, или просто решила, что это будет самый лучший способ оградить себя от критики, или, по крайней мере в тот миг, она его действительно обожала. Вероятно, всего понемножку. Я обернулся и увидел леди Акфилд, она наблюдала за мной, на очаровательном кошачьем личике играла мягкая, тщательно выверенная улыбка. Я посмотрел на нее в ответ, и она слегка приподняла брови, а затем встала – и все поднялись вслед за ней. Я не мог бы с уверенностью сказать, что именно она хотела выразить этим загадочным взглядом.
Возможно, Кэролайн озвучила то, что пришло в голову всем или, по крайней мере, мне, прошептав:
– Ну вот, она добилась своего. Надеюсь только, что она знает, на что идет.
Глава пятая
Не часто мне случалось принимать участие в чем-то, что хоть отдаленно могло бы сойти за важное событие светской жизни. И уж тем более – событие, заинтересовавшее широкую публику. Но к тому времени Эдит уже стала малой героиней бульварных газет, и когда ей и вправду удалось подцепить свою рыбку, те самые журналисты, что открыли ей путь наверх, бросились с жадностью пожинать плоды своей прозорливости. Они превратили ее в легенду, и она их не разочаровала. Одно за другим поступили предложения от «Хелло!» и от «ОК!» – леди Акфилд очень повеселилась – по поводу публикации эксклюзивных репортажей со свадьбы, и хотя им, естественно, ответили отказом, страсти не утихали. Думаю, сперва миссис Лавери не поняла, почему газетчиков не пустили на порог. Подозреваю, она не отказалась бы увидеть Эдит и Чарльза, рука об руку, на обложке, в окружении благородных отпрысков родственников Чарльза, но когда она едва заметно намекнула об этом леди Акфилд, та, к ее ужасу, обернулась к Эдит и сказала:
– У вашей матери редкое чувство юмора. Я чуть было не поверила, что она всерьез.
Естественно, миссис Лавери смеялась до слез от одной мысли, что чуть было не провела леди Акфилд! И никогда больше не упоминала об этом. Как бы там ни было, по самым разным причинам я был чрезвычайно польщен и преисполнен любопытства, когда мне предложили быть шафером на свадьбе, которой предстояло стать свадьбой года – по крайней мере, так писали в газетах.
Я получил приглашение от Чарльза, он написал мне своим очаровательным округлым почерком, несмело интересуясь, не мог бы я оказать ему такую услугу. Актеру всегда нелегко заранее обещать участвовать в светском мероприятии – и не в последнюю очередь из-за неписаного театрального закона, который гласит: если ты придаешь хоть малейшее значение чему-то, кроме работы, значит таланта у тебя нет и в помине. Наверное, если бы мне предложили заглавную роль в «Бен Гуре», я бы отказал Чарльзу, но я был намерен во что бы то ни стало сыграть свою роль в «Апофеозе Эдит».
Изабел позвонила мне тем же утром:
– Я так понимаю, шафером будешь ты? Дэвиду не предложили.
Я ответил так, как подсказывал мне мой долг: что это несколько бессердечно и я понимаю, как ей нелегко.
– Должна сказать, что я тоже так думаю. Знаешь, мне и вправду нелегко. Он страшно дуется, тоска смертная, а ничего не поделаешь.
Делать тут действительно нечего, ответил я, и, в конце концов, я единственный из друзей Эдит, кого Чарльз встречал еще до знакомства с ней.
– Я ему говорила то же самое, но ты же знаешь Дэвида.
– А ты?
– Что ты имеешь в виду?
– Ты в этом принимаешь хоть какое-то участие? Я думал, Элис будет подружкой невесты или что-то вроде того.
Элис – старшая дочь Истонов. Совершенная дурнушка, но при этом очень милая.
– Нет. – В голосе Изабел сквозило разочарование. – Эдит попробовала предложить, но, очевидно, там и так были толпы претендентов, а потому она решила, что будут только маленькие пажи. Так значительно милее, – уныло протянула она. Было понятно, что это еще не все. – Я тут подумала про мальчишник для Чарльза.
– Ты о чем?
– У него будет мальчишник?
– Не знаю. Наверное.
– Но тебя не приглашали?
– Нет. А должны были?
– Да нет, просто Дэвид тут подумал, может, ему или вам вместе стоит что-нибудь такое организовать… – Она замолчала.
– Да брось ты! Мы его едва знаем. Как тебе такое в голову взбрело!
– Пожалуй, ты прав. – (Я подумал, не сидит ли Дэвид в той же комнате.) – Можешь дать нам знать, если тебя пригласят?
Одержимость Дэвида начинала угнетать. Он, очевидно, уже завел привычку время от времени небрежно упоминать Чарльза в разговоре и настроился, что так теперь будет всегда, и настоящим бесчестьем для него было публичное исключение из круга близких друзей Чарльза.
– Ладно, – обещал я. – Но меня точно не пригласят.
Но вышло так, что месяц спустя, за десять дней до свадьбы, меня пригласили. Наверное, кто-то из гостей в последний момент отказался. Через неделю, за три дня до великого события, двенадцать приглашенных должны были лететь в Париж. Билет мне доставил курьер на велосипеде, и от меня требовалось только быть готовым к назначенному часу, когда за мной заедут. Самолет вылетал из аэропорта в Сити. Вместо того чтобы позвонить Изабел, я набрал номер Эдит:
– Меня позвали на мальчишник к Чарльзу.
– Знаю. Я ни при чем, он сам так решил. По-моему, будет весело, как ты думаешь? Обожаю парижский «Риц».
– Дэвида, я так понимаю, не пригласили?
– Нет. Все устраивают и оплачивают Генри Камнор и Питер, дядя Чарльза, так что он не может всех пригласить.
– Чур, не я сообщу об этом Дэвиду.
– Я уже сказала Изабел. – Эдит помолчала. – Честно говоря, они начинают меня утомлять. Изабел мне очень нравится, но они все время стараются быть такими «лучшими друзьями». Я чувствую себя героиней Анжелы Брэзил. В конце концов, я не очень хорошо знаю Дэвида, а Чарльз с ним едва знаком.
– Милая моя, – глубокомысленно заметил я, – это только начало.
В три часа пополудни в следующую субботу шофер в форменной куртке и фуражке позвонил в мою полуподвальную квартирку и схватил багаж, ожидавший его у порога, чтобы отнести в машину. Я позволил себе купить новый чемодан в честь знатной компании, с которой мне предстояло путешествовать, и потому мне было особенно досадно, когда шофер на лестнице шарахнул его об угол и выломал одну из ручек. В результате, несмотря на мою опрометчивую расточительность, всю дорогу я чувствовал себя оборванцем. Sic transit gloria mundi[9] или, вернее, sic transit gloria transit[10].
Генри Камнор уже сидел в машине, его тучные телеса растеклись по заднему сиденью в широких складках рубашки от «Тернбулл и Ассер», так что свободной оставалась только узенькая полоска кожаной обивки. Усаживаясь рядом, я чувствовал себя Кэрри Фишер под боком у Джаббы Хатта. С Генри я был чуть-чуть знаком, судьба распорядилась так, что мы учились в одной школе, только в разные годы, и это служило мне некоторой защитой от его избранности, правда очень слабой. В любом случае я знал, чего от него можно ожидать, потому что Эдит с большим юмором описала мне свое «первое свидание» с Чарльзом.
Слева от водителя сидел еще один пассажир, которого мне бегло представили как Томми Уэйнрайта, и я узнал в нем одного быстро восходящего парламентария, если в то время вообще можно было говорить о парламентских успехах применительно к тори. Насколько я помню – из резюме, которые так любят помещать в воскресных выпусках газет с цветными иллюстрациями, – он был младшим сыном пэра от внутренних графств, и потому было несколько неожиданно, что он оказался среди счастливчиков, кому улыбнулась судьба в лице миссис Тэтчер – она не особо жаловала аристократию. Он был высокого роста, чтобы не сказать долговязый, его круглое лицо выражало неизменное дружелюбие, а волосы уже начали редеть. В целом он выглядел так, будто уже сейчас готовился стать старым хрычом, но позже мне довелось узнать, что это не тот случай. Он обернулся ко мне, поздоровался и с улыбкой пожал мне руку, чем сразу же на три очка опередил неприступного Генри, и мы тронулись в путь.
По дороге в аэропорт мы говорили о политике, и меня немало позабавил контраст между двумя моими спутниками. Томми привел несколько причин, почему дела консерваторов так плохи. Все они в целом были достаточно разумны, и их вполне стоило обсудить, но Камнор выдал в ответ ворох нелепых утверждений, все до единого самодовольные и безнадежно старомодные. Скорее всего, он перенял их от своего покойного отца (вместе с манерой одеваться) и даже не дал себе труда над ними задуматься. Чувствуя, что тоже должен внести свою лепту, я заметил, что непохоже, чтобы упомянутая партия особенно ловко строила свои отношения с людьми искусства.
Камнор наклонился ко мне всей своей тушей:
– Дорогой мой, сколько человек составляют то, что вы называете людьми искусства? Речь идет о тысячах, а не о сотнях тысяч или миллионах. Знаете, сколько человек входят в Профсоюз транспортных и неквалифицированных рабочих? Взгляните в лицо фактам – нравится вам или нет, но те, кого вы зовете людьми искусства, ничего не значат. – Он удовлетворенно откинулся на спинку сиденья, не сомневаясь, что убедил нас в своей правоте.
– Сорок миллионов людей каждый вечер включают телевизоры, чтобы узнать, что им думать, – вставил Томми. – Что может быть важнее?
Никого из нас обсуждаемый вопрос не волновал, но Генри явно раздражало, что Томми встал на мою сторону. Он, видимо, разделял распространенное среди наименее умных представителей его класса заблуждение, будто по любому вопросу, от портвейна до эвтаназии, существует некое «здравое» мнение, и достаточно только его озвучить, чтобы победа осталась за тобой. Так как обычно они общаются только с теми, кто разделяет их взгляды, с победой особых трудностей не возникает. Томми Уэйнрайт, отказавшись играть по его правилам, рисковал: неповоротливый ум Генри Камнора мог прийти к заключению, что с тех пор, как Томми занялся политикой, его уже нельзя назвать джентльменом в полном смысле этого слова, – классическая реакция на любую оригинальную мысль.
Прибыв в аэропорт и пройдя регистрацию, мы попали в небольшой зал ожидания, где нас приветствовали остальные девять участников вечеринки. Среди них были лорд Питер Бротон, сводный и младший брат лорда Акфилда, и муж Кэролайн Эрик Чейз, с которым мы едва обменялись приветствиями на обеде в честь помолвки. Чейз был чужеродным элементом в клане Бротонов, он был воплощенный яппи. Этакий лощеный и агрессивный «администратор», чьи разговоры изобиловали избитыми фразами капиталистического толка и упоминаниями его членства в «Бруксе». Самой яркой его чертой было почти патологическое хамство, которое делало его одновременно и менее жалким, и более неприятным, но каким-то странным образом более привлекательным для женщин. Вообразить себе не могу, почему у представительниц противоположного пола (и резко в отличие от нашего собственного) он имел несомненный успех. Наверное, его можно было назвать красивым, этакий гладкий, откормленный красавчик, а довольство собственной внешностью, как и, очевидно, блестящим браком, он демонстрировал постоянной сменой слишком приталенных костюмов из шерсти и твида. Позже я узнал, что его отец работал управляющим на Британской железной дороге. Они с Кэролайн были очень странной парой, их политические и философские взгляды расходились диаметрально. А разгадка была проста: женившись на ней, он отдавал дань своим правым взглядам, она же вышла за него в угоду своим левым взглядам. Но сами они этого не замечали, потому что, оставаясь наедине, почти не разговаривали. Вот так и случается, что, прожив вместе десять или даже двадцать лет, муж и жена вдруг обнаруживают, что по-разному смотрят на самые основные жизненные принципы.
Чарльз, со стаканом шампанского, подошел к нам, приветливо улыбаясь. Ради Эдит, а может быть, и ради меня самого он твердо намеревался не дать мне почувствовать себя лишним в компании, все члены которой (за исключением Чейза) играли вместе в детской, и он боялся, что они могут повести себя грубо с актером, о котором никогда не слышали. Его забота тронула меня до глубины души, но ему не стоило так волноваться. Я не родился актером. Я не только учился с Камнором в одной школе, с одним из этой компании я дружил в детском саду, с другим общался в год, когда вышел в свет, а в третьем узнал своего знакомого по Кембриджу. А еще я знал, что лорд Питер был одно время помолвлен с кузиной моей свояченицы, так что мне нечего было опасаться. Вот такой тесный мирок все еще существует в стране с шестидесятимиллионным населением уже сто лет спустя после прихода социалистов к власти.
Чтобы еще больше подчеркнуть мое особое положение, когда мы сели в небольшой самолет, специально заказанный по этому случаю, Чарльз выбрал место рядом со мной. Несколько развязный стюард принес нам еще шампанского и жестковатые блины, в которые было завернуто буквально несколько икринок. Мы устроились поудобнее.
– Все это очень мило.
– Я рад, что вы поехали.
– Я тоже.
– Именно вы нас познакомили.
Я рассмеялся:
– Еще рано судить, заслужил я хулу или благодарность.
Чарльз был не в настроении шутить.
– Благодарность. Я думаю, благодарность. – Он помолчал. – Знаете, Эдит считает вас очень умным человеком.
– Как мило с ее стороны.
Он опустил глаза, рассматривая свой бокал:
– Конечно, она такая умница. Вы не могли этого не заметить.
Не могу сказать, чтобы я вообще об этом задумывался. Эдит определенно была далеко не Гертруда Стайн. Интеллектуал в ее представлении – это тот, кто читал последние афоризмы Джона Мортимера. Но все-таки мне бывало с ней довольно весело, а по моему опыту, люди с чувством юмора редко оказываются глупцами.
– Мне всегда приятно ее видеть, а это, наверное, то же самое.
Он улыбнулся, но улыбка получилась кривоватая.
– Ну, будем надеяться, что ей всегда будет приятно видеть меня.
Я пробормотал в ответ что-то неопределенно-утешительное, но он не собирался все так оставить. Он тяжело вздохнул:
– Надеюсь, я ее достоин.
Я сдержал улыбку. Не самое подходящее настроение для начала холостяцкой вечеринки, но тем не менее он говорил от чистого сердца. Как это всегда свойственно таким людям, Чарльз не умел оригинально выражать свои чувства и потому почти неизбежно оказывался загнанным в тесные рамки кинематографических клише при попытке описать любовь, ненависть или что-нибудь еще, не упомянутое в своде правил «Жокейского клуба». Я сказал, что убежден – он достоин ее более, чем кто-либо, и это Эдит повезло, и он оказывает ей большую честь, и так далее. Обычно такие вещи получаются у меня неплохо, но в тот вечер мне не хватило убедительности. Он прервал поток моих утешительных речей:
– Надеюсь только, что достаточно умен для нее. Не хочу я ей наскучить.
Он рассмеялся и слегка приподнял брови, чтобы выдать это за шутку, но я понимал, Чарльз говорит искренне, и знал, что он недалек от истины. Мне уже приходило в голову, что может наступить день, когда посещение скачек с хорошо одетыми людьми, изрекающими затверженные наизусть мнения, может стать Эдит поперек горла. Но ответить ему мне было нечего. Не мог же я вслух похвалить его проницательность!
– Чарльз, – сказал я, – если от чего-нибудь на этом свете мне и становится не по себе, так это от излишней скромности. Давайте закончим с ней на сегодня.
Он рассмеялся, и настроение сменилось.
Обожаю Париж. Есть города, где хорошо провести время можно, только если тебе поможет кто-нибудь из местных жителей, а есть города, где веселье доступно всем. Один из них – Париж, и местные жители не остаются в стороне. Моя мать сама была слабовата в языках, поэтому очень волновалась, чтобы ее детям не пришлось, как ей, страдать, молча кивая и улыбаясь женам французских дипломатов, изображая на застывшем от напряжения лице стремление к дружбе и сотрудничеству между народами. И потому лет в двенадцать нам всем по очереди испортили хотя бы одни школьные каникулы, отправив пожить в какую-нибудь семью во французской глубинке, причем мама безжалостно проверяла, чтобы там нам не с кем было поговорить по-английски. В результате этих драконовских мер мы все сносно говорим по-французски, что, конечно же, только увеличивает удовольствие от посещения прекрасной столицы этой страны.
Мне не случалось раньше останавливаться в парижском «Рице», хотя я и приезжал в этот город однажды на грандиозный великосветский прием, который являлся частью торжеств по случаю бракосочетания между отпрысками двух блестящих семейств из парижских предместий. Это ослепительный отель, в том смысле, что он скорее принадлежит к забытой эпохе ослепительных отелей (где красавицы в шляпках с вуалями, перед тем как направиться на Ривьеру, небрежно стояли в холле в ожидании, пока горничная не проверит и не пересчитает все двадцать чемоданов, сумок и сундуков), чем к нашему времени – заскочил-перекусил-убежал. Красно-бело-золотой дворец, претенциозный, но очаровательный, совсем не похожий на своих современных собратьев с Парк-лейн, отделанных, как чудовищных размеров парикмахерские. Мне было чрезвычайно приятно войти под эти своды, особенно потому, что платил не я, и даже презрительные взгляды отельных служащих на мой искалеченный чемодан не могли испортить моего удовольствия.
Мы собрались в баре, в строгих вечерних костюмах, в нас с первого взгляда можно было узнать англичан, которые явились сюда с твердым и серьезным намерением повеселиться, и с энтузиазмом принялись за шампанское. Ко мне подошел Томми Уэйнрайт, и я спросил, знает ли он, что у нас запланировано на вечер.
Он пожал плечами:
– Наверное, поужинаем здесь, а потом двинем в какое-нибудь непристойное заведение на левом берегу.
– Скорее всего. Вы давно знаете Чарльза?
– Мы вместе учились в Итоне. Потом я встречался с Кэролайн, но недолго, нам тогда было двадцать лет, так что теперь мы вроде как возобновили знакомство. А вы?
– Да я почти не знаю его. У меня такое чувство, будто я обманом сюда затесался. Просто я познакомил их с Эдит, так что я, можно сказать, представляю здесь ее. Так, проверить, что никто не попытается отговорить его от этого предприятия.
Уэйнрайт улыбнулся:
– Так вы приятель Эдит. Интересно. Я видел ее только мельком. Должен сказать, она настоящая красавица. Но иначе ей и не удалось бы сорвать банк.
– Думаю, скрежет зубовный был слышен на улице, когда объявили о помолвке.
– Это точно, – рассмеялся он. – По-моему, все так разозлились, потому что никто ее не знал. Да и из моих знакомых никто ее не знает. Будто кубок Дерби взяла лошадь, у которой не было никаких шансов. В какой-то момент уже казалось, что она нечто среднее между Элизой Дулитл и Ребеккой. – Это я мог себе представить и так ему и сказал. Он снова улыбнулся. – Мне очень мало о ней известно, но мне кажется, что у нее получится. – Он кивнул в сторону жениха. – Он просто без ума. Очаровательно. Приятно посмотреть. Я очень рад за него.
Вечер выдался на редкость теплый, и управляющий решил накрыть столы во внутреннем дворике. Мягкий камень, покрытый изящной резьбой, созданной под бдительным оком Сезара Рица, и скромный фонтан, прохладно журчавший в сгущавшихся сумерках, вызывали чувство умиротворенности, которому было бы глупо противиться, вне зависимости от политических взглядов. Видит Бог, это и так большая редкость. Изящные европейские пары сидели вокруг нас здесь и там, женщины в бриллиантах, их белые пудели сыто и впустую потявкивали. Мне приятно было наблюдать, как богатые предаются наименее противоречивым из своих удовольствий. К сожалению, в этом мире нет места совершенству, и меня усадили рядом с Эриком Чейзом, который немедленно принялся сводить на нет удовольствие от прекрасного вечера.
– Принесите другую бутылку! – грубо и резко бросил он официанту, усаживаясь. – И постарайтесь, чтобы на этот раз оно было нужной температуры. – Он повернулся ко мне. – Мы встречались в доме у родственников, да? – (Я кивнул.) – Вы приходили с этими омерзительными друзьями Эдит? – (Я снова кивнул – определенно я не был готов испортить себе вечер во имя Изабел и Дэвида.) – Где ее вообще угораздило с ними познакомиться?
– Точно не знаю. Я с ними знаком, потому что знаю Изабел с детства.
– Сочувствую. Налить? – Не дожидаясь ответа, он плеснул мне в бокал вина. – Ну, боюсь, малышке Эдит придется чуток пообтесаться и подсуетиться, если она хочет провернуть это дело.
– Что вы имеете в виду?
– Если она хочет, чтобы ей все сошло с рук. Стать леди Бротон. – Он запел: – «Нам придется кое-что подправить…»
– Ну, не знаю, – отозвался я. – А вам много пришлось потрудиться, чтобы вам сошел с рук брак с Кэролайн?
Конечно, в каком-то смысле я совершал ошибку, и Чейз повернулся к своему соседу с другой стороны, занеся меня в список врагов, но я был доволен, что постоял за честь Эдит. Как и многие агрессивные парвеню, которым удалось вскарабкаться по скользким ступеням социальной лестницы, он был во власти иллюзии, что люди не указывают ему на его неумение держаться в обществе, потому что оно теперь незаметно постороннему взгляду. Он был настолько груб сам, что ему и в голову не приходило верить в чью-либо вежливость. Это была его броня. Меня не огорчило, что мне удалось его задеть. Он мне порядком не понравился с первого взгляда, к тому же в моих словах о том, что я здесь с целью защищать дело Эдит, была доля правды.
Следующая часть вечера оказалась такой неудачной, что никто и представить себе не мог. Нас отвезли в «Ше Мишу» на Монмартре, крошечный клуб, где разнообразные пародисты изображали под фонограмму известных певиц. Идея принадлежала лорду Питеру, который, как выяснилось, – мне кажется, я слыхал об этом и раньше, – оказался добродушным пьяницей, но говорили, что он «тот еще тип». Честно говоря, мы все к тому времени уже порядком набрались, так как пили, почти не останавливаясь, еще с лондонского аэропорта. Это, несомненно, помогло нам получить удовольствие от действа, где попалась и пара приятных сюрпризов: Гарленд, Стрейзанд, довольно неотразимая Монро и совершенно непохожая Рита Хейворт, выделывавшаяся под «Long Ago and Far Away», которую и сама Рита всегда пела под фонограмму. Сколько бы я ни выпил, мысль отправиться спать казалась мне все более заманчивой. Я переглянулся с Томми, который кивнул в сторону двери – дескать, «давай-ка убираться отсюда», – когда на сцену выскочил конферансье:
– А теперь я хочу предложить вашему вниманию особый номер, специально для сегодняшнего вечера, с поздравлениями и наилучшими пожеланиями. Леди и джентльмены, мисс Эдит Лавери!
Я подпрыгнул на стуле, когда парнишка, изображавший Монро, появился в образе Эдит. Эта Эдит была слишком сильно накрашена и двигалась с несвойственной ей нарочитой сексуальностью, но в остальном копия была поразительно точная. Включая платье, которое вполне могло бы быть одним из ее собственных. Я оглянулся на Чарльза. Он был не менее ошарашен, чем все остальные. А Питер, конечно, ухмылялся, как клоун. На сцене мальчик-Эдит запел песенку из «Парней и куколок»:
– «Спроси меня, каково мне сейчас, бедной простушке из простой семьи…» – Покачивая бедрами, она прошла через сцену к Чарльзу, который сидел как окаменевший. – «Ах, сэр, если бы я была колокольчиком, я бы звенела сейчас…»
И вот примерно тогда я и осознал, что каким-то неопределенным и неоднозначным образом происходящее было чудовищным оскорблением для Эдит. Блондинка скакала по сцене, выкрикивая свои глупые стишки о том, как ей повезло, и остальные начали сдавленно хихикать. Чарльз молчал. Артист жестом пригласил его на сцену. Было очевидно, что эта часть тоже была обговорена заранее, но Чарльз покачал головой и остался сидеть с застывшим выражением лица. Мальчик-Эдит в замешательстве посмотрел в ту сторону, где сидели Питер, хохочущий Эрик и еще парочка гостей. Номер застопорился и готов был уже совсем прерваться. В следующее мгновение на сцену выскочил Питер, и танец продолжился. Ближе к концу Питеру дали картонную шкатулку, чтобы он подарил ее «невесте», что он и сделал, опустившись на одно колено. Мне вспомнились карикатуры Джиллрея на актрису Элизабет Фаррен, которой в 1790-х удалось выйти за графа Дерби. На дне шкатулки оказалась небольшая корона из театрального реквизита, украшенная яркими цветными стекляшками. С последним аккордом песенки «Эдит» водрузила ее себе на голову.
Отдавая должное Питеру Бротону, хочу сказать, что я уверен: он не понимал, насколько все это вместе может оскорбить Чарльза. И уж точно он совсем не хотел, чтобы вечер закончился именно так, как получилось. Питер был не из самых сообразительных, бедолага, и я помню, что подумал: должно быть, его идея состояла в том, чтобы кто-то просто изобразил Эдит. Само по себе, если бы она просто спела какую-нибудь песню о любви, это могло получиться довольно забавно, но Чейз или кто-то еще немного доработал сценарий. И вышло – думаю, совершенно без ведома Питера, – что ее заклеймили алчной авантюристкой в присутствии ее жениха. Чейз и кто-то еще устроили бурную овацию. Они сидели дальше от сцены и не видели лица Чарльза, но, ей-богу, не понимаю, как они могли подумать, что он сочтет это смешным. Однако Чейз из тех, кто оскорбит вас в лицо, а потом спросит: «Ты что, шуток не понимаешь?» Видимо, он настолько часто так поступал, что и вправду начал считать свои оскорбления шутками, а Чарльза или любого, кто их не принимал, тупым занудой.
Чарльз встал:
– Я устал. Пожалуй, мне лучше вернуться в отель.
Томми и я вызвались сопровождать его, чем дело и закончилось. Мы широкими шагами вышли, оставив остальных оплакивать провал розыгрыша Питера.
– Возьмем такси? – предложил Томми.
Было уже поздно, явственно похолодало, но Чарльз покачал головой:
– Ничего, если мы немного пройдемся? Мне хочется подышать свежим воздухом. – Мы шагали молча, пока он не заговорил снова. – Довольно неприятно было, не правда ли?
– Ну, хватит. – Томми был настроен примирительно. – Уверен, они не хотели тебя обидеть. Полагаю, девушка, или парень, или кто оно там, неверно истолковал инструкции.
– Это все Питер.
– Ну…
Чарльз остановился, оглядываясь.
– Знаете, что меня больше всего огорчило? – (У нас обоих было немало предположений на этот счет, но мы, конечно, промолчали.) – Я вдруг осознал, насколько безмозгла бо́льшая часть моих знакомых. А ведь это, по идее, двенадцать моих лучших друзей, боже мой! – Он горько усмехнулся. – Мне стыдно за них и стыдно за себя.
Когда мы вернулись в отель пешком через весь Париж, остальные, должно быть, уже давно легли спать. Мы разошлись по комнатам, и я полагаю, в целом вечер следовало бы назвать неудачным, особенно учитывая потраченные организаторами труд и средства, но каким-то странным образом я чувствовал, что вспышка гнева Чарльза в немалой степени успокоила меня. Я не изменил моей оценки его умственных способностей, но не думаю, чтобы до этого вечера я мог оценить по достоинству, насколько глубоко порядочным человеком он был. Это не самое модное качество в наши дни, но тут мне показалось, что счастье Эдит в более надежных руках, чем я предполагал.
Глава шестая
Открыв глаза, она осознала, что сегодня – последнее утро в ее жизни, когда она просыпается под именем Эдит Лавери. С нынешнего дня эта девушка уйдет в небытие, и что бы ни случилось в будущем, она уже не вернется. Эдит осторожно спросила себя, что же именно она чувствует. Очень часто, совершая определенный выбор, только произнеся свое решение вслух, понимаешь, что на самом деле хочешь обратного. И она размышляла, не подсказывает ли ей ее интуиция, что она совершает ужасную ошибку, только потому, что именно сегодня ее решение станет необратимым. Но интуиция не желала играть роль Дельфийского оракула и отказывалась высказывать какое-либо мнение. Она не чувствовала ни восторга, ни уныния – только то, что еще многое нужно успеть. Негромко постучали в дверь, и вошла ее мать с чашкой чая.
Не было бы преувеличением сказать, что в то утро Стелле Лавери казалось, что она вот-вот лопнет от счастья, что у нее сейчас остановится сердце, устав гнать по жилам кровь, кипящую от осознания, что ее честолюбивым замыслам все-таки суждено осуществиться. Было бы неверно сказать, что она с радостью отдала бы дочь наследнику маркиза, если бы он ей действительно не понравился, вот только он физически не мог ей не понравиться, разве что бросился бы на нее с ножом. Честно говоря, не думаю, что она вообще задумывалась о Чарльзе как таковом. Он был приятный малый, неплохо воспитан и не урод, вот и все, так сказать, что она знала, и больше она ничего знать не желала. Разве еще – что завтра ее дочь станет графиней Бротон.
Стеллу слегка раздражало, что Эдит не станет графиней Бротонской, что, по ее мнению, звучало бы романтичнее, и какая досада, что первый из Бротонов, получив графский титул, не попросил еще и немножко подправить ему фамилию. В конце концов, Чолмондели поступили именно так, когда им вручали титулы, и Бальфуры тоже. Конечно, существовала на земле деревушка Чолмондели, а где-то в Шотландии – Бальфур, но разве не нашлось бы места под названием Бротон? Где-нибудь оно обязательно должно быть. Но все-таки, признавая, что всего сразу не получишь, она привыкла и к этой форме и теперь получала немало удовольствия, поправляя знакомых. В конце концов, благословенное благородное окончание рано или поздно тоже достанется ее дочери, вместе с титулом маркизы.
– Доброе утро, дорогая, – прошептала она, вкладывая в эти слова, как ей казалось, бесконечную нежность.
Она понимала, что в эту минуту ей надлежит испытывать грусть оттого, что приходится отрывать от сердца единственное дитя и отдавать чужим людям. Но факт оставался фактом, несмотря на глубокую и искреннюю радость, которую Эдит дарила матери все эти годы, сегодня миссис Лавери была вне себя от счастья. Как говорится, взамен дочери она получала сына, но не только: ей доставалось совершенно новое, как она это видела, положение среди небесных тел. Ворота, не менее ржавые, чем ворота Хэм-Хауса, запертые со дня отъезда последнего из Стюартов, теперь распахивались перед ней повсюду. Или так ей казалось. Стелла Лавери не была круглой дурой. Она прекрасно понимала, что только от нее зависит, сможет ли она добиться успеха с помощью этой новой возможности, удастся ли ей понравиться хотя бы некоторым из тех, с кем ей предстояло познакомиться, и особенно леди Акфилд, – так, чтобы они сами захотели ее дружбы. Тогда она сможет стать для Эдит преимуществом, а не оставаться, как она неохотно была вынуждена втайне себе признаться, ее долговым обязательством. И она была достаточно умна, чтобы не торопиться. Мягко, ненавязчиво следует вытащить на поверхность общие интересы, брать и давать почитать книги, обмениваться адресами портных. В то головокружительное утро в ее воображении один за другим возникали ослепительные образы, голографические картинки элегантных удовольствий, где они вместе с леди Акфилд принимались за легкий ланч, затем спешили к модистке, натягивая длинные перчатки и подавая знак таксисту…
– Доброе утро, мамочка. – Эдит уже привыкла к мечтательной задумчивости, из которой ее мать теперь почти не выходила. Ее не раздражало, что мать получает такое удовольствие от этой свадьбы, она только надеялась, что это не была основная причина, подталкивающая ее в стремнину, которая – Эдит это чувствовала – несла ее, стремительно кружа, к графскому титулу. – Как погода? Дождя нет?
– Нет, погода чудесная. Но нам совершенно некуда спешить. Сейчас всего половина девятого. Парикмахер приедет в десять, затем у нас будет целых два часа, прежде чем прибыть в церковь Сент-Маргарет. Я приготовлю тебе что-нибудь на завтрак, пока ты принимаешь ванну, и на твоем месте я надела бы трусики и накинула только халат. Можешь так и ходить, пока все не будет готово.
– Я не то чтобы умираю от голода.
– Съешь хоть что-нибудь. Иначе тебе станет плохо.
Эдит кивнула и медленно встала с кровати, попивая чай. Это был один из тех моментов, когда она остро ощущала каждое движение своего тела, даже мышцы лица. Каждое слово, казалось, появлялось откуда угодно, только не из ее головы. Она чувствовала себя будто под наркозом, но при этом ей было светло и хорошо и спать совсем не хотелось. Нет, не под наркозом, в оцепенении или даже в гипнотическом трансе. «А не под гипнозом ли я? – подумала она. – Может быть, меня заворожили все бесспорные ценности, которые я впитала с молоком матери? Утратила ли я себя в честолюбивых целях других людей?» Но потом она подумала о Чарльзе, он хороший человек и любит ее; он к этому времени уже очень даже нравился ей. Она подумала о Бротоне и Фелтхэме, втором поместье семьи, в Норфолке. А больше всего она думала о квартире, где сейчас стояла, и о работе в агентстве по недвижимости на Милнер-стрит, о возможностях, которые открывала перед ней одна жизнь, и об упущенных или недостойных упоминания возможностях другой, и с этими мыслями она выпрямилась и, высоко подняв голову, зашагала в ванную. Отец как раз выходил оттуда. Он улыбнулся ей довольно грустно.
– Все хорошо, Принцесса? – спросил он, и она поняла, не успел он договорить, что ему, скорее всего, придется перестать называть ее этим прозвищем, потому что это так провинциально, и приняла твердое решение, что ни за что не даст ему перестать называть ее Принцессой. И нарушила его почти сразу.
– Чудесно. Ты как?
– Чудесно.
Свадьба должна была обойтись Кеннету Лавери в целое состояние, хотя и меньше, чем могла бы, так как леди Акфилд получила разрешение провести прием в Сент-Джеймсском дворце. И несмотря на это, и даже именно поэтому Стелла и Кеннет решили, что все остальное они непременно оплатят сами. Они даже отказались от современного и совершенно лишенного очарования обычая, когда ожидается, что родители подружек невесты сами оплатят платья своих дочерей. В конце концов, Эдит – их единственная дочь, и они хотели, чтобы не возникло и тени подозрения, что ее семья не может позволить себе заплатить за ее путь наверх. Миссис Лавери, которая жила будто по сюжету романа Барбары Картленд, даже задумалась, не полагается ли им отписать дочери какое-нибудь приданое, но хотя ее муж и затрагивал эту тему с леди Акфилд, его не поддержали. Вероятно, из-за того, что Акфилдам не хотелось впутываться ни в какие связанные с этим юридические нюансы. В конце концов, как заметила леди Акфилд, мужу перед сном в наши дни нельзя быть полностью уверенным, что брак – это на веки вечные. Эдит была благодарна родителям, что они заботятся, чтобы она могла войти в Бротон-Холл с высоко поднятой головой, но чувствовала, что, кроме этого, есть еще миллионы нитей, которые тянут ее к земле, как Гулливера.
Она легла в ванну и постаралась воссоздать свой любимый мысленный образ: как она председательствует на заседаниях всяческих благотворительных обществ, собирает деньги на нужды инвалидов, приседает в реверансах королевским особам, а потом ведет их в свою ложу в опере на гала-концерте, навещает в деревне больных. Она остановилась. А сейчас все еще навещают больных в деревне или это устаревший обычай? Она поймала себя на том, что подсознательно все время представляла себя в мечтах в кринолине. Она подумала о леди Акфилд, и какой она, Эдит, будет примерной невесткой, и что настанет день, когда Бротоны благословят тот час, когда она вошла в их семью.
* * *
Я прибыл к Сент-Маргарет в двадцать минут одиннадцатого, мне вручили белую гвоздику, предварительно очистив ее от веток папоротника, которые флорист подбирал с таким усердием, и список гостей, которым предстояло занять передние скамьи в церкви. Ничего неожиданного, предсказуемая вереница герцогинь и старых нянюшек, часть мест была отведена арендаторам и прислуге Бротон-Холла, а за ними – арендаторам и прислуге из Фелтхэма. Из представителей правящей фамилии нам удалось заполучить принцессу и всю семью Кент, но без принца Уэльского (легкое разочарование для леди Акфилд, трагедия для миссис Лавери), он был на каком-то благотворительном обеде где-то в южных морях. Не предстояло нам поприветствовать и королеву. Даже не знаю почему. Мне кажется, ее величество и леди Акфилд довольно неплохо ладили. Что говорить, конечно же, мне не предложили сопровождать никого из почетных гостей, эта честь досталась лорду Питеру Бротону, который кивнул мне, когда я вошел. Я не видел его с тех пор, как мы расстались в «Ше Мишу»: нам раздали обратные билеты с открытой датой, а так как никакие срочные дела не требовали моего присутствия в Сити или на каком-нибудь совещании, я еще даже не встал с постели, когда бо́льшая часть моих спутников уже садились в самолет. Я написал ему и Генри благодарственные письма, но, естественно, не упомянул в них печальный финал.
– Я получил ваше письмо. Не стоило беспокоиться. – Англичане всегда говорят «не стоит благодарности», но из всех народов на земле именно они с наименьшей вероятностью простят вас, если вы не побеспокоитесь их отблагодарить. Я улыбнулся в ответ. Он скривился. – Боги, ну и болела у меня голова на следующий день! А в одиннадцать у меня была назначена встреча. Не думаю, что прибыл туда в лучшем виде.
Я не смог вспомнить, чем он занимается. Что-то связанное с финансами, как мне кажется, хотя, учитывая, что в Сити в последнее время все меньше внимания обращают на социальный статус и все больше ценят острый ум, не понимаю, что остается таким людям, как Питер Бротон.
– Как любезно с вашей стороны было все это устроить.
Он в ответ кивнул, немного неловко:
– Чарльз, по-моему, слегка рассердился. – (Я пожал плечами.) – Вы понимаете, сначала идея показалась ужасно забавной, вот в чем дело. Мы с Генри приехали, привезли фотографии и все такое, даже позаимствовали одно из ее платьев… Она тоже подумала, что это будет смешно, понимаете? Она показала себя такой компанейской девушкой, даже сказала Чарльзу, что глупо так это воспринимать… – Он сбился и замолк.
Хорошо, что Эдит сумела себя так повести. Хотя без слов было понятно, что она проявила бы значительно меньше хладнокровия, если бы видела все своими глазами. Можно не сомневаться: Чарльз не стал рассказывать ей, что именно он нашел столь оскорбительным.
– Подозреваю, тот парень, артист, неверно понял инструкции. – Я вспомнил замечание Томми Уэйнрайта.
Лорд Питер яростно кивнул:
– Точно. Песня, по-моему, была неподходящая, и в этом все дело. Песня и эта идея Эрика со шкатулкой. Сейчас-то я вижу, мысль была не очень умная.
Я кивнул, меня совсем не удивило, что Эрик оказался в этом замешан. Любопытно, хотя вполне предсказуемо, что главным врагом Эдит в новой семье оказался человек ниже ее по положению, которому пришлось подпрыгнуть значительно выше, чтобы ухватить себе невесту.
– Не стоит больше об этом думать, – подбодрил я его. – Чарльз наверняка уже все забыл.
Хотя я был совершенно уверен, что Чарльз ничего не забыл, но при этом никогда в жизни больше не упомянет об этом инциденте.
Конечно же, из Эдит получилась прелестная невеста, а череда знакомых лиц – светских знаменитостей и членов королевской семьи на скамьях со стороны жениха – придала происходящему блеск и пышность, и лично я получил огромное удовольствие. Со стороны невесты сидел народ попроще, но Эдит зазвала кое-кого из своих новых знакомых, отметившихся в газетах и на телевидении, а ее мать, в отчаянных попытках сохранить лицо, написала четвероюродному брату, баронету, представилась и приложила приглашение на свадьбу. В результате самый обыкновенный заштатный адвокатишка, живший в старом доме приходского священника неподалеку от Суиндона (скромное состояние его семьи растаяло в воздухе за два поколения до него), вдруг оказался на шикарной лондонской свадьбе, в первом ряду, а в нескольких шагах от него сидела чуть ли не половина королевской семьи. Вообще-то, из-за того что в Сент-Маргарет принято оставлять свободной переднюю скамью по правую руку от прохода для спикера, чтобы смотреть на них, не поворачивая головы, ему пришлось сильно скосить глаза, но вскоре он приспособился. В любом случае он был очень рад, что его пригласили, и его уродливая жена тоже, хотя она, понимая в этих делах значительно лучше своего мужа, все время сохраняла такой вид, будто оказывает Лавери огромную услугу. Что, по правде говоря, было совершенно верно.
Нам всем раздали специальные стикеры на парковку около Мэлл, так что во дворец было попасть легче, чем это бывает. Мне никогда еще не случалось пройти дальше тех столов на нижней галерее, где получают бейджи для Аскота, так что мне было любопытно. Мы стояли в длинной, почти не продвигающейся очереди, нам даже не предложили ничего выпить, и я ждал, какие тайны откроют мне парадные залы. Мы постепенно шаркали ногами вверх по большой лестнице, мимо подобающе распутного портрета Карла II в полный рост, через небольшую переднюю, богато украшенную гобеленами, где нам наконец-то дали по бокалу неизбежного шампанского, а потом в первый из трех огромных, красно-белых с золотом залов. Среди встречающих совсем не миссис Лавери, с которой я виделся много раз, а леди Акфилд приветствовала меня по имени и, к моему удивлению, подставила мне щеку для поцелуя.
– Я видела, как вы мучаетесь в церкви, – поведала она своим задушевным тоном, будто делилась со мной не совсем приличным секретом, который никто, кроме меня, не поймет. – Какой счастливый день.
– Да, нам очень повезло с погодой.
– Нам вообще очень повезло.
С этими словами она отпустила меня, направив к своему мужу, который, естественно, понятия не имел, кто я такой, и, пожав ему руку, я смешался с толпой. Было очевидно, что леди Акфилд старается быть со мной милой. Но вот зачем ей это? Возможно, она хотела удостовериться, что единственный из друзей Эдит, который хоть сколько-нибудь нравится Чарльзу, будет на ее стороне. Она хотела заранее подавить любые попытки Эдит собрать опальный двор. Таким образом, если кому и понадобится приспосабливаться, то Эдит, а не ей. Я не стал бы гадать, насколько сознательно она это делала, но в достаточной степени уверен, что так и было. Так же как совершенно уверен, что ей это удалось, и каждый из нас сыграл свою роль. С самого начала я очень симпатизировал ей, мне нравилось, как ей удается сочетать в себе такие противоположные качества, быть одновременно и котенком, и светской львицей, и не думаю, чтобы, когда дело касалось ее, я был очень полезным другом Эдит.
С невестой я едва перемолвился словом, когда входил, но я и не надеялся, что у меня будет возможность поговорить с ней, пока я двигался сквозь болтающие и целующиеся группы, кивая и бормоча приветствия. Дэвид и Изабел, конечно, тоже были здесь, но было совершенно очевидно, что не затем они приехали в Сент-Джеймс, чтобы тратить время на меня, так что я предоставил их самим себе и прошел в следующий огромный, красно-белый с золотом зал, под прямым углом к первому. На фоне затянутых дамастом стен висели на цепях большие парадные портреты, в основном Стюартов. Я остановился под одним из них. Из-за прищуренных глаз и пышного, соблазнительного декольте я принял героиню за Нелл Гвин (может быть, сама она была и не из Стюартов, но несомненно можно сказать, что она служила под их патронатом) и с удивлением прочитал на табличке, что эта чувственная красавица – Мария Моденская, королева Англии, Шотландии и Ирландии, супруга Якова II.
За моей спиной раздался голос Эдит, и я вздрогнул от неожиданности.
– Ну и как тебе представление?
– Нет ничего интереснее, чем наблюдать за верхушкой.
– Королевский дворец – очень подходящее место для моей свадьбы: эти стены повидали немало браков по расчету.
Я поднял глаза на вздымающуюся нарисованную грудь королевы:
– Ну, здесь-то расчет был не очень сложный.
Эдит рассмеялась. Минуту или две, кроме нас, в зале почти никого не было, и я имел время восхититься ее красотой, входившей в пору самого расцвета. Она выбрала платье в стиле 1870-х годов с широкими оборками и турнюром, из шелка цвета слоновой кости, затканного мелкими цветущими ветками. С ее густых светлых волос ниспадали кружева, несомненно принадлежавшие чьей-то матери, их придерживала легкая ослепительная тиара, похожая на сверкающую, усыпанную бриллиантами паутину.
– Зайдешь нас навестить?
– Если меня пригласят.
Какое-то мгновение мы молча смотрели друг на друга.
– Мы едем в Рим на неделю, а потом к Кэролайн и Эрику на Майорку.
– Звучит неплохо.
– Да, неплохо, не правда ли? Считается, что я не должна знать о планах, но я все равно знаю. Рим мне нравится. А Майорку я почти не знаю. Я так понимаю, Кэролайн снимает там виллу каждое лето, так что, очевидно, им там нравится. – И она снова рассмеялась, довольно невесело.
Говорить, по всей видимости, больше было нечего, а я не был готов к этому неожиданному приступу меланхолии. Вот уж чему я не верю, так это признаниям на смертном одре. В данном случае она получила то, чего добивалась. Все, что ей оставалось, – это закрыть глаза. Так или иначе, не могу сказать, что я встревожился: многим невестам, да и женихам случается пережить эту легкую панику – «что я наделал?» – во время церемонии.
Я поцеловал ее в щеку.
– Удачи, – пожелал я. – Позвони, когда вернетесь.
– Я еще не ухожу.
– Да, но другой возможности поговорить у нас не будет.
Так и вышло. За ней пришел Чарльз, чтобы показать ее своим многочисленным незнакомым родственникам, и я снова остался в одиночестве. Я прошелся по тронному залу, который располагался по соседству. Снова красный и снова золото, на этот раз они служили фоном величественному трону под балдахином, обитому роскошно вышитой тканью. Здесь тоже висели портреты на цепях, на этот раз – Ганноверской династии. Я с восхищением рассматривал камин, когда мне кивнул толстый краснолицый субъект лет шестидесяти. Мы немного поговорили о портрете Георга IV кисти Лоуренса, что висел здесь же, как вдруг он с заговорщическим видом наклонился ко мне.
– Скажите, – хрипло прошептал он, – вы из знакомых этой девицы или один из нас?
Должен признаться, на мгновение я утратил дар речи.
– Думаю, и то и другое.
Леди Акфилд быстрым шагом направлялась к нам. Я наклоном головы поблагодарил ее за спасение из неловкой ситуации, и она представила меня незнакомцу. Оказалось, его звали сэр Уильям Фартли, и я чуть не расхохотался. Он неспешно двинулся прочь, а леди Акфилд взяла меня под руку, и мы направились к окнам.
– Надеюсь, вы не преминете в скором времени заехать к нам, – проговорила она. – Я знаю, Чарльз будет рад вас видеть.
Это означало, что Чарльз был готов взять меня в друзья и что остальная семья не видела никакой угрозы в моей дружбе с Эдит. Я поблагодарил ее и сказал, что польщен.
– Вы, наверное, не любите охоту?
– Честно говоря, не имею ничего против.
Она была очень удивлена:
– Правда? Я полагала, в театральных кругах охота не популярна. Я думала, там все ратуют за отмену.
Я пожал плечами:
– Лучше умереть в полете, чем на скотобойне, я так считаю.
– Какое облегчение! А я опасалась, что нам придется выискивать каких-нибудь писателей или ораторов, чтобы развлечь вас. Я знаю, Эдит считает вас очень умным человеком.
– Очень мило.
– Но раз вы охотитесь, то не будете возражать против обычных людей?
– Таких, как сэр Уильям Фартли? Жду не дождусь.
Она рассмеялась и состроила гримасу:
– Глупый старый дурак, но он живет всего в трех милях от нас, так что ничего не поделаешь.
Про себя я отметил, что он живет значительно дальше Истонов и что две-три сотни людей, живущих около самого Бротона, слезно молили бы о таком приглашении и никогда его не получат, но, естественно, оставил свои комментарии при себе.
Леди Акфилд похлопала меня по руке:
– Серьезно. Приезжайте обязательно. Я позабочусь.
– С удовольствием, но только если обещаете не приглашать писателей и ораторов. Не хочу терять лицо в глазах Эдит.
Она опять улыбнулась своей конспиративной улыбкой и вернулась к своим обязанностям.
Все вскоре закончилось. Счастливая чета отправилась переодеваться, мы вышли проводить, и сияющий автомобиль с открытым верхом унес их прочь. Эта несколько слащавая деталь была специально организована отцом Эдит, у которого сложилось ошибочное мнение, что она придаст дополнительный блеск церемонии. Так или иначе, обернувшись, мы обнаружили, что двери дворца уже заперты. Власти постановили, что праздник окончен, и нам ничего не оставалось, как разойтись по домам.
Глава седьмая
Для Эдит, как и для всех, кто об этом знал, одной из странных особенностей этого брака было то, что она ни разу не спала с Чарльзом до первой брачной ночи. Звучит довольно необычно, особенно в 1990-е, но тем не менее это было так. Поначалу она противилась его поползновениям, потому что понимала: он как раз из тех мужчин, что наутро не смогут уважать ту, которую так легко завоевали вечером. Должно пройти несколько невинных свиданий, чтобы он смог удостовериться, что она «хорошая девушка». Так продолжалось три месяца, но когда она решила, что теперь уже можно уступить, то, к собственному замешательству, обнаружила, что Чарльз, судя по всему, принял все как есть и не показывал виду, что хочет большего. Конечно, он и целовал, и обнимал ее, но без той страстной настойчивости, какую она привыкла ожидать от мужчины в такие моменты. Однажды, когда они лежали на диване в квартире ее родителей (Кеннет и Стелла как раз уехали на выходные в Брайтон), она позволила себе как бы невзначай скользнуть рукой по его брюкам; и хотя она ощутила под их тканью совершенно замечательную эрекцию, Чарльз так подскочил от этого прикосновения, что в дальнейшем она подобных вещей не делала. А после того как он сделал ей предложение, особого смысла что-то изобретать уже не было. В конце концов, он ей нужен абсолютно вне зависимости от того, насколько они подходят друг другу в постели, и если сейчас окажется, что не очень, то вдруг это охладит его пыл к ней? Так что когда за пару недель до свадьбы он предложил ей сбежать вдвоем на выходные, она томно промурлыкала, что теперь, когда осталось совсем немного, наверное, им лучше подождать, чтобы не испортить самое главное. Чарльз не стал возражать, хотя, будучи сыном своего времени, уже приобрел определенный сексуальный опыт, но где-то в глубине души он все-таки верил, что невеста должна входить в брачный чертог непорочной. Конечно, в буквальном смысле слова непорочной Эдит назвать было нельзя, но она решила, что, если вдруг возникнут вопросы, можно будет сослаться на якобы произошедший когда-то в юности «инцидент», о котором ей совсем не хочется говорить. Однако ей так и не довелось прибегнуть к этому средству. Чарльзу как будто было вполне достаточно, что для них эта ночь была первой, и он предусмотрительно отказался соперничать с ее прошлым.
Он забронировал номер в отеле «Гайд-Парк» в Найтсбридже. Весь мир знает, что сейчас это заведение входит в гостиничную сеть «Мандарин» и старое название уже фактически не имеет никакого отношения к действительности. Но люди из высшего общества обычно не торопятся забывать привычные названия, так что – по крайней мере, пока их дети не начнут заводить своих детей, – для них он останется отелем «Гайд-Парк». Молодожены планировали переночевать там, а на следующий день улететь в Рим. Итак, их автомобиль мягко катил по Сент-Джеймс-стрит, вниз по Пикадилли мимо «Рица», через Гайд-Парк-Корнер и, развернувшись у Боуотер-Хауса, высадил их у крыльца. Пока они ехали, и туристы, и аборигены с улыбкой провожали их взглядами и даже махали вслед – скорее всего, потому, что в подсознании народа автомобили с открытым верхом неразрывно связаны с появлением на публике королевских особ. Чтобы не обманывать их ожидания, а еще оттого, что блеск нового положения окутывал Эдит, как сверкающее облако, и все искрилось у нее перед глазами, она временами нерешительно махала им в ответ. Чарльз же смотрел прямо перед собой, как будто стоял вопрос о его пригодности в офицеры. Она понимала, в чем дело. Чарльз был во власти одного из самых скучных аристократических предрассудков – вечной английской привычки создавать впечатление, будто ты совсем не подозреваешь о собственном особом положении. Разглядывая застывший профиль своего спутника, Эдит заподозрила, что этой безмятежности безразличия, такой элегантной в теории и такой нестерпимо унылой на практике, еще предстоит испортить им в будущем немало радостных минут. И вот, всего четверть часа назад покинув Сент-Джеймсский дворец, они вошли в холл гостиницы. На часах было еще только половина шестого, и Эдит не слишком ясно представляла себе, что будет дальше.
Сначала она хотела предложить не подниматься в номер, а выпить чая внизу, но передумала, побоявшись, что выдаст этим зарождавшееся в ней чувство, которое совсем не нравилось ей самой, – ей вовсе не хотелось поскорее остаться с ним наедине. Их провели в свадебные апартаменты, хотя они и заказали обыкновенный номер, причем разницу в цене управление отеля взяло на себя, следуя старинному принципу «Тем, кто имеет, да будет дано». В апартаментах их уже ждал багаж, а также цветы, фрукты и неисчерпаемый запас шампанского. А потом двери закрылись, и они остались вдвоем. Муж и жена. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Эдит почувствовала легкий приступ паники, когда ее накрыло осознание того, что этого мужчину ей суждено теперь видеть рядом с собой до конца дней. О чем же, черт побери, им разговаривать?!
Чарльз галантно указал на бутылку:
– Хочешь, я открою?
– Честно говоря, я, по-моему, больше не могу. Я уже в нем просто плаваю. – Она помолчала. – Пожалуй, пойду приму ванну.
Она начала раздеваться как можно более невозмутимо. Чарльз лежал на кровати и наблюдал за ней, но в последний момент у нее сдали нервы, и, все еще в трусиках и лифчике, она схватила из чемодана халат и шмыгнула в ванную.
Когда полчаса спустя она вернулась, Чарльз все так же лежал на кровати и читал газету. Он снял пиджак, жилет и галстук, ботинки и носки, и что-то в слегка нарочитой непринужденности его позы подсказало Эдит, что ее час настал. Легкими шагами она подошла к кровати, в одном халатике, легла рядом с Чарльзом и притворилась, что читает газету через его плечо.
– Счастлива? – ласково спросил он, не поднимая на нее глаз.
– Мм, – ответила она, думая о том, много ли времени уйдет, прежде чем он приступит к этому.
Теперь, когда момент настал, она вдруг разволновалась. Ей нужно было подтвердить для себя, удостовериться, успокоиться, что между ними существует физическое притяжение. В конце концов, это была одна из сторон их отношений, и ни ее честолюбивые планы, ни даже общие интересы здесь не имели ни малейшего значения. То телесное, чувственное единение, которое она, по крайней мере на этом этапе своей жизни, собиралась сохранить единственным до конца своих дней.
Казалось, прошла целая вечность, но вот Чарльз сложил газету и повернулся к ней. С убийственной серьезностью и не проронив ни звука, он принялся целовать ее, одновременно неумело расстегивая ее халат. Она отзывалась на его ласки, стараясь не проявлять инициативы. Он снова вздрогнул, как испуганный жеребенок, когда она прикоснулась к его члену, но на этот раз не отстранился. И так они лежали, лаская друг друга через одежду, пока Чарльз не счел, что уже пора. Он сел и, все так же не произнеся ни слова, снял рубашку, брюки и трусы. Эдит выскользнула из халата и стала ждать. У Чарльза оказалась довольно недурная фигура. Он был мускулист и ладно сложен, не тонок и не толст, но это было совершенно английское тело – белая, усыпанная бледными веснушками кожа, немного рыжеватой шерсти на интимных частях и голая, безволосая грудь. Его внушительный нос и волнистые волосы смотрелись как-то странно в сочетании с обнаженным телом. Казалось, он родился сразу в двубортном костюме и быть голым для него – противоестественно. Он выглядел не столько раздетым, сколько очищенным, как овощ, как будто с него сняли кожуру.
Все так же безмолвно и с тем же яростно напряженным лицом, избегая смотреть ей прямо в глаза, он снова стал целовать ее, затем приложил ладонь к ее лону и принялся массировать, размеренно и монотонно. Ей вспомнилось, как накачивают ручным насосом пляжный матрас. Она немного постонала, чтобы подбодрить его. Большего ему не потребовалось. Он быстро лег сверху, неловко, нащупывая дорогу, вошел в нее, сделал несколько толчков – в общей сложности не больше шести, – а затем, судорожно хватая ртом воздух (она поняла: сейчас! – и поддержала его, пару раз вскрикнув и тяжело дыша), упал на нее без сил. Вся история, начиная с того момента, как он отложил газету, заняла минут восемь. «Эх», – подумала Эдит.
– Спасибо, дорогая.
У Чарльза было раздражающее обыкновение – впрочем, не единственное, раздражавшее Эдит, – всегда благодарить жену после секса, будто она принесла ему чашку чая. Хотя, конечно, в тот момент она еще не знала, что это входит в его привычки.
Она подумала, не ответить ли: «Тебе спасибо», – но потом решила, что получится, как будто они прощаются у дверей снятого на несколько часов номера, поэтому только томно прошептала:
– Дорогой… – и поцеловала его в шею.
Он уже скатился с нее, и лежать на кровати голышом ей было немного зябко, но она не решалась пошевелиться, ведь это был очень важный момент для Чарльза, и она вовсе не собиралась ему его портить. Эдит не посмела попытаться оценить, как они занимались любовью, если, конечно, то, что только что случилось, можно было так назвать. В конце концов, это только начало, они едва поженились. Она осознала, что, в противоположность своему savoir faire[11] с официантами, Чарльз был совсем не так искушен и уверен в себе в более тонких делах. По крайней мере, он, кажется, был убежден, что произошло нечто важное, и не обратил внимания на то, что тело жены под ним даже не содрогнулось, и весь эпизод вполне можно было счесть успехом, а не поражением. И все-таки она почувствовала, что немного надеется, что, попрактиковавшись, можно будет несколько улучшить положение.
Они поужинали в отеле, скорее чтобы не встречать знакомых и не выслушивать поздравления (люди их круга ужинают в гостиничных ресторанах, только если необходимо встретиться с каким-нибудь американцем, который в этой гостинице остановился), чем из-за пристрастия к cuisine de la maison[12], и около одиннадцати отправились на покой. Перед сном они повторили действо, совершенное до ужина, и раскатились в разные стороны. Эдит смотрела в потолок, размышляя о странностях судьбы. Вот она лежит рядом с обнаженным спящим мужчиной, которого, если говорить честно, и не знает толком. Она думала о той простой истине, которая, пожалуй, приходила в голову чуть ли не всем невестам, от Марии-Антуанетты до Уоллис Симпсон: какова бы ни была политическая, социальная или экономическая выгода даже от самого блестящего брака, рано или поздно наступает момент, когда все выходят из комнаты и ты остаешься наедине с незнакомцем, у которого есть законное право совокупляться с тобой. И Эдит была совершенно не уверена, что в должной степени осознавала это до настоящего момента.
Проснулась она с той же самой мыслью – да, впервые за столько времени она проснулась не одна – и вздохнула с облегчением, когда Чарльз довольно застенчиво дал ей понять, что по утрам он не очень. Дела пошли веселее, они принялись обсуждать свадьбу, всякие мелкие происшествия, кто из гостей им не понравился, кто и когда неудачно женился, а кто вот-вот разорится. «Конечно, – решила Эдит, – именно об этом мы и будем разговаривать – о том, что случилось в нашей общей жизни, и чем дольше мы проживем вместе, тем больше у нас будет общих воспоминаний». Она как раз утешала себя этими мыслями, когда вдруг Чарльз резко замолчал. Он иссяк, и не в последний раз. В дверь постучали. Официант вкатил в номер тележку с завтраком.
– Доброе утро, милорд, – сказал он Чарльзу, а затем, подходя с тележкой к кровати: – Доброе утро, миледи.
«Ладно, – подумала Эдит, – могло быть и хуже».
Если учесть, что первые несколько часов, проведенных молодоженами вместе, вовсе не были чем-то феерическим, то даже немного удивительно, что их путешествие в Рим, напротив, прошло очень хорошо. Они остановились в отеле «Де-ла-Вилле», почти у самой Испанской лестницы, чуть ниже виллы Медичи. Рим – вообще очень красивый город, к тому же Эдит впервые доводилось слышать, как к ней обращаются «миледи» и «графиня», куда бы она ни пошла. Это ей нравилось, хотя ей хватало ума не показывать этого, и в то же время не давало забыть, почему она здесь. Еда была восхитительна, кругом было много всего, на что можно посмотреть, а значит, и о чем поговорить. И так, ужиная под звездным небом на пьяцца Навона или прогуливаясь вдоль сверкающих фонтанами аллей на вилле д’Эсте в Тиволи, Эдит начала чувствовать, что все-таки сделала неплохой выбор и что впереди ее ждет именно та богатая и приятная жизнь, какую она себе представляла.
Еще когда они были в Риме, Чарльз начал рассказывать ей о Бротоне и Фелтхэме; до свадьбы он как-то не вдавался в детали. Возможно, он считал, что пока она не стала одной из Бротонов, ее не могло это заинтересовать. Он любил свои поместья, ему нравилось заботиться о них, а так как все это вполне укладывалось в рамки ее предсвадебных фантазий, она любила его за это. И отвечала ему с искренним воодушевлением. К своему удовольствию, она обнаружила, что он не очень хорошо разбирается в истории своей семьи. Вот задача для нее! Она уже видела, как с любовью составляет каталог мебели и картин, развлекает древних тетушек и пишет мемуары о длинных жарких летних сезонах в Бротоне времен короля Эдуарда, достает забытые картины с чердака какого-нибудь особенно чудаковатого предка и сметает с них пыль. И история, и сплетни ее всегда интересовали. Честно говоря, в постели у них лучше не стало и сценарий всегда оставался неизменным, но, когда Чарльз перестал так волноваться в ее присутствии, действие, по крайней мере, стало занимать чуть больше времени. В целом, когда они сели в самолет до Мадрида, откуда им предстояло лететь на Майорку, Эдит и Чарльз уже без проблем подолгу смотрели друг другу в глаза, старательно изображая счастливых молодоженов.
Глава восьмая
В Пальме, когда они вышли из аэропорта, окруженные толпой, выглядевшей и шумевшей, как целый клуб болельщиков «Вулверхэмптон Уондерерс», их подозвал кокни в красных нейлоновых шортах, с морщинистым и будто бы выдубленным лицом. Он объяснил, что он «водитель» Эрика и приехал отвезти их на виллу. Чарльза несколько вывело из себя, что его не приехали встречать лично. Эдит предстояло вскоре узнать, что, как это бывает со многими знаменитостями, его неуверенность в себе ярко проявлялась, когда он чувствовал, что с ним обращаются как с обычным человеком, сколько бы он ни говорил, что именно этого и хочет от окружающих. Сама она была просто счастлива выбраться из аэропорта и сесть в машину, и ее облегчение постепенно передалось и ему. В конце концов он простил Чейзам, что они остались дома: чтобы пересечь остров, нужно было два с половиной часа ехать по поросшей чахлым кустарником местности, где изредка попадались ветхие лачуги. Эдит никогда раньше не была на Майорке и не знала, чего ожидать. Но, глядя в окно на проносящиеся мимо виды, она поняла, что образы, возникавшие раньше в ее представлении, походили на смесь Монте-Карло и Блэкпула, а не на зачаточное земледелие и пыльные равнины Саламанки. Но когда они подъехали ближе к Кала-Ратьяде, огромные бетонные отели ее воображения стали потихоньку материализовываться вместе с толпами гуляющих (большей частью респектабельная публика), а также знакомыми и умиротворяющими сценами и запахами каникул у моря.
Сама вилла была большая, белая, современная, выстроенная на склоне холма; с просторных, выложенных плиткой террас открывался вид на залив. У них была своя пристань, явно скорее для купания, чем для лодок, и это означало, что обитателям виллы не приходится пользоваться многолюдным общественным пляжем, расположенным в нескольких сотнях ярдов. За узким проливом сквозь деревья можно было разглядеть нарядные домики, а дальше начиналось широкое синее море. Эдит и Чарльз стояли и любовались видом, когда тоненькая фигурка на пристани замахала им рукой и побежала вверх по лестнице. Через пару минут появилась Кэролайн. Они приняли поздравления и поцелуи и в свою очередь выразили восхищение виллой.
– Потрясающая, правда? Принадлежит кому-то из клиентов Эрика, так что мы получили ее по ужасно хорошей цене. Значительно дешевле той, что мы снимали в прошлом году, и в два раза больше. Так что у нас тут все лето настоящий пансионат.
Чарльз слегка нахмурился:
– Я думал, на этой неделе будем только мы.
– Я тоже так думала. Но позвонил Питер, у него единственная свободная неделя. И Джейн и Генри вдруг сказали, что все-таки смогут приехать. А потом появился один из деловых партнеров Эрика с женой. – Кэролайн сморщила носик. – Очевидно, Эрик пригласил их и забыл об этом. Кошмар, да? Ну, в общем, они здесь и, похоже, не обиделись.
– Хочешь сказать, они все сюда съехались? На этой неделе?
– Да, прямо сейчас. Пока мы говорим, они поднялись переодеться к ужину. Вам показали вашу комнату? У вас самая лучшая, так что не ворчите.
Чарльз демонстративно упал на кровать и – другого слова Эдит подобрать не смогла – надулся.
– Черт! Не понимаю, почему мы просто не пошли и не поселились в палатке на Трафальгарской площади!
Эдит легла рядом:
– Ну, дорогой, это не важно. Я уверена, все равно каждый занимается чем хочет. Мы сможем быть сами по себе.
Вообще-то, она чувствовала себя виноватой, потому что, слушая Кэролайн, вздохнула с облегчением, узнав, что будет еще кто-то, кроме них четверых. Из того, что она знала об Эрике, он ей не особенно нравился, Кэролайн ее порядком пугала, и она должна была признать, что с Чарльзом ей было трудновато подыскивать темы для беседы. «Будет полегче, когда мы проведем вместе больше времени», – говорила она себе, но при этом у нее слегка опускались руки, потому что она понимала, что знает наперед, какое мнение он выскажет по тому или иному поводу. Она даже начала играть сама с собой в некую игру, заводя разговоры о странных и неожиданных вещах, например о психосинтезе или далай-ламе, в надежде подловить саму себя и добиться, чтобы он сказал что-нибудь неожиданное для нее. Пока она не проиграла ни одного очка.
С остальными они встретились в тот же вечер на верхней террасе. Эдит побаивалась Кэролайн все время, пока Чарльз за ней ухаживал, по той простой причине, что Кэролайн была значительно умнее брата, и Эдит опасалась, что та если и не попытается отговорить его, то по крайней мере посоветует быть настороже. Но Кэролайн, несмотря на весь свой снобизм и эгоцентризм, была женщина, в общем-то, незлая. Теперь, когда Эдит стала ее невесткой, Кэролайн твердо вознамерилась наладить с ней отношения, а также сделать все, чтобы Чарльз, который был ей очень дорог, хотя она относилась к нему немного покровительственно, приятно провел время в ее доме. Все это Эдит увидела в искренних улыбках и немного трогательно поданном праздничном угощении из легких закусок и шампанского на льду, когда они прошли через гостиную и вышли сквозь стеклянные двери к остальным. Женщины были одеты в дорогие коктейльные платья, мужчины – в рубашки с широким воротом. И при этом они очень не подходили друг к другу на вид, как неудачно подобранные пары в какой-нибудь телеигре. Джейн Камнор была одета наряднее всех (и значительно наряднее, чем того требовала ситуация) – в черное муаровое платье без бретелей, – но теперь она уже ничем не могла угрожать Эдит, и та ничуть не смущалась своего хлопчатобумажного платья с открытыми плечами. С их последней встречи Эдит взяла приступом мир, который Джейн считала своим, да и в любом случае она была значительно красивее. За последние пару дней их взаимоотношения немного изменились, и Джейн понимала это не хуже Эдит. Она бочком подплыла и, оставив след помады, поцеловала новобрачную в щеку. Генри проковылял через террасу и неуклюже наклонился к Эдит. В своих ярких летних одеждах он напоминал передвижную пляжную кабинку XIX века. Эдит представила, как неожиданно распахивается его рубашка и внутри обнаруживается купальщик в полосатом купальном костюме до колен. Кэролайн подняла бокал:
– Добро пожаловать в семью.
– Ага, – поддержал Эрик, стоявший позади всех у края террасы. – Молодец, Эдит, ты их сделала.
Остальные обратили внимание на его тон, но проигнорировали его и подняли бокалы за молодых, стараясь исправить ситуацию. Эдит улыбнулась, они с Чарльзом выпили, поблагодарили присутствующих, и все сели.
Море мерцало в лунном свете, они развалясь сидели на плетеных стульях с подушками и болтали о том о сем с бокалами шампанского в руках, женщины в платьях от-кутюр поблескивали бриллиантами в ушах. Эдит лежала, свернувшись клубочком между подушек с набивным рисунком, скорее зритель, чем участник, и чувствовала, как ее обволакивает и согревает роскошное ощущение привилегированности. Все годы, пока она росла, ей хотелось не только избежать положения неимущей бедности, но и достичь несомненного богатства, и вот теперь, когда она уже готова была смириться с возможной неудачей, она оказалась здесь, в своей мечте. Гогот лордов и миллионеров теперь будет звуковым сопровождением ее жизни, а эти экзотические декорации – только начало. Как водитель, пересекающий пустыню, сначала замечает вдали горную гряду, а потом вдруг оказывается, что он, не заметив ее приближения, уже почти у самого перевала, так и Эдит с удивлением вспоминала, как перешла из респектабельной буржуазной жизни на Элм-Парк-Гарденс в нечто среднее между мыльной оперой и романом Лакло.
Первый вечер прошел без особых событий. Эдит знала всех, кроме невзрачной блондинки, которая вроде бы приехала с Уотсонами, друзьями Эрика. Боб Уотсон был скучный и ничем не примечательный, а его жена Аннет, довольно обычная, но хорошенькая и забавная, сразу понравилась Эдит. Аннет была моделью и актрисой в начале 1980-х, пока не вышла замуж, и потому сыпала пресмешными анекдотами обо всяких эпических картинах из римской жизни и испанских вестернах, где она играла. Она щебетала не переставая в течение всего обеда, который подали в столовой, выходившей во внутренний двор, и спасла Эдит от традиционной игры в имена, потому что ожидать чего-то другого от остальных не имело смысла.
Чарльз был более уклончив по поводу остальных.
– Ей есть что сказать о себе, этого у нее не отнимешь. – Вот и все, что он сказал, выключая свет.
– Она мне нравится. Она забавная.
– Не торопись с выводами.
Каким-то таинственным образом она поняла, что ее отчитали, хотя в его тоне не было раздражения, и с легким недобрым предчувствием, как ребенок, предполагающий, что его завтра высекут, Эдит положила голову на подушку. И в отличие от первой ночи, сегодня ничто не помешало течению ее мыслей перед сном, потому что сегодня они впервые со дня свадьбы не занимались любовью.
Наутро Эдит проснулась поздно и в одиночестве. С восхитительным, почти телесным ощущением благоденствия она позвонила, чтобы принесли завтрак, и вернулась к размышлениям о жизни, которая ждала ее впереди. Пришла горничная с подносом и сообщила, что все остальные уже поели и спустились к причалу. Как только Эдит была готова, она надела купальник, взяла полотенце и спустилась вниз по каменным ступеням, вырубленным в скале и покрытым плиткой. Она заметила Чейзов, Камноров и Чарльза, но остальных поблизости не наблюдалось. Она приветственно помахала всем, расстелила полотенце, легла – и мягкая, шерстяная волна теплого солнечного света окутала ее тело. Чарльз лег рядом с ней, обдав брызгами морской воды, и поцеловал ее солеными губами.
– Доброе утро, дорогая.
Она улыбнулась и поцеловала его в ответ:
– Что сегодня будем делать? Просто лежать и нежиться на солнце?
Ответила Кэролайн:
– Мы думали поехать в Кала-Ратьяду пообедать, а потом Фрэнки пригласили нас на чай. И вас тоже.
– Кто такие Фрэнки?
– Это довольно выдающаяся семья, жутко богатые, и у них есть коллекция скульптур, на которую определенно стоит взглянуть.
– Почему они такие богатые и откуда вы их знаете?
– Про первое – Бог знает. Это как-то связано с Франко, так что лучше не спрашивать, а что до второго – мы их не знаем, но мама крестила одного из их племянников в Риме, и она им рассказала, что мы едем сюда.
Эдит снова легла и закрыла глаза. Эта великая сеть, эта паутина, которой не мешали государственные границы и горные цепи, больше не угрожала ей – теперь она стала ее частью. И скоро в Вене, или в Дублине, или в Риме люди станут говорить: «Я видел Эдит Бротон, когда был в Лондоне, она говорит, они, вероятно, в сентябре будут в Нью-Йорке», и кто-нибудь из круга избранных отзовется: «Эдит? Как у нее дела?» – или даже лучше: «Обожаю Эдит. А вы?» – и все остальные люди в гостиных Вены, Дублина или Рима, кто не знает Эдит Бротон, окажутся исключены из разговора; и от этого они почувствуют себя бедными и заурядными, что и входило в намерения тех, кто невзначай обронил ее имя и кто с удовлетворением почувствует, что в который раз подтвердил свою принадлежность к высшей касте. И во всем этом Эдит сыграет роль персоны, с которой почти невозможно познакомиться, если ты не один из них. И на одно-единственное мгновение в то утро, пока солнце ласкало ее веки, а с соседнего пляжа доносились детские голоса, Эдит с недоумением задумалась, какова же может быть цель этого бесконечного воздвижения и преодоления границ.
Рядом с ней раздался сильный глухой удар, она открыла глаза, и ей предстало зрелище, повергающее в благоговейный ужас, – Генри Камнор растянулся позагорать. Без одежды он казался еще больше, как открытка с надписью: «Никто не видел мою корзиночку?»
– А остальные? Мы же не можем все явиться к этим несчастным людям? – Он говорил, не обращаясь ни к кому конкретно, в воздух прямо над собой, чтобы не затруднять себя и не шевелить ничем, кроме губ.
Кэролайн пожала плечами:
– Не вижу причины, почему нет. Я сказала, что нас много.
У нее была эта любопытная уверенность английских представителей высших классов, что какова бы ни была ситуация и сколько бы другие ни лезли из кожи вон ради нее, даже когда, как сейчас, абсолютно незнакомые люди предлагают ей свое гостеприимство, все же это она, леди Кэролайн Чейз, оказывает им услугу. Для таких людей немыслимо даже представить, что они не обязательно оказывают честь дому, в который входят. И в результате, из-за этой уверенности, что она облагодетельствовала хозяев одним своим присутствием, Кэролайн никогда не старалась вести себя приятно ни с кем, кроме людей своего круга, и хотя была умной женщиной, могла оказаться убийственно скучной гостьей. Но об этом ни она, ни многие другие очень похожие на нее люди даже не подозревали.
– Спросим их, когда они спустятся, – сказала она.
– Они здесь надолго? – поинтересовалась Джейн, приподнимаясь на локтях, чтобы взять бутылочку с маслом.
– Кто? Питер и компания?
– Нет, при чем здесь дорогой Питер! «Боб» и «Аннет». – Джейн произнесла их имена в кавычках, как бы отстраняясь от них и давая понять слушателям, что считает их не такими же гостями, как все остальные, но странными представителями чуждой культуры.
– Еще вторник и среду, кажется. – Кэролайн обернулась к Эрику, тот кивнул и наморщил нос, не давая усомниться, на чьей стороне он хочет быть.
– Черт бы меня побрал! – прогудел Генри. – Кто сегодня в роли слушателя?
Все рассмеялись.
Эдит почувствовала непреодолимое желание прервать свое членство в клубе.
– Это вы об Аннет? – сказала она, будто не веря своим ушам. – Забавно. А мне она, пожалуй, понравилась.
Генри это не тронуло.
– Ну, тогда садись за ужином рядом с ней. Надеюсь, ты готова обсуждать ее кинокарьеру ad nauseam[13]?
Эдит улыбнулась:
– А что? О чем бы вы предпочли разговаривать? О том, с кем вы знакомы в Шропшире?
Она снова легла, все с той же улыбкой, и закрыла глаза, наслаждаясь неловкой тишиной, как набедокурившая школьница.
– Я не так часто бываю в Шропшире. – Генри отодвинулся от нее, обрюзгший, тяжело дыша, как кит, выброшенный на берег.
– Пойду искупаюсь, – сказал Чарльз.
Обедали поздно, ели паэлью, в которой было слишком много кальмаров, в ресторане под открытым небом с видом на порт, где покачивалась на волнах целая флотилия яхт, а затем на двух машинах отправились к Фрэнкам. Те жили за городом, на самом берегу моря, и их дом со всех сторон на суше окружала каменная стена, выложенная поверху битым стеклом. Ворота, или, скорее, огромные железные двери, открылись автоматически, как только они назвали себя, а затем захлопнулись, едва не попав по бамперу второй машины.
– Да, похоже, двух машин они не ожидали, – рассмеялась Аннет.
Неустрашимая Кэролайн, сидевшая за рулем первого автомобиля, где ехали Эдит, Аннет и Генри, прокладывала путь через огромные безлюдные сады. Сквозь ветви деревьев соблазнительно мелькали работы Генри Мура и Джакометти, пока, свернув за массивный куст рододендрона, они не оказались у развилки. Одна дорожка вела вверх по склону к замку XIX века, который возвышался на самой высокой точке владений, и Эдит решила, что именно туда они и направляются, а вторая вела к другому дому, такому же большому, как и первый, только современной постройки, у самой кромки воды. С дороги его видно не было – здание было очень низкое, его балконы нависали над самыми волнами.
– Нам куда? – спросила Эдит.
– Вниз. Миссис Фрэнк нравится жить у моря.
– А там, на холме, что?
Лицо Кэролайн приняло соответствующее ситуации туманное выражение.
– Я так думаю, это по большей части для внуков.
– Вот это да! – воскликнула Аннет, и Эдит с интересом отметила, что больше никто не признавал невероятную, оргиастическую роскошь, свидетелями которой они были.
Она уже начала понимать, что делом чести в этом мире было ни в коем случае не выражать восхищения любым проявлением богатства, каким бы фантастическим оно ни было. Отмечать, что богатство любого масштаба не есть что-то обычное, земное, мирское, значило рисковать выглядеть мелкобуржуазно. Люди могут принять тебя за представителя среднего класса – части общества, свою непринадлежность к которой многие из них со страстью доказывали всю жизнь неизвестно кому. У этого правила есть исключения. Можно воскликнуть: «Какая прелесть!» – но таким образом, чтобы скорее проявить великодушие, нежели действительно высказывать изумление. А еще лучше: «Дорогая, это просто роскошно!» Таким образом вы показываете, что интерьер, меню, что угодно – чрезмерно и опасно граничит с вульгарностью. Леди Акфилд особенно хорошо умела уничтожить собеседника своим улыбчивым энтузиазмом. Но для новичка это очень и очень непростое искусство, и Эдит правильно делала, что не пыталась пока его осваивать.
Лакей в белой ливрее провел компанию через сияющие мрамором комнаты на террасу, где миссис Фрэнк, очень загорелая, крепкая женщина, полулежала в ярком хлопчатобумажном саронге, массивные браслеты позвякивали на ее мускулистых руках. Она жестом пригласила вошедших подойти ближе.
Кэролайн взяла инициативу в свои руки.
– Добрый день, – лениво протянула она. – Я Кэролайн Чейз.
Она начала представлять остальных и на долю секунды сделала паузу перед тем, как назвать трех «посторонних», не бротонских гостей – Боба, Аннет и девушку Питера, как бы показывая миссис Фрэнк, что они не принадлежат к ближнему кругу и с ними особенно церемониться не стоит. Миссис Фрэнк приняла сигнал и поприветствовала чужаков ощутимо прохладнее, чем «основных» гостей.
– А вы, должно быть, та самая новобрачная, – сказала она, вставая, и взяла Эдит под руку, чтобы отвести их в дом. Эдит уловила сильный мускусный запах духов и, пока они шли, наблюдала, как сухие морщинки двигаются вокруг узких, накрашенных алой помадой губ. – Как вам нравится на Майорке?
– Мы прилетели только вчера вечером. Пока все чудесно. – Она улыбнулась в ответ, глядя в безжизненные, скучающие глаза ухмыляющейся хозяйки.
– Вы должны позволить нам развлечь вас, пока вы здесь. Расскажите, как там дорогая Гуджи?
– У нее все хорошо. Они с Тигрой в Шотландии.
Выговорив это, Эдит поняла, что впервые произнесла вслух эти нелепые прозвища. До замужества она про себя решила, что будет называть будущих свекра со свекровью Хэрриет и Джон, но от миссис Фрэнк так и веяло исключительностью, принадлежностью к узкому кругу, и это настойчивое ощущение заставило Эдит переменить решение, потому что, по правде говоря, что бы она там ни говорила своим друзьям, ей не хотелось быть «этой чужой» невесткой. Она не хотела, чтобы люди сочувствовали леди Акфилд, что Чарльз не нашел себе лучшей партии. Она хотела, чтобы ее свекровь поздравляли с тем, какая у нее способная невестка, какой у ее невестки хороший вкус, какая она очаровательная и как с ней интересно. Так Эдит получила свой первый урок – почему в Англии не было революций и что остановило столь многих людей, жаждущих перемен, от жены Эдуарда IV до Рэмси Макдональд: лучший способ справиться с беспокойным чужаком – впустить его, обратить его в свою веру, дать ему проникнуться ею со всей истовостью неофита, и вы глазом не успеете моргнуть, как он станет plus Catholique que le Pape[14]. Выучив урок, Эдит не стала лучше относиться к тем, кто ей его преподал, но у нее снова закружилась голова, когда она осознала, что теперь стала одной из них. Она почувствовала себя могущественной. Она обернулась и улыбнулась Чарльзу.
По плану была экскурсия по парку со скульптурами, и гости тронулись в путь. Когда они выходили из дому, к ним подошла молодая, довольно жилистая женщина, уменьшенная копия миссис Фрэнк. Она, очевидно, играла в теннис – в руках у нее была ракетка, великоватая для нее. Хозяйка представила ее как свою племянницу Тину. В отличие от тети, девушка была болезненно застенчива. Она молча пошла с ними рядом, как, очевидно, ей было велено, только шепотом, несчастным голосом отвечая, если обращались лично к ней.
Они прошли мимо бассейна, вырубленного на небольшом утесе над морем, и Эдит услышала, как Аннет спросила про терракотовые вазы по краям. Они постоянно наполняли бассейн водой, от которой в воздух поднимался легкий пар.
– Они римские, – сказала Тина почти беззвучно. – Дядя велел привезти их сюда с затонувшего у этих берегов корабля.
– А теперь к ним подвели трубы?
– Простите, что значит «подвели трубы»?
Чарльз довольно раздраженно перебил Аннет:
– Она хочет сказать, их используют, чтобы наполнять бассейн.
– Да. Морской водой.
– Морской водой? Подогретой морской водой?
Тина кивнула:
– Это же лучше, да? У нас есть другой бассейн, с пресной водой, но, по-моему, этот хороший.
На какое-то время Аннет замолчала. Она, похоже, начала соглашаться с остальными, что ей здесь не место. Группа остановилась на щедро увитой бугенвиллеями террасе, где на мраморном постаменте стоял большой торс работы Родена. Все ахали и восхищались. Миссис Фрэнк подошла к Кэролайн и принялась расспрашивать об общих знакомых. Похоже, ей было неприятно, что ее не пригласили на свадьбу Чарльза, потому что многие ее вопросы заканчивались словами «они, наверное, были на приеме», и Кэролайн снова и снова приходилось признавать, что да, были. Имена расходились кругами по глубокой лазурной глади средиземноморского неба, пока они переходили с террасы на террасу. Видели ли они Эстерхази с супругой? Полиньяков? Девонширов? Меттернихов? Фрескобальди? Имена, вырванные из исторических трактатов, имена, запомнившиеся Эдит на уроках истории, посвященных Испании, правлению Филиппа II, или Рисорджименто, или Французской революции, или Венскому конгрессу. И тем не менее вот они все, лишенные всякого реального значения. Они стали всего лишь картами, крупными козырными картами в игре в имена. Ставки были высоки, и Эдит с некоторым изумлением и удовольствием заметила, что Джейн Камнор и Эрик отстали на несколько шагов и идут рядом с Тиной, очевидно стремясь избежать того ощущения, что их оставили за бортом, которое они так любили вызывать у других. Кэролайн и Чарльз были невозмутимы. Было ясно, что, несмотря на все миллионы Фрэнков, брат и сестра могли ответить именем на каждое имя, да еще и добавить парочку сверху. Так что время прошло за перечислением герцогинь в окружении искусства, взлелеянного деньгами. Через час сорок пять минут они снова вернулись в современный дворец у моря.
На террасе был подан чай «в английском стиле», имеется в виду – в стиле американского отеля, и три лакея в белоснежных ливреях стояли наизготове. Миссис Фрэнк рассадила гостей. Девушка Питера, Боб и Аннет к этому моменту были уже почти раздавлены и втайне мечтали вернуться поскорее на виллу и превратить этот унизительный визит в забавный анекдот. Эрик подошел последним, красный от напряжения и заметно злой оттого, что оказался исключенным из разговора, вращавшегося весь вечер вокруг его жены. Он плюхнулся в шезлонг рядом с Эдит и схватил предложенную чашку.
Миссис Фрэнк обратила свое внимание к новобрачной:
– Скажите, Хилари Уэстон была на вашей свадьбе? От кого-то я слышала, что она застряла в Канаде.
Эрик фыркнул, искоса взглянув на нее:
– Какой смысл спрашивать Эдит, старушка? Придется подождать, пока ее немного поднатаскают.
Эдит его проигнорировала. Милостью провидения случилось так, что она довольно долго разговаривала с миссис Уэстон у входа. Она поблагодарила своего ангела-хранителя и с готовностью ответила хозяйке через голову Эрика, не удостоив его и словом:
– Нет, вы знаете, она все-таки приехала. Гален остался во Флориде и не смог вернуться. Я думаю, они это имели в виду.
Миссис Фрэнк кивнула, бросив странный взгляд на Эрика:
– Она столько всего успевает! Я чувствую себя по сравнению с ней настоящей лентяйкой.
И двинулась дальше. Эдит прошла испытание.
Эрик откинулся в шезлонге и посмотрел на нее:
– Неплохо вывернулась. Десять из десяти.
Она непонимающе посмотрела на него, не уступая ни пяди отвоеванной земли:
– Ты знаком с Хилари?
– Уж не хуже тебя.
Эрик встал и присоединился к Кэролайн, которая стояла у края террасы. Этот маленький словесный пинг-понг странным образом освежил Эдит, установив безо всяких сомнений, что в этой семье Эрик был ей врагом. Больше незачем было притворяться. И самое приятное, что в первом раунде победила Эдит.
Вечером она пела под душем, когда Чарльз пришел переодеваться к ужину. Он улыбнулся:
– Ты такая счастливая. Какая коллекция! Какое место!
Даже в этих кругах восхищение разрешается при соблюдении должной конфиденциальности, с обоюдного согласия участвующих сторон, а Чарльз явно чувствовал, что уже достаточно долго был холоден и непробиваем.
– Да, замечательно. И да, мне хорошо.
Она закрыла краны и поцеловала его, обнаженная и мокрая.
Следующие несколько минут, да и весь вечер в целом, были самыми приятными из тех, что она провела с Чарльзом с момента знакомства, и Эдит улеглась в кровать перед сном с ощущением победы и благополучия.
Чарльз повернулся к ней:
– Я так понимаю, Фрэнки хотят устроить в нашу честь ужин до нашего отъезда.
Она состроила смешную рожицу:
– О боже! Мы ведь не сможем отказаться?
– Ну что ты, дорогая, – сказал Чарльз. – Это так мило с их стороны, и они совсем не такие плохие.
– Хозяйка – да, но племянница – это просто кошмар.
Он рассмеялся:
– А по-моему, она довольно милая. Мы должны быть добры к ней.
Эдит приподнялась на локтях:
– Ну почему? Вот Аннет, такая разговорчивая и забавная, а вы оказываете ей холодный прием и морщите носы у нее за спиной, а если это Тина Фрэнк – а я в жизни не встречала такой скучной девушки, – вы придумываете для нее оправдания и притворяетесь, что она прелесть?
– Не знаю, о чем ты.
– Очень даже знаешь, Чарльз. – Она чувствовала странную уверенность в себе, почти беззаботность. Впервые со дня свадьбы она действительно начала чувствовать себя леди Бротон. Она хорошо справилась с делами и по древней традиции теперь имела право на собственное мнение. Она продолжила, улыбаясь, но жестко: – Прекрасно знаешь. И я скажу тебе, в чем дело. Аннет не знает тех, кого знаем мы и Тина, а у Тины еще и сотня миллионов в кармане. Послушай, дорогой, ты никогда над этим не задумывался? Хоть немного?
Эдит ощущала свою силу. Она загадочно улыбалась мужу, чуть встряхивая головой, представляя, как обольстительно, должно быть, ее светлые волосы рассыпаются по плечам.
Чарльз уставился на нее без выражения.
– Кого это вы с Тиной Фрэнк знаете? – кисло спросил он и выключил свет.
Часть вторая
Forte-Piano
Глава девятая
Я почти не видел Эдит после ее возвращения из свадебного путешествия, хотя они и бывали в Лондоне время от времени. Она не была в восторге от логова своей свекрови на Кадоган-сквер, вместо этого они останавливались в квартире Чарльза на Итон-плейс и иногда появлялись на вечеринках или концертах. Пару раз я сталкивался с ними на званых обедах и в числе нескольких других гостей был приглашен в их маленькую гостиную на третьем этаже однажды в октябре, но особой возможности поговорить не было. Эдит казалась вполне довольной жизнью, и у нее уже начал появляться налет привилегированности, такая едва различимая защитная аура luxe[15], которая отличает больших людей от простых смертных, и я с интересом отметил, как hauteur[16] начало окутывать удачливую девушку из Фулема.
В последние недели перед Рождеством я не видел их совсем и уже начал чувствовать, что постепенно выпадаю из их круга общения, когда получил письмо и открытку, не от Эдит, а от Чарльза, с приглашением на охоту в январе. Охота намечалась на пятницу, так что меня пригласили поужинать в четверг и остаться на ночь, а так как остальное не уточнялось, предположительно, мне полагалось испариться в пятницу сразу после охоты, чтобы освободить место для прибывающих субботних гостей. Приглашение было прислано довольно поздно, это значило, что кто-то из гостей в последний момент отказался, но от этого оно не было менее заманчивым, потому что я мог заранее (в кои-то веки) сказать, что в указанный день буду свободен. Меня уже назначили «злодеем недели» в один из бесконечных детективных сериалов, где расследования ведут полувлюбленные друг в друга парень и девушка, съемки начинались через пять дней после указанной даты. Я написал, что согласен, получил в ответ описание пути на автомобиле и по железной дороге. Там указывалось, на какой поезд мне садиться, а если я собираюсь добираться другим путем, то мне надлежит прибыть к шести часам.
Я люблю охоту. Я знаю, это так же трудно понять моим добросердечным лондонским театральным друзьям, насколько легко мне объяснить мои чувства таким же, как я, сельским жителям, но я не предлагаю бросаться на защиту этого кровавого спорта, так как мне еще не попадалось ни сторонников, ни противников его, убеждения которых можно было бы поколебать. При этом должен признать, что не вижу особой логики в поведении людей, жизнерадостно поедающих продукцию ближайших скотобоен и возражающих против деятельности бдительных егерей, но принимаю, что некоторые, а может, и любые чувства человека не обязательно имеют под собой логическое обоснование. Как бы там ни было, в тот период моей жизни бо́льшая часть моих развлечений сводилась так или иначе к охоте, а потому, предвкушая приятное времяпрепровождение, я направился на мероприятие, которое обещало стать настоящим Grand Battu[17] в стиле короля Эдуарда.
Дорогу я знал хорошо, поскольку нередко приезжал на выходные к Истонам, но выбираться из Лондона на юг – порой настоящий кошмар, и я всегда оставлял время на дорогу с расчетом на возможные пробки. В тот день я не принял во внимание, что еду за город в четверг, а не в пятницу, и вот, по сравнительно пустым дорогам, я приехал в Бротон почти на полчаса раньше назначенного. Дворецкий с неожиданным именем Яго сказал мне, что леди Акфилд и леди Бротон в Желтой гостиной, заканчивают встречу какого-то благотворительного общества.
Не имея ни малейшего желания присоединяться к ним (с меня хватает обществ и совещаний, от которых отвертеться не удается), я устроился в уютном бархатном кресле работы Уильяма Кента в Мраморном зале. Ждать пришлось недолго, вскоре дверь отворилась, и на пороге появились несколько членов общества, раболепно бормочущих прощания Эдит, которая провожала их к выходу. Она вырвалась от них.
– Привет, – сказала она. – Я не знала, что ты здесь ждешь.
– Я рановато приехал, так что решил подождать немного и не портить тебе удовольствие.
Она ссутулилась и комично вздохнула:
– То еще удовольствие! Пойдем выпьем чая.
Не обращая внимания на поклоны и улыбки уходящих, она повела меня обратно в комнату. Они не возражали против такого обращения. Наоборот. Из-за того, что она бросила их, чтобы поздороваться со мной, они лишь уделили и мне порцию почтительных улыбок, бочком пробираясь к лестнице. Подозреваю, они подумали, что фея своей золотой палочкой коснулась и меня.
Остальные участники общества – обычный набор провинциальных интеллектуалов, туго завитых советников и дуреющих от скуки фермеров – уже почти разошлись. Некоторые из них медлили, неспешно собирая свои вещи, что выдавало намерение «поймать» кого-нибудь перед уходом. Добыча, на которую они охотились, была, конечно, леди Акфилд, которая устроилась в красивом кресле у камина в окружении почитателей. Несколько жаждущих, смущенных конкуренцией, ограничились парой минут с Эдит и ушли. Я приблизился к хозяйке, она встала и приветственно поцеловала меня, давая понять остальным, что аудиенция окончена.
– До свидания, леди Акфилд, – сказал стряпчий в мешковатой рубахе художника, – и спасибо вам большое.
– Что вы, это вам спасибо, – ответила леди Акфилд со своей обычной проникновенностью. – Сдается мне, вы у себя в Крэмни добились потрясающих успехов. Я слышала, жизнь бьет ключом. Жду не дождусь, когда же наконец смогу увидеть это своими глазами.
Ее собеседник расцвел, отбросив весь свой социализм:
– Мы будем счастливы видеть вас у себя.
И удалился, расплывшись в улыбке.
– Крэмни – это где? – спросил я.
Леди Акфилд пожала плечами:
– Какое-то жуткое захолустье в Кенте. Хотите чая?
Когда я пришел в свою комнату, мои вещи уже были распакованы, а вечерняя рубашка, галстук, носки и камербанд были разложены на кровати. Но мои чистые трусы куда-то делись. Я обыскал все ящики и принялся шарить под кроватью, когда за моей спиной раздался голос:
– Что вам там могло понадобиться?
Я обернулся и увидел Томми Уэйнрайта, он стоял в дверях, соединяющих мою комнату, она же Садовая комната, с соседней – Розовой бархатной комнатой, куда определили Томми. Честно говоря, несмотря на громкие имена, сами спальни были довольно маленькие, втиснутые во что-то вроде мезонина. Архитектор придумал их, чтобы устроить несколько дополнительных гостевых спален, но только испортил общий вид фасада. А потому, несмотря на благозвучные названия, комнаты выходили окнами на конюшенный двор, были всего два с половиной метра в высоту и располагались с северной стороны.
Мы еще немножко поискали пропавшие трусы, потом махнули рукой, бросив их на произвол судьбы. Очень может быть, что и по сей день пожилая пара трусов грустит, завалившись за какой-то из ящиков в Садовой комнате Бротон-Холла. Томми скрылся в своей комнате и вернулся с маленькой бутылкой шотландского виски и двумя стаканами.
– Жизненно необходимое снаряжение для отелей и ночевок у друзей, – объяснил он и налил по глотку.
– Они скупы на выпивку?
Мне нередко приходилось поражаться, каким лишениям и неудобствам высокородные англичане готовы подвергать своих гостей (и совершенно незнакомых людей), особенно в дни моей юности. Меня провожали в ванные, где кран мог только брызнуть коричневой жижей, меня селили в спальнях, где не закрывалась дверь, с одеялами тоньше батиста и подушками тверже камня. Мне случалось битый час ехать за рулем по пересеченной местности на обед со знатными родственниками моего отца и получить одну сосиску, две маленькие картофелины и двадцать девять горошин. Однажды, будучи в числе приглашенных на домашнюю вечеринку с балом в Гемпшире, я так замерз, что закутался во всю имевшуюся у меня с собой одежду, в два ветхих полотенца, а сверху накрылся потертым турецким ковриком – единственным, что нашлось в комнате. Разбудив меня на следующее утро, хозяйка никак не прокомментировала тот факт, что я спал в некоем подобии тканого саркофага, и ее нисколько не интересовало, удалось ли мне глаза сомкнуть. Когда думаешь о вельможах времен короля Эдуарда, утопавших в роскоши, странно становится, что их внуки настолько к ней равнодушны. В последнее время я начал замечать, что склонность нуворишей окружать себя комфортом слегка улучшает ситуацию и в домах anciens riches[18], но, святые небеса, сколько времени на это потребовалось.
Томми покачал головой в ответ на мой вопрос:
– Нет, нет. Не скупы нисколько. Ничего подобного. Лорд А. разве что не вливает ее гостям в глотки. Просто добыть чего-нибудь до обеда слишком сложно.
Мы посплетничали немного, и я спросил Томми, часто ли он бывает у Бротонов.
Он покачал головой:
– Не особенно. Они почти все время здесь. Должен сказать, я не ожидал, что Эдит окажется так увлечена деревенской жизнью, будет без роздыху возиться с местными и раздавать призы на ярмарках, но ведь они действительно почти не бывают в Лондоне.
Мне тоже это показалось немного удивительным. Особенно потому, что молодая пара все еще жила в большом доме вместе с родителями Чарльза. Когда они только поженились, то планировали отделать фермерский дом и переселиться туда, и я спросил Томми, как там дела.
– Не уверен, что там еще идут какие-то работы, – ответил он. – По-моему, они бросили эту затею.
– Неужели?
– Да, забавно. Она хочет остаться здесь, свекор и свекровь довольны, так что Брук-Фарм, скорее всего, закончат по-быстрому и сдадут.
– Так у них в этом доме отдельная квартира?
– Не то чтобы. Что-то вроде гостиной наверху для Эдит и кабинет Чарльза, конечно. Но и все. Очень похоже на какую-нибудь американскую мыльную оперу, где у семьи сотня миллионов, а они все равно теснятся в одном доме с большой лестницей посередине.
Я покачал головой:
– Чарльзу-то, наверное, нравится, как тут все заведено, но молодой жене это должно порядком надоесть.
Чарльз, как и все его племя, очень даже любил, чтобы на него обращали «особое» внимание, куда бы он ни приехал, более того, как Эдит уже имела возможность заметить, он не любил, когда этого особого внимания ему не достается. И я хорошо мог себе представить, что, хотя он и притворялся всю жизнь, будто не замечает барочных декораций, в которых эта жизнь протекает, ему было бы совсем нелегко от них вдруг отказаться.
Представителям высших классов английского общества присуща глубокая подсознательная потребность читать свое отличие от других в окружающих их вещах. Для них нет ничего более удручающего (и менее убедительного), чем попытка заявить права на определенное социальное положение или статус, определенное происхождение или воспитание без необходимого реквизита и обязательного набора знакомств. Им и в голову не придет отделывать однокомнатную квартирку в Патни, не отметив ее случайным акварельным портретом своей бабки в кринолине, парой-тройкой пристойных антикварных вещей и какой-нибудь реликвией из своего привилегированного детства. Все эти вещи – своего рода знаковая система, указывающая посетителю, какое место хозяин отводит самому себе в классовой иерархии. Но более всего прочего настоящим отличительным знаком, лакмусовой бумажкой для них является то, удалось ли семье сохранить свой фамильный дом и имения. Или приемлемую их часть. Можно услышать, как какой-нибудь дворянин объясняет заезжему американцу, что состояние не играет в современной Англии важной роли, что люди могут оставаться в обществе и без гроша в кармане, что земли в наши дни – скорее ответственность, чем прибыль, но в глубине души он во все это ни капли не верит. Он знает, что семья, потерявшая все, кроме титула, все эти герцогини с их домишками рядом с Чейни-Уок, виконты с захудалыми квартирками на Эбери-стрит, повесь они там хоть в три слоя портреты и изображения родового поместья («Там сейчас что-то вроде фермерского колледжа»), все равно все эти люди являются déclassés[19] для своего племени. Само собой, это осознание необходимости материального фундамента для социального положения остается таким же негласным, как масонский ритуал.
И конечно же, положение Бротонов было необычайно прочным. Немногим семьям к 1990-м годам удалось сохранить свое влияние, и недалек был тот день, когда Чарльз войдет в Бротон-Холл полновластным хозяином. Все еще слушая Томми, я заподозрил, что он мог опасаться – не случится ли так, что люди, с благоговением пожимающие ему руку в Мраморном зале, могут совершить ошибку и, увидев Томми в украшенной ситцевыми подушками гостиной его деревенского дома, принять его за обычного человека. Но я ошибался.
Томми покачал головой:
– Нет, Чарльз не против. Он уже привык к этой мысли. – Он задумался и помолчал, но решил не высказывать, что пришло ему на ум. – Ну ладно. Мне надо переодеться.
Мы собрались в гостиной, где семья обычно ужинала, – в красивой комнате с видом на сад, значительно менее громоздкой, чем соседняя Красная гостиная, где мы собирались по случаю помолвки. Кроме Томми, я увидел еще несколько отдаленно знакомых лиц. Здесь был Питер Бротон, но, похоже, без своей унылой блондинки. Старшая дочь старой леди Тенби, Дафна, вышедшая за скучноватого среднего сына какого-то графа из центральных графств, беседовала в углу с Кэролайн Чейз. Они оглянулись на меня и осторожно улыбнулись. С трепетом я поискал глазами Эрика и нашел – он поглощал виски и читал какому-то несчастному лекцию о нынешнем положении дел в Сити. Слушатель смотрел на красное лицо Эрика с таким же удовольствием, с каким попавший в свет фар кролик смотрит на приближающуюся машину.
– Что будете пить? – Леди Акфилд подошла ко мне и отправила Яго за виски с водой. Она проследила за моим взглядом. – Святые небеса! Похоже, эту светскую беседу не назовешь непринужденной.
Я улыбнулся:
– Кто этот счастливчик, на кого изливается щедрый поток мудрости?
– Бедняжка Анри де Монталамбер.
По той или иной причине я знал, что герцогов де Монталамбер и Бротонов связывал некий династический брак. Их герцогство было не особенно блестящим по французским меркам (у них дворян значительно больше, чем у нас, так что они могут позволить себе их сортировать), так как даровано оно было только Людовиком XVIII в 1820 году, но брак в 1890-м с наследницей стального короля из Цинциннати поднял семейство на недосягаемую высоту, поместив на один уровень с Тремулями и Юзесами. Леди Акфилд упомянула его так, как говорят о старом друге семьи, но поскольку она, по обыкновению, скрывала свои истинные чувства даже от себя, я, как обычно, не смог определить истинную степень близости.
– Вид у него слегка ошалелый, – заметил я.
Она кивнула, сдерживая смешок:
– Представить себе не могу, что он из этого понимает. Он по-английски и двух слов связать не может. Не обращайте внимания. Эрик не заметит. – Она приняла мой смех как должное, а затем упрекнула меня: – Только не считайте меня недоброй.
– Надолго ли приехал месье Монталамбер?
Леди Акфилд чуть нахмурилась:
– На целых три дня. И что нам делать? Я застряла где-то на «оù est la plume de ma tante»[20], а Тигра едва в состоянии выговорить «encore»[21]. Анри женился на одной из наших кузин лет тридцать назад, и с тех пор мы и десятка фраз друг другу не сказали.
– Так, значит, герцогиня говорит по-английски?
– Говорила. Но так как она была глуха, а теперь еще и умерла, то ничем помочь нам не может. Вы ведь не говорите по-французски?
– Говорю немного, – сказал я с упавшим сердцем, представляя, как перемещаются карточки на обеденном столе и впереди меня ждут бесконечные, тягучие переводные разговоры.
Она заметила выражение моего лица:
– Не пугайтесь, между вами будет Эдит. – Она кокетливо, по-птичьи склонив голову, искоса взглянула на меня. – Как вам наша новобрачная?
– Выглядит очень хорошо, – сказал я. – Честно говоря, никогда не видел ее красивее.
– Да, она и вправду хорошо выглядит. – Леди Акфилд помедлила долю секунды. – Надеюсь только, что ей у нас не скучно. Она имела здесь очень большой успех, знаете ли. Одна беда – они все ее настолько любят, что почти невозможно не втягивать ее в наши дела и всякие утомительные мероприятия. Боюсь, я поступила несколько эгоистично, возложив на нее столь значительную часть своих забот.
– Зная Эдит, готов поспорить, что ей это все нравится. Это неплохой шаг вперед, по сравнению с местом телефонистки на Милнер-стрит.
Леди Акфилд улыбнулась:
– Хорошо, если так оно и есть.
– Она совсем забросила Лондон, так что, наверное, у вас тут получается очень неплохо.
– Да, – бегло ответила она. – Если они счастливы, то все остальное не важно, не так ли?
Она поплыла навстречу новоприбывшим. Я осознал, что не замечал раньше некоторых нюансов в сложных лабиринтах великолепно упорядоченного ума леди Акфилд.
Ужин, как и следовало ожидать, оказался довольно тяжелым. Справа от меня сидела Дафна Болинброк, дочь леди Тенби, спокойная и приятная особа, а потому за первую перемену блюд я мог не беспокоиться. Но я слышал, как слева от меня Эдит отважно сражается с месье де Монталамбером, и, честно говоря, мне было нелегко сосредоточиться на собственном разговоре. Беда была в том, что по-французски Эдит говорила так же, как герцог по-английски, то есть ужасно, но не настолько плохо, чтобы предотвратить любые попытки общаться. Эдит не без напряжения бормотала о тех или иных местах Парижа, что они такие «bon»[22] и что Лондон такой «épouvantable»[23], а месье де Монталамбер попеременно то смотрел на нее с непонимающим видом, то, что еще хуже, когда ему казалось, что он понял ее замечание, обрушивал на нее бурный поток французских фраз, из которых она могла разобрать в лучшем случае несколько первых слов.
Переменили блюда, и я повернулся к Эдит, готовый облегчить ее страдания, но месье де Монталамбер отказался соблюсти английские правила хорошего тона и не захотел переключаться на свою соседку слева. Вместо этого, воспользовавшись легким улучшением качества разговора, которое обеспечил им мой бледный французский, он принялся страстно порицать правительство Франции, проводя загадочные для меня параллели с герцогом Деказом, министром Людовика XVIII.
– О чем мы разговариваем? – тихо спросила меня Эдит, пока неукротимый галл продолжал свои разглагольствования.
– Бог его знает. По-моему, о французской Реставрации.
– Вот те на.
По правде говоря, мы оба к тому времени уже порядком вымотались и мечтали о передышке, но герцог решительно игнорировал сидевшую слева от него леди Акфилд, а она, конечно же, была рада в этот единственный раз забыть о традициях.
Герцог сделал паузу и улыбнулся. Я почувствовал грядущую перемену темы разговора. Обнаружив, что я говорю по-французски лучше Эдит, он капризно решил продемонстрировать теперь свое владение английским.
– Любите вы секс? – любезно обратился он к ней. – Вы считаете, вы кончаете часто?
Именно в этот момент Эдит глотнула воды из своего бокала и, естественно, поперхнулась, вода попала ей в нос. Схватив салфетку, она тщетно пыталась выдать это за кашель. Я почувствовал, как справа Дафну начинает трясти от беззвучного смеха. Стол обуяла смеховая истерика, как это бывает со школьниками на уроке.
– Я думаю, – вмешалась леди Акфилд, почувствовав первые признаки гражданского неповиновения, – Анри спрашивает, как вам нравится в Суссексе.
Она говорила твердо, как учительница, обращающаяся к толпе расшалившихся школьников, но ее заявление неизбежно вызвало у всех новый приступ смеха. Эдит покраснела как рак и чуть не плакала в попытках подавить неуместное веселье.
Тут поднял глаза Чарльз. Он, естественно, все пропустил.
– Дорогая, – сказал он, – не помнишь, куда я дел второй чехол от своего ружья? Ричард хочет его завтра взять, а я ума не приложу, где он.
Его слова совершили то, чего не удалось его матери. Зарождающееся веселье будто окатили ледяной водой, и оно мгновенно потухло. Последовала мертвая тишина, потом Эдит произнесла:
– Ты одолжил его Билли Уэстбруку.
Снова поворачиваясь к своему утомительному собеседнику, она встретилась глазами со мной. И вот тогда, услышав терпеливый ответ Эдит и уловив усталость в ее голосе, я начал понимать, что, может быть, сделка оказалась для нее не такой уж легкой.
На следующий день я встал рано, но когда пришел в столовую, бо́льшая часть гостей уже были там и с аппетитом поглощали чудесный завтрак fin de ciècle[24], выставленный на буфете на серебряных блюдах. Я положил себе разнообразной, богатой холестерином снеди и сел на свободный стул рядом с Томми.
– Мы тянем жребий или нам просто скажут, кто где стоит? – спросил я.
– Жребий. У Чарльза есть такая ужасно модная серебряная штука с пронумерованными жетончиками. Мы будем их вытягивать, когда соберемся в холле. Самое важное – не получить место рядом с Эриком.
Я мог придумать тысячу причин, но по выражению лица Томми понял, что основная из них – обычное чувство самосохранения. Так получилось, что в результате от Чейза меня отделял только злополучный месье де Монталамбер. Я видел, как погрустнело его лицо, когда он вытянул свой жетон, но, может быть, он просто опасался угодить еще на одну лекцию о взаимоотношениях фунта и евро. Справа от меня оказался Питер Бротон. Всего стрелков было восемь человек, у четверых из них были заряжающие, так что с женами, собаками и так далее нас оказалось достаточно много, когда мы вышли во двор, чтобы рассесться по «ренджроверам», которые ждали на посыпанной гравием площадке. Эдит, как я заметил, с нами не было. Почему – я узнал после третьего гона, когда она появилась с термосами вкуснейшего бульона, сдобренного водкой (или без нее – для праведников).
– Можно мне стоять рядом или я буду тебя отвлекать?
– Можно, конечно. Отвлечь меня невозможно. Я мажу и один, и в компании. Чарльз не будет против?
– Нет, ему даже больше нравится с Джорджем. Он говорит, я слишком много болтаю.
Дичь гнали в густом лесу, далеко от дома, и стрелков расставили полукругом, вокруг базы. Я вытянул второй номер и теперь оказался на восьмом месте, с краю линии. Мы с Эдит пробрались через поле к шесту с цифрой восемь и стали ждать.
– Тебе все это действительно нравится? – спросила она, подходя поближе и прислоняясь к стоявшему рядом забору.
– Конечно. Если бы не нравилось, меня бы здесь не было.
– А я думала, ты мог согласиться, чтобы полюбоваться на меня во всем великолепии.
– Ты права. Такое тоже было возможно. Но так уж случилось, что мне нравится охота. Спасибо, что заставила Чарльза меня пригласить.
– О, это не я придумала. – Она помолчала. – То есть, конечно, я ужасно рада, что ты приехал, но это Гуджи предложила тебя пригласить. – Она уже перестала замечать, что называет своих родственников этими нелепыми прозвищами.
– Значит, спасибо ей.
– Гуджи редко делает что-нибудь приятное без причины.
– Ну, могу себе представить, какие у нее могли быть причины.
Прозвучал свисток, я зарядил ружье и стал смотреть на верхушки деревьев. Эдит не обиделась, что я отвернулся от нее, даже наоборот – стала держаться свободнее.
– Она беспокоится из-за меня. Думает, мне скучно, а ты меня подбодришь. Она считает, что ты оказываешь на меня хорошее влияние.
– С чего бы это?
– Она думает, ты напоминаешь мне, как мне повезло.
– А разве это не так? – (Эдит скривилась и прислонилась к забору.) – Бог мой! Только не говори, что тебе уже все надоело.
– Да.
Я вздохнул. Не буду притворяться: мысль, что Эдит открыла для себя, что доброе сердце значит больше, чем титулы и твердая вера в норманнскую кровь, меня не удивила. Наверное, я предполагал, что это должно случиться рано или поздно, но, даже учитывая происшедшее вчера вечером, это казалось неоправданно рано. Как и большинство ее друзей, я надеялся, что извечное открытие, что человек все равно не съест больше, чем в него поместится, и не сможет спать в двух кроватях одновременно, посетит ее не раньше, чем у нее появятся дети, которые придадут искренний и неподдельный интерес ее новой жизни. И потом, о Чарльзе можно говорить разное, но у него действительно было доброе сердце, и, я бы сказал, ему свойственна простая и непреложная верность данному слову. Начиная говорить, я чувствовал, что во мне просыпается ментор.
– Что именно тебе надоело? Чарльз? Или сама эта жизнь? Или просто ты устала от деревни? Что?
Она не ответила, и мое внимание привлекла птица, летевшая в мою сторону, но слишком высоко. Я вскинул ружье и выстрелил без особой надежды. Фазан весело полетел дальше.
– Должен сказать, – заговорил я примирительно, – все-таки нелегко начинать семейную жизнь под одной крышей с родителями мужа, как бы широко она ни раскинулась.
– Нет, все не так. Они предложили нам Брук-Фарм.
– Почему вы не согласились?
Эдит пожала плечами:
– Не знаю. Это такая… халупа.
Все вдруг стало понятно. Дело-то было в том, что ей до слез скучно с собственным мужем. Жизнь была еще кое-как приемлема в величественных интерьерах Бротон-Холла, где было с кем поговорить и всегда к ее услугам пьянящее вино зависти в чужих глазах, но оказаться один на один с Чарльзом в деревенском доме… Об этом и речи быть не могло.
– Если тебе так скучно, почему ты не проводишь больше времени в Лондоне? Мы тебя там теперь почти не видим.
Эдит рассматривала свои зеленые резиновые сапоги.
– Не знаю. Квартирка там такая маленькая, и Чарльз ее терпеть не может. И столько суматохи с переездами.
– А ты не можешь ускользнуть в одиночку?
Эдит уставилась на меня:
– Нет, не думаю. И по-моему, мне и пытаться не стоит, а?
– Да, ты права.
Вот и все. Она была замужем каких-то восемь месяцев, а муж уже надоел ей до смерти. Кроме того, она боялась начинать светскую жизнь в Лондоне, потому что у нее не было и тени сомнений – она втянется в эту жизнь раз и навсегда. По крайней мере, она была честна по отношению к фаустианскому договору, который заключила, и не намеревалась отступать от него.
Я улыбнулся:
– Ну, как говорила мне няня: но ты же не перехочешь. – (Она кивнула, довольно мрачно.) – Кто у тебя тут бывает? С Изабел ты видишься нечасто, могу поспорить.
Эдит состроила гримасу:
– Нет, боюсь, не особенно. Они ведут себя так, будто я предала Дэвида. Он, например, постоянно намекает, что неплохо бы поохотиться, и я даже не решилась сказать им, что ты приезжаешь.
– Чарльз против, чтобы он приехал?
– Да нет, дело не в этом. То есть он бы пригласил, если бы я попросила, но понимаешь, здесь совсем другие люди, нравится им это или нет. А Дэвид бывает таким… – она помолчала, – непрезентабельным.
Бедный Дэвид! До чего дошло! Столько лет Аскота, и «Брукса», и вечеров в «Терфе»[25], и вот после всего этого Эдит его стыдится. Жестоко сказано. Я был не совсем с ней согласен, хотя и хорошо понимал, о чем она.
– Тебе придется сказать ему, что я у вас был. Я не допущу, чтобы Изабел узнала об этом случайно и решила, что мы с тобой сговорились против нее. – (Эдит кивнула.) – А как насчет «других людей»? С ними интересно?
Она вздохнула, рассеянно счищая ногтем пятнышко засохшей грязи с полупальто из «Бабур».
– Захватывающе. Я знаю почти все, что можно знать о планировании поместья. Ночью меня разбуди – я расскажу тебе все о строении лошади. А если я чего-то и не знаю о благотворительных обществах, то поверь мне, этого и знать не стоит.
– Ты ведь, наверное, немало путешествуешь. Разве это не интересно?
– Очень! Ты ведь знаешь, что в Италии если перед тобой ставят миску с водой, то ополаскивать нужно фрукты, а не пальцы? Или что в Америке нельзя расспрашивать людей об их землях? Или что в Испании самое грубое нарушение правил поведения в обществе – это есть яйцо с помощью ножа, как бы его ни приготовили? – Она перевела дыхание.
– Про яйцо я не знал.
Какое-то время она молчала, и я еще раз попытался достать пролетающую надо мной птицу.
– Но что-то же тебе нравится?
– Наверное.
– А семья? Они знают, как тебе скучно?
– Гуджи – да. Но, конечно же, не наш старый добрый Тигра. Он слишком туп, чтобы видеть хоть чуть-чуть дальше кончика собственного носа. Еще Кэролайн, я думаю.
– А Чарльз?
Эдит смотрела на верхушки деревьев:
– Дело в том, что он находит все это настолько интересным, что уверен: когда я привыкну, мне тоже понравится. Он называет это периодом привыкания.
– На мой взгляд, звучит вполне разумно.
Конечно, не успел я это выговорить, как понял, что предаю ее, встав на сторону Чарльза. Но, во имя всего святого, я не мог придумать, какую еще позицию могу занять. Все равно никуда не деться от того факта, что ради высокого положения в обществе она вышла замуж за человека, который, без какого-либо злого умысла с его стороны, значительно скучнее и глупее ее. В этом и заключалась сделка, которую она совершила. Сколько ни ной, Чарльз не станет от этого остроумным и энергичным, а я сомневался, что Эдит готова вернуться к простым смертным, на уровень, с которого так недавно взлетела. Просто у нее было такое распространенное в двадцать первом веке желание получить все и сразу.
– Но ведь найдется же немало дел, которые нужно сделать. Разве у тебя не было великих планов прочесать чердаки и переписать путеводитель?
– На чердаках ничего особенного нет, только горы мебели времен королевы Виктории. Все стоящее Гуджи разыскала и отреставрировала много лет назад. Библиотекарь порядком рассердился, когда я предложила добавить в книгу побольше фактов из истории семьи. – Она зевнула. – А Чарльзу и Тигре это было ну ни вот столько не интересно. Они считают, что знать слишком много – очень мелкобуржуазно. И поэтому все закончилось довольно уныло.
– Значит, тебе придется найти себе что-нибудь другое. Не верю, что тебя не заваливают предложениями местные благотворительные общества. – Я замечал, что все больше и больше похожу на немку-гувернантку, но, по правде говоря, я сейчас их очень хорошо понимал, наблюдая, как избалованная красотка дуется, облокотившись на забор.
Она тоскливо вздохнула:
– Я так понимаю, ты хочешь сказать, что я должна смириться и терпеть дальше?
– Ну а разве нет?
Она посмотрела мне в глаза, и раздался свисток. Охота была окончена, и мы пошли к машинам. Там нас ждала небольшая, но очень яростная буря, причиной которой послужило то, что Эрик Чейз вроде бы почти попал по носу месье де Монталамберу. Эрик, конечно, был крайне возмущен самим этим предположением, а пострадавшая сторона бормотала потрясающие французские фразы, некоторые из них мне раньше слышать не доводилось. Меня призвали в качестве независимого судьи, но, болтая с Эдит, я все пропустил.
Кэролайн выслушала мои протесты и одобрительно кивнула.
– Очень разумно, – прямо сказала она. – На вашем месте я не стала бы в это вмешиваться.
И я не мог бы сказать с абсолютной уверенностью, что именно она имела в виду.
После чая я как раз садился в машину – был тот неловкий момент, когда одни гости уезжают, а новые уже появляются на пороге, и тут Чарльз подошел ко мне, перейдя посыпанную гравием площадку. Я опустил стекло, пытаясь вспомнить, что я мог оставить, ведь я уже со всеми попрощался, раздал чаевые и автографы.
– Я собирался вам сказать, – начал он, – одна кинокомпания прислала нам предложение. Отец немного озадачен. Это ваша епархия. Как вы думаете, что нам делать?
– Они хотят снимать фильм в Бротоне?
– Не знаю, настоящий фильм или что-то для телевидения, но в общем да. Что это за люди? Это безопасно?
Говорю как актер – я бы и на милю не подпустил съемочную группу к своему дому, ни при каких обстоятельствах. Но при этом должен признать, что на них вполне можно положиться, если дело касается чего-то, что может иметь «историческую ценность». Конечно, стоит оно того или нет, зависит, как и многое в этой жизни, от того, что получаешь взамен. Лучшее, что я мог сделать для Чарльза, – это дать адрес фирмы, где ему объяснят, на каких условиях стоит вести переговоры с кинокомпаниями, и посоветовать во всем их слушаться.
Он поблагодарил меня и кивнул.
– Мы должны будем внести вас в условия контракта, – улыбнулся он мне, и я уехал.
Глава десятая
В отличие от большинства моих знакомых из мира шоу-бизнеса в подобных обстоятельствах, Чарльз сдержал слово. Фильм, о котором шла речь, был одним из тех, что снимают специально для телевидения, собирая всех модных актеров, у кого на тот момент денежные затруднения, и показывают потом в воскресенье вечером битых три часа подряд.
Это должна была быть история сестер Марии и Элизабет Ганнинг, никому не известных ирландских красоток, прибывших в Лондон в 1750 году, взявших его штурмом и вышедших за графа Ковентри и герцога Гамильтона соответственно. Брак Гамильтона оказался неудачным, ситуацию исправила ранняя смерть герцога, но овдовевшая герцогиня этак стильно и не без щегольства вышла за своего давнего поклонника, полковника Джона Кэмпбелла, который сам был наследником герцогства Аргайла.
Именно из такого материала и лепят псевдоисторические мини-сериалы. Бротон должен был сыграть роль как дворца Гамильтон (разрушенного в 1920-е), так и Инверари (который, я подозреваю, был слишком далеко от Лондона; или же герцогу Аргайлскому предложение киношников не показалось заманчивым). Кроме того, разные интерьеры дома должны были изображать исчезнувшее великолепие Лондона времен короля Георга.
Режиссером был англичанин по имени Кристофер Твист, добившийся некоторой известности парочкой фарсов в конце шестидесятых, когда этот стиль был в моде, и с тех пор кое-как перебивавшийся остатками былого успеха. Я знал директора по актерам, она не раз была добра ко мне и в прошлом, и решил сначала, что это благодаря ей меня пригласили на довольно большую роль – Уолтера Криви (известного сплетника того периода, которого ввели в сюжет в качестве доверенного лица дважды герцогини, хотя не уверен, что существуют достоверные подтверждения этого факта), но Твист незамедлительно раскрыл передо мной карты.
– Я так понимаю, вы близкий друг графа Бротонского? – спросил он.
Наверное, если человек живет в Голливуде, то ему можно простить, что он перенял американские манеры, так как, в отличие от многих других народов, жители Лос-Анжделеса признают только свои правила. Но все-таки он меня слегка рассердил, причем не тем, что переврал фамилию Чарльза, и не тем, что не к месту употребил его титул, а тем, что воспользовался определением «близкий друг». По моему опыту, любой, кто называет себя близким другом какой-нибудь знаменитости, в лучшем случае слегка с ней знаком. Точно так же оборот «источники, близкие к королевской чете» в газетной статье означает сплетни из самого дальнего круга королевских прихлебателей.
– Я с ним знаком, – сказал я.
Твиста это не сбило.
– Да? А он о вас очень высокого мнения.
– Как мило.
– Итак, – он откинулся на стуле, вытянув ноги и демонстрируя пару ковбойских сапог, покрытых жутчайшим индейским орнаментом, – расскажите немного о себе.
Неактеру трудно представить себе глубину депрессии, в которую погружает этот вопрос, когда все роли твоей ничтожной карьеры приходится вытаскивать на всеобщее обозрение, как барахло из потрепанного чемодана коммивояжера. Поэтому я оставлю продолжение беседы за кадром и скажу только, что роль мне дали. Но не из-за рассказанного «немного о себе», а благодаря тому, что Твисту не хотелось начинать работу с немилости леди Акфилд, которая, как я позже узнал, непреклонно настаивала на моей кандидатуре.
Как только мой агент подтвердил, что меня наняли на все два месяца съемок – это предполагало около полутора месяцев в Бротон-Холле или рядом с ним, – я позвонил Эдит.
– Но это же просто здорово! Ты ведь будешь жить у нас?
Всегда приятно получить приглашение, но я твердо знал, что в самом Бротон-Холле останавливаться не буду. Я и так предвидел некоторую неловкость в отношениях с остальной съемочной группой из-за того, что я в дружбе с обитателями, а если бы я еще и жил у них, то очень скоро остался бы в стороне от собственно работы над фильмом.
– Вы очень добры. Не думаю, что вы вытерпите меня полтора месяца.
– Глупости! Конечно вытерпим.
– Было бы неразумно с моей стороны подвергать ваши чувства испытанию.
Эдит достаточно хорошо разбиралась в таких разговорах, чтобы понять – ей отказали, и больше не повторяла приглашения. Я сказал ей, что остановлюсь вместе с группой в отеле, переделанном из деревенского дома, совсем рядом с границей Акфилда, но мы будем часто видеться. Должен признаться, что после первого беглого обзора ситуации – на охоте – мной овладело несколько недоброе любопытство: мне хотелось увидеть Чарльза и Эдит в домашней обстановке. Возможно, где-то на задворках моего сознания притаился отголосок Schadenfreude[26] – того омерзительного удовольствия, которое мы испытываем, когда неудача постигает наших друзей, – хотя я надеюсь, что дело было не в этом. Но я видел, как Эдит входила в страну своей мечты, и боюсь, есть некоторое приятное самооправдание, когда другие разочаровываются в благах этого мира. Это утешительный приз неудачника.
Прошло две или три недели, я съездил на примерку костюмов в «Бермане» и париков в «Виг криейшнс», иногда сталкиваясь там с остальными актерами. Сестер Ганнинг должны были играть две американские блондинки, у которых как раз был перерыв в их полицейском сериале. Это с самого начала обрекало фильм на неудачу, если предположить, что он должен был иметь хоть какое-то отношение к искусству. Я не хотел бы показаться снобом. Существует множество ролей, которые, несомненно, нужно отдавать именно американским блондинкам. Я только хочу сказать, что, пригласив Луанну Петерс и Джейн Дарнелл, создатели фильма заранее отказались от мысли попытаться хоть в какой-то мере правдиво воссоздать Лондон XVIII века, жертвуя правдоподобностью ради того, чтобы привлечь побольше зрителей. Их невозможно было бы винить, по крайней мере я бы не стал, если бы они честно в этом признались. А так остальной части съемочной группы приходилось, сидя за одним столом с режиссером, выслушивать, как он отчаянно старается добыть подобающие канделябры или шляпы для статистов, когда он не хуже вас знает, что главные героини не имеют и не будут иметь ни малейшего сходства с реальностью. Актеры смеются: «Дают – бери, бьют – беги», – но все равно обстановка не самая вдохновляющая. Но я обрадовался, узнав, что мать сестер, миссис Ганнинг, будет играть актриса по имени Белла Стивенс, с которой мы однажды жили в одном коттедже в Нортгемптоне, еще когда я работал в репертуарном театре, и мне было приятно возобновить дружбу, которую мы и не пытались поддерживать в промежутке.
Странная и, может быть, уникальная черта театральной жизни – настолько близко сходишься с людьми, пока вы работаете вместе, а потом возвращаешься домой и даже не дашь себе труда снять трубку и позвонить. Недели слезливых исповедей, не говоря уже о сексуальных связях, отбрасываются с легкостью, без оглядки. Но это неизбежно: сама природа этой работы рождает близкие отношения, а стремительность, с которой одна работа сменяет другую, делает невозможным поддерживать такие отношения после. Но все равно странно представить, сколько ходит по улицам Лондона людей, которые знают о вас значительно больше, чем ваши ближайшие родственники.
И наоборот, ничего нет приятнее, чем возобновить такую дружбу после перерыва в несколько лет, потому что не надо ничего начинать сначала. Это как брошенное вязанье – можно продолжить ровно с того места, где закончил в прошлый раз. Так и получилось с Беллой. Это была неистово сильная личность с темным, почти демоническим лицом, некая смесь Джоан Кроуфорд и персонажа комедии дель арте, но вместе с тем у нее было доброе сердце. Белла была остра на язык, причем доставалось всем подряд, и еще она гениально готовила. В репертуарном театре, где мы работали (она – на главных ролях, я – вторым помощником режиссера), царил хаос, необычный даже для того времени, им управлял дружелюбный алкоголик и циник, который спал почти все репетиции и все спектакли напролет, так что у нас было немало общих смешных и страшных историй.
Я только вселился в свой номер в гостинице, и у меня рябило в глазах от его непременных коричнево-оранжевых цветов, когда зазвонил телефон. Это была Белла. Мы договорились встретиться в баре через час. Она сидела за столиком со спутником, которого представила мне как Саймона Рассела. Я кое-что слышал об этом актере, ему досталась хорошая роль (если такое можно сказать о роли в историческом сериале) – полковника Джона Кэмпбелла, верного кавалера нашей главной героини, и – в последние пять минут фильма – герцога Аргайлского.
Физическая красота – качество, которое многие пытаются обойти вниманием и почти все предпочитают недооценивать, чтобы продемонстрировать таким образом твердые моральные убеждения, но она тем не менее остается одной из ярких черт человеческого существования. Конечно, на свете немало людей, которые привлекательны, не будучи красивыми, и точно так же немало красавцев и красавиц, с которыми скучно до одурения, а опасность красоты для молодого и незрелого ума заключается в том, что от нее жизнь может показаться обманчиво легкой. Все это я прекрасно понимаю. Но я знаю и то, что из четырех даров, которые феи могут принести (или не принести) своему крестнику – ум, знатность, красота и деньги, – именно красота одним прикосновением распахивает любые двери. Идет речь о собеседовании, месте за столом на званом обеде, блестящем продвижении по службе, или вы просто ловите машину на улице, всякий, вне зависимости от пола и сексуальной ориентации, всегда предпочтет иметь дело с хорошеньким личиком. И никто не знает этого лучше самих красавцев. Они обладают властью, которую одновременно уважают и принимают как должное. Сколько бы моралисты ни твердили о ее мимолетности, эта сила обычно никогда не покидает своего владельца полностью. И в морщинистых чертах девяностолетнего старика, сутулого и опирающегося на палку, сквозит элегантность и уверенность в себе, что заставляла оборачиваться танцующих в бальных залах в 1929-м.
Мне однозначно не доводилось видеть мужчины красивее Саймона Рассела. Я не назвал бы его красоту мужественной – мужественность обычно сдерживает крайние проявления красоты, она подразумевает грубоватое, суровое притяжение несовершенства. Ничего подобного в Расселе не было. Его лицо было просто и без затей совершенно. Густые волнистые светлые локоны падали на лоб, затеняя большие, изумительно голубые глаза. Точеный нос римской статуи (мне всегда не нравился мой нос, поэтому на чужие я обращаю особое внимание), прекрасно вылепленные, немного даже девичьи губы и ровные, может, чуть слишком острые зубы дополняли картину. Но совершенство здесь не заканчивалось. Вместо худосочного телосложения, какое у нас ассоциируется с актерами из породы Смазливых Светловолосых Франтов, у Рассела было тело настоящего атлета, мускулистое, подтянутое. Короче говоря, он был великолепным экземпляром. Мне кажется, иногда богам надоедает постоянно искажать свои творения и тогда они позволяют себе выпустить в свет нечто безупречное; именно таков был Рассел. Если всерьез задаться целью найти у него хоть один недостаток, то можно было бы заключить, что ноги у него были слегка коротковаты для его роста. Позже я узнал, что эта незначительная деталь, эта пылинка на радуге, стоит ему многих часов болезненных ежедневных размышлений, что показывает, насколько паранойя и неблагодарность свойственны роду человеческому.
Мы втроем, решив держаться подальше и от режиссера, и от гостиничного ресторана, вскоре оказались в тесной кабинке любопытного акфилдского ресторанчика, отделанного – вот уж странная идея – в стиле Дикого Запада. Вечер получился славным, проект начинался определенно удачно. С Саймоном было приятно общаться: у людей, которым сопутствует удача, есть одна чудесная черта – с ними легко. Он был женат, имел троих детей – мальчика и двух девочек, о которых мы услышали (и нам предстояло слышать и дальше) немало. Он говорил о себе и о своих победах с непринужденностью и без малейшей застенчивости, на что способен только настоящий, искренний эгоцентрик. Но с ним было легко и весело, он очаровывал и прекрасно сочетался с бурной разговорчивостью Беллы. А еще он был колоссальная кокетка. Ни одно взаимодействие с другим смертным, от официантки до человека, у которого мы спросили дорогу, не оставалось без луча его ослепительной улыбки. Все люди, даже самые угрюмые и незначительные, должны были безропотно покориться его чарам. Я с огромным удовольствием наблюдал его в действии.
– Не думаю, что выдержу полтора месяца в комнате, куда меня поселили, – сказала Белла. – Я сначала подумала, что тут какая-то ошибка. Она размером с выдвижной ящик, а туалет там буквально в стенном шкафу. – Она жестом показала официанту, чтобы принесли еще бутылку.
Общеизвестно, что слова «актер» и «ворчун» – синонимы. Для нас нет ничего приятнее возможности всласть поныть, сетуя на условия, в которых приходится работать, спать, гримироваться. Существует старая шутка про актера, который пять лет просидел без работы, уже собирался утопиться и вдруг получает главную роль в фильме: должен играть с Джулией Робертс, и когда его спрашивают, правда ли это, отвечает: «Правда. Но, к счастью, завтра у меня выходной».
Я не особенно обращаю внимание на такие вещи, но меня приводила в уныние перспектива провести полтора месяца в окружении коричнево-оранжевых обоев, и именно тогда и родилась мысль снять на троих деревенский домик. Дело, конечно, было немного рискованное, но мы решили договориться о понедельной оплате, что позволило бы нам значительно сократить расходы и сделать наше существование значительно более комфортным.
– Вот только, – говорила Белла, – я поспрашивала у людей. Здесь в округе почти все – часть поместья Бротонов, а я так понимаю, их вряд ли заинтересуют арендаторы на такой короткий срок. Для отпускников здесь границы на замке.
– А кинокомпания не может как-то подергать за ниточки? – Саймон мягко улыбнулся, как человек, для которого неудобный статус-кво всегда можно изменить. – Они ведь на нас, наверное, неплохо зарабатывают. Кто там менеджер по съемкам на натуре? Кто-то же должен быть с ними в хороших отношениях. По крайней мере пока.
Съемки начинались на следующий день, и так или иначе выяснилось бы, что я с Бротонами в приятельских отношениях, так что я вмешался:
– Я с ними знаком. Не знаю, сдается ли у них сейчас что-нибудь, но могу спросить.
Белла обрадовалась, но совсем не удивилась такому повороту. Она знала и раньше о моей двойной жизни и, будучи далека от снобизма, не считала, что это требует какого-то особого отношения. Но по тому, как загорелись автомобильными фарами глаза Саймона, когда он повернулся ко мне со своей повергающей в прах улыбкой, я заметил, что значительно вырос в его глазах.
На следующее утро, едва я прибыл на съемочную площадку – сцену бала в Красной гостиной, где Эдит и Чарльз принимали нас в день своей помолвки, мое инкогнито, если оно у меня еще оставалось, разлетелось в прах. Бо́льшая часть главных действующих лиц уже облачилась в свои примерно-соответствующие-эпохе костюмы, когда вошла леди Акфилд.
– О, маркиза! – произнес Твист и совершил телодвижение, которое, вероятно, считал учтивым поклоном.
Она даже не поморщилась, когда напыщенно, как мэр какого-нибудь городишки в центральных графствах, он начал представлять ей исполнителей. Нет, леди Акфилд сохраняла на лице невозмутимую улыбку. Отыскав глазами меня, она вырвалась, поцеловала меня в обе щеки и отвела к окну. Для большинства присутствующих в ту же секунду я перестал существовать как актер, и мне понадобилось больше половины съемочного времени, чтобы восстановить хоть часть доверия к моим профессиональным качествам.
– Эдит говорит, вы не хотите останавливаться у нас.
– Вы очень добры, но честно – нет. Боюсь, я могу запутаться, за какую команду играю.
Она рассмеялась и ответила, окидывая беглым взглядом комнату:
– Очень надеюсь, что этого не случится. – (Я улыбнулся.) – А где вы собираетесь остановиться? Вы же не можете всерьез считать, что выдержите так долго в местном пабе?
Я вспомнил жалкие буклеты на моем туалетном столике в гостинице, возвещающие: «Добро пожаловать в великолепие особняка Нотли-Парк!» – и покачал головой:
– Не думаю.
– Слава богу!
– Честно говоря, мы тут с двумя приятелями подумывали, нет ли в поместье чего-нибудь, что мы могли бы снять на время. Как вы думаете? Что-нибудь простенькое. Нашлись бы три спальни и горячая вода.
– Кто еще?
Я кивнул в сторону Беллы в темно-красном бархатном платье, которая болтала с Саймоном. Он был в бледно-голубом шелковом костюме, с кружевами на запястьях и у шеи. В отличие от париков большинства статистов, у его парика не был такой вид, будто его сняли с утопленника, выловленного в Темзе, – он обрамлял лицо Саймона еще более роскошным изобилием светлых локонов, чем он мог похвастаться вне съемочной площадки. Рассел заметил наши взгляды и с улыбкой оглянулся.
Леди Акфилд выверенно улыбнулась в ответ:
– Святые небеса, какой красавец!
– Он наш главный герой-любовник.
– Очень похоже на правду. – Она снова повернулась ко мне. – Не сомневаюсь, мы что-нибудь придумаем. Вы, например, могли бы поселиться в Брук-Фарм, если вас не смущает, что там почти нет мебели. Я попрошу Чарльза с этим разобраться. Приходите сегодня на ужин и приводите этих двоих. На контрольный осмотр, – твердо добавила она, удаляясь. – К восьми. И не переодевайтесь.
– А ты уверен, что все нормально? – в двенадцатый раз спросила Белла, когда автомобиль, хрустнув гравием, остановился у главного входа.
– Уверен.
Она выбралась из машины:
– Боже, у меня с собой только синие рабочие брюки и свитера.
Вообще-то, она выглядела довольно стильно. Вся в черном, с огромными серьгами, она походила на певицу во французском революционном bôite[27].
Саймон был ощутимо спокойнее, когда мы подходили к изогнутой подковой лестнице. Он был из тех актеров – если имя им и не легион, то счет идет по меньшей мере на десятки, – которые так часто играют аристократов на телевидении, что начинают считать себя таковыми. Ему доводилось носить почти все существующие военные мундиры, вести войска в атаку буквально во всех войнах и вооруженных конфликтах, охотиться с гончими и танцевать до упаду из сериала в сериал, и теперь он каким-то образом поверил, что он и вправду один из тех, кто покупает обувь у Лобба, а шляпы у Лока, и что так или иначе он был бы и членом «Уайтс», если бы они только знали о его существовании… что он, короче говоря, принадлежит к gratin[28]. Он прохаживался по гостиным Фулема, отпуская пренебрежительные замечания о младших членах королевской семьи с видом человека, предпочитающего не рассказывать все, что ему известно. То есть между ним и Дэвидом Истоном, жившим неподалеку, особой разницы не было. Только Саймон реже бывал в деревне и до сих пор не подозревал, что пробиться здесь значительно труднее, чем в Лондоне.
Но ни Саймон, ни Дэвид так и не поняли одного: ключ к пониманию этих людей – их давнее знакомство друг с другом. В их сознании не укладывается, что на свете может существовать человек, который достоин войти в их общество, но с которым они не были с детства знакомы если не напрямую, то хотя бы через кого-нибудь из друзей. Самое большее, на что могут надеяться все эти улыбчивые гонщики и актеры-кокни, сияющие от счастья на задних церковных скамьях на королевских свадьбах, – это на положение неофициального придворного шута, то есть человека, которого в любой момент можно прогнать. Саймон был недостаточно знаком с миром великих, чтобы это понимать, и потому весь вечер держался с некоторой развязностью, которая должна была продемонстрировать присутствующим, что он постоянно ужинает в величественных загородных особняках по всей стране. Не стоит и говорить, что ему не удалось ни обмануть, ни заинтересовать хозяев.
Яго проводил нас в семейную гостиную. Дома были только Акфилды и Бротоны, и когда мы вошли, все четверо молча сидели и читали. Мне показалось, что общее настроение было достаточно вялым. Леди Акфилд подошла встретить нас. Выслушав прочувствованное приветствие Беллы, она тут же отвела ее к мужу, мгновенно поняв, что у него она будет иметь большой успех. Когда она вернулась к нам, Саймон уже успел неторопливо подойти к Чарльзу и спросить его, можем ли мы снять Брук-Фарм. Тот чуть не подпрыгнул от такой стремительной лобовой атаки, но быстро пришел в себя. Более того, вскоре он уже кивал с этакой дружелюбной полуулыбкой, так что я решил, что все будет в порядке. Я заметил, что Эдит, кивнув мне, не встала, а вернулась к чтению. Я наблюдал, как Саймон смотрит на нее во все глаза, но она не желала присоединяться к нам, и он оставил попытки и с новыми силами принялся ослеплять своим великолепием ее мужа.
Леди Акфилд принесла мне виски с водой, вечерний бокал, не дожидаясь просьбы, и это мне польстило. Она проследила за моим взглядом:
– Чарльз, похоже, считает, что Брук-Фарм подойдет, если вы настроены серьезно. Он отправит туда мистера Робертса утром. Нам все равно нужно было закончить этот дом самое позднее к следующему месяцу, так что даже лучше, что придется поторопиться. Можете въезжать послезавтра, и если вы не возражаете, там еще пару дней будут вестись работы. Надеюсь, это значит, что мы часто будем вас видеть.
– О, даже чаще, чем вам бы хотелось. – Я поколебался немного. – Разве Брук-Фарм отделывали не для Эдит с Чарльзом?
Леди Акфилд кивнула:
– Да, но они передумали. – Она посмотрела мне в глаза. – Для нас с Тигрой там слишком мило, – твердо сказала она.
Я кивнул:
– Вот и славно.
За ужином бедняге Чарльзу пришлось несладко. Белла имела большой успех у лорда Акфилда, она рассказывала ему своим хрипловатым голосом всякие неподходящие истории, к его очевидному удовольствию, и он был не склонен впускать кого бы то ни было в их беседу, а Саймон устраивал то же самое – хотя и более благопристойно – для леди Акфилд на другом конце стола. Эдит явно нечего было сказать мужу, хотя с остальными, похоже, ей тоже было не о чем говорить. Она наблюдала, как Саймон окатывает ее свекровь волнами своего остроумия и очарования. В лице леди Акфилд он, конечно, встретил достойного противника, сию достойную леди нельзя было поймать в такую хрупкую сеть, но должен сказать в его пользу – он ясно понимал, что имеет дело с мастерством, значительно превышающим его собственное, а за все время нашего знакомства я редко замечал за ним такое.
– Твой приятель-актер, кажется, очень уверен в себе, – сказала Эдит.
– Почему ты такая сердитая весь вечер? Что с тобой?
– Ничего. И я не сердитая. Хотя мне немного обидно, что ты бросил нас ради этих двоих. Ты уверен, что тебе понравится жить с ними? – Она говорила полушепотом, как будто чтобы разбудить в собеседнике любопытство, но так, чтобы ему было слышно. Мне это начало надоедать.
– Не понимаю, почему нет.
Она бросила еще один быстрый взгляд на Саймона:
– Гуджи к нему очень расположена, должна тебе сказать. За чаем она объявила, что сдала Брук-Фарм мужчине, красивее которого в жизни не видела. Я была очень удивлена.
– Неужели?
Мы оба теперь смотрели на Рассела, который смеялся и флиртовал с хозяйкой. Отблески свечей играли в его волосах, он все время встряхивал головой, отбрасывая локоны назад, как нетерпеливый жеребец. Его глаза, темнее, чем при дневном свете, сверкали, как два тонко ограненных сапфира. Я снова взглянул на Эдит. Она тоже была прекрасна и, как обычно, намного превосходила всех присутствующих, но в тот вечер я заметил, насколько в ней поубавилось живости. Помню, как она подмигивала лорду Акфилду, когда объявили о ее помолвке, но теперь на смену ее мерцающей, таинственной улыбке пришла иная, значительно более величественная и уверенная. И эта перемена совсем ей не шла.
– Он хорош собой, наверное, – проговорила она пренебрежительно. – Но актеры носятся со своей внешностью, как девчонки. Я не могу принимать всерьез мужчину, который беспокоится о глазных каплях и туши для ресниц.
Я повернулся к ней:
– А кто тебя просит принимать его всерьез?
Она занялась своей тарелкой.
Глава одиннадцатая
Графиня Бротон лежала в ванне в прескверном настроении, иногда изгибаясь всем телом, разгоняя горячую воду и подкручивая краны пальцами ног. Скоро Мэри принесет ей завтрак и удивится, застав ее в ванной. Она нарушала порядок, который постепенно установился в ее закрытой жизни. Даже Чарльз был несколько удивлен, когда она выбралась из постели и включила воду.
– Ты собираешься купаться сейчас? – спросил он, глядя на нее, как озадаченный щенок. Он едва осмеливался сомневаться в правомерности ее поступков и все-таки, как всегда, опасался перемен.
– Да. Нельзя?
– Почему бы и нет. Почему бы и нет. – Чарльз был не из породы бойцов. – Просто обычно ты принимаешь ванну после завтрака, вот и все.
– Знаю. А сегодня я купаюсь до завтрака. Все хорошо?
– Да. Да. Конечно. – Он заговорил громче, потому что она ушла в ванную и принялась чистить зубы. – Я собираюсь с Робертсом в Брук-Фарм. Хочешь с нами?
– Не очень.
– Мы посмотрим, что там еще нужно сделать. Думаю, немного, если они там всего на несколько недель. По-моему, странная идея. Разве в отеле им не будет лучше?
– Ну, очевидно, они так не думают.
– Да. Да, наверное, они так не думают. Ну хорошо. Тебе понравились остальные двое?
– Я с ними почти не разговаривала. Твои родители не дали мне толком взглянуть на них.
Чарльз рассмеялся:
– Должен сказать, эта Белла устроила папаше веселый вечер. Так и представляю, как он наведывается в Брук-Фарм узнать, не закончился ли у нее сахар. Рассел кажется мне немного пронырой.
– Гуджи он как будто очень понравился.
Но Чарльз уже сказал все, что хотел. Оставив жену предаваться новшествам в ее графике, он направился в гардеробную.
Как бы ни звучали его слова, он нисколько не был против того, чтобы сдать дом. Наоборот. Это давало ему уважительную причину как можно быстрее завершить отделку, и раз Эдит больше не нравится идея поселиться там, ему очень хотелось поскорее сдать дом в аренду и покончить с этим. Эти красивые пустые комнаты, которые они так подробно обсуждали сразу после свадьбы, служили ему немым упреком, ставящим в тупик напоминанием, что ему не удалось – что? Понять? Но что такое он должен понять? Они оба с таким удовольствием обустраивали дом. Он послушно хмурил лоб над маленькими квадратиками обоев и образцами тканей, хотя ему не было совершенно никакой разницы, что именно из этого она выберет, и они робко отмечали, что одна из дополнительных спален может потом пригодиться, планируя для нее значительно лучшую ванную комнату, чем эта спальня могла надеяться получить. И вдруг, ни с того ни с сего, все это куда-то пропало… Чарльз понимал, что жена недовольна. Он заботился о ее благополучии и внимательно относился к любым признакам ее недовольства, но не мог понять, в чем дело. Что изменилось? И он был в полном замешательстве относительно того, что делать дальше. Он предложил проводить больше времени в Лондоне, но нет, это ее не устраивало. Он позвал ее принимать большее участие в управлении домашним магазином и центром для посетителей при музее, но она считала, что это будет вмешательством в дела его матери. Наконец, он надеялся, что, обустроив Брук-Фарм, можно будет создать там, в Суссексе, светскую жизнь, никак не связанную с его родителями, и таким образом как-то помочь Эдит, но в один прекрасный день та вдруг решила, что все-таки не хочет уезжать из Бротон-Холла, и тут он действительно зашел в тупик.
– Просто не могу представить, как мы сидим там и пялимся друг на друга целый день, – беспечно сказала она.
Эти слова болью отдались в сердце Чарльза, потому что именно это он себе и воображал. Как они вдвоем ужинают, например, на кухне или в маленькой библиотеке, перед телевизором, с подносами на коленях, обсуждая горести и радости прошедшего дня…
Настоящая проблема Чарльза, как он с легкостью признавался (по крайней мере, себе), заключалась в том, что он просто не видел, что в их жизни не так. Он не мог понять, что плохого в том, чтобы видеться с одними и теми же людьми, вести одни и те же разговоры, делать одно и то же месяц за месяцем, год за годом. Его жизнь из года в год шла одной и той же колеей, с привычными вехами: охота с ружьем до конца января, с гончими до начала марта, несколько дней в Лондоне, затем, наверное, поездка куда-нибудь подальше на рыбалку или в Шотландию на пешие прогулки в горах. Что в этом может быть плохого? Очевидно, с этим было что-то не так, но что именно – он не понимал. И что ему делать дальше, чтобы порадовать жену, которую он любил, но которая набрасывалась на него за малейший неверный шаг, было для него серьезной загадкой. Загадкой, которую ему вряд ли удастся решить сегодня утром, думал он, надевая твидовый пиджак и спускаясь вниз, чтобы позавтракать с отцом в столовой.
А Эдит в это время тихо лежала в теплой воде, слушая стук его шагов по полированному дереву большой лестницы. Она знала, что Чарльз беспокоится из-за нее, но считала, что он заслуживает небольшого беспокойства. А она сегодня утром была встревожена более, чем обычно, и едва могла понять почему. Как будто плесень подтачивала величественную конструкцию здания ее жизни, и только самое острое обоняние могло уловить ее тонкий и резкий запах. В дверь спальни постучали, и вошла Мэри с подносом.
– Миледи?
– Я здесь, Мэри. Поставь там где-нибудь.
– Вы хорошо себя чувствуете, миледи? – В голосе Мэри, скромно остановившейся у открытой двери в ванную, звучало легкое беспокойство, очевидно вызванное частичным нарушением заведенного порядка.
– Все хорошо, Мэри. Спасибо. Оставь поднос в спальне. Я сейчас выйду.
– Хорошо, миледи.
Эдит слушала, как горничная энергично суетится в спальне, пока дверь не закрылась и не раздались удаляющиеся по коридору шаги.
Какой обычной казалась ей ее жизнь. Сегодня ее буквально окутывала серая обыденность, пропитывавшая атмосферу этих душных, заставленных обитой ситцем мебелью и наполненных диванными подушками комнат, как дымка, висевшая над водой в ванне. А ведь совсем недавно все эти мелочи – «миледи», отдающиеся эхом шаги по полированным деревянным полам, мужчины, завтракающие где-то внизу, за столом, уставленным большими, отполированными до блеска серебряными блюдами, укрытый кружевом поднос, поблескивающий фарфоровыми чашечками и блюдцами, – были так сладки для чувств. В те первые дни в Бротон-Холле как много удовольствия доставляли ей одни только монограммы на белье, кубки с Дерби на письменном столе, телефон с кнопками «конюшни» и «кухня», ливрейный лакей Роберт, красневший от волнения, когда приходил забирать чемоданы после того, как вещи переложены в шкаф, лебеди на озере, даже сами деревья в парке.
Принцесса в волшебной стране. Как быстро она освоила все хитрости, научилась быть величественно-любезной, элегантно «не подозревать» об окружавшей ее роскоши, делать так, чтобы человеку стало не по себе от ее умышленной непринужденности. Она с наслаждением наблюдала, какой неловкостью обернулся для Истонов их триумф, когда (наконец-то!), оказавшись на званом ужине в Бротон-Холле, они обнаружили, что окружены людьми, которые хорошо знакомы друг с другом и все до единого понятия не имеют, кто такие Дэвид и Изабел. Она скопировала пару приемов покойной принцессы Уэльской, совершенствуя теплую и полную очарования манеру поведения с деревенскими жителями, это сочетание величественности и выверенной естественности, которое завоевывает любое сердце. Она светилась доброжелательностью и расточала похвалы, осматривая новые игровые площадки детского сада или раздавая награды на цветочной выставке, завоевывала новых друзей, обезоруживала старых критиков. Как приятно было заметить, что дети застенчиво поглядывают на нее, и покорить их внезапной, обворожительной улыбкой, а затем перевести доброжелательный взгляд на их матерей. Но опять-таки, это было так просто…
Тихо застонав, она вышла из воды, закрыла краны, вытащила пробку и прошлепала в спальню, чтобы без энтузиазма поковырять свой завтрак. Мэри заправила постель и разожгла огонь – dernier cri[29] роскоши, особенно в сентябре. Поднос с тарелками и чашкой, такой же красивый, как и всегда, стоял на столе посреди комнаты. Пристроившись между тарелками в чудесный цветочек, лежали письма – просьбы, благодарности, приглашения на скучные сельские вечеринки, куда они пойдут, и на восхитительные вечеринки в Лондоне, куда они не пойдут. Она лениво просмотрела их, откусывая кусочек тоста, золотисто-коричневого, с аккуратно срезанной коркой. Мэри приготовила и ее одежду: твидовую юбку, хлопчатобумажную блузку, жакет из джерси с кроликами. Она будет носить эту одежду с жемчужными украшениями и не очень практичными туфлями, как костюм для бесконечной роли, которую ей теперь предстоит играть всегда. Она представила ожидающий ее день: несколько поручений библиотекарю, мистер Повар, легкий обед («легкий обед» – она даже думала теперь на языке своей роли), заседание некоего комитета в деревне, обсуждение летней выставки цветов, кузина Гуджи придет на чай. Тоскливая перспектива.
Но хотя она и решила уже, что вернуться к лондонской жизни было бы для нее неразумно, Эдит к тому моменту еще не сформулировала для себя, почему именно. Она просто бормотала себе под нос, что это «неудачная мысль», не распространяясь особо на эту тему. Самой себе она объясняла это тем, что среди ее друзей Чарльз будет чувствовать себя посторонним. И в любом случае она говорила чистую правду – или почти правду, – рассказывая, как он терпеть не может Лондон и что она (по крайней мере на этом этапе) тоже сыта столицей по горло. И все-таки она понимала, что говорит о пребывании в Лондоне с Чарльзом. Но у нее появлялось уже опасное ощущение, что могло бы быть интереснее, а потому рискованнее, бывать в столице в одиночку. И при всем этом, только очень и очень редко и едва слышным голосом, в душе она признавалась себе, что готова завести любовника.
Эдит гордилась тем, что буквально в одно мгновение стала Настоящей Леди, и соблюдала все правила новой жизни, будто была рождена для нее. Конечно, к этому времени она уже почти забыла, что вовсе не была рождена для такой жизни. Она поддалась тому, как убедительно ее мать считала себя почти дворянкой, и теперь каким-то загадочным образом представляла, что выросла в среде джентри и просто вышла замуж за человека немного выше ее по положению. Подобный взгляд на вещи позволял ей испытывать к Чарльзу не такую большую благодарность, какую она, конечно же, ощущала вначале.
С неизбежностью новое социальное положение принесло с собой и новую мораль. Она с гордостью избавилась от последних следов мещанской щепетильности и без труда усвоила холодные, практичные ценности, являвшие собой грани Мира Избранных, с делом которого она связала себя узами своего брака. Она быстро превратилась в одну из тех безупречно одетых женщин, которые за обедом в каком-нибудь ресторане говорят друг другу вещи вроде: «И зачем он поднял такой переполох? Оба мальчика несомненно его», или: «Глупая женщина. Через пару лет все утихло бы», или: «О, она совсем даже не против. Ее любовник только что переехал сюда из Парижа», и, надкусывая лист цикория, они заговорщически снижают голос, отчасти надеясь, что кто-нибудь их услышит. Она усвоила притворный ужас перед оглаской и искренний ужас перед возможным скандалом – неотъемлемые атрибуты класса Чарльза. Но даже среди этих шаблонных принципов оставалось немного места живым чувствам. Эдит не восхищалась скандалами. И более всего не любила людей, которые «добились своего», а затем «все испортили». Она достигла своей цели и была твердо намерена не опустить знамени.
И все-таки… и все-таки… С этими мыслями она откусила еще кусочек и решила, что, пожалуй, почему бы ей не поехать вместе с Чарльзом осматривать Брук-Фарм.
* * *
Ей незачем было сообщать мне, что они отправились на инспекцию, я видел из окна, как они садились в машину. Мы снимали в доме уже второй день, и у нас было довольно безалаберное утро, одно из тех, когда снова и снова снимают, как ты выходишь из дверей и идешь по коридору. Все это, конечно, очень полезно, помогает привыкнуть к костюму, почувствовать себя в нем естественно или подружиться с оператором, но особой самоотдачи не требует. Белла сидела рядом со мной у окна, на этот раз затянутая в тесный коричневый дорожный костюм, и деловито скручивала довольно хлипкую сигаретку. Теперь уже только по этой привычке и можно было догадываться о том, какую богемную жизнь она вела в шестидесятые. Саймон был с нами, но без костюма – в тот день он не был нужен. Просто он принадлежал к тем актерам, кто не может долго оставаться вне съемочной площадки, они скорее предпочтут, чтобы их позвали отснять минутный вступительный кадр, и весь день прождут гримера, нежели возьмут выходной.
– Куда это они? – спросила Белла, провожая взглядом Чарльза и Эдит, идущих через парк.
– Чарльз сказал, что осмотрит дом, не надо ли чего доделать.
– Скоро мы сможем переехать, как думаешь?
Я пожал плечами:
– Да хоть сейчас, по-моему. Если мы не против, что его еще некоторое время будут отделывать.
– Боже правый, да я лучше в лесу буду спать, чем проведу еще одну ночь в гостинице, – усмехнулась Белла, поднося зажигалку к своей негорючей на вид самокрутке.
Саймон еще раз взглянул на удаляющиеся фигуры:
– Не пойти ли мне с ними? Тогда я смогу отговорить их, если начнут волноваться по мелочам. В конце концов, мы же хотим переселиться сегодня, если получится.
Он кивнул нам и пошел по коридору. Мы с Беллой молча смотрели ему вслед. Она заговорила первая:
– Вот и пошел. Разбивать сердца.
– Разве он тебе не нравится?
Она сосредоточилась на своей неряшливо свернутой сигаретке.
– Чему тут не нравиться? Просто иногда все это очарование становится поперек горла.
– Не думаю, чтобы Чарльз это замечал.
– Может, и нет. Но она заметит. И судя по вчерашнему вечеру, не уверена, что это ей понравится. Не испортил бы он все дело, мы ведь еще и поселиться не успели.
Он не испортил. Или не настолько, чтобы мы не смогли в тот же вечер переехать на новое место. У нас был обеденный перерыв, мы сидели за шатким столиком службы обеспечения на площадке перед домом, стараясь максимально насладиться обедом из коробки, когда вернулся Саймон с победным видом, пританцовывая и потрясая кулаком в воздухе:
– Готово!
– Когда?
– Сегодня.
– А гостиница?
– Уже улажено. Я предупредил, что мы все трое съезжаем, и сказал, что в ближайшее время мы зайдем и соберем вещи. Они так хорошо зарабатывают на этом фильме, что не сильно жаловались. – Он сиял. – Эдит и Чарльз снова пригласили нас перекусить вечером, так что по магазинам ходить не придется.
– Как это мило со стороны Эдит и Чарльза. – Белла задержала на языке непривычные имена и заговорщически чуть улыбнулась мне.
Я понял, что Саймону суждено немало ее позабавить.
Возвращаться к Бротонам второй вечер подряд и снова поддерживать вежливые беседы с Гуджи и Тигрой нам, конечно, не хотелось. Мы с Беллой позже признались друг другу, что оба втайне думали отказаться. Полагаю, Саймону подобные сомнения были неведомы. Но в данном случае мы оба, независимо друг от друга, пришли к выводу, что это было бы крайне неучтиво после того, как нам оказали такую услугу и значительно улучшили нашу долю. И вот опять, в самом начале девятого, мы, хрустнув гравием, затормозили у ворот и подошли к главному входу.
Саймон разительно переменился. Вчера его общее бахвальство (незаметно для него самого, конечно) даже самому рассеянному наблюдателю давало понять, как неловко Саймон чувствует себя в высшем обществе. Время от времени он небрежно ронял имена, не имевшие никакого веса, и говорил о событиях светской жизни, либо не имеющих никакой валютной ценности, либо, что любому было ясно, известных ему очень смутно. И в конце концов трудно было не посочувствовать его неуклюжим потугам, несмотря на то, каким успехом он пользовался у хозяйки. Как многие актеры и бо́льшая часть гражданского населения вообще, он теперь вынужден был доказывать свое право принадлежать миру, где уже давно считал себя своим, но куда редко или почти никогда не попадал в действительности. Но сегодня сомнения оставили его. Он светился той радостью, какая отличает неуверенных в себе эгоистов, когда они обнаруживают, что их опасения были беспочвенны и они нравятся. Трудно было не встретиться глазами с улыбающейся Беллой, пока мы поднимались в семейную гостиную, а Саймон проводил рукой по сияющим перилам и благожелательно переговаривался с дворецким всю дорогу, настоящий друг семьи. Поднявшись, мы смогли насладиться зрелищем, как он приветствует лорда и особенно леди Акфилд, словно старых приятелей.
Одна из несомненных, основных жизненных истин – обычно мир ценит вас настолько, насколько вы цените себя сами. Так неопытная хозяйка салона дрожит от волнения, просматривая список гостей, снова и снова размышляя, смеет ли она, имеет ли право пригласить некую титулованную особу или телезвезду, которых едва знает, и только много лет спустя понимает, что никто обычно не подвергает сомнению «право» присылать пригласительные билеты. Если человек хочет прийти, он принимает приглашение. Если нет – не принимает. И вот сейчас лорду Акфилду не пришло бы в голову задуматься, равен или нет ему Саймон Рассел по социальному положению. Он, очевидно, считает себя таковым, и вкупе с тем фактом, что его место в жизни лорда Акфилда ограничивается поеданием ужинов и рассказыванием анекдотов, это более чем оправдывало его дружелюбную фамильярность в глазах пэра. Именно таким образом многим удается занять достаточно заметное место в обществе, особенно лондонском. Саймон ничем не отличался от какого-нибудь торговца произведениями искусства или, скажем, любителя оперы, которых подбирают разнообразные герцогини наших дней и чьи улыбающиеся во весь рот физиономии, затесавшиеся между телезнаменитостями и женами наследников больших состояний, можно порой увидеть в журналах. Такие люди, как Саймон, не подозревают, что, несмотря на поверхностное признание, которого они добиваются своим очарованием и непринужденными манерами, их вельможные хозяева не воспринимают их всерьез как равных. Очень грустно наблюдать, как после долгих лет верной службы в гостиной такой «любимчик» какой-нибудь знатной семьи прибывает на какое-нибудь мероприятие – на свадьбу или, еще хуже, на похороны – и обнаруживает, что ему отвели место в самом последнем ряду, между местным депутатом парламента и трубой парового отопления, в то время как малознакомых и очень не любимых хозяевами родовитых дворян проводят в самый первый ряд. Такова жизнь. Или, по крайней мере, таковы ее ценности. И этого Саймон Рассел совсем не знал, а леди Акфилд знала очень хорошо.
Но заинтересовала меня в тот вечер совсем не реакция леди Акфилд на поведение Саймона (как и следовало ожидать, она встретила его, аккуратно скрывая, что он ее забавляет), а поведение Эдит. От вчерашнего дурного настроения и демонстративной враждебности не осталось и следа, их место заняло томное безмолвие. Она казалась еще прекраснее, чем вчера, в своей черной юбке и блузе из кремового шелка, с ниткой жемчуга у шеи и еще одной, небрежно обернутой вокруг запястья. Лучше слова мне не подобрать: такой соблазнительной я не видел ее со дня свадьбы. Она не оставила своего холодного hauteur – и я искренне верю, что к тому времени она его за собой уже не замечала, – но когда мы вошли, она, сидя на диване, посмотрела на нас тем определенным взглядом, который, как я выяснил на собственном опыте, обычно означает, что женщина шутить не намерена.
Оглядываясь назад, я вынужден заключить, что план Эдит держаться подальше от города, чтобы не наделать бед, был обречен на неудачу с самого начала. Как это бывало с какой-нибудь скучающей женой колониста в горном поселении в Индии, отсутствие сочувствующих компаньонов заставляло ее видеть в необыкновенно выгодном свете любого, кто просто добрался бы туда. Не уверен, что если бы они с Чарльзом с головой окунулись в вихрь вечеринок и удовольствий, благотворительных балов и другой чепухи, с нетерпением ожидавшей их в Лондоне, то ее добродетель была бы в большей опасности. Супруги, которым редко доводится говорить друг с другом, так и не узнают, как мало у них общего. Близкое общение, как и выход на пенсию у средних классов, нередко влечет за собой развод. Но в одном я уверен: в Лондоне Саймон Рассел никогда не заинтересовал бы Эдит. Он был ослепительно хорош собой, как я уже говорил, но обложка была значительно интереснее самой книги. Он умел поддержать беседу и мастерски флиртовал, наблюдать за ним было одно удовольствие, но в действительности никакого особенного содержания в нем не было. Я не хочу сказать, что он мне не нравился. Напротив, он был мне очень симпатичен. И он мог рассуждать об ипотечных кредитах, Европе и Мадонне не хуже любого другого, но ведь и Чарльз тоже мог (разве что кроме Мадонны). А вот feu sacré[30], того священного, харизматического пламени, которое заставляет реальность исчезнуть под напором любви, – ничего подобного у Саймона не было. По крайней мере, я за ним ничего такого не замечал.
– Скажите, мистер Рассел, что вам больше всего нравится играть?
Это леди Акфилд. Она всегда старательно обращалась к незнакомцам, особенно если они были моложе ее, «мистер» и «мисс» или называла их полный титул. Основной причиной для этого, да и для формирования всего ее словаря, было поддержание своего образа как чудесным образом дожившей до наших дней дамы эпохи короля Эдуарда. Ей приятно было сознавать, что в ее манерах и поведении люди получат шанс увидеть, как было заведено в более правильные времена. Как управлялась бы с делами леди Десборо, или графиня Дадли, или маркиза Солсбери, или любая другая из забытых красавиц fin de ciècle, которые превращали свою жизнь в произведение искусства, утраченного вместе с ними. Частью этого тщательно продуманного действа было то, что всему, к чему она прикасалась, приписывалась уникальность. Она постоянно говорила о «рецептурах» и «легких обедах», обращая внимание на ирландскую ветчину у себя на столе («сухая, абсолютно восхитительная, и ее совершенно невозможно достать в Англии»), или на свою французскую вишню («я ем ее буквально до отвала»), или на желтую американскую бумагу («знаете, я просто не могу писать ни на чем другом»). Изюминка этого подхода состояла в том, что гости были вынуждены, как в случае с новым платьем короля, согласиться, что чувствуют во всем, что перед ними ставят, огромное отличие от всего прочего, и таким образом придать новую силу тому самому предубеждению, что заставило их лгать с самого начала. На самом деле еда всегда была хороша и подобрана со вкусом, так что я так же малодушно, как и остальные, притворялся, что замечаю яркую разницу во вкусе между различными видами спаржи или что там нам предлагалось оценить сегодня. Да и в любом случае, чем больше я узнавал леди Акфилд, тем больше восхищался законченностью ее образа. Она никогда не давала себе передышек и неизменно оставалась сверхобворожительной и сверхутонченной маркизой давно ушедших, но прекрасных времен. Всегда. И я уверен, что, если бы ей предстояло лечь на потенциально смертельную операцию, она очень обеспокоилась бы тем, какой марки будут ножницы у хирурга.
Эдит никогда не понимала силы избранного ее свекровью пути. Она считала ее задавакой, которая суетится по пустякам, и жуткой занудой. Но леди Акфилд обладала выдержкой, которая могла бы помочь Эдит уберечься от беды. Она не знала, что такое скука, или, скорее, не позволяла себе признаться, что ей скучно. Тот факт, что она замужем за человеком глупее ее в несколько раз, был раз и навсегда изгнан из ее сознания. Она избрала свой путь и теперь была твердо намерена добиться на нем успеха, без сожаления о сделанном и жалости к себе. В наш бесхарактерный век такая душевная стойкость достойна если не почтения, то, по крайней мере, уважения.
Но была и еще одна причина, почему леди Акфилд называла Саймона «мистер Рассел» – чтобы он прекратил называть ее Гуджи.
– Ну, мне нравится, когда есть работа, – ответил он ей. – Но думаю, это, пожалуй, и все.
– Разве вы не хотели бы стать великой кинозвездой?
Спрашивать об этом актера нечестно. Они все до единого хотят стать великими кинозвездами, но, согласно всемирному негласному соглашению, они не должны признавать это вслух.
Саймон воспользовался обычным клише:
– Думаю, я просто хотел бы хорошо делать свою работу.
Казалось, он почувствовал себя неловко, но на самом деле в этих его словах было больше правды, чем можно было бы предположить. Вернее было бы сказать, что он хотел бы, чтобы люди восхищались им за то, что он хорошо делает свою работу, что не совсем то же самое. Но как еще он мог ей ответить? Разумеется, он хотел стать великой кинозвездой, как леди Акфилд и предполагала. Он знал это прекрасно, но так же прекрасно понимал, что показывать это не стоит.
– Вы всю жизнь собираетесь оставаться актером?
Здесь леди Акфилд, сама того не сознавая, продемонстрировала собственные предрассудки и еще надежнее поставила Саймона на место. Этот вопрос задают очень часто, однако нипочем не могу представить себе, чтобы кто-нибудь спросил: «Вы всю жизнь собираетесь оставаться врачом? Вы всю жизнь собираетесь оставаться бухгалтером?» Причина проста: как бы они ни старались, люди не могут счесть актерство «настоящей» работой. Следует в этом отношении разделять представителей средних классов, которые каким-то таинственным образом нередко бывают оскорблены, что кто-то выбирает себе такую профессию – как будто человек собирается добывать деньги нечестным путем, – и представителей верхушки общества, которые обычно готовы только порадоваться, что кто-то так замечательно проводит время. Но ни те ни другие не представляют, что можно заниматься этим долго. Может быть, дело в том, что, хотя в последние несколько лет появилось немало шикарно одетых актеров, очень немногим действительно удается пробиться наверх. Причиной тому могут быть предрассудки, или недостаток темперамента, или просто дорога слишком терниста для тех, у кого есть другие финансовые источники, но в результате почти каждый аристократ знаком с кем-нибудь, чей младший сын или дочь пробовали себя на сцене, и почти никто из них не знает кого-нибудь, кто преуспел бы в этом. Это вряд ли может внушать оптимизм.
– Вы всю жизнь собираетесь оставаться маркизой? – спросила Эдит со своего дивана, не поднимая глаз.
Леди Акфилд на мгновение задержала взгляд на невестке. Она прекрасно поняла значительность того, что Эдит сыграла на стороне Саймона. Но парировала со смехом:
– В наше время, дорогая моя, кто может знать?
Теперь улыбнулись уже все, но хотя я и не удержался и переглянулся с Беллой, мы прилежно вернулись к своей роли хороших гостей.
Саймон, в восторге оттого, что приобрел такую прелестную защитницу, подсел к Эдит и вскоре уже потчевал ее легендами и мифами кинопроизводства в своей самой занимательной манере.
Еще пара минут – и вот он уже сияет и искрится, как рождественские гирлянды на Риджент-стрит. Я смотрел, как Эдит смеется, отвечает, отбрасывает волосы с лица и снова отвечает, и заметил, что Чарльз, разговаривавший с матерью в другом конце комнаты, тоже не спускает с нее глаз. Мы оба понимали, что вот уже несколько месяцев не видели Эдит такой оживленной, и я знал: мне ни в коем случае сейчас нельзя встречаться с ним глазами, иначе я стану соучастником его понимания, что в конечном счете причинит ему боль. Когда он бросил на меня взгляд, я отвел глаза и присоединился к Белле, которая – естественно, чем еще она могла заниматься – рассказывала зачарованному Тигре, какую-то risqué[31] историю о том, как ей пришлось ночевать в гараже без гроша в кармане.
Когда мы перебрались в столовую, вечер стал нетребовательным и приятным. Угощение было, как всегда, великолепным, и я заметил, что слуги стали принимать по отношению ко мне ту слегка вкрадчивую манеру обращения, которая является их обычной защитой, когда приходится иметь дело с «постоянными посетителями». Удостоверившись, что вы здесь не в последний раз, любая прислуга, рассматривающая свою должность как профессию, отказывается от – несомненно ощутимого, но неизбежно преходящего – удовольствия принимать покровительственный вид и обращаться с вами пренебрежительно от лица хозяев. Вместо этого они усваивают этакую уважительную общительность, которая обеспечит им большие чаевые и похвальное упоминание, если о них зайдет речь. Вторая сторона обычно подхватывает эту игру в ладушки. Я знавал немало людей, которые опрометчиво чувствовали себя польщенными, когда прислуга какого-нибудь знатного лица поднимала вокруг них суету. Такие надеются, что подобная дружба предоставит им в будущем возможность продемонстрировать, что в этом Знатном Доме их хорошо знают, в чем может быть отказано другим гостям. В общем, в тот раз я разочаровал сам себя, почувствовав, что мне стало теплее на душе от этого почтения. Мы с Беллой болтали всю дорогу домой, оба вздохнули с облегчением, что вечер окончен, и при этом радовались, что он оказался легче, чем мы предполагали. У Брук-Фарм мы вышли из машины и остались снаружи, а Саймон ушел в дом и стал включать свет.
– Итак, он может засчитать себе еще одну победу, – сказала Белла.
– И слава богу, честное слово, – кивнул я. – Учитывая вчерашний вечер, я думал, мне придется следить, чтобы они не сцепились.
– Ой, вот уж не думаю, что твоя роль будет состоять именно в этом, – слегка улыбнулась Белла.
Я предостерегающе погрозил ей пальцем:
– Никаких сплетен. Пока мы все неплохо ладим, и работенка здесь непыльная. Давай не будем заглядывать дальше.
Белла рассмеялась:
– Может быть. Но ты кое-чего не заметил. – (Я вопросительно поднял брови.) – Он слова не сказал за всю дорогу.
Она была права. Конечно, я заметил это, но заставил себя об этом не думать. Человек, настолько жаждущий одобрения, настолько озабоченный своим статусом, настолько готовый поделиться со всем миром своими приключениями, как Саймон Рассел, проводит вечер за приватной беседой с молодой и красивой графиней – и не горит от нетерпения этим похвастаться. Это может означать лишь одно: история только начинается.
Так и случилось.
Глава двенадцатая
Я, должно быть, не так внимательно следил за происходящим в тот период, как мог бы, потому что незадолго до начала съемок в Бротоне я познакомился с девушкой, на которой собирался жениться. Она не играет значительной роли в истории Эдит, так что я постараюсь быть кратким. В нашей встрече не было ничего необычного. Мы познакомились во время коктейля на Итон-террас, который устраивал друг моего дяди и, так уж получилось, ее матери. И я, и она не очень хотели туда идти. Меня представили ей почти сразу, как она появилась (с упомянутой матерью), и я незамедлительно решил, что это – моя будущая жена. Ее звали Адела Фицджеральд, ее отец был ирландский баронет, один из первых, получивших этот титул, как она имела обыкновение подчеркивать время от времени. Она была статная, красивая и держалась по-деловому, и я сразу понял: вот человек, с которым я, вполне вероятно, буду счастлив до конца моих дней. И потому я был очень занят следующие несколько месяцев, стараясь донести до нее эту истину, очевидную и само собой разумеющуюся для меня, но совсем не кажущуюся неоспоримой ей. Каким образом человек делает выбор в таких случаях, сейчас, когда я уже женат и счастлив, остается для меня такой же тайной, как и тогда, когда я бегал за почти незнакомой мне девушкой. Я столько лет безуспешно пытался найти себе подходящую пару, что может показаться нелогичным, что я мог обрести именно то, что нужно, в одно мгновение. Но случилось именно так. И с тех пор у меня ни разу не появилось ни малейшей причины сожалеть об этом решении.
Какое-то время я скрывал Аделу от знакомых. Когда тебе скоро сорок, все склонны поднимать гомон из-за любой спутницы, с которой увидят тебя больше одного раза. И я подумал, что буду держаться тихо, пока не увижу, что в этом что-то есть. Как бы там ни было, в конце концов я почувствовал, что так оно и есть, и представил ее всем. Мои друзья из общества и значительная часть моей семьи были рады, что, вопреки их опасениям, я выбрал себе невесту из старого мира, а не из моего нового. Мои театральные друзья, более великодушные, пусть и более легкомысленные, просто были рады, что я кого-то себе нашел.
Съемки уже почти закончились, когда я предложил Аделе приехать однажды в пятницу в Суссекс, посмотреть, как снимают фильм, и погостить пару дней в нашем коттедже. Все было вполне благопристойно: я предоставлял ей свою комнату, а сам отправлялся спать на диван в гостиной, чем очень развеселил Беллу. И вот в назначенный вечер Адела приехала из Лондона в своем довольно потрепанном зеленом «мини». Я представил ее остальным обитателям дома за веселым и, благодаря Белле, очень вкусным ужином. Адела пообещала присоединиться к нам на площадке на следующий день, после того как купит кое-что.
На следующее утро, еще до ее появления, ко мне широкими шагами подошла Эдит. Мы снимали в розарии, который находился в конце небольшой аллеи, отходившей от дома. Изначально сцена планировалась на первую неделю, но откладывалась снова и снова, и вот мы снимали ее в середине октября. Как бы то ни было, удача не подвела наших опасливых продюсеров, и день выдался ясный и жаркий, как настоящий июльский. Я почти разозлился, что их недальновидность была столь не по заслугам вознаграждена. Это был длинный эпизод любовного дуэта с участием Элизабет Ганнинг (ее играла самая свирепая из американок, Луанна) и Кэмпбелла (Саймон), который в конце концов прерывает Криви (я). Я читал, ожидая своей очереди, и, должен сказать, наслаждался обстановкой, погодой и розами, когда показалась Эдит.
– Что я слышу? А ты темная лошадка. – (С последним утверждением я согласился.) – Это серьезно?
Я заметил, что раз уже установлено, что я темная лошадка, то, следовательно, она ничего об этом не узнала бы, если бы все не было серьезно.
– Она актриса?
– Нет, конечно.
– К чему такое негодование? Почему бы ей не быть актрисой?
– Но она не актриса. Она работает в «Кристи».
Эдит скорчила презрительную гримасу:
– Не одна из этих графских племянниц в приемной, которая сначала говорит с тобой снисходительно, а потом не в состоянии ответить ни на один вопрос?
– Именно. Только она не графская племянница, а дочь баронета.
– Как ее зовут?
– Адела Фицджеральд.
– Ну, ты меня разочаровал. – Она уселась на траву рядом с моим складным стулом. Поблизости были и еще стулья, так что мне не было совестно.
– Ума не приложу, чем же.
– Ты, мой богемный друг, и опустился так низко – нашел себе пару из своего круга.
– Не уверен, что готов выслушивать это от тебя. В любом случае главное в том: является принадлежность к одному кругу случайным совпадением или основным мотивом.
Эдит слегка покраснела и замолчала. Ассистент подал знак сохранять тишину, камеры начали наезжать на Саймона и жестокую Луанну. Она, надув губы, встала так, чтобы попасть в кадр в самом выгодном ракурсе. Мы все уже более-менее смирились с Джейн Дарнелл, игравшей леди Ковентри. На роль она не годилась, но в ней не было злобы, и, похоже, она не больше нас была уверена, что в состоянии воплотить образ ирландской красотки XVIII века. Она интересовалась только коллекционированием лошадиной сбруи, которую собиралась увезти домой. Луанна Петерс – совсем другое дело. Она не только была уверена, что обладает значительным талантом, но вдобавок ее эгоизм достигал уровня психического расстройства. Она говорила о своем успехе, о своей внешности, своих любовниках и заработках постоянно, не задавая ни единого вопроса своему не желающему слушать собеседнику о нем самом. Сначала мы были склонны полагать, что это некая очень сложная шутка и что она ждет, что мы не выдержим, расхохочемся, поднимем руки и закричим: «Хватит! Сдаемся!» Только это была не шутка, и ничего такого она от нас не ожидала. Саймон ее не выносил, что не добавляло реалистичности их и без того слабо прописанным любовным сценам.
Сцена закончилась, Саймон и Луанна освободились, и именно в этот момент вдали показалась Адела. В вельветовых бриджах и рыбацком свитере, длинные волосы под небрежно завязанным шелковым шарфом, она была полной противоположностью синтетическому очарованию Луанны, и на мгновение даже тщательно накрашенное лицо Эдит выглядело на ее фоне не в самом лучшем свете. Она была так… естественна. Но конечно же, я был влюблен.
Эдит встала, приветствуя ее:
– Адела, как я рада наконец с вами познакомиться. Эдит Бротон.
– Я тоже очень рада.
Девушки осторожно обменялись приветствиями. Для такой настороженности были две основные причины, ни одна из которых не подразумевала романтического соперничества. Эдит никогда не интересовалась мной в этом смысле. Нет, она была недовольна тем, что приходится уступать наперсника, сослужившего хорошую службу, и теперь, когда он женится, он уже не будет таким полезным, как холостой. Если женишься поздно, такие чувства испытывают многие из твоих знакомых, хотя те, кто любит тебя, постараются справиться с этим. Вдобавок как все удачно женатые друзья доводят нас до белого каления, настаивая, что семейное положение есть единственно возможное для человека, так знакомые, которым повезло меньше, считают своей высокой миссией не пустить всех вместе и каждого в отдельности на порог церкви. Эта сентенция нередко используется в полушутливой форме, чтобы публично оскорбить супруга. «Жениться? Да зачем тебе это вообще могло понадобиться?» – слышишь чей-нибудь веселый голос на званом обеде, а далее замечаешь кислый взгляд и прикушенную губу его супруги. Боюсь, Эдит, сама этого не осознавая, постепенно скатывалась на эту позицию, что не предвещало ничего хорошего.
Со стороны Аделы осторожность была более тонкой. Она, конечно же, прекрасно знала, кто такая Эдит, и до встречи со мной была склонна соглашаться с общепринятой точкой зрения о новой леди Бротон: Чарльза, которого она встречала несколько раз на приемах, «окрутили». Я добился по крайней мере того, что она отложила вынесение окончательного вердикта, но в тоне, каким Эдит приветствовала ее, Адела различила нотку величественности. Аристократка Эдит приветствует милую подружку своего знакомого актера. Такие вещи трудно поддаются точному измерению, но верно, что Эдит к тому времени выработала достаточно величественную манеру обращения, так что могла и действительно ступить на эту опасную дорожку. И понятно, почему Адела, которую я заранее почти уговорил держаться с Эдит помягче, решила, что не позволит, черт возьми, Эдит говорить с собой свысока.
В довершение ситуации как раз в этот момент появился Чарльз – посмотреть, что происходит. Он узнал Аделу, и, я думаю, из чувства мести (хотя она ни за что не призналась бы в этом) она, не теряя времени, навела его на разговор о нескольких их общих знакомых, которых не знала Эдит: использовала против Эдит ту самую игру в имена, которой та так боялась. Наверное, я должен был бы возмутиться поведением по крайней мере одной из них, но подобные вещи обычно разрешаются сами собой, без посторонней помощи, и в любом случае я понимал, Адела в чем-то права. Даже тогда я не надеялся, что они с Эдит подружатся. Адела была слишком близка к тому, чем хотела бы быть Эдит, по крайней мере в том, что касается происхождения и воспитания, и, хотя обычно снобизм не был свойствен Аделе, она не считала ниже своего достоинства поставить таких, как Эдит, на место. Такое настроение Аделы я называл настроением вице-королевы. В целом я мог надеяться, в лучшем случае, на нечто вроде взаимной терпимости. Но в то утро атмосфера не успела как следует накалиться, потому что Чарльз предложил показать Аделе конюшни, и, кивнув мне, они вдвоем направились прочь. Эдит смотрела им вслед:
– Вот на ком должен был жениться Чарльз.
– Вообще-то, на ней собираюсь жениться я.
– Нет, я имею в виду, именно такая девушка могла бы сделать его счастливым. Раздавать награды на ярмарках, командовать «Женской добровольной службой». Разве ты не видишь?
– Если бы он хотел жениться именно на такой девушке, он бы на ней и женился. Видит Бог, ему было из кого выбирать.
– Это не звучит особым комплиментом для твоей возлюбленной.
– Ты говоришь о ее очевидных свойствах, которые, как ты справедливо заметила, соответствуют и времени, и ее происхождению. Ее менее тривиальные качества, о которых тебе ничего не известно, лежат в основе ее решения выйти за нищего актера с подвальной квартиркой, а не за богатого графа.
– Ну, нам еще надо повнимательнее к ней приглядеться.
Этого я ей спускать не собирался.
– Не надо делить нас на две команды, дорогая. А если станешь, должен предупредить, что буду на ее стороне, а не на твоей.
– Ой!
– И вообще, кто сказал, что Чарльз должен был жениться на ком-нибудь, кроме тебя?
Эдит откинулась назад и стала смотреть в небо.
– Что-то между вами, похоже, не ладится. – Появился Саймон, без вышитого камзола, романтичен, как никогда, в льняной рубашке с широкими присобранными рукавами. Он улегся на траву рядом с Эдит, жизнерадостно пренебрегая своим костюмом. Я увидел, как костюмер втягивает воздух сквозь зубы, но Саймон сейчас играл Байрона с Эдит в роли Каролины Лэм и не собирался позволять таким мелочам, как пятно от травы на рубашке, отвлекать себя. – А где Адела? Она же была здесь?
– Ушла с Чарльзом посмотреть на конюшни.
– Чтобы вспомнить о старых добрых временах, – сухо добавила Эдит.
– Бог мой! – рассмеялся Саймон. – Если эти двое встретились, нам лучше быть паиньками.
– Осторожнее! – отозвалась Эдит. – Меня только что отчитали.
Саймон посмотрел на меня с наигранно виноватым видом, но мне было скорее любопытно, что он уже не стесняется разницы в положении, а напротив, его уверенность в себе выросла настолько, что он позволяет себе шутить подобным образом. Наверное, меня немного задело, что Аделу ставят в один ряд с Чарльзом только для того, чтобы навесить на них обоих ярлык «зануда-аристократ», но когда я заметил, как Эдит улыбнулась и что-то очень тихо прошептала Саймону, то оценил, как виртуозно он флиртовал. Адресуя замечание и мне тоже, он ухитрился сделать как будто бы почти безобидным тот факт, что сейчас у них с Эдит есть общая шутка, из которой Чарльз исключен. И тогда я понял, что ни я, ни Адела не имели к его целям никакого отношения.
Выяснилось, что на эти выходные Эдит, обуреваемая духом мести не меньше, чем щедрости, и в изрядной степени против воли Чарльза, пригласила тех самых Боба и Аннет, которые гостили у Чейзов на Майорке во время медового месяца Бротонов. Она сделала это отчасти для того, чтобы снова увидеться с Аннет (которая, конечно же, поддерживала оживленную переписку со своей новой высокопоставленной приятельницей), отчасти – чтобы позлить Чарльза, отчасти – чтобы позлить Гуджи, и в основном – чтобы позлить Эрика Чейза, который как раз приехал в Бротон-Холл вместе с Кэролайн. Она подумала, что он будет в ярости, если эту пару представят родителям его жены как друзей Эрика. И была права. Он был в ярости.
Саймона, Аделу и меня пригласили на ужин, Белла уехала в Лондон на несколько дней, так что в восемь часов тем же вечером мы присоединились к разномастной толпе, собравшейся в гостиной. Плохо подобранная компания обещала странный и неуравновешенный вечер. Адела сначала не поняла, что к чему, и первый час общения была уверена, что Эрик как-то связан с фильмом, а не с семьей. Чем больше имен он упоминал, тем больше она утверждалась в своем мнении, пока он наконец, раскрасневшись от раздражения, не привел в пример своего тестя Тигру. И даже тогда она оглянулась на меня за подтверждением.
В свою очередь, леди Акфилд будто бы специально вела себя так, чтобы не оправдать ожидания Эдит. Она хлопотала вокруг Боба и Аннет все выходные и одновременно сумела передать всей своей тонкой задушевностью, какое удовольствие и облегчение для нее найти родственную душу в Аделе, что, полагаю, должно было послужить комплиментом мне.
Ей стало спокойнее, что, хотя она и приняла в свой круг актера, он оказался все-таки одного с ней племени. Она находила достойным, что ее друзья будут жениться на тех, о ком она по крайней мере слышала. Оказалось, что она была неплохо знакома с одной из теток Аделы и дебютировала в том же году, что и ее мать, и все это было именно так, как и должно быть в ее старомодном и изящном упорядоченном мире. Очевидно, именно этого ощущения безопасности Чарльз лишил ее, выбрав в жены Эдит, и трудно было не усмотреть оттенка досады на невестку в том, с каким оживлением леди Акфилд приняла мою суженую. Адела, естественно, расцвела под лучами ее внимания, все еще лишь отчасти замечая ведущиеся вокруг нее тайные игры. Я нашел Эдит у одного из окон, она угрюмо рассматривала разношерстную компанию. Она кивнула в сторону моей возлюбленной:
– Что я тебе говорила? Она само совершенство.
– Знаю.
Я проследил за ее взглядом, который она перевела с уютной сцены на диване в дальний угол, где Кэролайн Чейз увлеченно слушала Саймона, который, как всегда, летел на всех парусах. Между группами сиротливо бродил Чарльз, наполняя опустевшие стаканы и рюмки.
– Бедняга Чарльз. Что он здесь делает?
Вопрос прозвучал грубее, чем я хотел. Наверное, я сказал, не подумав. Но в любом случае, вместо того чтобы сделать мне замечание, как ей следовало бы, Эдит пожала плечами:
– Кто знает? У нас впереди отвратительный вечер. – (Я вопросительно посмотрел на нее.) – Боб и Аннет Уотсон приглашают нас всех на прогулку с ужином.
– Очень мило с их стороны. Но зачем им это?
Эдит не разделяла моего взгляда на вещи.
– Это еще не все. Они заказали столики в Фэрберн-Холле. Гуджи возмущена. Но умирает от любопытства, конечно. Ей ужасно хотелось посмотреть, что они с ним сделали с тех пор, как де Марни его покинули, но она никогда не смела в этом признаться.
То, что она не испытывала благодарности к Уотсонам за приглашение, меня ничуть не удивило. Этот план был, естественно, пугающей перспективой для Бротонов и им подобных. В Англии одна из самых прискорбных ошибок, какие может совершить желающий занять более высокое социальное положение, – это проявить чрезмерную щедрость. Странно, не правда ли? Казалось бы, что может быть более очаровательным? Приехать с угощением и подарками, собрать всех обитателей дома и их гостей и отвезти в город развлекаться – что может быть милее? Но тем не менее такие любезности так же ясно сообщают знающим людям, что благодетель – новичок, как если бы у него это было написано на лбу. Из всех возможных грубых нарушений правил хорошего тона, пожалуй, самое тяжелое – пригласить людей развлекаться в сельской местности. Английские представители высших классов, как правило, покидают свои загородные дома по вечерам, только чтобы поехать к кому-нибудь в гости. Они могут соблазниться домашней оперой или пьесой, после которой будет пикник, но если они хотят поужинать в ресторане, то делают это на неделе и в Лондоне. И тем более они никогда не ездят в деревенские гостиницы, разве что совершая паломничество во имя личного любопытства. Они могут посетить такую гостиницу, потому что провели там не одно лето, когда она еще принадлежала тетушке Урсуле. Но они ни за что, даже под угрозой смерти, не поедут туда обедать и не станут проводить там выходные.
В отчаянном стремлении снискать расположение леди Акфилд и стать постоянными гостями в Бротон-Холле Уотсоны выбрали путь, который навечно выставит их посмешищем в глазах хозяйки и предоставит ей новый источник забавных историй. И за эту привилегию им предстоит заплатить немалые деньги.
Фэрберн-Холл, большой уродливый дом, располагался по другую сторону владений Акфилдов. Несколько веков подряд он принадлежал древнему, пусть и не достигшему особых высот семейству де Марни, которым в конце концов удалось получить баронетский титул, подружившись – с кем бы вы думали? – с Ллойдом Джорджем. Один из де Марни в особенно неудачный архитектурный период в 1850-х годах заключил изящный особняк в стиле королевы Анны в уродливый неоготический саркофаг, утыканный барельефами, изображающими исторические сцены из славного прошлого семьи. Таких моментов, очевидно, было немного, что привело к появлению туманных сцен непонятного происхождения, вроде «Джеральд де Марни приветствует королеву Алиеонору в Фэрберне» или «Филип де Марни поднимает свои знамена в битве при Эджхилле», вызывавших приступы бурного веселья у Бротонов. Не стоит и говорить, что никакой любви между этими двумя семьями не было, причем не было никогда. С формальной точки зрения де Марни были древнее и потому все время пытались обращаться со своими соседями несколько свысока. С их стороны это было нелепо, ведь Бротоны, нравилось это де Марни или нет, были значительно богаче и знатнее уже три столетия подряд. За пару лет до этого случая нынешний глава семьи Роберт де Марни оставил неравную борьбу, передал Фэрберн в долгосрочную аренду большой сети «Отели для отдыха» и переехал с семьей в доставшийся ему по наследству дом в четырех милях оттуда.
– Как вы думаете, не следует ли нам надеть вуали? – прошептала леди Акфилд, когда мы выходили из машин. Она повернулась ко мне. – Это всегда был самый непристойный дом в мире. Моя свекровь в свое время клялась, что они перепутали чертежи с тюрьмой в Льюисе.
Мы вошли через нечто, отчасти напоминающее склад: пол выложен каменными плитами, а окна скрывали решетки, украшенные странным подобием гербов. Все вместе это напоминало зал какого-нибудь банка. Дальше мы попали в огромный, оставляющий тягостное впечатление холл со множеством толстых, приземистых викторианских колонн. Поскольку при перестройке было принято решение не увеличивать высоту старого дома, помещение теперь напоминало германский склеп и заставляло чувствовать себя кариатидой. Кричаще-яркие флаги с гербом де Марни висели на каждой стене, а над газовым камином красовалось богато украшенное генеалогическое древо в золотой раме. Леди Акфилд цепко уставилась на него.
– Не та ветка! – радостно сказала она.
Невероятно преисполненный чувства собственного достоинства метрдотель подошел к нам и, ошибочно приняв нервный вопрос Боба Уотсона о заказанных столиках за общий тон компании, попробовал было держаться с нами высокомерно. Он проводил нас в комнату, которую он назвал гостиной. Его иллюзии было суждено развеяться очень быстро.
– Какой жуткий цвет! – произнесла леди Акфилд, игнорируя указанный ей стул и плюхаясь на диванчик. – Какая жалость, ведь это была единственная комната, которую можно было назвать милой. В былые времена здесь располагалась музыкальная гостиная, хотя им медведь на ухо наступил, всем до единого! – Она мило рассмеялась, а раздавленный мэтр попытался спасти остатки своего положения, заискивающе уговаривая ее выбрать аперитив.
– Мне кажется, леди Акфилд не отказалась бы от шампанского, – громко сказал Боб, и одна-две прилизанные головы по углам комнаты повернулись в его сторону.
Он, в свою очередь, хотел извлечь некоторую выгоду из того, что привез такую выдающуюся компанию в это, как ему представлялось, элегантное заведение, и не могу сказать, чтобы я его за это осуждал. Видит Бог, ему предстояло дорого за это заплатить. Его тон еще больше расплющил мэтра, который достаточно хорошо знал округу, чтобы осознать масштабы своего faux pas[32]. Становилось неловко, и Чарльз с Кэролайн быстро и нервно переглянулись. Мне вдруг захотелось защитить Боба с его простодушием, но я понимал, что в борьбе с превосходящими силами шансов у меня маловато, и поэтому малодушно схватил одно из больших, переплетенных кожей меню, когда их принесли, и прятался за ним, пока не подали вино в вихре серебра, стекла и льняных салфеток. И в этот момент, к изумлению всех присутствующих, кроме, возможно, Кэролайн, Эрик наклонился вперед, вытащил бутылку из ее серебряного, выложенного льдом гнезда и обратился не к Бобу, а к официанту:
– А у вас что, нет девяносто второго года?
Официант покачал головой, бормоча извинения. Точно так же, как робость Боба в первый момент сделала нас всех ничтожными, пока мы с ним, теперь присутствие леди Акфилд сделало нас всех до единого значительными персонами. Эрик гордо надулся от такого почтительного обхождения.
– Тогда незачем писать, что это девяносто второй, не правда ли?
Он опустил бутылку обратно в ведерко со льдом и откинулся на спинку, пока официант наполнял его бокал.
Эдит поймала мой взгляд и закатила глаза.
Боб маялся. Он знал, что ему предстоит оплатить счет где-то в районе семисот-восьмисот фунтов, но уже сейчас сдавленный смех и тайные улыбки присутствующих говорили ему, что каким-то загадочным образом это угощение не придает ему веса, напротив – он выставил себя на посмешище. Это раздражало его вдвойне, потому что жена пыталась его отговорить и вместо сельской гостиницы пригласить Бротонов в «Айви» в Лондоне, что, конечно же, было бы для них совершенно приемлемо.
Чарльз пришел ему на помощь.
– Очень вкусно, – твердо сказал он, делая маленькие глотки из своего бокала и глядя на остальных.
– Совершенно чудесно, – поддержала Адела, а я кивал напропалую.
Вино и вправду было довольно приятное, но слишком холодное.
Саймон в этот опасный вечер определенно решил вылезти из кожи вон. Он был намерен раз и навсегда дать присутствующим понять, что нисколько не благоговеет перед ними.
– Будет очень ужасно, если я возьму виски? – спросил он.
– Хорошая мысль, – отозвался Эрик. – Мне тоже.
Тщательно рассчитанная жестокость этого поступка состояла в том, что Боб уже велел откупорить три бутылки, и оставшиеся ни за что не смогли бы их допить. Его вино было отвергнуто, его самого оскорбили, и все-таки по непонятным причинам он обязан был продолжать, как будто все идет как надо.
– Конечно, – широко улыбнулся он. – А вы, Эдит?
Эдит, утонувшая в слишком мягком, обитом ситцем кресле, посмотрела на него своим прозрачным, чистым взглядом. Я заметил, как ее взгляд скользнул по Чарльзу, который смотрел на нее предостерегающе, умоляя вести себя прилично. Бедняга! Это были друзья его жены, и при этом именно ему приходилось стараться изо всех сил, чтобы спасти вечер. За его спиной стоял Саймон и радостно улыбался Эдит.
– Я бы не отказалась от водки, – сказала она.
Саймон подмигнул, и они оба одновременно сдержали улыбки, не позволив им выйти за рамки приличия.
– Чудесно, – ответил Боб безжизненным голосом. Он оглянулся в поисках новой беды, но Кэролайн уверенным движением потянулась через Эрика и взяла большой бокал шампанского. Линия фронта сформировалась.
Угощение, как и следовало ожидать, было претенциозное, практически на каждом столе полыхал настоящий костер. Несоразмерно скудные порции, выложенные на тарелках причудливо, как дамские шляпки, следовали одна за другой в монотонной последовательности, над ними многозначительно суетились якобы официанты-французы. Метрдотель к этому времени уже не решался оставить нас без присмотра и постоянно прибегал выяснить, как идет очередное блюдо, пока Саймон не поинтересовался, не хочет ли он сесть, а то ведь устал носиться. Конечно же, мы рассмеялись, и, конечно же, больше мы его не видели. По правде говоря, сам по себе ужин был наименее тягостной частью вечера благодаря как раз Саймону. Он определенно был в ударе. Не бросая вызова Аннет, он выдавал по одной на каждую из рассказываемых ею историй, и вдвоем они заставили дела идти веселее. Даже леди Акфилд оставила свои аристократические замашки и смеялась от души, небрежно ковыряя вилкой в несытных и дорогих блюдах.
Чарльз же, наоборот, почти все время чувствовал себя не в своей тарелке. Он был недостаточно сообразителен, чтобы понять соль большинства анекдотов, не то чтобы самому рассказывать их. Это были не те люди, с кем он обычно общался, и ему было непривычно (поскольку он, как правило, этого не допускал), что он оказался в меньшинстве. В отличие от отца, кокетство было не в его характере, в отличие от матери – у него не было чувства юмора. Кэролайн пыталась протянуть ему руку помощи раз или два, но у нее самой в тот вечер было мрачное настроение, и в конце концов только Аделе удалось разговорить его на тему об улучшении охотничьих угодий в Фелтхэме. Он возобновил охоту в тех местах всего три года назад, после долгого перерыва, и эта тема была ему так близка, что он пустился в горячие и пространные рассуждения, но и здесь успех был недолгим. Когда Саймон рассказывал о некоей постановке, в которой он участвовал, где ассистент по реквизиту наполнил ванну кипятком вместо холодной воды, он сделал выразительную паузу перед финальной фразой, и в тишине прозвучал голос Чарльза:
– Самое главное – оставить достаточно широкую поворотную полосу на капустном поле, чего, конечно же, некоторые фермеры делать не желают…
Саймон рассмеялся:
– Чувствуется, Чарльзу ужасно интересно.
Он, я думаю, не имел в виду ничего дурного, и возможно, все сошло бы гладко, если бы в этот момент Эдит не подала голос:
– Ой, Чарльз, бога ради, заткнись со своей проклятой охотой!
Подозреваю, она думала, что это тоже каким-то образом обернется в шутку и все улыбнутся, но вышло совсем не так. Слова ее прозвучали грубо, в них не было ни капли любви, а поскольку сказано это было в присутствии родителей Чарльза, по столу прошла странная дрожь, от которой всем стало не по себе. Я заметил, как Аннет поймала взгляд Боба, и в этот момент Адела слегка подтолкнула меня ногой под столом.
Чарльз поднял глаза, скорее со смятением, чем в гневе, как щенок, которого шлепнули за лужу, которую оставил не он.
– Я вам очень надоедаю? – спросил он.
Последовала короткая пауза, и Эрик, то ли ошибочно считая, что это прозвучит забавно, то ли – скорее – просто чтобы сказать гадость, ответил:
– Да, чертовски. Выпей, что ли, побольше.
Он начал подливать Чарльзу вино, но тот покачал головой:
– Честно говоря, не знаю почему, но я очень устал. – И он перевел измученный взгляд на Боба. – Вы простите меня, если я не останусь на кофе и поеду домой прямо сейчас?
Боб уже понял, что вечер обернулся полным фиаско, поэтому доброжелательно кивнул:
– Ну конечно же! Поезжайте! За нас не волнуйтесь.
Чарльз болезненно улыбнулся и встал:
– Ну тогда я, пожалуй, поеду. У нас ведь хватит машин? С тобой все будет в порядке, дорогая?
Теперь уже всем было совершенно ясно, что Эдит должна вскочить из-за стола, объявить, что она тоже устала, и уехать вместе с мужем. И в нормальном состоянии именно так она бы и поступила, но в этот вечер в нее словно вселился бес. А может быть, обыкновенная похоть. Как бы там ни было, она не двинулась и не произнесла ни звука, и наконец тишину нарушил Саймон:
– Не волнуйтесь за Эдит. Я ее привезу.
Чарльз посмотрел на него, и на несколько секунд, можно сказать, их взгляды скрестились, как клинки. Может показаться, что Чарльз, богатый, знатный и очень даже симпатичный (в стиле тридцатых), имел все преимущества, что было справедливо, если смотреть на длительный промежуток времени, но Саймон Рассел, чувствуя себя популярнее и прекраснее всех мужчин на свете, искрился сиянием харизматической уверенности в себе именно в тот вечер. Для всех зрителей, сидевших за столом, Чарльз бледнел рядом с ним, и по крайней мере у меня дрогнуло сердце от жалости к человеку, у которого было все. Оглядываясь назад, я понимаю, что Саймон демонстрировал уверенность в себе, присущую влюбленному мужчине, которому отвечают взаимностью, а Чарльз, напротив, был объят страхом, как человек, чья жизнь рушится у него на глазах. Но даже если этого не знать, Рассел, в синем бархатном пиджаке, глаза и волосы пламенеют, казался воплощением некоей непреодолимой божественной силы.
Посозерцав диспозицию несколько мгновений, заговорила леди Акфилд:
– Это очень мило с вашей стороны, мистер Рассел. Вы уверены? – Она еще сильнее нарушила настроение, встав и заставив присутствующих встать также. – Мне вывести дам в холл? Или здесь мы все выходим одновременно?
Даже в этот критический момент она не удержалась от соблазна подчеркнуть, что считает это заведение крайне странным и потому не уверена, действуют ли здесь законы, по которым она привыкла существовать. Я говорил уже, что постепенно проникся восхищением к леди Акфилд, и это был один из тех случаев, которые укрепляли мое мнение о ней. Она стала свидетельницей того, как ее сына поставили в глупое положение, она видела, как им пренебрегла его собственная жена, она прекрасно чувствовала повисшую в воздухе опасность, исходящую от предложения Саймона, но ни за что на свете не показала бы этого окружающим. Она бы скорее дала отрезать себе язык, чем допустила, чтобы у кого-то создалось впечатление, будто она хоть что-нибудь имеет против того, чтобы Эдит ехала домой в темноте наедине с Саймоном. И все-таки она не задумываясь отдала бы тысячу фунтов, чтобы Саймон навсегда исчез с ее глаз. Если бы только Эдит обладала выдержкой своей свекрови, никакого скандала бы не было, ни тогда, ни позже.
Вернувшись в ужасную гостиную, леди Акфилд сделала мне знак, чтобы я сел рядом с ней. Если ей и было неспокойно, она не выдала этого и взмахом ресниц.
– Вы должны позволить мне поздравить вас с удачным выбором.
– Так вы рады за меня?
– Как ваш друг, я очень рада, но как хозяйка дома – я возмущена.
Я улыбнулся: это была правда. Она простит мне неудобства, которые доставит ей мое семейное положение, но только из-за «правильности» происходящего.
– Когда вы поженитесь?
Я объяснил, что, хотя у меня есть все причины надеяться на успех, все еще не совсем решено. По моим представлениям – через пять-шесть месяцев.
– А дети? Вы думали об этом? Я старая женщина, поэтому могу спрашивать.
Я пожал плечами:
– Не знаю даже. Мы оба хотим детей, но я не могу не осознавать, что сроки все-таки устанавливает жена, не правда ли? В конце концов, на мою долю достается далеко не самое сложное.
Леди Акфилд рассмеялась:
– Это верно. Но не ждите слишком долго. Я очень надеюсь, что Чарльз и Эдит не станут ждать.
Говоря эти слова, она смотрела мне в глаза, поскольку, естественно, мы оба прекрасно знали: они уже ждут слишком долго. Если бы Эдит сейчас суетилась вокруг золотоволосой головки в детской или даже если бы она сейчас просто носила ребенка, всего этого кошмара не произошло бы.
– Я вполне согласен, – сказал я.
Глава тринадцатая
Я подумывал, когда Саймон предложил проводить Эдит, не будет ли его план нарушен, если окажется, что он должен взять в свою машину других пассажиров. Однако, выйдя с Аделой на улицу, я увидел, что все заднее сиденье его машины занято парой стульев и грудой садового инструмента. Похоже, леди Акфилд размышляла о том же. Подозреваю, она собиралась присоединиться к невестке в потрепанной «кортине», но, даже если так, этому не суждено было случиться. Я предложил ей и лорду Акфилду сесть с нами в «мини» Аделы, и, бросив взгляд на Эрика, они приняли приглашение. Мы с леди Акфилд втиснулись на заднее сиденье, оставив лорду Акфилду переднее. Эрик нетерпеливо махал им рукой, но, сохраняя безукоризненную невозмутимость, леди Акфилд как будто не замечала этого. Мы тронулись, оставив Боба и Аннет на сомнительную милость Эрика, который будет неистово крутить руль, красный от злости.
– Надеюсь, его не остановят, – сказал лорд Акфилд.
Леди Акфилд слегка надула губы:
– Ну…
Какое-то время мы ехали молча, размышляя, как я понимаю, о Саймоне и Эдит. Их машины нигде не было видно.
Леди Акфилд снова заговорила:
– Вам не кажется, это место слишком странное? Как вы думаете, кто туда ходит?
– Разве не эти, как их там, яппи? – Лорд Акфилд произнес это слово в кавычках, ему было очень приятно, что он так хорошо разбирается в современной жизни.
– Ну, не может быть, чтобы только яппи. Разве их достаточно здесь? Поблизости их не может быть много. И американцев тоже, я так думаю. Такая жалость.
– Не знаю, – сказала Адела. – Я предпочитаю, чтобы старинные дома превращали в отели, а не в резиденции местных советов, или же просто сносили.
– Наверное, – с сомнением кивнула леди Акфилд.
По правде говоря, она предпочла бы, чтобы их населяли те же богатые люди с хорошими манерами, которые жили в них сто лет назад. Даже те, кого, как де Марни, она не любила. Она не видела ничего хорошего в переменах, принесенных XX веком. Время затуманило ее память, и так же, как пожилые люди помнят из детства только солнечные дни, она не могла вспомнить ничего грубого или вульгарного из Англии времен ее детства. Я находил ее взгляды интересными. Даже если ее образ прошлого и был решительно неточным или диковинным, все-таки убеждения леди Акфилд были редкостью в последние годы XX века. У нее была эта абсолютная вера в трезвость ума людей ее племени, которая редко у кого сохранилась после 1914 года. Я не сомневаюсь, до этого подобное убеждение было довольно распространено, отчего общество времени короля Эдуарда являлось такой философски умиротворенной территорией. Для аристократа.
* * *
Саймон нарочито долго и сосредоточенно искал ключи, так что все остальные машины Бротонов уже тронулись к тому времени, как он завел мотор. Он повернулся к Эдит. Она куталась в пальто, придерживая его руками и прислонясь к стеклу. Они были двумя игроками с одинаковыми картами на руках и теперь наконец-то остались один на один со своим страстным намерением. Что-то в том, как Эдит была груба с Чарльзом, в дерзости, с какой Саймон предложил ее подвезти, подало знак им обоим, что веселье вот-вот начнется. Глядя на плутоватую ухмылку Саймона, на озорные морщинки в углах его губ, где начинала пробиваться щетина, Эдит чувствовала, как все тело охватывает дрожь сексуального волнения. Ее поразила откровенность испытываемого ею вожделения. Эдит случалось быть с мужчинами, которые привлекали ее, она помнила, как ей нравилось заниматься любовью с Джорджем, было и такое время – правда в основном до замужества, – когда она с удовольствием представляла себе, как останется наедине с Чарльзом. Однако сейчас она остро чувствовала, что ничего подобного раньше не испытывала. Глядя в синие глаза Саймона, она понимала, что хочет оказаться обнаженной в его объятиях, хочет чувствовать его крепкое тело рядом с ней, в ней. Ей стало жарко и слегка неуютно. Ужасающий, будоражащий трепет оттого, что она изменяет своим принципам, кругами расходился внизу ее живота.
– Не пора ли нам? – спросила она.
Саймон внимательно наблюдал за Эдит. Светлые волосы падали ей на лоб, закрывая серо-голубые глаза, и она отбросила их назад слегка раздраженным жестом. Губы не сомкнулись, когда она закончила фразу, но остались влажными и приоткрытыми, и в темноте можно было разглядеть, как поблескивали зубы. Он тоже был возбужден, но несколько иначе, чем она. Ему доводилось в свое время заниматься любовью с очень и очень многими красивыми женщинами, и его возбуждала вовсе не мысль о грядущих сексуальных удовольствиях. Его волновало определенное и подтвержденное знание, что эту женщину к нему тянет.
Он очень остро ощущал, насколько он красив. Более того, он уважал это свое качество, наслаждался им, так как справедливо чувствовал, что оно лежало в основе его власти. Именно эта простая истина была эпицентром его вечного флирта. От каждого, друга или врага, мужчины или женщины, ему нужно было добиться какой-нибудь реакции на его собственную физическую притягательность. Только тогда, в теплом свете восхищения этих чужаков, он мог расслабиться и наслаждаться жизнью. И чем рискованнее была ситуация, тем сильнее ему хотелось быть желанным, причем именно физически. Он непрестанно разбрасывал вокруг себя жаркие взгляды, загадочно улыбался, подмигивал незнакомцам – единственно для того, чтобы поддержать в себе уверенность, что он управляет ситуацией. Что и говорить, естественно, он оставлял за собой бесконечный шлейф раненых, которые неделями или даже месяцами отвечали на совершенно недвусмысленные знаки сексуального и романтического интереса и вдруг, оказавшись в плену, обнаруживали, что ему их любовь нужна не более, чем если бы они были деревьями в саду.
Он не тревожился по поводу этого постоянного поиска подтверждений. Он просто был убежден, что его взгляд способен разбить любые преграды, даже если ему и приходило смутное ощущение, что уравновешенные люди так себя не ведут. В каком-то смысле полное отсутствие веры в другие свои качества означало, что его тщеславие плотно переплетено со своего рода стеснительностью. Он не испытывал особого уважения к собственному интеллекту и, несмотря на всю свою браваду, знал, что в общении бывает неуклюж и нелеп. Принимая во внимание все эти причины, его буржуазные амбиции вкупе с жаждой возбуждать желание должны были неизбежно привести его к Эдит. Ирония заключалась в том, что она видела в нем способ сбежать из жизни Бротон-Холла, а он, наоборот, видел в ней возможность туда проникнуть. Но пока все эти соображения оставались для них тайной. В двух словах можно сказать, что они были заворожены друг другом.
Вожделение – состояние, известное в народе под названием «влюбленность», – это своего рода сумасшествие. Это искажение реальности, настолько значительное, что оно должно, по идее, давать большинству из нас возможность понимать и другие формы умственного расстройства, проникаться сочувствием к таким же страдальцам, как и мы. И все же, как все мы знаем, это сумасшествие, каким бы бурным оно ни было, редко (если вообще такое бывает) длится долго. И еще, вопреки устоявшемуся мнению о предмете, вожделение обычно не уступает со временем место более глубокой и наполненной новым смыслом любви. Существуют, конечно, исключения. Некоторые супруги влюбляются навсегда. Но, как правило, если они действительно хорошо подходят друг другу, влюбленность уступает место теплой взаимной дружбе, обогащенной физическим влечением. Если же они плохо сочетаются, то на ее место приходит скука, а если их угораздило пожениться за этот промежуток времени – тоскливая, тихая ненависть. Но парадоксально: пускай мы теряем разум и страдаем, пока пламя страсти снедает нас, однако очень немногие радуются, когда оно начинает затухать. Как часто мы, встретив позднее предмет страдания, оставивший в нашей жизни шрам длиной в месяцы или даже годы, чей голос в телефонной трубке мог заставить трепетать с ног до головы, малейшее изменение выражения лица отзывалось в нас оглушительным колокольным звоном желания, тщетно роемся в своем внутреннем «я», пытаясь отыскать хоть толику притяжения к сидящему перед нами человеку. Как часто, пролив горючие слезы над разбитой любовью, бываем мы разочарованы, встретив вновь предмет былого обожания и обнаружив, что его власть над нами исчезла без следа. Как часто мы сопротивляемся несущему свободу осознанию, что человек, вообще-то, уже начал нас раздражать, ведь это кажется самым подлым предательством собственной мечты. Нет, пусть для многих людей период влюбленности был самым несчастным в их жизни, тем не менее именно этого состояния превыше всего жаждет человеческое существо.
Не то чтобы Эдит рассматривала Саймона как существенную часть своей будущей жизни, как бы околдована она ни была. Но она давно забыла, как раздражало ее поначалу его кокетливое многословие, и теперь обожала слушать россказни о его злоключениях, надеждах, мечтах – да и о чем угодно, потому что ей нравилось смотреть, как двигаются его губы, и потом – он не только чудесно выглядел, благодаря ему Эдит было так тепло на душе, она чувствовала себя желанной. Ей нравилось физически быть рядом с ним, чтобы он задевал ее рукав, чтобы его рука случайно касалась ее руки, но ни о чем большем она не думала. Или, по крайней мере, до этого момента. К несчастью для Эдит, он познакомился с ней в тот момент, когда ее терзала невыносимая ennui[33]. До свадьбы, зевая в телефонную трубку на работе, она мечтала о том, какое разнообразие принесет ей новая жизнь, но она и подумать не могла, что спустя несколько месяцев и новая жизнь окажется монотонной. Эдит было скучно, а поскольку она думала, что исполнение ее социальных притязаний обеспечит ей постоянный источник новых переживаний, скука казалась еще страшнее, чем была на самом деле.
Медленно, но неумолимо она позволила выветриться остаткам своей привязанности к Чарльзу из-за его неспособности заинтересовать ее. Хотя где-то в глубине души она и подозревала, что этого делать не стоило. Если бы, как ее свекровь в свое время, она с самого начала взглянула правде в глаза и разобралась со своим отношением к ограниченности мужа, тогда между ними могла бы возникнуть и нежность. Если бы она перестала ожидать, что Чарльз будет развлекать ее, то смогла бы ожидать того, что он мог ей дать в полной мере: верности, преданности, надежности, даже любови, пусть и в его неизобретательной манере. Но она так и не призналась себе честно, что вышла замуж за нелюбимого человека ради его положения, а потому не смогла принять своей ответственности за то, что живет с человеком скучнее и глупее ее. Эдит казалось, это Чарльз виноват в том, что ее жизнь так однообразна, это Чарльз виноват в том, что у них нет множества интересных знакомых в Лондоне, это Чарльз виноват в том, что время, проводимое вместе с ним, тяготило ее больше, чем часы одиночества. И вдобавок ко всему она постепенно ступала на опасный путь, доступный только для публичных людей: она вошла в образ счастливой и любезной супруги перед восхищенной толпой, что должно было еще больше подчеркивать тоскливое однообразие домашней жизни. Ее так любили жители деревень, благотворительные общества, даже прислуга в усадьбе, что она начала думать, что та счастливая и изысканная женщина, что отражалась в их глазах, и есть истинная Эдит, и, вне сомнения, Чарльз виноват, что не реагирует на нее так, как восхищенные провинциальные обожатели.
Не то чтобы она любила опасность. Предложение Саймона подвезти она приняла во многом назло свекрови. И более всего она сама была удивлена тому, как сильно ее потянуло к нему физически, теперь, когда они впервые оказались наедине, в темноте. Но что еще больше застало Эдит врасплох, так это шипучее ощущение душевного подъема и пьянящий аромат неизведанных возможностей. Понимание осенило Эдит, как яркая вспышка, – именно этого ей не хватало всю ее замужнюю жизнь. Долгие месяцы все в этой жизни было расписано, все решения уже приняты, и теперь с этим надо как-то жить. И все-таки – вот она сидит в этой машине, смотрит, как вельвет обтягивает мускулистое бедро Саймона, и предается восхитительному ощущению, что между сейчас и смертным часом остались еще незапланированные возможности.
* * *
Когда мы добрались до Бротона, Акфилды пригласили нас всех выпить по стаканчику. Думаю, они предпочли бы, чтобы мы все разъехались по домам, но мы согласились, отчасти из вежливости, отчасти и из дьявольского ощущения, что не все еще закончилось. Нам (или по крайней мере мне) было все еще любопытно, действительно ли Чарльз отправился спать, и как скоро Саймон и Эдит доберутся домой, и как поведет себя леди Акфилд, – самые разные аспекты происходящего, которые еще оставались неизвестными.
Чарльз устроился в гостиной. Он едва прикоснулся к виски, стоявшему на столике рядом с ним. Подозреваю, все это время он просидел, уставившись в пространство, пока не услышал наши шаги. В любом случае казалось, он увлечен женским журналом, который схватил, когда мы вошли. Чарльз принес виски отцу и мне и воды Аделе – ее традиционный, пусть и лишенный блеска вечерний напиток, – и мы сели. Прошло немного времени, и мы услышали, что по лестнице поднимается Эрик (его ни с кем не спутаешь), а значит, по крайней мере «ренджровер» вернулся. Они вчетвером вошли в гостиную.
– Где Эдит? – радостно спросил Эрик, довольный, естественно, что ее еще нет, и значит, он выиграл у нее пару очков.
– Надеюсь, у них не сломалась машина, – твердо сказала Адела.
– О боже, она в таком плохом состоянии? – спросила леди Акфилд.
Повинуясь безмолвным инструкциям Аделы, я кивнул:
– У Саймона жуткая развалюха. Удивительно, что она вообще на ходу.
Леди Акфилд мгновенно поняла, что это спасательный плот, который можно втащить на палубу на случай будущей необходимости. Но нельзя сказать, чтобы она была благодарна. Ведь чтобы испытать благодарность, надо сначала признаться себе, что что-то идет не так. Но она держалась с заметной теплотой, когда присела на диван к Аделе и начала расспрашивать ее о тетке.
Эрик попробовал еще раз:
– Они целую вечность ждали, прежде чем сумели машину завести. Мы уже выехали из ворот, когда я услышал шум мотора.
Но инициатива уже ускользала от него. Чем позже прибудет заблудившаяся пара, тем больше семья сможет прикрываться страхом, что у них что-то сломалось или они попали в аварию. Все остальные возможные причины опоздания таким образом безболезненно устраняются.
Разговор принял более общее направление, присутствующие расселись в кресла и на диваны по всей комнате, и тогда Чарльз подошел ко мне и предложил зайти к нему в кабинет. Уже не помню, под каким предлогом – какая-то книга или картина, которую он якобы давно хотел мне показать, – но мы оба понимали, что он просто хочет поговорить со мной один на один. Я кивнул и вышел вслед за ним, с тревогой отмечая насмешливую улыбку Чейза. Мы пошли налево по коридору. Не могу сказать, чтобы я ждал этой беседы с нетерпением, потому что начал чувствовать себя ответственным за катастрофу, которая (в чем я только начал себе признаваться) могла ожидать нас.
Кабинет Чарльза, с табличкой на двери «Посторонним вход воспрещен», которую с таким удовольствием игнорируешь, проходя внутрь, располагался в небольшой угловой комнате в отдалении от общей гостиной и столовой. Это было продолжение библиотеки, на главном этаже, и комната могла похвастаться красивыми карнизами и дверными косяками, а при свете дня – замечательным видом на парк из двух высоких окон. Двойные двери, если их открыть, соединяли ее с соседней комнатой. Однако посещение библиотеки было включено в экскурсию для посетителей, а потому, скорее всего, их не открывали никогда. Изящный камин из розоватого мрамора, стены, обитые малиновым дамастом от панелей до потолка, высокие застекленные книжные шкафы, похоже сделанные специально для этой комнаты. Портрет какой-то прапрабабки в костюме для бала-маскарада висел над камином, множество приглашений, фотографий, записок и открыток были заткнуты за нижний край рамы и усеивали каминную полку – обычный бумажный хаос, каким высшие классы демонстрируют, сколь непринужденно они чувствуют себя в этом изящном интерьере.
– Здесь очень мило, – сказал я. – А где комната Эдит? Рядом?
Чарльз покачал головой.
– Наверху, – пробормотал он. – Рядом с нашей спальней.
Он молча воззрился на меня, и, чтобы не отвечать на его исполненный боли взгляд, я принялся читать названия на корешках. На глаза попалась книга Троллопа «Можно ли ее простить?», и я внутренне улыбнулся, хотя это и было нехорошо по отношению к Чарльзу. «Он так и знал» того же автора отрезвило меня. Тогда я не понимал, в какой степени Чарльз действительно способен на ревность, не знал доподлинно, насколько он способен на душевные переживания. Один только факт, что кто-то не слишком умен, еще ничего не значит. Люди могут быль глупыми, но с очень тонкой душевной организацией, так же как человек большого ума может быть не способен на глубокие чувства.
– Что ты думаешь? – услышал я, и в первое мгновение мне показалось, что он спрашивает моего мнения о какой-нибудь книге, но, увидев выражение лица Чарльза, я тут же отбросил это предположение. Но на всякий случай ответил вопросом на вопрос:
– Что ты имеешь в виду?
– Что они там делают?
Он держался просто и прямо, и я понял: нам предстоит поговорить как мужчина с мужчиной. Перспектива повергла меня в трепет. Кроме всего прочего, я твердо верю, что самое главное правило гармонии в семейной жизни – чем меньше сказано, тем проще поправить, и, между прочим, собственный брак только подкрепил это убеждение.
– Ну, Чарльз, перестань! – оптимистично сказал я, имея в виду, что ничего такого особенного они там делать не могут.
Не могу сказать, насколько честен я был, выбирая такой курс. Может показаться наивным, но (хотя, оглядываясь сейчас на то время, я ясно вижу, что Эдит и Саймона потянуло друг к другу со второго дня знакомства) я не думаю, чтобы их взаимное притяжение всерьез вторгалось в мое сознание до этого вечера.
– Это ты перестань, – сказал Чарльз с несвойственной ему резкостью.
– Послушай, – примирительным тоном начал я, – если ты спрашиваешь, знаю ли я что-нибудь об этом, то я не знаю. Если ты спрашиваешь, думаю ли я что-нибудь об этом, – ответ тоже будет отрицательным. Или почти ничего. Я думаю, они нравятся друг другу, и все. Разве это настолько ужасно? Разве тебе не хотелось приударить за кем-нибудь с тех пор, как ты женился?
– Нет, – ответил Чарльз, падая в кресло в стиле чиппендейл и опираясь локтями на очаровательный и неприбранный письменный стол.
Он уронил голову на руки и принялся с силой ерошить пальцами волосы. Он был бы великолепной моделью для статуи, символизирующей отчаяние. Я чувствовал, что совершил промах, решив, будто пустое жизнерадостное подбадривание может помочь делу, и все-таки мне не хотелось первым ступать на путь к новому уровню близости. Такой шаг Чарльз (а я ведь, в конце концов, даже тогда еще не очень хорошо знал его) мог бы рассматривать как дерзость. Мне было искренне жаль парня и хотелось найти способ не усугубить, но облегчить его бремя. Мои отстраненные размышления были прерваны вздохом со стола.
– Она меня не любит, понимаешь?
Он сказал это стопке бумаги, лежавшей у его лица, но так как замечание было, по всей видимости, обращено ко мне, я попытался подобрать подходящий способ ответа. Конечно, вдвойне усложняло мою задачу то, что слова Чарльза, пусть и резкие, были по сути правдой. У меня не было сомнений, что в тот момент Эдит его действительно не любила. Она не хотела его (о чем к тому времени я, естественно, только начинал догадываться), ей было скучно в его обществе, она не разделяла его интересов, ей не нравилось большинство его друзей. Не думаю, чтобы она испытывала к нему неприязнь, но вряд ли я мог сообщить это Чарльзу в ответ на крик его души. Я молчал, что, кажется, само по себе подразумевает согласие, и Чарльз поднял на меня глаза. Я не смогу объяснить, до какой степени тронуло меня невыразимое страдание на этом простом англосаксонском лице из графского замка. Его опухшие глаза покраснели от слез, уже начинавших сбегать вдоль его крупного костистого носа. Его волосы, обычно гладко причесанные, как у героя рекламного плаката тридцатых годов, были всклокочены и торчали в разные стороны, словно растрепанные перья. Красивый человек может выражать скорбь благообразно, но, по моему опыту, если скорбь идет человеку, это подозрительно. Настоящее горе безобразно, оно калечит, оставляя глубокие шрамы в душе. Я краснею, вспоминая, как удивился тому, что у Чарльза – милого добряка Чарльза, с его охотой, живыми изгородями и собаками, – есть сердце, которое может быть разбито. А оно у него было и раскалывалось на куски прямо у меня на глазах.
Не успел я и слова сказать, в коридоре послышался шум.
– Чарльз?
Это была леди Акфилд. Чтобы – даже в момент такого накала страстей – грубо не нарушить правила хорошего тона и не постучать в дверь комнаты, которая не является спальней (это действие в исполнении дворецких в белых перчатках неизменно играет важную роль в телевизионных сериалах), она ухитрилась довольно долго сражаться с дверной ручкой. Похоже, легче было попасть в Ноев ковчег. И, предоставив нам столько времени, что мы успели бы и одеться, если бы в том была необходимость, не то что вытереть слезы, она открыла дверь и вошла в комнату.
– Ах, Чарльз, – она непринужденно улыбнулась сыну, не замечая страдания, ясно запечатленного на его лице, – Эдит вернулась. Они застряли, выбираясь из города. Ничего интересного.
Чарльз кивнул как в тумане и побрел в сторону гостиной. Я пошел было за ним, но леди Акфилд, едва коснувшись моей руки, остановила меня.
– Нам тоже, пожалуй, пора, – сказал я. – Где Боб? Я должен поблагодарить его за ужин.
– Он ушел спать, – ответила она. – Ваша чудесная Адела поблагодарила его и от вашего имени.
Мы помолчали. Она стояла у камина, рассеянно перебирая разноцветные картонные карточки, приглашавшие ее ребенка на праздники и утренники. В дальнем конце комнаты горела позолоченная настольная лампа, свет которой удлинял тень маркизы, а полумрак жестоко искажал ее лицо. Впервые на моей памяти она выглядела на свой возраст. Чарующий покров хороших манер на мгновение был приподнят, и невооруженному взгляду предстала усталая, встревоженная женщина преклонного возраста.
– Вот такой сыр-бор у нас разгорелся, – сказала она, не поднимая глаз от приглашения на свадьбу, на котором я увидел отметку о согласии, сделанную крупным небрежным почерком Эдит.
– Ну, я не знаю, – ответил я.
Я оказался в очень неловком положении, ведь, в конце концов, в этом доме я присутствовал как друг Эдит. То есть мне приличествовало сохранять верность ей, но в то же время я искренне считал, что она вела себя глупо. Я не был, если хотите, на ее стороне, но находил неподобающим быть и на какой-то другой.
– А я знаю. – Она замолчала, я поднял на нее глаза в ответ на ее резкий тон. – Все хуже, чем вы думаете. Эрик был у машины, когда они приехали. Он видел, как они целовались.
На мгновение я, как выразился бы один мой приятель кокни, охренел. Я-то думал, мы ходим вокруг да около легких бестактностей, которые допустила измаявшаяся от скуки Эдит. Предполагал легкий разговор о том, что Эдит стоит встряхнуться, или о том, что она именно это и сделала. Естественно, я тут же заподозрил, что Эрик не был у машины, когда они подъехали, а сознательно спрятался где-то поблизости. Не мог же он пропустить такой небом посланный шанс поймать с поличным Эдит, которую к этому моменту откровенно не выносил (и это даже слабо сказано). Но какими бы ни были его мотивы на самом деле, он не соврал о том, что видел. В память о нашем давнем знакомстве я попытался вытащить Эдит из ямы, которую она вырыла своими руками.
– Ах, ну конечно же, она поцеловала его на прощание.
– Она страстно целовала его в губы. Его рука была у нее под блузкой, а ее рука – вне видимости, под приборной панелью.
Леди Акфилд говорила с бесстрастием полицейского, описывающего суду виденное им происшествие. Я остолбенело смотрел на нее. Первым моим порывом было извиниться, что я вообще тут нахожусь, и броситься бежать. И уж точно я не мог подобрать подходящих слов. Она продолжила:
– Величайшая жалость, что их видел именно Эрик. Он совершенно не способен держать хоть что-то при себе, и в любом случае у меня есть подозрение, что он не испытывает к Эдит слишком нежных чувств. Он уже рассказал Кэролайн, а она рассказала мне. Она постарается заставить его помолчать, но полагаю, ей это не удастся.
Больше всего в происходящем меня заинтересовало поведение леди Акфилд. Я привык уже к ее страстным признаниям полушепотом, когда она доверяла мне такие интимные тайны, как заголовки сегодняшних газет или с кем мне предстоит сидеть за столом. Сейчас ей действительно приходилось делиться тайной, но вся ее проникновенность куда-то исчезла. Так разговаривал бы офицер женской добровольной службы с новобранцами.
– Я полагаю, мы можем надеяться, что все это не распространится дальше, но не уверена, что это имеет хоть какое-нибудь значение.
– Вы расскажете Чарльзу?
Она подняла на меня изумленный взгляд:
– Конечно нет. Вы считаете, я сошла с ума? – Она снова расслабилась. Шок от того, что ее сочли лишенной житейской мудрости, прошел. – Но он все равно узнает.
– Как? – спросил я, подразумевая, что тоже не собираюсь болтать.
Она грустно улыбнулась:
– Возможно, потому, что ему скажет Эдит. В любом случае, кто-нибудь да расскажет.
К этому мне нечего было добавить, она была, безусловно, права. Эдит в своей скуке созрела и была теперь готова поддаться пагубному желанию поставить всех на уши, которому так часто потворствуют женатые пары в наши дни – в противоположность своим прабабушкам и прадедушкам, которые всеми силами, любой ценой старались предотвратить такой ход событий. Мое молчание становилось неловким, но я не мог понять, что именно хотела леди Акфилд всем этим сказать мне. Несмотря на всю свою псевдозадушевность, она никогда ни с кем не делилась ничем даже отдаленно личным, не говоря уже о потенциально скандальных известиях. Должно быть, она увидела мое недоумение, потому что ответила, не дожидаясь вопроса:
– Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали.
– Конечно.
– Скажите этому юнцу, чтобы он оставил ее в покое.
– Ну…
Горе тому, кто с готовностью принимает подобные поручения. Какого бы мнения я ни придерживался о характере и моральных устоях Саймона, едва ли я был в том положении, чтобы его поучать.
Леди Акфилд пошла в атаку. К ней отчасти вернулась ее обычная легкость тона и беззаботные интонации, и слова полились рекой:
– Ей скучно. Вот и все. Ей скучно, и ей следует чаще выезжать в Лондон. Она должна чаще видеться с друзьями. Или завести ребенка. Или найти работу. Вот что ей нужно. А этот мальчик… – Она пожала плечами. – Он хорош собой, он обаятелен, но самое главное – он здесь. Такое бывает с людьми, когда они еще только привыкают к новой жизни. Это ничего не значит. Досадно, что Эрик ее увидел. Он почти наверняка расскажет, и будет нелегко проследить, чтобы никто не смог подтвердить эту историю.
Я взглянул на происшедшее ее глазами. Конечно же, все это глупости и ерунда, страшная только потому, что может причинить боль Чарльзу, если он узнает. Да, жаль, что Эрик их видел. Беда именно в этом. Ее прелестный ровный голос отвел угрозу анархии и шторма, который на мгновение уже почти захватил нас, и вернул наш корабль в тихую гавань.
– Я сделаю все, что смогу, – сказал я.
– Уверена в этом. Да и фильм уже почти закончен. Печально, конечно, что вы уедете… – поспешно добавила она, опомнившись, – но все-таки…
Я кивнул, и она направилась к двери. Работа выполнена. Она сделала все необходимое, чтобы свести разрушения к минимуму, для этого пришлось довериться мне. Но ведь я уже был ее союзником. Могло быть и хуже.
– Леди Акфилд, – начал я, и она остановилась, взявшись за блестящую дверную ручку, – не ругайте Эдит слишком жестоко.
– Ну что вы, – рассмеялась она. – Может быть, в это трудно поверить, но я и сама, знаете ли, когда-то была молодой.
И она ушла, не оставив ни тени сомнения, что она ненавидит свою невестку так яростно, как ненавидела бы любую женщину, которая довела до слез ее единственного сына.
Глава четырнадцатая
– Что там такое произошло? – спросила Адела, когда мы отъехали от дома.
– Ты о чем?
– Ну, сначала вы двое смываетесь, и у всех крайне обеспокоенный вид. Потом исчезает Эрик. Короткое затишье. И вдруг начинается настоящий фарс, люди вбегают и выбегают с безумными лицами. А я все это время сижу с лордом Акфилдом, который пытается мне объяснить что-то про разведение речной форели. Что случилось? Я уже думала, мне придется позвонить и остаться здесь ночевать.
Естественно, я ей все рассказал, и какое-то время мы ехали молча. Адела прервала молчание:
– А что ты вообще можешь сказать Саймону? «Руки прочь от этой леди»? Разве он не даст тебе в глаз?
– Это вряд ли. На вид он не из таких.
– И?..
Мне нечего было ей ответить, потому что я не мог себе представить, как играть эту на редкость постыдную сцену. И по какому праву я вообще могу встревать в эту историю?
Адела дала мне мотив:
– Мне кажется, тебе придется постараться для бедняжки Эдит. Досадно будет, если она пустит коту под хвост то, чего так отчаянно добивалась. И все из-за такого ничтожества.
Мы приехали домой и застали Саймона на кухне. Он задумчиво покачивал в руке стакан вина. Его общий вид, да и само то, что он не отправился спать, предполагали желание излить душу в откровенном разговоре, хотя он и не догадывался, что я уже знаю все, что он мог бы мне излить. Это был тревожный знак. Мы с Беллой успели вычислить, что Саймон любил поговорить о своих романах, несмотря на постоянные, причем с большой любовью, упоминания детей и жены, тоскующей дома. Я не понимал тогда еще, что сопутствующая слава доставляла ему не меньше удовольствия, чем сам поступок, а это очень опасная характеристика для женатого любовника замужней женщины. Адела направилась прямиком в комнату, а я с тяжелым сердцем взял предложенный Саймоном стакан. Пару минут мы просидели молча. Наконец он не мог больше сдерживать нетерпение.
– Хороший выдался вечерок? – спросил он.
Я кивнул, не очень искренне:
– Ничего себе. Ужин, по-моему, прошел омерзительно. Бедолага Боб! Он заметно побледнел, увидев счет.
Снова молчание. Мы оба не очень понимали, как подойти к предмету, который так сильно занимал нас обоих. На этот раз я попробовал запустить диалог:
– Ты не зашел попрощаться.
Саймон покачал головой:
– Получилось немного неловко с ее свояком, когда мы вернулись. Я подумал, лучше слинять.
Ах вот как! Неудивительно, что Саймон хочет поговорить. Эрик не стал скрывать от них свое присутствие. А значит, статистически шансы, что он сохранит все в секрете, сводятся к нулю. Эрик устроил сцену. Это, по моему опыту, обычно случается, если человек хочет устроить сцену.
– Я слышал об этом, – сказал я.
Саймон поднял на меня взгляд:
– Да? От кого? Не от Эдит?
Я покачал головой:
– От матери Чарльза.
Я заметил, с каким трудом он проглотил информацию. И это вполне объяснимо. Однако на лице Саймона одновременно с краской стыда за то, что его раскрыли, появилась и несмелая улыбка. И эта улыбка сказала мне, что Саймон испытывает некое зловещее удовольствие, поскольку стал центральной фигурой в драме, которую – я вскоре это выяснил – воспринимал как романтическую. У меня еще больше упало сердце, когда я осознал, что извращенное актерское удовольствие от трагедии очень скоро научит Саймона наслаждаться дурной славой.
– Чарльз знает?
– Не знал, когда я уезжал. А должен? О чем ему следует знать?
Саймона так легко не поймаешь. Он тихо рассмеялся и пожал плечами, наливая себе еще глоток. Я принял максимально родительский вид:
– Саймон, не устраивай здесь бардака.
Но он опять только улыбнулся и подмигнул с приводящей в бешенство уверенностью в своей сексуальной привлекательности человека, которому никогда не отказывают и который считает, будто законы морали изобретены для простых смертных. Кажется, единственное, что мне оставалось, – это обратиться к лучшей стороне его «я».
– Эдит – моя старая подруга.
– Знаю.
– Не хочу видеть, как ее делают несчастной.
– Это сейчас она несчастна.
Доля правды в этом была, но значительно меньшая, чем догадывались он или Эдит.
– Она еще и вполовину не настолько несчастна, насколько будет, если ты начнешь устраивать дурацкие скандальчики только потому, что она подвернулась под руку, а тебе скучно.
Он снова улыбнулся и пожал плечами. Естественно, я ничего этим не добился, ведь мало что могло доставить Саймону большее удовольствие, чем когда его просят отвратить ослепительные лучи своего гибельного очарования от беззащитной жертвы. И вот я стою перед ним и умоляю Всемогущего Властелина пощадить несчастную девицу. Он был в восторге. Я попробовал еще один, несколько нечестный способ:
– А как же твоя жена?
– А при чем здесь она?
– Она не огорчится?
Это, к моему удовольствию, все-таки заставило его почувствовать смутную тревогу или, по крайней мере, раздражение.
– А кто ей скажет? Ты не скажешь.
Это была правда, и какое-то время я думал, не делаю ли я из мухи слона, и тут я услышал стук по стеклу за моей спиной. Я оглянулся и, к великому своему изумлению, увидел, как Эдит (шарф из «Гермес» легко окутывал ее голову) стучится в окно, словно Кэтрин Эрншо, умоляя впустить ее в дом в эту бурную ночь. Но Хитклифф из Саймона был никакой, поэтому я, а не он вскочил и отпер заднюю дверь.
– Черт возьми, что ты здесь делаешь? – спросил я, но она протиснулась мимо меня и подошла к плите погреть руки.
– Только ты еще меня не отчитывай. На сегодня мне уже хватит, уверяю тебя.
– Чарльз знает?
– А как же. Эрик ему сказал.
– А он знает, что ты здесь? И почему, бога ради, ты здесь? Хочешь совсем все испортить?
Пока мы разговаривали, Саймон не сдвинулся с места и не произнес ни слова. А потом, крайне демонстративно, он встал со стула, поставил стакан, подошел к Эдит и неторопливо, чтобы я полюбовался, заключил ее в свои объятия, наклонился и поцеловал в губы так, как современные кинозвезды целуются при съемках крупным планом. Со стороны казалось, что он пытается съесть ее язык. Какое-то время я следил, как двигаются их головы, а за ними, как призраков в палатке Ричарда III, я увидел Чарльза, его мать и несчастную миссис Лавери, чьи мечты сгорали дотла на кухне деревенского домика в Суссексе, прямо на моих глазах. А за ними – более расплывчатые фигуры Камноров, старой леди Тенби и ее дочерей и всех остальных, кто будет в восторге от сплетни и втайне (или не таясь) порадуется тому, что творят сейчас эти два дурака.
– Ну? – спросила Адела, которой я обещал отрапортовать перед тем, как улечься спать. Она повернулась в кровати, моргая, чтобы сосредоточиться.
– Безнадежно.
– И слушать не стал?
– Боюсь, он получает от этого колоссальное удовольствие. Во всяком случае, не так уж много я успел сказать. Я только начал, когда появилась Эдит. Она сейчас внизу.
Секунду Адела молчала.
– А-а, – произнесла она, а потом добавила: – Значит, безнадежно. Бедный Чарльз.
Снова легла на подушку и поплотнее закуталась в одеяло.
Вскоре после этого я сделал предложение и получил согласие. Для меня это был довольно напряженный период, должен признаться, потому что меня представляли на суд бесконечной череде исполненных неодобрения родственников моей нареченной, большинство из которых были всерьез огорчены тем, что будущее их любимой Аделы зависит от чьей-то сценической карьеры.
– Ну, что я могу сказать. Удачи с артистическим темпераментом, – получила она совет от одной особенно неприятной тетушки.
Через пару месяцев развлечений в подобном духе мне уже отчаянно хотелось прекратить ожидание. Мы решили пожениться в апреле, а поскольку погода в этом месяце славится своей непредсказуемостью, устроить церемонию в Лондоне. Как заметила Адела: «Деревенская свадьба может стать очень грязным делом».
Это было событие в светской жизни, хотя со свадьбой Бротонов оно, конечно, не могло сравниться. И все-таки каждый, кому случалось играть центральную роль в многолюдной свадьбе, не говоря уже о лондонской церемонии со всеми ее атрибутами, поймет, что у меня толком не было времени, чтобы беспокоиться об Эдит и ее ménage[34] все эти несколько месяцев. Я пригласил Акфилдов и Бротонов, и, к великой радости моей тещи, они приняли приглашение. Это меня успокоило. В вихре подготовки к бракосочетанию я счел это знаком, что беда прошла стороной и безумие того августовского вечера позабыто. А затем, недели за две до самой свадьбы, мне позвонила Эдит.
– Ты пригласил Саймона? – спросила она.
Я сразу понял, что она опасается неловкой ситуации, и успокоил ее:
– Нет, не пригласил. Все будет в порядке. – Я мягко рассмеялся, в надежде, что тот отвратительный вечер скоро можно будет превратить в нашу приватную шутку.
– А не мог бы?
Улыбка сползла с моего лица, последняя спасительная соломинка хрустнула и сломалась в руке.
– Нет, не мог бы, – коротко ответил я.
– Почему?
– Сама прекрасно знаешь почему.
Последовала пауза.
– Не мог бы ты оказать мне одну услугу? – Я не ответил, потому что боялся это услышать. Но она меня не пощадила. – Не мог бы ты одолжить нам свою квартиру, пока тебя не будет?
– Нет.
Голос Эдит был холодным и четким.
– Нет. Ну, извини тогда, что побеспокоила.
– Эдит, дорогая… – перебил я. Вот что-нибудь такое обязательно случается, если по уши захвачен чем-нибудь важным. Именно накануне решающего экзамена родители вашего друга обязательно решат умереть или отправиться в тюрьму. – Естественно, я не могу позволить тебе встречаться с Саймоном в моей квартире. Как я могу так поступить с Чарльзом? Да и с несчастной женой Саймона тоже. Приди в себя. Дорогая, пожалуйста. Умоляю.
Но мне не суждено было ее убедить. Проговорив какие-то формальности, она пропала, связь оборвалась.
Я рассказал Аделе, она не удивилась:
– Он думает, она может помочь ему пробиться. Открыть перед ним двери. Он хочет залезть на самый верх.
– Не знаю, насколько все это его интересует.
– Интересует. Этот хочет сидеть за главным столом. Вот увидишь.
– Уж не знаю, много ли старушка Эдит может ему обеспечить.
Адела улыбнулась, как мне показалось, немного холодно:
– Ничего она не может. Ей еще повезет, если к концу этой заварушки ей удастся достать столик хотя бы в клубе на Сент-Джеймс. Дурочка.
Именно Адела пихнула меня, чтобы я посмотрел на дверь, когда, пока мы стояли, приветствуя у входа поток гостей, лакей объявил звенящим голосом:
– Маркиз и маркиза Акфилдские и граф Бротон, – смакуя каждое слово, как вкусные конфеты.
Все трое вошли.
– А где Эдит? – спросил я.
Чарльз слегка пожал плечами, пропуская вопрос мимо ушей. Честно говоря, я был немало тронут, что Акфилды потрудились прийти. Как правило, такие люди хорошо дружат на своих условиях, но не любят делать что-то на ваших. Не думаю, чтобы лорд Акфилд догадывался, почему его заставили надеть костюм и пожертвовать чудесным деньком, вместо того чтобы оставить смотреть гонки по телевизору, но леди Акфилд, я верю, к тому времени уже симпатизировала мне и все еще хотела заручиться поддержкой единственного друга Эдит из ее жизни до замужества, который перешел в ее новую жизнь. Их провели дальше, на прием, а мы вернулись к бесконечной череде старых нянь и родственников из отдаленных графств.
На собственной свадьбе с кем-нибудь нормально поговорить невозможно, а уж тем более на роскошной великосветской свадьбе, где приглашенные не должны опускаться до чего-то банально-мещанского и разумного, как, например, сесть за стол и поесть. Жениха и невесту передают по кругу, как поднос с канапе, на пару слов здесь и там, чтобы каждый мог почувствовать, что не зря трясся всю ночь в поезде из Шотландии или прилетел из Парижа или Нью-Йорка. Все-таки Чарльз сумел на мгновение меня задержать.
– Давайте пообедаем вместе, когда вы вернетесь? – предложил он.
Я кивнул и улыбнулся, но предпочел не вдаваться в подробности, так как начало одного брака представляется мне не слишком удачным моментом для тяжких размышлений о возможном конце другого. Должен признать, мне льстило, что к этому времени Чарльз явно считал меня и своим другом тоже, а не только другом Эдит. А кроме того, это меня реабилитировало, ибо я определенно был бы теперь на стороне Чарльза, если бы пришлось выбирать. Конечно, я прекрасно понимал, что не являюсь одним из его близких приятелей, но имел одно преимущество: со мной можно было говорить о его жене. Я общался с ней достаточно долго, а бо́льшая часть его друзей не подходили на эту роль, так как познакомились они только на помолвке.
Мы с Аделой провели чудесные две недели в Венеции, а вернувшись, обнаружили, что квартира завалена свадебными подарками из «Питера Джонса» и «Дженерал трейдинг компани»; вместе с ними лежало письмо от Чарльза, он предлагал встретиться в следующий четверг в его клубе. Я принял приглашение. Клубом Чарльза мог быть только «Уайтс», и соответственно, я оказался у знакомых дверей в назначенный день в час пополудни.
Мне кажется, большинство согласится со мной, что из трех великосветских клубов, чьи очаровательные фасады XVIII века возвышаются на Сент-Джеймс-сквер, «Уайтс» – самый неприступный. Здесь очень мало лощеных arrivistes[35] из Сити, даже среди самых новых его членов, – может быть, потому, что осталось еще достаточно gratin, чтобы обеспечить ему аудиторию, а может быть, потому, что воздух здесь слишком разрежен, чтобы им могли дышать простые смертные, и через один-два визита эти выскочки решают поискать место чуть менее помпезное. И несмотря на это, я всегда с большим удовольствием приходил в «Уайтс». Я бы не желал стать его членом, как не вызвался бы спонсировать команду поло, но одна из добродетелей высших слоев английского общества (было бы справедливо отдать им должное, так как я очень подробно описываю их пороки) заключается в том, что, если собрать их представителей в привычной, близкой им по духу обстановке, они очень непринужденный и приятный народ. Они все знают друг друга с первого вздоха, и когда рядом нет никого, кто мог бы их за это упрекнуть, наслаждаются дружескими отношениями в этой большой семье. Именно среди своих, в «безопасном доме», они вежливы и ничего не боятся. Чудесное сочетание!
Я назвался и спросил Чарльза в будочке красного дерева в холле, но его светлость еще не появлялся, и мне предложили присесть и подождать его. Здесь чужому человеку не кивнут безразлично, что он может проходить в святая святых. Но едва я успел прочитать последнюю сводку, полученную по телетайпу (увы, где теперь это все), как Чарльз хлопнул меня по плечу:
– Прости, дружище. Я застрял в пробке.
Мы прошли через другой холл, откуда лестница вела наверх, в небольшой бар, где Чарльз заказал нам обоим сухой шерри. Я заметил с радостью, что сейчас он значительно больше походил на себя в старые добрые времена – элегантно одет и тщательно причесан. Его светлые волосы лежали гладкими волнами, на шее был повязан галстук то ли военной части, то ли учебного заведения.
– Ну, как поживаешь? Надеюсь, очень занят?
Не то чтобы я был ужасно занят, но была вероятность, что скоро появится пара возможностей, так что я не достиг еще того отчаянного состояния, которое есть профессиональный риск любого члена «Эквити»[36]. Так что я распространялся об Аделе, квартире, Венеции и так далее, а Чарльзу, конечно же, до боли хотелось заговорить о своем.
– А у тебя как дела? – спросил я.
Будто в качестве ответа он поставил стакан на стойку.
– Пойдем сядем за стол, – пробормотал он, и мы направились вверх по лестнице.
Обеденный зал в этом клубе именно таков, каким ему и следует быть: величественный, с высоким позолоченным потолком и огромными окнами с видом на Сент-Джеймс-сквер. На затянутых дамастом стенах ростовые портреты выдающихся членов клуба былых времен. Все это излучало ту характерную для аристократии солидность, которую Чарльз, верно, пусть и неосознанно, считал оплотом и своего стиля жизни. Мы сделали заказ и сели за стол у стены напротив окон.
– Думаю, Эдит от меня ушла.
Утверждение было настолько прямолинейным, что мне сначала показалось, будто я неправильно расслышал.
– Что значит – думаю? – Я не очень понимал, как можно в этом случае ошибиться.
Он откашлялся:
– Ну, наверное, нужно сказать: она думает, что ушла от меня. – Он поднял брови. Мне кажется, он мог разговаривать об этом только таким образом, как можно сильнее отстраняясь от происходящего, как будто мы сплетничаем о ком-то другом. – Она звонила сегодня утром. Она сняла квартиру на Эбери-стрит. Очевидно, они поселятся там вместе.
У меня – самое подходящее выражение – «все поплыло перед глазами». Сначала (довольно недостойная реакция) я не мог поверить, что Эдит совершит такую глупость, пока скандал не вынудит ее к этому.
– Что она сказала?
– Только то, что они любят друг друга. Что она была очень несчастна. Никто не виноват, и все в таком духе… Ну, знаешь, что обычно говорят.
В этот момент принесли моих креветок в горшочке, а вслед за ними авокадо для Чарльза. Я попытался воспользоваться паузой, чтобы привести в порядок мысли, но ни в жизнь не смог бы придумать, что я могу такого разумного сказать. И выбрал неверно.
– Кто еще знает?
– Ты говоришь, как моя мать.
При упоминании леди Акфилд мне страстно захотелось, чтобы она взяла штурвал в свои руки и вывела наш корабль из этого кошмара. Какой бы юной она ни была когда-то, жить в съемной квартире на Эбери-стрит с женатым актером – она бы и помыслить о таком не могла.
– Твоя мать в курсе?
– Подробностей она не знает. Эдит позвонила мне пару дней назад. Когда я прислал тебе записку. С тех пор я был несколько отрезан от мира. Не вижу, чего можно добиться, бросаясь навстречу грозе, если грозы можно избежать.