Читать онлайн В поисках памяти бесплатно
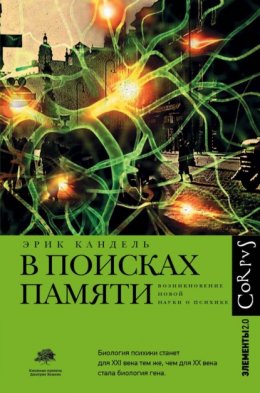
Книга издана при поддержке “Книжных проектов Дмитрия Зимина”
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
© Eric R. Kandel, 2006.
All rights reserved
© П. Петров, перевод на русский язык, 2011
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство Аст”, 2017
Издательство CORPUS ®
Эта книга издана в рамках программы “Книжные проекты Дмитрия Зимина” и продолжает серию
“Библиотека фонда «Династия»”.
Дмитрий Борисович Зимин – основатель компании “Вымпелком” (Beeline), фонда некоммерческих программ “Династия” и фонда “Московское время”.
Программа “Книжные проекты Дмитрия Зимина” объединяет три проекта, хорошо знакомых читательской аудитории: издание научно-популярных книг “Библиотека фонда «Династия»”, издательское направление фонда “Московское время” и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы “Просветитель”.
Предисловие
Pour Denise
Разобраться в биологической природе человеческой психики – ключевая задача науки xxi века. Мы стремимся понять биологическую природу восприятия, обучения, памяти, мышления, сознания и пределов свободы воли. Еще несколько десятилетий назад казалось немыслимым, что биологи получат возможность изучать эти явления. До середины xx века идею того, что самые глубокие тайны человеческой психики, сложнейшей системы явлений во вселенной, могут быть доступны биологическому анализу, возможно, даже на молекулярном уровне, нельзя было принимать всерьез.
Впечатляющие достижения в области биологии последних пятидесяти лет сделали это возможным. Совершенное Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году открытие структуры ДНК произвело революцию в биологии, предоставив ей рациональную основу для изучения того, как информация, записанная в генах, управляет работой клетки. Это открытие позволило понять фундаментальные принципы регуляции работы генов – как гены обеспечивают синтез белков, определяющих функционирование клеток, как гены и белки включаются и выключаются в ходе развития организма, определяя его строение. Когда эти выдающиеся достижения остались позади, биология наряду с физикой и химией заняла центральное место в созвездии естественных наук.
Вооруженная новыми знаниями и уверенностью, биология устремилась к своей высочайшей цели – разобраться в биологической природе человеческой психики. Работа в этом направлении, долгое время считавшемся ненаучным, уже идет полным ходом. Более того, когда историки науки будут рассматривать последние два десятилетия xx века, они, скорее всего, обратят внимание на неожиданный факт: самые ценные открытия того времени, касающиеся человеческой психики, были получены не в рамках дисциплин, традиционно работавших в этой области, таких как философия, психология или психоанализ. Они стали возможны благодаря слиянию этих дисциплин с биологией мозга – новой синтетической дисциплиной, которая расцвела благодаря впечатляющим достижениям молекулярной биологии. В результате возникла новая наука о психике, использующая возможности молекулярной биологии для исследования великих тайн жизни.
В основе новой науки лежат пять принципов. Первый состоит в том, что наша психика неотделима от мозга. Мозг – это сложный, обладающий огромными вычислительными способностями биологический орган, который формирует ощущения, регулирует мысли и чувства и управляет действиями. Мозг отвечает не только за сравнительно простые формы двигательного поведения, такие как бег или прием пищи, но и за те сложные действия, в которых мы видим квинтэссенцию человеческой природы: мышление, речь или создание произведений искусства. В этом аспекте человеческая психика предстает системой операций, выполняемых мозгом, почти так же, как ходьба – это система операций, выполняемых ногами, только в случае мозга система значительно сложнее.
Второй принцип заключается в том, что каждая психическая функция мозга, от простейших рефлексов до наиболее творческих форм деятельности в области языка, музыки и изобразительного искусства, выполняется специализированными нейронными цепями, проходящими в различных участках мозга. Поэтому биологию человеческой психики лучше обозначать термином biology of mind, указывающим на систему психических операций, выполняемых этими цепями, чем термином biology of the mind, подразумевающим некоторое местоположение нашей психики и предполагающим, что у нас в мозге есть определенное место, в котором выполняются все психические операции[1].
Третий принцип: все эти цепи состоят из одних и тех же элементарных сигнальных единиц – нервных клеток (нейронов). Четвертый: в нейронных цепях для генерации сигналов внутри нервных клеток и передачи их между клетками используются молекулы особых веществ. И последний принцип: эти специфические сигнальные молекулы эволюционно консервативны, то есть остаются неизменными на протяжении миллионов лет эволюции. Некоторые из них присутствовали в клетках наших древних предков и могут быть обнаружены сегодня у самых далеких и эволюционно примитивных родственников – одноклеточных организмов, таких как бактерии и дрожжи, и простых многоклеточных организмов типа червей, мух и улиток. Чтобы успешно маневрировать в своей среде обитания, эти существа используют молекулы тех же веществ, что и мы, чтобы управлять своей повседневной жизнью и приспосабливаться к окружающей среде.
Таким образом, новая наука о психике не только открывает нам путь к познанию самих себя (как мы воспринимаем окружающее, учимся, запоминаем, чувствуем и действуем), но и дает возможность по-новому взглянуть на себя в контексте биологической эволюции. Она позволяет понять, что человеческая психика развилась на основе веществ, которыми пользовались еще наши примитивные предки, и что необычайная консервативность молекулярных механизмов, регулирующих разнообразные жизненные процессы, свойственна также и нашей психике.
В связи с тем, как много биология психики может сделать для нашего личного и общественного благосостояния, научное сообщество сегодня единодушно: эта дисциплина станет для xxi века тем же, чем для xx века стала биология гена.
Помимо того что новая наука о психике обращается к ключевым вопросам, занимавшим умы западных мыслителей с тех пор, как более двух тысяч лет назад Сократ и Платон впервые взялись рассуждать о природе психических процессов, она также открывает возможность на практике разобраться в важных для нашей повседневной жизни вопросах, касающихся психики. Наука перестала быть прерогативой ученых. Теперь она – неотъемлемая часть современной жизни и культуры. Средства массовой информации почти каждый день передают сведения специального характера, едва ли доступные для понимания широкой общественности. Люди читают о потере памяти, вызываемой болезнью Альцгеймера, и о так называемой возрастной потере памяти и пытаются понять, часто безуспешно, разницу между этими двумя расстройствами, из которых первое неумолимо прогрессирует и приводит к смерти, а второе относится к сравнительно легким недугам. Они слышат о ноотропных препаратах, но плохо представляют себе, чего от них ожидать. Им говорят, что гены влияют на поведение и что нарушения в этих генах вызывают психические заболевания и неврологические расстройства, но не говорят, как это происходит. Наконец, люди читают, что различия способностей, связанные с полом, влияют на образование и карьеру мужчин и женщин. Означает ли это, что женский мозг отличается от мужского?
Большинству из нас в личной и общественной жизни придется принимать решения, имеющие отношение к биологическому пониманию психики. Некоторые из них потребуются в попытках разобраться в изменчивости нормального человеческого поведения, другие будут касаться более серьезных психических и неврологических расстройств. Поэтому совершенно необходимо, чтобы у каждого появился доступ к новейшим научным сведениям, представленным в ясной, доступной форме. Я разделяю убеждение, распространенное сегодня в научной среде, что мы обязаны обеспечить общественность такими сведениями.
Еще на раннем этапе своей работы в нейробиологии я осознал, что люди, не имеющие естественнонаучного образования, так же искренне стремятся что-то узнать про новую науку о человеческой психике, как мы, ученые, стремимся рассказать о ней. Это вдохновило меня и одного из моих коллег по Колумбийскому университету, Джеймса Шварца, на создание учебника “Принципы нейробиологии” (Principles of Neural Science) – вводного курса для колледжей и медицинских школ[2], над пятым изданием которого мы сейчас начинаем работать. После выхода книги меня стали приглашать выступать с лекциями о нейробиологии перед широкой аудиторией. Этот опыт убедил меня в том, что люди, не являющиеся учеными, готовы прикладывать усилия, чтобы разбираться в ключевых вопросах науки о мозге, если ученые готовы стараться разъяснять им эти вопросы. Поэтому я и написал книгу, которую вы держите в руках, как введение в новую науку о человеческой психике для широкого круга читателей, не имеющих специального образования. Моя задача состоит в том, чтобы разъяснить простыми словами, как из теорий и наблюдений ученых, занимавшихся той экспериментальной наукой, какой сегодня является биология, возникла новая наука о психике.
Еще один стимул для написания этой книги у меня появился осенью 2000 года, когда мой вклад в изучение работы памяти был отмечен Нобелевской премией по физиологии и медицине. Всем нобелевским лауреатам предлагают написать автобиографический очерк. Когда я писал свой, мне стало предельно ясно, что мой интерес к природе памяти восходит к событиям моего детства в Вене. С удивлением и благодарностью я осознал, что мои исследования позволили мне стать участником исторического этапа в развитии науки и войти в состав замечательного международного сообщества ученых-биологов. В ходе работы я познакомился с несколькими выдающимися учеными, бывшими в первых рядах революции, свершившейся недавно в биологии и науке о мозге, и взаимодействие с ними оказало огромное влияние на мои собственные исследования.
Поэтому в книге переплетены две сюжетные линии. Первая – это история замечательных научных достижений, сделанных в области исследований психики за последние пятьдесят лет. Вторая – описание моей жизни и научной карьеры за те же полвека. Я пытаюсь проследить, как события моего детства в Вене привели меня к изучению проблем памяти, хотя мой интерес сначала был сосредоточен на истории и психоанализе, затем на биологии мозга и, наконец, на клеточных и молекулярных механизмах памяти. Таким образом, эта книга – рассказ о моих собственных поисках природы памяти в их связи с одним из величайших дел современной науки – попыткой разобраться в клеточной и молекулярной природе нашей психики.
Часть первая
Нами управляет не прошлое как таковое, кроме, быть может, прошлого в биологическом смысле. Нами управляют образы прошлого. Эти образы часто так же высокоструктурированы и избирательны, как мифы. Образы и символические конструкты прошлого отпечатаны, почти наподобие генетической информации, в характере наших чувств. Каждая новая историческая эпоха отражается в картине и активной мифологии своего прошлого.
Джордж Стайнер “В замке Синей Бороды” (1971)
1. Личные воспоминания и биология памяти
Память всегда вызывала у меня восторженный интерес. Только подумайте: вы можете когда захотите вспомнить первый день в школе, первое свидание, первую любовь. При этом вы не только вспоминаете событие как таковое, но и чувствуете атмосферу, в которой оно происходило: картины, звуки и запахи, окружающих людей, время суток, разговоры, эмоции. Воспоминания о прошлом – что-то вроде мысленного путешествия во времени. Они освобождают нас от ограничений, накладываемых временем и пространством, и позволяют свободно двигаться по совершенно другим измерениям.
Мысленное путешествие во времени позволяет мне покинуть тот момент, когда я пишу это предложение, сидя у себя дома, в кабинете с видом на реку Гудзон, и перенестись на шестьдесят семь лет назад, на восток, через Атлантику, в Вену, где я родился и где у моих родителей был небольшой магазин игрушек.
Сегодня 7 ноября 1938 года – день, когда мне исполнилось девять лет. Мои родители только что вручили мне подарок, который я у них давно выпрашивал: игрушечную машинку на батарейках и с дистанционным управлением. Это чудесная блестящая машинка голубого цвета. Длинный провод соединяет ее мотор с рулем, с помощью которого я могу управлять ее движением, ее судьбой. Следующие два дня я вожу машинку по нашей маленькой квартире – через гостиную, к обеденному столу, за который родители, старший брат и я каждый вечер садимся ужинать, между его ножек, в спальню и обратно, с восторгом и все увереннее управляя ею.
Но это наслаждение продолжается недолго. Через два дня, ранним вечером, мы вздрагиваем от громкого стука в дверь. Я и сегодня помню этот стук. Отец еще не вернулся с работы в магазине. Мама открывает дверь. Входят двое мужчин. Сообщают, что они из полиции нацистов, и приказывают нам собрать какие-нибудь вещи и покинуть квартиру. Они дают адрес и говорят, что там нам предоставят жилье вплоть до дальнейших указаний. Мы с мамой берем только смену одежды и туалетные принадлежности, но моему брату Людвигу хватает ума захватить с собой две самые ценные для него вещи – его коллекции марок и монет.
Собрав эти немногие вещи, мы несколько кварталов идем к дому более состоятельной пары пожилых евреев, которых мы никогда раньше не видели. Их большая, хорошо меблированная квартира кажется мне роскошной, а хозяин дома производит сильное впечатление. Ложась спать, он надевает искусно расшитую ночную рубашку, а не пижаму, как мой отец, и спит в колпаке, защищающем прическу, и в специальной повязке на верхней губе, чтобы поддерживать форму усов. Хотя мы и вторглись в их частную жизнь, наши невольные хозяева заботливы и учтивы. При всем своем достатке они тоже напуганы и встревожены происходящим. Моей маме неловко навязываться им, она понимает, что их, должно быть, так же смущает внезапное появление троих незнакомцев, как нас смущает то, что мы здесь оказались. Я сконфужен и испуган все те дни, что мы живем в заботливо обустроенной квартире наших новых соседей. Но главный источник тревоги для нас связан с моим отцом: он внезапно исчез, и мы понятия не имеем, где он.
Через несколько дней нам наконец разрешают вернуться домой. Но квартира, в которую мы возвращаемся, не похожа на ту, что мы покинули. Ее разграбили и забрали все ценное: мамину шубу, драгоценности, столовое серебро, кружевные скатерти, что-то из костюмов отца и все, что мне дарили на день рождения, включая чудесную блестящую голубую машинку с дистанционным управлением. Зато, к нашей радости, 19 ноября, через несколько дней после того, как мы вернулись в свою квартиру, возвращается отец. Он рассказывает, что его задержали вместе с сотнями других мужчин-евреев и посадили в армейские казармы. Ему удалось доказать, что он был солдатом австро-венгерской армии, сражавшейся на стороне Германии в Первой мировой войне, и его отпустили.
Воспоминания тех дней – как я все с большей уверенностью вожу по квартире машинку, как слышу громкий стук в дверь, как нацистские полицейские приказывают нам переселиться в чужой дом, как мы находим свою квартиру разграбленной, как исчезает и как возвращается отец – самые сильные воспоминания моего детства. Впоследствии я понял, что эти события совпали с Хрустальной ночью, когда были разбиты не только окна наших синагог и магазина моих родителей в Вене, но и жизни бесчисленных евреев по всему немецкоговорящему миру.
Теперь я осознаю, что нашей семье повезло. Наше горе было ничтожно по сравнению с горем миллионов евреев, для которых не существовало иного выбора, кроме как остаться в нацистской Европе. По прошествии унизительного и страшного года мы с братом Людвигом, которому тогда было четырнадцать, смогли уехать из Вены в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, к бабушке и дедушке. Через шесть месяцев к нам присоединились и родители. Хотя наша семья всего год жила под властью нацистов, бедность, унижение и страх, испытанные мной в тот последний год в Вене, сделали его определяющим периодом моей жизни.
Трудно проследить, с какими именно событиями детства и юности связаны интересы и поступки взрослого человека. Но я невольно связываю свой последующий интерес к психике – к поведению людей, непредсказуемости их побуждений и формированию человеческой памяти – с моим последним годом в Вене. Одним из лейтмотивов для переживших Холокост евреев было “Никогда не забывать” – призыв к будущим поколениям быть бдительными к проявлениям антисемитизма, расизма и ненависти – явлений психики, которые сделали зверства нацистов возможными. Моя научная работа состоит в исследовании биологических основ этого девиза – процессов, проходящих у нас в мозге, которые позволяют нам помнить.
Воспоминания того года в Вене впервые нашли выражение, когда я был студентом колледжа в Соединенных Штатах, то есть еще до того, как заинтересовался естественными науками. Я проявлял ненасытный интерес к новейшей истории Австрии и Германии и собирался стать профессиональным историком. Я пытался разобраться в политическом и культурном контексте, в котором произошли те злосчастные события, хотел понять, как люди, любившие искусство и музыку, могли тут же совершать самые варварские и жестокие поступки. Я написал несколько семестровых работ по истории Австрии и Германии, в том числе исследовательскую курсовую о реакции немецких писателей на наступление нацизма.
Затем, в последний год моего обучения в колледже (1951–1952), у меня развился интерес к психоанализу – дисциплине, специализирующейся на копании в пластах личных воспоминаний и опыта, чтобы разобраться в зачастую иррациональных корнях побуждений, мыслей и поведения. В начале пятидесятых большинство практикующих психоаналитиков также были врачами. Поэтому я решил пойти в медицинскую школу. Там мне открылось, что в биологии совершается революция и что, похоже, скоро будут разгаданы фундаментальные тайны природы живых организмов.
Меньше чем через год после того, как в 1952-м я поступил в медицинскую школу, была открыта структура ДНК. Это прокладывало дорогу к научному изучению генетических и молекулярных клеточных механизмов. Со временем исследователям предстояло добраться и до клеток, из которых состоит человеческий мозг – самый сложный орган во вселенной. Именно тогда я впервые задумался о биологическом исследовании тайн обучения и памяти. Каким образом прошлое в Вене так прочно отпечаталось в нервных клетках моего мозга? Как сложное трехмерное пространство нашей квартиры, по которой я водил свою игрушечную машинку, оказалось прошито во внутренней модели окружающего трехмерного мира моего мозга? Каким образом испытанный ужас прожег в молекулярной и клеточной тканях моего мозга образ громкого стука в дверь нашей квартиры, причем так надежно, что я могу восстановить его в памяти в отчетливых визуальных и эмоциональных подробностях, хотя прошло уже более полувека? Эти вопросы, на которые предыдущее поколение еще не могло найти ответа, теперь стали поддаваться исследованию методами новой науки о психике.
Революция, поразившая мое воображение, когда я был студентом-медиком, превращала биологию из в значительной степени описательной области в последовательную естественную науку, стоящую на прочных генетических и биохимических основаниях. До прихода молекулярной биологии в этой науке царили три разнородные идеи: дарвиновская идея эволюции, согласно которой люди и другие животные постепенно развились из более примитивных предков, совсем на них непохожих, представление о генетических основах наследования особенностей строения тела и психики и теория, согласно которой клетка есть элементарная единица всего живого. Молекулярная биология объединила эти три идеи, сосредоточившись на работе генов и белков в отдельных клетках. Она признала ген единицей наследственности и движущей силой эволюционных изменений и признала продукты работы генов – белки – базовыми элементами функционирования клеток. Исследуя фундаментальные основы жизненных процессов, молекулярная биология открыла, что общего имеют между собой все формы живого. Еще в большей степени, чем квантовая механика или космология – две другие области науки, в которых в xx веке произошли великие революции, – молекулярная биология привлекает внимание своей непосредственной связью с нашей повседневной жизнью. Она исследует самые основы нашей природы – того, что мы собой представляем.
За пятьдесят лет моей научной карьеры постепенно возникла новая биологическая наука о психике. Первые шаги в этом направлении были сделаны в шестидесятые, когда философия сознания, бихевиористская психология (наука о простых формах поведения у подопытных животных) и когнитивная психология (наука о сложных явлениях человеческой психики) слились воедино, положив начало современной когнитивной психологии. Новая дисциплина стремилась найти общее в сложных психических процессах, свойственных животным – от мышей и обезьян до людей. Впоследствии такой подход распространили и на проще устроенных беспозвоночных животных – улиток, пчел и мух. Современная когнитивная психология имеет и строгую экспериментальную программу, и широкую теоретическую основу. Она охватила широкий круг поведенческих форм, от простых рефлексов беспозвоночных до высших психических процессов человека, таких как внимание, сознание и свободная воля, которыми традиционно занимался психоанализ.
В семидесятые годы когнитивная психология (наука о психике) слилась с нейробиологией (наукой о мозге). В результате возникла когнитивная нейробиология – дисциплина, которая внедрила биологические методы исследования психических процессов в современную когнитивную психологию. В восьмидесятые нейробиология получила колоссальный толчок благодаря томографии мозга – технологии, позволившей нейробиологам воплотить в жизнь свою давнюю мечту заглянуть внутрь человеческого мозга и увидеть, как активируются различные его участки, когда человек вовлечен в высшие мыслительные процессы: воспринимает зрительные образы, представляет себе тот или иной путь в пространстве или совершает произвольные движения. Томография мозга работает за счет измерения показателей нервной активности: позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) измеряет потребление мозгом энергии, а функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ) – использование мозгом кислорода. В начале восьмидесятых годов когнитивная нейробиология вобрала в себя также молекулярную биологию, в результате чего возникла новая наука о психике – молекулярная биология когнитивных функций, которая позволила на молекулярном уровне исследовать такие психические явления, как мышление, чувства, обучение и память.
Любая революция имеет свои истоки в прошлом, и революция, апогеем которой стало возникновение новой науки о психике, не исключение. Хотя ключевая роль биологии в изучении психических процессов и была новшеством, ее способность влиять на наши представления о самих себе проявлялась и ранее. Еще в середине xix века Чарльз Дарвин доказывал, что мы представляем собой не уникальное творение, а результат постепенной эволюции наших предков, низших животных. Более того, он утверждал, что можно проследить происхождение всего живого от общих предков вплоть до самого возникновения жизни. Он высказал и еще более смелую идею, что движущей силой эволюции является не сознательный, разумный или божественный замысел, а “слепой” естественный отбор – абсолютно механический процесс сортировки методом проб и ошибок случайных продуктов наследственной изменчивости.
Идеи Дарвина открыто бросали вызов учению большинства религий. Поскольку изначальной целью биологии было объяснение божественного замысла, согласно которому устроена живая природа, дарвиновские идеи разрывали историческую связь религии и биологии. В итоге современная биология предлагает нам принять, что живые существа со всей их красотой и бесконечным разнообразием представляют собой лишь продукты постоянно обновляющихся комбинаций нуклеотидов – элементов, из которых состоит ДНК и ее генетический код. Эти комбинации были подвержены отбору на протяжении миллионов лет борьбы живых организмов за выживание и успешное размножение.
Новая биологическая наука о психике может вызвать еще большее возмущение, поскольку предполагает, что не только тело, но и психика и те особые вещества, работа которых лежит в основе высших психических процессов – осознания себя и других, прошлого и будущего, – возникли в ходе эволюции наших животных предков. Более того, новая наука исходит из того, что само сознание есть биологический процесс, который нам в конечном итоге предстоит объяснить, исследуя пути молекулярных сигналов при взаимодействии используемых популяциями нервных клеток.
Большинство из нас охотно готово принять результаты экспериментальных научных исследований в их приложении к другим частям тела: например, нас не смущает знание того, что сердце не является вместилищем чувств, что это мышечный орган, который качает кровь по кровеносной системе. Однако сама мысль о том, что человеческое сознание и духовное начало происходят из работы материального органа, мозга, для многих оказывается новой и пугающей. Им сложно поверить, что мозг представляет собой вычислительный центр, обрабатывающий информацию, и что своими удивительными возможностями он обязан не мистической тайне, а сложности – огромному числу и разнообразию нервных клеток и взаимодействий между ними.
Для биологов, изучающих мозг, возможности и красота человеческого сознания нисколько не умаляются применением экспериментальных методов к поведению человека. Не боятся биологи и того, что редукционистский анализ, позволяющий выделять составные части мозга и формы его активности, будет унижать достоинство человеческого сознания. Напротив, большинство ученых считает, что биологические исследования, скорее всего, заставят нас с еще большим уважением относиться к сложности человеческой психики и ее возможностям.
Более того, объединив бихевиористскую и когнитивную психологию, нейробиологию и молекулярную биологию, новая наука о психике может обратиться к философским вопросам, над которыми великие умы бились не одно тысячелетие. Как мы приобретаем знания об окружающем мире? В какой степени психика наследуется? Накладывают ли на нас врожденные психические функции строго определенный способ восприятия окружающего мира? Какие материальные изменения происходят в мозге в процессе обучения и запоминания? Как событие, которое длится минуты, преобразуется в воспоминание, которое сохраняется на всю жизнь? Подобные вопросы перестали быть прерогативой умозрительной метафизики и стали областями бурного экспериментального исследования.
Особенно заметные достижения новой науки о человеческой психике относятся к изучению молекулярных механизмов работы памяти. Память, то есть способность получать и хранить информацию, простую, как бытовые детали повседневной жизни, и сложную, как абстрактные знания по географии или алгебре, составляет одну из самых замечательных сторон человеческого поведения. Способность памяти одновременно разбираться с несколькими разными фактами позволяет решать задачи, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и играет ключевую роль в разрешении любых других проблем. В более широком смысле память обеспечивает целостность нашей жизни. Она дает нам последовательную картину прошлого, в контексте которой мы воспринимаем события настоящего. Даже если эта картина не рациональна и не точна, ей свойственно постоянство. Без связывающей силы памяти наш опыт раскололся бы на столько фрагментов, сколько мгновений было в нашей жизни. Без возможности мысленно путешествовать во времени, которую дает память, мы были бы лишены осознания своей личной истории, не могли бы вспомнить радости, которые служат светящимися вехами нашей жизни. Мы то, что мы есть, во многом благодаря памяти и способности к обучению.
Механизмы нашей памяти лучше всего служат нам тем, что позволяют легко вспоминать радостные события жизни и затушевывают эмоциональные следы несчастий и разочарований. Но бывает и так, что ужасные воспоминания преследуют человека и отравляют ему жизнь, как это происходит при посттравматическом стрессовом расстройстве – недуге, от которого страдают некоторые люди, пережившие Холокост, войны, насилие или стихийные бедствия.
Память обеспечивает не только целостность жизни нас как личностей, но также передачу культуры, преемственность развития обществ на протяжении многих веков. Хотя размеры и строение человеческого мозга не изменились с тех пор, как в Африке порядка 150 000 лет назад впервые появился вид Homo sapiens, способность к обучению отдельных людей и их историческая память за века выросли благодаря взаимному обучению, то есть передаче культуры. Культурная эволюция – небиологический способ адаптации – идет параллельно с биологической эволюцией, обеспечивая передачу знаний о прошлом и адаптивных форм поведения из поколения в поколение. Все человеческие достижения с древнейших времен до наших дней представляют собой результат взаимной передачи воспоминаний, накопленных за века, будь то письменные источники или бережно хранимая устная традиция.
Подобно тому как взаимная передача воспоминаний обогащает каждую жизнь, потеря памяти разрушает наше ощущение своего “я”, разрывает связь с прошлым и с другими людьми и может поразить как развивающегося ребенка, так и зрелого взрослого человека. Синдром Дауна, болезнь Альцгеймера и возрастная потеря памяти – широко известные примеры многочисленных заболеваний, которые сказываются на памяти. Теперь мы знаем, что нарушения памяти играют роль и в психических расстройствах: шизофрения, депрессия и неврозы несут дополнительное бремя нарушений памяти.
Новая наука о человеческой психике дает нам надежду на то, что, когда мы лучше разберемся в биологии памяти, мы найдем и лучшие средства для лечения как потери памяти, так и навязчивых тяжелых воспоминаний. Более того, новая наука, судя по всему, получит практическое применение и во многих других областях медицины. Но ее миссия не ограничивается поиском средств от тяжелых болезней. Новая наука о психике стремится проникнуть в тайны сознания, в том числе в его самую глубокую тайну – как мозг каждого человека создает его осознание собственного неповторимого “я” и ощущение свободной воли.
2. Детство в Вене
В то время, когда я появился на свет, Вена была в немецкоговорящем мире важнейшим культурным центром, с которым мог соперничать только Берлин, столица Веймарской республики. Вена славилась великими достижениями в музыке и искусстве и была родиной научной медицины, психоанализа и современной философии. Кроме того, замечательные образовательные традиции заложили фундамент для экспериментов в области литературы, науки, музыки, архитектуры, философии и искусства, и к этим венским экспериментам восходят многие идеи современности. Вена была родным домом для пестрого набора мыслителей, в том числе Зигмунда Фрейда, основателя психоанализа, выдающихся писателей, таких как Роберт Музиль и Элиас Канетти, и создателей современной философии, в том числе Людвига Витгенштейна и Карла Поппера.
Венская культура была явлением необычайной силы, и евреи активно в ней участвовали. Моя жизнь во многом определилась крушением венской культуры в 1938 году – как событиями, которым я сам был свидетелем, так и тем, что я узнал о Вене и ее истории впоследствии. Эти знания углубили мое преклонение перед величием Вены и заострили боль утраты, вызванную крахом этого величия. Боль усугубляло то, что Вена была моим родным городом, моим домом.
2–1. Мои родители, Шарлотта и Герман Кандель, в 1923 году, в год своей свадьбы. (Фото из архива Эрика Канделя.)
Мои родители встретились в Вене и поженились в 1923 году (рис. 2–1), вскоре после чего отец открыл свой магазин игрушек в 18-м районе на Кучкергассе (рис. 2–2), оживленной улице, на которой находился также продуктовый рынок Кучкер Маркт. Мой брат Людвиг родился в 1924 году, а я – пять лет спустя (рис. 2–3). Мы жили в маленькой квартире на Северингассе в 9-м районе, в квартале, населенном людьми среднего достатка, возле медицинского факультета и недалеко от дома номер 19 по Берггассе, где жил Зигмунд Фрейд. Мои родители работали в магазине, и у нас сменилось несколько домработниц.
2–2. Магазин моих родителей на Кучкергассе, где продавались игрушки, чемоданы и сумки. Моя мама и я, а может быть, мой брат. (Фото из архива Эрика Канделя.)
2–3. Мы с братом в 1933 году. Мне здесь три года, а Людвигу – восемь. (Фото из архива Эрика Канделя.)
Школа, в которую я ходил, располагалась на улице с подходящим названием Шульгассе[3], на полпути между нашим домом и магазином моих родителей. Как и в большинстве венских начальных школ, или Volksschulen, в этой школе была традиционная, весьма обширная учебная программа. Я пошел по стопам исключительно одаренного брата, у которого были те же учителя, что и у меня. Все время, пока мы жили в Вене, я чувствовал, что мои способности не идут ни в какое сравнение с блистательным интеллектом брата. К тому времени, когда я начал читать и писать, он взялся за изучение греческого, освоил игру на фортепиано и научился собирать радиоприемники.
Людвиг как раз закончил конструировать свой первый коротковолновый приемник за несколько дней до триумфального вступления Гитлера в Вену в марте 1938 года. Вечером 13 марта мы с братом слушали через наушники, как диктор рассказывал о входе германских войск в Австрию, начавшемся утром 12 марта. Гитлер проследовал за своими войсками в тот же день и пересек границу в районе своего родного города Браунау-на-Инне, откуда направился дальше, в Линц. Из 120 000 жителей Линца почти 100 000 вышли встречать его, скандируя: “Хайль Гитлер!” На заднем плане из приемника раздавалась “Песня Хорста Весселя” – гипнотизирующий марш нацистов, который даже мне показался завораживающим. Днем 14 марта Гитлер со своей свитой достиг Вены, где на Хельденплац, большой центральной площади, двухсоттысячная толпа, исполненная дикого восторга, приветствовала его как героя, объединившего немецкий народ (рис. 2–4). Нас с братом эта всеобщая поддержка человека, раздавившего еврейство Германии, привела в ужас.
2–4. Прибытие Гитлера в Вену в марте 1938 года. Его приветствуют восторженные толпы, в том числе группы девочек, размахивающих нацистскими флагами со свастикой (вверху). Гитлер выступает перед венской публикой на Хельденплац (внизу). Послушать его речь пришли 200 000 человек – это был самый многолюдный митинг в истории Вены. (Фотографии любезно предоставлены Архивом документов австрийского сопротивления и архивами Гуверовского института.)
Гитлер ожидал, что австрийцы будут выступать против германской аннексии и требовать, чтобы Австрия осталась сравнительно независимым государством под протекторатом Германии. Но оказанный ему необычайный прием, даже со стороны людей, которые за сорок восемь часов до этого были его врагами, убедил его, что Австрия с готовностью и даже охотно примет эту аннексию. Казалось, что все, от скромных лавочников до самых высокопоставленных ученых мужей, теперь открыто встали на сторону Гитлера. Влиятельный кардинал Теодор Иннитцер, архиепископ Вены, некогда добрый защитник евреев, приказал всем церквям города поднять нацистские флаги и звонить в колокола в честь прибытия Гитлера. Кардинал лично заверил его в преданности как собственной, так и всех австрийских католиков, то есть большинства населения страны. Он пообещал, что австрийские католики станут “самыми верными сынами великого Рейха, в объятия которого они вернулись в этот исторический день”. Просил архиепископ только одного – признать привилегии церкви и гарантировать сохранение ее роли в обучении подрастающего поколения.
В ту ночь начался кромешный ад, продолжавшийся не один день. Вдохновляемые австрийскими нацистами толпы венцев – и взрослых, и молодежи – охватило националистическое буйство, и с криками “Бей жидов! Хайль Гитлер!” они бросились избивать евреев и громить их имущество. Евреев также унижали, заставляя их опускаться на колени и оттирать улицы, чтобы уничтожить все следы политических граффити, призывавших противостоять аннексии (рис. 2–5). Моего отца тогда заставили с помощью зубной щетки отмывать последнее напоминание о независимости Австрии – слово “да”, написанное венскими патриотами, призывавшими сограждан голосовать за свободу Австрии и против аннексии. Других евреев заставляли брать ведерки с краской и помечать магазины, которыми владели евреи, звездой Давида или словом Jude (еврей). Иностранные комментаторы, давно привыкшие к тактике, применявшейся нацистами в Германии, были поражены жестокостью, проявленной австрийцами. В книге “Вена и венские евреи” Джордж Беркли цитирует германского штурмовика: “венцам удалось за одну ночь сделать то, чего нам в Германии не удалось сделать <…> до сего дня. В Австрии нет нужды организовывать бойкот евреев – народ начал его по собственному почину”.
2–5. Евреев заставляют оттирать улицы Вены, счищая политические граффити, призывавшие сохранить свободу Австрии. (Фотография любезно предоставлена фотоархивом мемориала “Яд ва-Шем”.)
Немецкий драматург Карл Цукмайер, переехавший в Австрию в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, писал в своей автобиографии, что Вена в первые дни после аннексии превратилась “в кошмарное полотно Иеронима Босха”. Казалось, что “врата ада разверзлись и изрыгнули из себя самых низких, самых отвратительных, самых ужасных демонов. Мне не раз за свою жизнь доводилось своими глазами видеть человеческий ужас и панику. Я принимал участие в дюжине сражений Первой мировой, перенес заградительный огонь и отравляющий газ, ходил из траншей в атаку. Я был свидетелем беспорядков послевоенной эпохи, подавления восстаний, уличных боев, драк в залах собраний. Я был в рядах очевидцев гитлеровского путча 1923 года в Мюнхене. Я видел ранний период правления нацистов в Берлине. Но ничто не могло сравниться с теми днями в Вене. То, что нахлынуло тогда на Вену, не имело никакого отношения к захвату власти в Германии. <…> Это был поток зависти, ревности, озлобления, слепой и безжалостной жажды мести. Все лучшие инстинкты были подавлены, <…> лишь только пробудившиеся от спячки массы вырвались на свободу. <…> Это был настоящий шабаш толпы. Все, что напоминает о человеческом достоинстве, было похоронено”.
На следующий день после того, как Гитлер вошел в Вену, от меня отвернулись все одноклассники, кроме одной девочки, тоже еврейки, – других евреев у нас в классе не было. В парке, где я играл, надо мной насмехались и издевались, меня толкали и били. В конце апреля 1938 года всех еврейских детей выгнали из моей начальной школы и перевели в спецшколу, где учителя были евреями, на Панцергассе, в 19-м районе, довольно далеко от того места, где мы жили. Из Венского университета выгнали почти всех евреев – более 40 % студентов и 50 % преподавательского состава. Эта враждебность к евреям, далеко не худшим примером которой было обращение со мной, достигла своего апогея в ужасе Хрустальной ночи.
Мои отец и мать переехали в Вену еще до Первой мировой войны, город тогда был совсем другим, намного более терпимым. Моя мать, Шарлотта Цимельс, родилась в 1897 году в Коломые, городке в Галиции на реке Прут, в котором было около 43 000 жителей. Этот соседний с Румынией регион Австро-Венгерской империи был тогда частью Польши, а теперь часть Украины1. Почти половину населения Коломыи составляли евреи, и ее еврейское сообщество обладало яркой культурой. Моя мать выросла в хорошо образованной семье среднего достатка. Хотя она проучилась в Венском университете всего год, она умела говорить и читать не только по-немецки и по-польски, но и по-английски. Мой отец, Герман Кандель, который сразу привлек внимание моей матери, находившей его красивым, жизнерадостным и полным юмора, родился в 1898 году в бедной семье в городке Олеско, в котором было около 25 000 жителей, неподалеку от Львова (Лемберга) – теперь это тоже часть Украины. Его семья переехала в Вену в 1903 году, когда ему было пять лет. Прямо со школьной скамьи он был призван в австро-венгерскую армию, сражался в Первой мировой войне, был ранен в бою шрапнелью. После войны он начал зарабатывать на жизнь и так никогда и не окончил школу.
Я родился через одиннадцать лет после распада Австро-Венгерской империи, последовавшего за ее поражением в Первой мировой. До войны это была вторая по размеру страна в Европе, которую превосходила по площади лишь Россия. Империя простиралась на северо-восток до территорий, входящих сейчас в состав Украины, восточные провинции включали территорию нынешних Чехии и Словакии, а в состав южных входили Венгрия, Хорватия и Босния. После войны Австрия резко уменьшилась в размерах, потеряв все иноязычные провинции и сохранив лишь немецкоязычное ядро. В связи с этим резко уменьшились ее население (с 54 млн до 7 млн) и политическое значение.
И все же Вена моего детства, население которой составляло почти два миллиона человек, продолжала жить бурной интеллектуальной жизнью. Мои родители и их друзья радовались, когда городская администрация, возглавляемая социал-демократами, провела весьма успешную и получившую широкое одобрение программу реформ социально-экономической сферы и здравоохранения. Вена была процветающим культурным центром. По всему городу звучала музыка Густава Малера и Арнольда Шенберга, а также Моцарта, Бетховена и Гайдна, и все это на фоне смелых экспрессионистских картин Густава Климта, Оскара Кокошки и Эгона Шиле.
Однако при всем этом культурном процветании Вена тридцатых годов была столицей жестокой, авторитарной политической системы. Я тогда был слишком мал, чтобы понимать это. Лишь позже, в пору моей более беззаботной юности в Соединенных Штатах, я понял всю жестокость условий, сформировавших мои первые впечатления о мире.
Хотя евреи жили на территории нынешней Вены более тысячи лет и сыграли важную роль в развитии венской культуры, антисемитизм был привычным явлением. В начале xx века Вена была единственным крупным европейским городом, где антисемитизм составлял основу политической платформы партии власти. Популист и антисемит Карл Люгер, венский бургомистр с 1897 по 1910 год, в своих зажигательных выступлениях уделял особое внимание “богатым евреям” – среднему классу венского еврейства. Этот средний класс сформировался после принятия в 1867 году новой конституции, которая гарантировала равные гражданские права евреям и другим меньшинствам и давала им свободу открыто исповедовать свою религию.
Несмотря на эти положения новой конституции, дискриминация евреев, которые составляли около 10 % всего населения города и почти 20 % населения основной его части (девяти центральных районов), продолжалась повсюду: в гражданской службе, в армии, в дипломатическом корпусе и во многих аспектах общественной жизни. Уставы большинства клубов и спортивных организаций содержали пункт, не допускавший принятие евреев как неарийцев. С 1924 года до ее запрета в 1934 году в Австрии существовала нацистская партия с подчеркнуто антисемитской платформой. В частности, в 1928 году эта партия протестовала против исполнения в Венском оперном театре оперы еврея Эрнста Кшенека (рис. 2–6).
Тем не менее венские евреи, в том числе мои родители, обожали свой город. Историк Беркли, изучавший жизнь евреев в Вене, очень верно подметил: “Самая злая ирония состоит в том, какую горячую привязанность испытывали многие евреи к городу, на протяжении многих лет демонстрировавшему им свою глубоко укорененную ненависть”. Впоследствии я узнал от родителей, почему Вена вызывала у них такие сильные чувства. Начать с того, что она была очень красива: музеи, оперный театр, университет, Рингштрассе (главный венский проспект), парки и дворец Габсбургов – все это не последние произведения архитектуры. Из города нетрудно добраться до расположенного на его окраине знаменитого Венского леса, а также до Пратера – почти волшебного парка аттракционов с огромным колесом обозрения, впоследствии прославленным фильмом “Третий человек”. “После вечера в театре или первомайского праздника, проведенного в Пратере, житель Вены может с чистой совестью считать свой город центром вселенной. Где еще внешний облик так притягательно подслащает реальность?” – пишет историк Уильям Джонстон. Хотя мои родители и не были высокообразованны, они чувствовали свою связь с культурными ценностями Вены, особенно с театром, оперой и с мелодичным венским наречием, на котором я говорю по сей день.
2–6. Плакат австрийской нацистской партии, напечатанный в 1928 году, за десять лет до вступления Гитлера в Вену, протестующий против исполнения в Венском оперном театре оперы еврея Эрнста Кшенека: “Наш оперный театр, ведущее художественное и образовательное учреждение мира, гордость всех венцев, стал жертвой наглого еврейско-негритянского осквернения. <…> протестуйте вместе с нами против этого неслыханного в Австрии позора”. (Копия любезно предоставлена Венской библиотекой в ратуше.)
Мать и отец разделяли ценности большинства венских родителей: они хотели, чтобы их дети чего-то достигли в профессиональной сфере, в идеале – в какой-нибудь интеллектуальной области. Их устремления были типично еврейскими. Со времени разрушения Второго Храма в Иерусалиме в 70 году н. э., когда Йоханан бен Закай переехал в приморский город Явне и основал там первую академию для изучения Торы, евреи были книжным народом. Считалось, что каждый человек независимо от финансового положения или социального класса должен быть грамотным, чтобы читать молитвенник и Тору. К концу xix века еврейские родители, стремившиеся подняться по социальной лестнице, начали заботиться о том, чтобы их дочери и сыновья получили хорошее образование. После этого жизненная задача состояла не просто в том, чтобы добиться материального благополучия, но, скорее, чтобы, используя материальное благополучие, подняться на более высокую культурную ступень. Не было ничего важнее, чем Bildung – стремление к образованию и культуре. Даже для бедной еврейской семьи в Вене было важно, чтобы хоть один сын стал успешным музыкантом, юристом, врачом или, еще лучше, университетским преподавателем.
Вена была одним из немногих европейских городов, где стремление еврейского сообщества к культуре полностью совпадало с устремлениями большинства горожан-неевреев. После неоднократных поражений австрийских войск в конфликтах с Пруссией – сначала в войне за австрийское наследство с 1740 по 1748 год, а затем в Австро-прусской войне 1866 года – Габсбурги (правящая династия Австрии) потеряли всякую надежду на военное господство среди немецкоговорящих государств. По мере убывания их политической и военной мощи стремление к территориальному превосходству сменилось у них жаждой культурного превосходства. Снятие ряда ограничений после принятия новой конституции привело к массовой миграции евреев и других меньшинств со всех краев империи в Вену в конце xix века. Вена стала домом для людей, приехавших из Германии, Словении, Хорватии, Боснии, Венгрии, северной Италии, с Балкан и из Турции. С 1860 по 1880 год численность населения Вены увеличилась с 500 000 до 700 000 человек. Горожане среднего класса начали чувствовать себя гражданами мира и с ранних лет приучали своих детей к культуре. Воспитываемые “в музеях, театрах и концертных залах новой Рингштрассе, венцы среднего класса вбирали в себя культуру не как украшение жизни или знак социального статуса, но как воздух, которым они дышали”, писал Карл Шорске, историк венской культуры. Карл Краус, великий сатирик, социальный и литературный критик, сказал про Вену, что “ее улицы вымощены не асфальтом, а культурой”.
Не только культурная, но и чувственная жизнь Вены была бурной. Самые теплые воспоминания моего детства – типично венские: во-первых, это умеренное, но всегда ощущавшееся буржуазное довольство, связанное с тем, что я рос в дружной, сплоченной семье, регулярно совместно проводившей традиционные выходные, а во-вторых, мгновение эротического блаженства, связанное с нашей соблазнительной домработницей Митци.
Этот эротический опыт был совсем как в одном из рассказов Артура Шницлера, в котором юношу, представителя венского среднего класса, знакомит с сексуальностью ein ssses Mdchen (очаровательная девушка), не то служанка в его доме, не то работающая поблизости. Андреа Ли писала в журнале The New Yorker, что одним из критериев, которым пользовались буржуазные семьи в Австро-Венгрии, выбирая девушек для работы по дому, было условие, чтобы они подходили для лишения девственности подрастающих в семье юношей, отчасти для того, чтобы отвлечь их от возможного тяготения к гомосексуализму. Вспоминая прошлое, я с интересом отмечаю, что опыт, который вполне мог восприниматься другими как связанный с эксплуатацией, для меня не означал ничего подобного.
Мой первый эротический опыт был связан c Митци – привлекательной, чувственной девушкой лет двадцати пяти. Это случилось однажды днем, мне было восемь лет, я выздоравливал после простуды. Она присела на край постели и прикоснулась к моему лицу. Я дал понять, что мне это приятно, и тогда она расстегнула блузку, обнажив свой большой бюст, и спросила, не хочу ли я ее потрогать. Я едва понимал, о чем она говорит, но ее попытка соблазнения подействовала на меня, и я вдруг почувствовал то, что не чувствовал никогда прежде.
Я начал, под некоторым ее руководством, исследовать ее тело, но она вдруг смутилась и сказала, что мы должны остановиться, иначе я могу забеременеть. Но как я мог забеременеть? Мне было прекрасно известно, что дети рождаются только у женщин. Откуда у мальчика может родиться ребенок?
– Из пупка, – ответила она. – Доктор посыпает его порошком, и пупок развязывается, чтобы ребенок мог выйти наружу.
Какая-то часть меня знала, что это невозможно. Но другая часть была не столь уверена, и хотя это казалось неправдоподобным, меня слегка встревожили возможные последствия. Меня беспокоило, что скажет мама, если я забеременею. Эта обеспокоенность и изменившееся настроение Митци положили конец моему первому сексуальному опыту. Но с тех пор Митци продолжала открыто говорить мне о своих сексуальных желаниях и что могла бы осуществить их со мной, будь я постарше.
Но Митци не стала хранить мне верность, дожидаясь, пока я достигну возраста, соответствующего ее требованиям. Через несколько недель после нашего краткого рандеву в моей постели она сошлась с ремонтником, приходившим чинить нашу газовую плиту. Месяц или два спустя она убежала с ним в Чехословакию. После этого я много лет считал, что убежать в Чехословакию – это то же самое, что отдаться чувствам и посвятить этим радостям жизнь.
Характерными чертами нашего буржуазного семейного счастья были еженедельная игра в карты в доме моих родителей, семейное празднование еврейских праздников и летние каникулы. По воскресеньям тетя Минна, младшая сестра моей мамы, и дядя Сруль, ее муж, приходили к нам вечером пить чай. Мой отец и Сруль проводили бо́льшую часть времени за карточной игрой в пинокль, в которую мой отец играл превосходно и делал это очень оживленно и весело.
По случаю Песаха наша семья собиралась вместе в доме дедушки и бабушки, Герша и Доры Цимельс. Мы читали Хаггаду – рассказ о бегстве евреев из египетского плена, а затем наслаждались заботливо приготовленными моей бабушкой пасхальными блюдами, венцом была ее фаршированная рыба, которую я по-прежнему считаю самым вкусным блюдом на свете. Я особенно хорошо запомнил Песах 1936 года. За несколько месяцев до праздника тетя Минна вышла замуж за дядю Сруля, и я тоже присутствовал на свадьбе – помогал нести шлейф ее прекрасного платья. Сруль был довольно богат. Он основал успешное кожевенное предприятие, и его свадьба с Минной была такой изысканной, как ничто виденное мною раньше. Поэтому я был очень доволен доверенной мне ролью.
В первый пасхальный вечер я простодушно рассказал Минне, как мне понравилась ее свадьба, где все были так красиво одеты и еда была так сервирована. Я сказал, что эта свадьба была так прекрасна, что я хочу, чтобы у нее скоро была еще одна, чтобы я мог снова испытать это особое ощущение. Чувства Минны по отношению к Срулю, как я узнал впоследствии, оказались несколько противоречивыми. Она считала, что превосходит его в интеллектуальном и социальном плане, и поэтому сразу подумала, что я говорю не о самом событии, а о выборе ее спутника жизни. Она решила, что мне хотелось бы, чтобы она вышла замуж за кого-нибудь другого – быть может, более соответствующего ее уму и происхождению. Минна страшно рассердилась и прочитала мне длинную лекцию о святости брачных уз. Как я посмел предположить, что она так скоро захочет сыграть еще одну свадьбу, выйти замуж за кого-то другого? Как я узнал впоследствии, читая книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, фундаментальный принцип динамической психологии гласит, что бессознательное никогда не лжет.
Август, время летних каникул, мои родители и мы с Людвигом всегда проводили в Менихкирхене – фермерской деревушке в пятидесяти милях к югу от Вены. В июле 1934-го мы как раз готовились к отъезду туда, когда канцлер Австрии Энгельберт Дольфус был убит группой австрийских нацистов, переодетых полицейскими. Это была первая буря, отпечатавшаяся в моем зарождавшемся политическом сознании.
Подражая Муссолини, Дольфус, избранный канцлером в 1932 году, добился слияния христианских социалистов с Отечественным фронтом и установил авторитарный режим, выбрав в качестве эмблемы разновидность обычного креста, а не свастику, тем самым выражая приверженность христианским, а не нацистским идеалам. Чтобы обеспечить себе контроль над правительством, он отменил австрийскую конституцию и объявил вне закона все оппозиционные партии, включая нацистов. Хотя Дольфус и противостоял стремлению австрийского национал-социализма создать пангерманское государство, которое объединило бы весь немецкоговорящий народ, его отмена старой конституции и конкурирующих политических партий открыла двери для прихода Гитлера. После убийства Дольфуса, в течение первых лет правления его преемника, Курта фон Шушнига, австрийская нацистская партия была загнана еще глубже в подполье. Тем не менее она продолжала набирать сторонников, особенно среди учителей и других гражданских служащих.
Гитлер был австрийцем и жил в Вене. Он переехал в столицу из своего родного города Браунау-на-Инне в 1908 году в возрасте девятнадцати лет в надежде стать художником. Хотя у него и был некоторый талант живописца, после нескольких попыток ему так и не удалось поступить в Венскую академию художеств. Но в Вене он попал под влияние Карла Люгера. Именно на примере Люгера Гитлер впервые познакомился с властью ораторской демагогии и политической выгодой антисемитизма.
Гитлер с юных лет мечтал об объединении Австрии и Германии. В связи с этим программа немецкой нацистской партии, отчасти бравшей за образец австрийских нацистов, с самого своего возникновения в двадцатых годах включала пункт об объединении немецкоговорящего народа в Великую Германию. Осенью 1936 года Гитлер начал претворять этот пункт в жизнь. Придя в 1933 году к власти в Германии, в 1935-м он восстановил воинскую повинность, а в следующем году приказал войскам вновь занять Рейнскую область – немецкоговорящий регион, по условиям Версальского договора демилитаризованный и поставленный под надзор Франции. После этого его выступления стали агрессивнее, и теперь в них содержалась угроза нападения на Австрию. Шушниг мечтал умиротворить Гитлера, в то же время сохранив независимость своей страны, поэтому он отреагировал на угрозы, попросив Гитлера о встрече. Они встретились 12 февраля 1938 года в Берхтесгадене, вблизи австрийской границы, где Гитлер, движимый сентиментальными побуждениями, устроил себе частную резиденцию.
Демонстрируя силу, Гитлер прибыл на эту встречу в сопровождении двух генералов и угрожал вторжением в Австрию, если Шушниг не отменит ограничения, наложенные на деятельность австрийской нацистской партии, и не назначит троих нацистов на ключевые министерские должности. Шушниг отказался. Но Гитлер усилил давление, и в тот же день обессиленный канцлер в конце концов сдался, согласившись легализовать нацистскую партию, выделить ей два министерских портфеля, освободить нацистов, которых держали под стражей как политических заключенных. Но соглашение между Шушнигом и Гитлером только увеличило жажду власти у австрийских нацистов. Ставшие теперь группой немалых размеров, они вышли из подполья и бросили вызов правительству Шушнига, устроив несколько выступлений, которые полиции оказалось непросто подавить. Перед лицом угрозы гитлеровской агрессии извне и восстания австрийских нацистов изнутри Шушниг перешел в наступление и решительно объявил о референдуме, который должен был состояться 13 марта, всего через месяц после его встречи с Гитлером. Вопрос, вынесенный на этот референдум, был прост: должна ли Австрия остаться свободной и независимой, да или нет?
Этот смелый шаг Шушнига, высоко оцененный моими родителями, встревожил Гитлера, так как казалось почти несомненным, что референдум закончится победой сторонников независимости Австрии. Гитлер отреагировал, мобилизовав войска и пригрозив вторжением, если Шушниг не перенесет референдум, не подаст в отставку и не сформирует правительство, которое должен был возглавить новый канцлер – австрийский нацист Артур Зейсс-Инкварт. Шушниг обратился за помощью к Великобритании и Италии – двум странам, которые до этого поддерживали независимость Австрии. К ужасу венских либералов, таких как мои родители, ни одна из этих стран не отреагировала. Покинутый потенциальными союзниками, стремясь избежать бессмысленного кровопролития, вечером 11 марта Шушниг подал в отставку.
Несмотря на то что президент Австрии согласился на все требования Германии, на следующий день Гитлер начал вторжение.
Дальнейшее оказалось сюрпризом. Вместо толп возмущенных австрийцев Гитлера восторженно встречало ощутимое большинство населения. Как отметил Джордж Беркли, это резкое превращение граждан, еще вчера кричавших о своей верности Австрии и поддерживавших Шушнига, в людей, приветствующих гитлеровские войска как “германских братьев”, нельзя объяснить просто выходом десятков тысяч нацистов из подполья. То, что произошло, представляло собой скорее одно из “самых быстрых и полных массовых обращений в новую веру” во всей человеческой истории. Как писал об этом впоследствии Ханс Ружичка, “это – люди, которые рукоплескали императору, а затем проклинали его, которые приветствовали демократию после свержения императора, а затем аплодировали [дольфусовскому] фашизму, когда к власти пришел новый режим. Сегодня такой человек нацист, завтра он будет кем-нибудь еще”.
Австрийская пресса не стала исключением. В пятницу 11 марта Reichspost, одна из ведущих газет страны, поддерживала Шушнига. Два дня спустя та же газета на первой странице опубликовала редакторскую статью, озаглавленную “К исполнению”, в которой говорилось: “Благодаря гению и решимости Адольфа Гитлера час всегерманского единства настал”.
Злобные нападки на евреев, начавшиеся в середине марта 1938 года, достигли апогея восемь месяцев спустя, во время Хрустальной ночи. Когда я впоследствии читал об этом, я узнал, что отчасти ночь была вызвана событиями 28 октября 1938 года. В тот день нацисты депортировали семнадцать тысяч евреев, происходивших из Восточной Европы, бросив их на произвол судьбы возле городка Збоншинь на границе Германии и Польши. В то время нацисты по-прежнему рассматривали эмиграцию, добровольную или насильственную, как способ решения “еврейского вопроса”. Утром 7 ноября семнадцатилетний еврейский юноша Гершель Гриншпан, взбешенный депортацией его родителей в Збоншинь из их дома в Германии, застрелил Эрнста фон Рата, третьего секретаря посольства Германии в Париже, по ошибке приняв его за германского посла. Два дня спустя, используя это событие как предлог, чтобы обрушиться на еврейство, организованные толпы подожгли большинство синагог в Германии и Австрии.
Из всех городов, бывших под властью нацистов, Вена пала особенно низко. Над евреями издевались и жестоко били, выгоняли с предприятий и временно выселяли из домов, после чего их предприятия и дома грабили алчные соседи. Наша прекрасная синагога на Шопенгауэрштрассе была полностью уничтожена. Симон Визенталь, ведущий охотник за нацистами после Второй мировой войны, впоследствии говорил, что “по сравнению с Веной Хрустальная ночь в Берлине была милым рождественским праздником”.
В день Хрустальной ночи моего отца задержали, а его магазин конфисковали и передали новому владельцу, нееврею. Это делалось в порядке так называемой ариизации (Ariesierung) собственности – узаконенной нацистами формы грабежа. С середины ноября 1938 года, когда моего отца выпустили из-под стражи, до августа 1939-го, когда они с мамой уехали из Вены, мои родители очень бедствовали. Как я узнал намного позже, они получали продовольствие, а отец – иногда и возможность работать, например переносить мебель, от Israelitische Kultusgemeinde der Stadt Wien – Еврейской общины города Вены.
Мои родители знали об антиеврейских законах, введенных в Германии после прихода Гитлера к власти, и понимали, что насилие в Вене теперь едва ли утихнет. Они были уверены, что нам нужно уезжать, причем как можно скорее. Брат моей мамы, Берман Цимельс, лет десять назад переехал из Австрии в Нью-Йорк, где устроился работать бухгалтером. Мама написала ему 15 марта 1938 года, всего через три дня после вступления Гитлера в Вену, и он быстро прислал нам заверенные нотариусом письма, гарантирующие американским властям, что он обеспечит нас средствами к существованию в Соединенных Штатах. Однако в 1924 году Конгресс принял закон об иммиграции, устанавливавший квоты на число иммигрантов в Соединенные Штаты из стран Восточной и Южной Европы. Так как мои родители родились на территории, которая теперь входила в состав Польши, нам потребовалось около года дожидаться повышения квоты, несмотря на то что в нашем распоряжении были требуемые гарантийные письма. Когда размер квоты был наконец объявлен, нам пришлось эмигрировать поэтапно, тоже из-за законов об иммиграции, где оговаривался порядок, в котором члены одной семьи имели право въезжать в Соединенные Штаты. Согласно этому порядку первыми могли приехать родители моей мамы, что они и сделали в феврале 1939 года, затем, в апреле, мы с братом и, наконец, родители – в конце августа, всего за несколько дней до того, как разразилась Вторая мировая война.
Из-за того что у моих родителей отняли их единственный источник дохода, у нас не было денег на дорогу до Соединенных Штатов. Поэтому родители подали прошение в Еврейскую общину, чтобы им оплатили полтора билета на корабль компании Holland America Line: один билет для моего брата и полбилета для меня. Несколько месяцев спустя они подали прошение об оплате двух билетов для них самих. Нам повезло, что оба прошения удовлетворили. Мой отец был честным, добросовестным человеком и всегда вовремя платил по счетам. У меня сейчас находятся все документы, которые прилагались к его прошению, и они показывают, как исправно он платил свои членские взносы в Еврейскую общину. В аттестации, приложенной сотрудником общины к прошению отца, особо отмечается, что это человек достойный, с безупречной репутацией.
Последний год в Вене сыграл в моей жизни определяющую роль. Разумеется, он заронил во мне чувство глубокой, неизменной благодарности за жизнь, выпавшую мне в Соединенных Штатах. Но несомненно и то, что зрелище Вены под властью нацистов было также моим первым знакомством с темной, садистской стороной человеческого поведения. Как понять эту дикую жестокость, внезапно охватившую столь многих людей? Как могло высокообразованное общество так быстро принять политику карательных мер, в основе которой лежат ненависть и презрение к целому народу?
Ответить на эти вопросы сложно. Многие исследователи пытались предложить свои обрывочные и противоречивые ответы. Один из выводов, который будоражит мои чувства, состоит в том, что качество культуры того или иного общества не может служить надежным показателем его уважения к человеческой жизни. Культура просто не способна избавить людей от их склонностей и преобразовать их образ мышления. Стремление уничтожать людей, не принадлежащих к собственной группе, может быть врожденным и возбуждаться почти в любой сплоченной группе.
Я сильно сомневаюсь, что какие-либо из подобных псевдогенетических наклонностей могли бы работать в полном вакууме. Немцы в целом не разделяли озлобленного антисемитизма австрийцев. Почему же тогда культурные ценности венцев так кардинально разошлись с их моральными ценностями? Разумеется, поведение венцев в 1938 году во многом объясняется чистым оппортунизмом. Успехи еврейского сообщества – экономические, политические, культурные и академические – вызывали зависть и жажду мести у неевреев, особенно в университетской среде. Процент членов нацистской партии среди университетских преподавателей намного превосходил таковой среди населения в целом. В результате венцы-неевреи стремились продвинуться в своей профессии, заняв места преуспевших евреев, – и евреи, работавшие университетскими преподавателями, юристами и врачами, быстро остались без работы. Многие венцы просто присвоили себе жилье и имущество евреев. В результате, как показало подробное исследование этого периода, которое провели Тина Вальцер и Штефан Темпль, “большое число адвокатов, судей и врачей в 1938 году повысило уровень собственного благосостояния, ограбив своих ближних – евреев. Успех многих австрийцев в наши дни основан на деньгах и собственности, украденных шестьдесят лет назад”.
Еще одно объяснение этого расхождения культурных и моральных ценностей связано с переходом от культурной формы антисемитизма к расовой. Культурный антисемитизм основан на представлении о “еврейскости” как религиозной или культурной традиции, передаваемой путем обучения, через особые обычаи и образование. Эта форма антисемитизма приписывает евреям определенные отталкивающие психологические и социальные особенности, приобретаемые путем усвоения культуры, например неодолимое стремление к наживе. Однако такой антисемитизм также предполагает, что, поскольку еврейскость приобретается воспитанием в еврейской семье, эти особенности можно и устранить через образование или обращение в иную веру, когда еврей или еврейка преодолевает свое еврейство. Еврей, обратившийся в католицизм, в принципе может быть ничем не хуже любого другого католика.
Считается, что расовый антисемитизм, напротив, происходит из убеждения, что евреи как раса генетически отличаются от других рас. Это представление восходит к доктрине богоубийства, которой долгое время учила Римско-католическая церковь. Как доказывал Фредерик Швейцер, католик, изучавший историю евреев, эта доктрина и положила начало представлениям о том, что евреи повинны в смерти Христа (до недавнего времени Католическая церковь не отрекалась от этих представлений). Согласно Швейцеру, эта доктрина предполагала, что евреи, виновные в богоубийстве, как раса обладают врожденным недостатком человечности и поэтому должны генетически отличаться от других людей, быть недолюдьми. Значит, их можно без сожаления исключить из числа человеческих рас. Расовый антисемитизм был обоснован испанской инквизицией в начале xiv века и воспринят в семидесятых годах xix века некоторыми австрийскими (и немецкими) интеллектуалами, в числе которых были Георг фон Шенерер, лидер пангерманских националистов в Австрии, и Карл Люгер, венский бургомистр. Хотя до 1938 года расовый антисемитизм и не был в Вене господствующей политической силой, после марта этого года он приобрел статус официальной государственной политики.
После того как расовый антисемитизм пришел на смену культурному, ни один еврей уже никак не мог стать “истинным” австрийцем. Обращение (религиозного свойства) стало невозможным. Единственно возможным решением еврейского вопроса оставалось изгнание или истребление евреев.
Мы с братом выехали в Брюссель на поезде в апреле 1939 года. Мне, девятилетнему, было очень тяжело покидать родителей, хотя отец не терял оптимизма, а мама невозмутимо уверяла, что все будет в порядке. Когда мы доехали до границы Германии с Бельгией, поезд ненадолго остановился, и в вагон вошли немецкие таможенники. Они потребовали, чтобы мы показали им ювелирные изделия и любые другие ценные вещи, которые могли у нас быть. Молодая женщина, ехавшая вместе с нами, предупреждала нас с Людвигом о возможности такого требования. Поэтому я спрятал в кармане небольшое золотое колечко с моими инициалами, подаренное мне на семилетие. Страх, который я всегда испытывал в присутствии нацистов, стал почти невыносимым, когда они зашли в поезд, и я очень боялся, что они найдут это колечко. К счастью, они не обратили на меня особого внимания, и я остался дрожать незамеченным.
В Брюсселе мы остановились у тети Минны и дяди Сруля. Солидные финансовые средства дали им возможность приобрести визу, позволившую въехать в Бельгию и поселиться в Брюсселе. Они собирались переехать к нам в Нью-Йорк через несколько месяцев. Из Брюсселя мы с Людвигом поехали на поезде в Антверпен, где сели на пароход “Герольдштейн” компании Holland America Line и через десять дней прибыли в город Хобокен в штате Нью-Джерси, проследовав мимо гостеприимно приветствовавшей нас статуи Свободы.
3. Американское образование
Приехав в Соединенные Штаты, я словно заново родился. Я еще не предвидел этого и не знал языка, чтобы сказать: “Free at last”[4], но сразу почувствовал, и чувство это осталось во мне навсегда. Джеральд Холтон, историк науки из Гарвардского университета, отметил, что для многих венских эмигрантов моего поколения полученное в Вене отличное образование в сочетании с чувством освобождения по прибытии в Америку высвободили безграничную энергию и вдохновили нас на то, чтобы мыслить по-новому. Это в полной мере относится и ко мне. Среди многого другого, что дала мне эта страна, было превосходное гуманитарное образование, полученное в Еврейской школе Флэтбуша, средней школе Эразмус-холл и Гарвардском колледже.
Мы с братом поселились у маминых родителей, Герша и Доры Цимельс, приехавших в Бруклин в феврале 1939 года, за два месяца до нас. Я совсем не говорил по-английски и чувствовал, что мне нужно приспосабливаться к новой жизни. Поэтому я отбросил последнюю букву моего имени, Эрих (Erich), и стал пользоваться им в нынешнем написании. С Людвигом произошло еще более серьезное превращение – в Льюиса. Наши тетя Паула и дядя Берман, жившие в Бруклине с тех пор, как в двадцатые годы они приехали в Соединенные Штаты, устроили меня в государственную начальную школу № 217, расположенную в квартале Флэтбуш недалеко от дома, где мы жили. Я ходил в эту школу только двенадцать недель, но к началу летних каникул уже умел достаточно хорошо говорить по-английски, чтобы меня понимали. В то лето я перечитал книгу Эриха Кестнера “Эмиль и сыщики” – одну из любимых книг моего детства, на этот раз на английском, и был искренне горд этим достижением.
Мне не очень нравилось в школе № 217. Туда ходили и многие другие еврейские дети, но я тогда этого не понимал. Мне как раз казалось, что, раз среди учеников так много светловолосых и голубоглазых, значит, они не евреи, и я боялся, что рано или поздно они станут относиться ко мне враждебно. Поэтому я охотно поддался на уговоры дедушки и перешел в еврейскую приходскую школу. Дедушка был весьма религиозным и ученым человеком, хотя и немного не от мира сего. Мой брат сказал, что наш дедушка – единственный известный ему человек, который умеет говорить на семи языках, но на всех говорит так, что ничего не понятно. Дедушка мне очень нравился, а я нравился ему, и он без труда убедил меня в течение лета заниматься с ним ивритом, чтобы осенью я мог поступить в Еврейскую школу Флэтбуша. В программу этой знаменитой дневной еврейской школы входили уроки светских дисциплин на английском и религиозные занятия на иврите, и то и другое с очень высоким уровнем требований.
Дедушкины уроки позволили мне осенью 1939 года поступить в эту школу. Когда в 1944 году я ее окончил, я знал иврит почти так же хорошо, как английский. Я прочитал на иврите Пятикнижие, Книги Царств, Книги Пророков и кое-что из Талмуда. Впоследствии я почувствовал и радость, и гордость, когда узнал, что Барух Бламберг, который в 1976 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине, тоже был из числа людей, получивших прекрасное образование в Еврейской школе Флэтбуша.
Мои родители уехали из Вены в конце августа 1939 года. Незадолго до их отъезда моего отца еще раз арестовали и привезли на Венский футбольный стадион, где допрашивали и запугивали “коричневые рубашки” из Sturm Abteilung (SA). Но после того, как выяснилось, что он получил американскую визу и собирается уехать, его освободили, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Когда мои родители приехали в Нью-Йорк, отец, который ни слова не знал по-английски, нашел себе работу на фабрике, производившей зубные щетки. В Вене зубная щетка была символом его унижения, но в Нью-Йорке с нее начался его путь к лучшей жизни. Хотя ему и не нравилась эта работа, он взялся за нее со своим обычным рвением и вскоре получил выговор от представителя профсоюза за то, что делал очень много щеток за единицу времени, создавая впечатление, что другие работают слишком медленно. Но отца это не остановило. Он всей душой полюбил Америку. Как и многие другие иммигранты, он нередко называл ее goldene Medina – золотой страной, сулившей евреям безопасность и демократию. Еще в Вене он читал романы Карла Мая, мифологизировавшие покорение американского Запада и храбрость американских индейцев, и им тоже по-своему овладел дух Фронтира.
Со временем мои родители накопили достаточно денег, чтобы взять в аренду и обустроить скромный магазин одежды. Они работали вместе, продавая простые женские платья и фартуки, а также мужские рубашки, галстуки, нижнее белье и пижамы. Мы сняли квартиру над этим магазином, в доме номер 411 по Черч-авеню в Бруклине. Родители зарабатывали достаточно не только для жизни, но и на то, чтобы через некоторое время выкупить дом, в котором находились магазин и квартира. Кроме того, они смогли оплачивать мое обучение в колледже и медицинской школе.
Родители были так заняты своим магазином, источником финансового благополучия себя и своих детей, что совсем не приобщались к культурной жизни Нью-Йорка, которой мы с Льюисом начали увлекаться. И все же, несмотря на их вечные труды, они не теряли оптимизма и всегда поддерживали нас, никогда не пытаясь навязывать свои решения в том, что касалось работы и развлечений. Мой отец был честен и принципиален до одержимости: он считал своим долгом немедленно платить по всем счетам за товары, приходившие от поставщиков, и нередко дважды пересчитывал сдачу, перед тем как отдать ее покупателю. От нас с Льюисом он ожидал такой же щепетильности в финансовых вопросах. Но помимо ожидания того, что я буду вести себя разумно и корректно, я никогда не чувствовал с его стороны никакого давления в выборе специальности. Я, в свою очередь, никогда и не ждал от него советов по этим вопросам, учитывая его скромный опыт в социальной и образовательной сферах. За советами я обычно обращался к матери или, чаще, к брату, преподавателям и особенно часто – к своим друзьям.
Отец оставил работу в магазине лишь за неделю до смерти, в 1977 году, когда ему было семьдесят девять. Вскоре после этого мама продала и магазин, и дом, в котором он располагался, и переехала в более комфортабельную и немного более богатую квартиру неподалеку, на Оушн-Паркуэй. Она умерла в 1991 году, когда ей было девяносто четыре.
Когда в 1944 году я окончил Еврейскую школу Флэтбуша, она еще не была связана, как сегодня, с определенной средней школой, поэтому я пошел в Эразмус-холл – местную государственную среднюю школу, отличавшуюся очень высоким уровнем образования. Там я увлекся историей, литературной деятельностью и девушками. Я писал статьи для школьной газеты The Dutchman1 и стал редактором ее спортивного раздела. Я также играл в футбол и был одним из капитанов команды по легкой атлетике (рис. 3–1). Второй капитан, Рональд Берман, один из моих самых близких школьных друзей, был превосходным бегуном и однажды выиграл состязание по бегу на полмили в городском чемпионате (я пришел пятым). Впоследствии Рон стал шекспироведом и профессором английской литературы в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Он был председателем Национального фонда гуманитарных наук в администрации президента Никсона.
Мой учитель истории, Джон Кампанья, выпускник Гарварда, убедил меня подать документы в Гарвардский колледж. Когда я впервые заговорил о поступлении в Гарвард с родителями, отец (который, как и я, плохо представлял себе, чем отличаются друг от друга разные американские университеты) отговаривал меня, потому что подавать документы в еще один колледж было дорого. Я тогда уже подал документы на поступление в Бруклинский колледж – прекрасное учебное заведение, в котором ранее учился мой брат. Узнав об опасениях отца, мистер Кампанья вызвался из собственного кармана заплатить за меня пятнадцать долларов, необходимых для подачи документов. Я был одним из двух поступивших в Гарвард студентов нашего выпуска из 1150 человек (другим был Рон Берман), причем мы оба получили стипендию. После этого мы оценили истинный смысл гарвардского гимна – Fair Harvard. Действительно, fair Harvard[5]!
3–1. Команда-победительница на Пенсильванской эстафете 1948 года. Пенсильванская эстафета – это ежегодное общенациональное соревнование по легкой атлетике для школьников и студентов колледжа. Мы выиграли состязание по бегу на одну милю для школьников. (Фото любезно предоставил Рон Берман.)
Слева направо: Джон Ракер, Эрик Кандель, Джон Бартел, Рональд Берман, Питер Маннус
Хотя я был очень взволнован своей удачей и бесконечно благодарен мистеру Кампанье, я с тревогой покидал Эразмус-холл в полной уверенности, что мне уже никогда не доведется испытать безграничную радость, которую мне давали ощущение социализации и успехи в учебе и спорте в этой школе. В еврейской школе я был просто способным учеником. В Эразмусе я стал не только способным учеником, но и спортсменом. Для меня это была огромная разница. Именно в Эразмусе я впервые почувствовал, что перестал находиться в тени брата, которая так тяготила меня в годы нашей учебы в Вене. У меня впервые были свои собственные увлечения.
В Гарварде я специализировался на истории и литературе современной Европы. Это была специализация по выбору, которая требовала подготовить на последнем курсе[6] исследовательскую курсовую. Те и только те, кто выбирал эту специальность, имели право получать консультации начиная со второго курса вначале небольшими группами, а затем в индивидуальном порядке. Моя исследовательская работа была посвящена отношению к национал-социализму трех немецких писателей: Карла Цукмайера, Ханса Кароссы и Эрнста Юнгера. Эти трое были представителями разных позиций, отражавших широкий спектр реакций немецких интеллектуалов на наступление нацизма. Цукмайер, бесстрашный либерал, всегда осуждавший нацизм, рано покинул Германию и переехал вначале в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Каросса, врач и поэт, занял нейтральную позицию и телом остался в Германии, хотя его душа, как он утверждал, бежала в другие края. Юнгер, лихой германский офицер в годы Первой мировой войны, воспевал духовные добродетели войны и воинов и был идейным предтечей нацистов.
Я пришел к неутешительному выводу, что многие немецкие художники и интеллектуалы, в том числе такие, казалось бы, утонченные умы, как Юнгер, или великий философ Мартин Хайдеггер, или дирижер Герберт фон Караян, с готовностью и рвением поддались националистическому пылу и расистской пропаганде национал-социализма. Последующие исследования Фрица Штерна и других историков показали, что в первый год правления Гитлера у него не было широкой народной поддержки. Если бы интеллектуалы сумели успешно мобилизоваться и повести за собой какие-то слои населения, они вполне могли бы остановить или хотя бы сильно ограничить Гитлера в его стремлении к абсолютной власти.
Я начал работать над своей курсовой на третьем курсе, в то время когда еще собирался после колледжа заниматься историей европейской культуры. Однако ближе к концу третьего курса я познакомился с Анной Крис, студенткой Рэдклифф-колледжа[7], которая тоже эмигрировала из Вены, и влюбился в нее. В то время я ходил на два курса семинаров Карла Фиетора: один был посвящен великому немецкому поэту Гете, другой – современной немецкой литературе. Фиетор был одним из самых выдающихся специалистов по немецкой культуре в Соединенных Штатах, а кроме того, талантливым и харизматичным преподавателем, и он поддерживал мое намерение продолжить заниматься немецкой историей и литературой. Он написал две книги о Гете (одну о его молодости, другую о нем как о зрелом поэте) и новаторское исследование, посвященное Георгу Бюхнеру, сравнительно малоизвестному драматургу, которого Фиетор помог заново открыть. За свою короткую жизнь Бюхнер успел написать одно из первых реалистических и экспрессионистских произведений – неоконченную пьесу “Войцек”, первую драму, изображающую простого, бестолкового человека как личность героических пропорций. Пьеса была опубликована лишь после смерти Бюхнера от брюшного тифа в 1837 году (в возрасте двадцати четырех лет), и впоследствии Альбан Берг переделал ее в либретто оперы (“Воццек”) и положил на музыку.
Анне очень нравилось, что я так хорошо знаком с немецкой литературой, и первое время мы не раз проводили вечера вместе за чтением немецких стихов – Новалиса, Рильке и Штефана Георге. На четвертом курсе я собирался выбрать еще два курса семинаров Фиетора. Но он внезапно умер от рака. Его смерть была для меня личным горем. Кроме того, из-за нее у меня оказалось много пустого места в учебном расписании, которое я уже спланировал. За несколько месяцев до смерти Фиетора я познакомился с родителями Анны, Эрнстом и Марианной Крис, двумя известными психоаналитиками из круга Фрейда. Общение с ними подогрело мой интерес к психоанализу и изменило мои представления о том, чем можно занять освободившееся теперь место в моем расписании.
Трудно передать сегодня ту притягательную силу, которую излучал психоанализ для молодых людей пятидесятых годов. Например, была разработана теория психики, которая позволила мне впервые оценить сложность человеческого поведения и мотиваций, лежащих в его основе. В ходе занятий по курсу Фиетора о современной немецкой литературе я прочитал книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, а также произведения трех других авторов, интересовавшихся внутренними механизмами человеческой психики: Артура Шницлера, Франца Кафки и Томаса Манна. Даже в сравнении с сочинениями этих титанов литературы прозу Фрейда было приятно читать. Его немецкий, за который он в 1930 году получил премию Гете, был прост, кристально ясен и полон юмора и бесконечных отсылок к его собственным трудам. Эта книга открыла мне новый мир.
“Психопатология обыденной жизни” содержит ряд историй, настолько глубоко вошедших в нашу культуру, что сегодня они могли бы послужить сценарием для фильма Вуди Аллена или материалами для выступлений эстрадного сатирика. Фрейд подробно описывает совершенно обыденные, казалось бы, непримечательные события – оговорки, странные случайности, ситуации, когда люди кладут предметы не на место, неправильно пишут слова, не могут что-то запомнить, – и на этих примерах показывает, что человеческая психика подчиняется определенному набору правил, большинство из которых имеет бессознательную природу. На первый взгляд все эти недоразумения кажутся обыкновенными ошибками, незначительными случайностями, которые происходят с каждым (со мной они определенно происходили). Но Фрейд помог мне понять, что ни одна из этих ошибок не случайна. Каждая из них последовательно и объяснимо связана с остальной психической жизнью человека. Меня особенно поразило, что Фрейд написал все это, не будучи знакомым с моей тетей Минной!
Затем Фрейд доказывал, что психологический детерминизм (представление о том, что мало что, если вообще что-то, происходит в нашей психической жизни случайно, а каждое психологическое событие определяется предшествующим) играет ключевую роль не только в нормальной психической жизни, но и в психических заболеваниях. Любой симптом нервного расстройства, каким бы странным он ни казался, не странен для нашего бессознательного начала и связан с другими предшествующими психическими явлениями. Связь между оговоркой и ее причиной, между симптомом и лежащим в его основе когнитивным процессом кроется в работе защитных механизмов (вездесущих, динамичных, бессознательных психических процессов), которые приводят к непрерывной борьбе между саморазоблачающими и самозащитными психическими событиями. Психоанализ сулил возможность самопонимания и даже успешной терапии с помощью анализа бессознательных мотиваций и защитных механизмов, лежащих в основе человеческих поступков.
Что особенно привлекало меня в психоанализе во время учебы в колледже, так это то, что он совмещал в себе работу воображения, всесторонность и эмпирическую базу (по крайней мере, так мне по наивности казалось). Никакие другие представления о психической жизни и близко не дотягивали до психоанализа по диапазону приложения или тонкости объяснений.
В самом деле, вплоть до конца xix века у людей не было иных подходов к тайнам человеческой психики, кроме философской интроспекции (анализа собственных мыслей специально подготовленными наблюдателями) и откровений великих писателей, таких как Джейн Остин, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский и Лев Толстой. Чтение всего этого вдохновляло меня в первые годы обучения в Гарварде. Однако, как я узнал от Эрнста Криса, ни подобный самоанализ, ни художественные откровения не могли обеспечить систематического накопления знаний, необходимых для заложения фундамента науки о психике. Ее фундамент требовал большего, чем откровения, – экспериментальных данных. Поэтому ощутимые успехи экспериментальной науки в области астрономии, физики и химии вдохновили исследователей психики на разработку экспериментальных методов изучения поведения.
Поиск таких методов начался с идеи Чарльза Дарвина, что человеческое поведение развилось в ходе эволюции из поведенческого репертуара наших животных предков. Эта идея положила начало представлению о том, что подопытных животных можно использовать в качестве моделей для изучения человеческого поведения. Российский физиолог Иван Павлов и американский психолог Эдвард Торндайк проверяли на животных выводы, следующие из философского представления о том, что мы обучаемся посредством ассоциации идей, впервые сформулированного Аристотелем и впоследствии разработанного Джоном Локком. Павлов открыл выработку классических условных рефлексов – способ научить животное ассоциировать два раздражителя. Торндайк же открыл выработку инструментальных условных рефлексов, при которой животное учат ассоциировать поведенческую реакцию с ее последствиями. Эти два механизма обучения заложили фундамент научного исследования обучения и памяти не только у простых животных, но и у человека. На смену предположению Аристотеля и Локка, что обучение включает ассоциацию идей, пришел эмпирический факт, что обучение происходит путем ассоциации двух раздражителей или раздражителя и вызываемой им реакции.
В ходе исследований выработки классических условных рефлексов Павлов открыл две неассоциативные формы обучения: привыкание и сенсибилизацию. При этих формах животное обучается только свойствам единственного раздражителя и не учится ассоциировать два раздражителя друг с другом. При привыкании животное учится игнорировать раздражитель в связи с его малозначительностью, в то время как при сенсибилизации оно обучается обращать внимание на раздражитель в связи с его важностью.
Открытия Торндайка и Павлова оказали огромное влияние на психологию, положив начало бихевиоризму – первой школе эмпирического анализа обучения. Бихевиоризм сулил надежду, что поведение можно будет изучать такими же точными методами, как те, что применяются в естественных науках. К тому времени, как я поступил в Гарвард, ведущим поборником бихевиоризма стал Беррес Фредерик Скиннер. Я познакомился с его идеями в ходе разговоров с друзьями, посещавшими его курсы. Скиннер следовал философскому пути, намеченному основателями бихевиоризма. Общими усилиями они сузили кругозор бихевиоризма, настаивая на том, что подлинно научная психология должна ограничиваться лишь доступными для всеобщего наблюдения и объективного измерения аспектами поведения. Это не оставляло места для интроспекции.
Поэтому Скиннер и другие бихевиористы сосредоточились исключительно на доступном для наблюдения поведении и исключили из своих работ любые упоминания психической жизни и попытки интроспекции, так как подобные вещи нельзя наблюдать, измерять или использовать для выработки общих правил человеческого поведения. Чувства, мысли, планы, желания, мотивы и ценности (внутренние состояния и личные ощущения, которые делают нас людьми и которые психоанализ выдвинул на первый план) считались недоступными для экспериментальной науки и ненужными науке о поведении. Бихевиористы были убеждены, что всю нашу психологическую деятельность можно удовлетворительно объяснить, не рассматривая подобных психических явлений.
Психоанализ, с которым я познакомился благодаря родителям Анны, был бесконечно далек от скиннеровского бихевиоризма. Более того, Эрнст Крис приложил немало усилий, чтобы преодолеть разногласия между ними. Он доказывал, что прелесть психоанализа во многом и состоит в том, что он, подобно бихевиоризму, стремится к объективности, к отказу от выводов, сделанных путем интроспекции. Фрейд говорил, что человек не может разобраться в своих собственных бессознательных процессах, заглянув внутрь самого себя, и только специально обученный, непредвзятый внешний наблюдатель (психоаналитик) способен выявить содержание бессознательного другого человека. Фрейд тоже ценил доступные для наблюдения экспериментальные свидетельства, но считал внешнее поведение лишь одним из многих путей исследования внутренних состояний, как сознательных, так и бессознательных. Фрейд в не меньшей степени интересовался внутренними процессами, определяющими реакции человека на определенные раздражители, чем реакциями как таковыми. Психоаналитики школы Фрейда доказывали, что, ограничивая исследование поведения анализом доступных для наблюдения измеримых действий, бихевиористы игнорируют важнейшие из вопросов, связанных с психическими явлениями.
Психоанализ был для меня тем более привлекателен из-за того, что Фрейд был венцем и евреем и вынужден был покинуть Вену. Чтение его работ на немецком пробуждало во мне тоску по той интеллектуальной жизни, о которой я слышал, но к которой так и не приобщился. Но еще важнее, чем чтение Фрейда, были для меня разговоры о психоанализе с родителями Анны – людьми необычайно интересными и увлеченными. Эрнст Крис был уже признанным историком искусства, хранителем прикладного искусства и скульптуры в венском Музее истории искусств, когда женился на Марианне и увлекся психоанализом. У него учился, в числе прочих, великий историк искусств Эрнст Гомбрих, с которым он впоследствии сотрудничал, и каждый из них внес весомый вклад в развитие современной психологии искусства. Марианна Крис была выдающимся психоаналитиком и преподавателем, а также удивительно доброжелательным человеком. Ее отцом был Оскар Рие – знаменитый педиатр, лучший друг Фрейда, лечивший его детей. Марианна была близким другом высокоодаренной дочери Фрейда Анны. Более того, именно в честь Анны Фрейд она и назвала свою дочь.
Эрнст и Марианна Крис всегда были добры ко мне, и я мог рассчитывать на их поддержку, как и все друзья их дочери. Я часто общался с ними и благодаря этому – с их коллегами, психоаналитиками Хайнцем Хартманном и Рудольфом Левенштейном. Вместе с Эрнстом Крисом они создали новое направление в психоанализе.
Когда Хартманн, Крис и Левенштейн переехали в Соединенные Штаты, они совместными усилиями подготовили ряд новаторских статей, в которых обратили внимание, что теория психоанализа придавала слишком большое значение фрустрациям и тревогам в развитии “я” – компонента психического аппарата, который, согласно теории Фрейда, находится в контакте с окружающим миром. Больше значения следует придавать нормальному когнитивному развитию. Для проверки этих идей Эрнст Крис призывал проводить эмпирические наблюдения за нормальным развитием детей. Преодолевая тем самым пропасть, разделявшую психоанализ и когнитивную психологию, которая в пятидесятые и шестидесятые еще только зарождалась, он убеждал американских психоаналитиков уделять больше внимания эмпирическим данным. Сам он, в свою очередь, стал сотрудником Центра исследования детского развития при Йельском университете и участвовал в наблюдениях, проводимых этим центром.
Наслушавшись их увлекательных дискуссий, я обратился в их веру в психоанализ как в интереснейший и, возможно, единственный подход, позволяющий разобраться в человеческой психике. Психоанализ открывал ни с чем не сравнимые возможности исследования не только рациональных и иррациональных аспектов мотивации и бессознательной и сознательной памяти, но также и упорядоченной природы когнитивного развития – развития восприятия и мышления. Эта область исследований стала казаться мне более увлекательной, чем история европейской литературы и культуры.
В пятидесятые годы считалось, что для того, чтобы стать практикующим психоаналитиком, лучше всего пойти в медицинскую школу, стать врачом и после этого выучиться на психиатра. Раньше я не рассматривал возможность выбора этого пути. Но со смертью Карла Фиетора в моем расписании освободилось место двух годовых курсов. Поэтому летом 1951 года я выбрал, почти не раздумывая, вводный курс по химии, который требовался для поступления в медицинскую школу. Мой замысел состоял в том, чтобы за четвертый год в колледже пройти курсы физики и биологии, тем временем написать курсовую и, если я не откажусь от этого замысла, пройти курс органической химии (последнее, что мне требовалось для поступления в медицинскую школу) после окончания Гарварда.
Летом 1951 года я жил в одном доме с четырьмя молодыми людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Это были Генри Нунберг (двоюродный брат Анны и сын еще одного великого психоаналитика, Германа Нунберга), Роберт Гольдбергер, Джеймс Шварц и Роберт Спитцер. Через несколько месяцев на основании того единственного курса химии и остальных показателей моей успеваемости в колледже меня приняли в Медицинскую школу Нью-Йоркского университета при условии, что я сдам недостающие курсы до дня зачисления осенью 1952 года.
Я поступил в медицинскую школу с твердым намерением стать психоаналитиком, это намерение сохранялось во мне в течение интернатуры и резидентуры по психиатрии. Однако на третьем курсе медицинской школы я сильно заинтересовался биологическими основами практической медицины. Я решил, что стоит узнать что-нибудь о биологии мозга. Одна из причин этого решения была в том, что мне очень понравился курс анатомии головного мозга, выбранный мной на втором курсе медицинской школы. Луис Хаусман, который вел курс, велел каждому из нас вылепить из цветного пластилина увеличенную в четыре раза модель человеческого мозга. Как мои однокурсники впоследствии написали в нашем ежегоднике[8], “пластилиновый образ пробудил дремлющий зародыш творчества, и даже наименее способный из нас породил свой многоцветный мозг”.
При работе над моделью я впервые получил трехмерное представление о том, как соединены друг с другом головной и спинной мозг, вместе образующие центральную нервную систему (рис. 3–2). Я увидел, что она представляет собой в целом двусторонне-симметричную структуру, состоящую из определенных частей, каждая из которых имеет собственное интригующее название, например гипоталамус, таламус, мозжечок или миндалевидное тело. Спинной мозг оснащен механизмами, обеспечивающими работу простых безусловных рефлексов. Хаусман отмечал, что, исследуя спинной мозг, можно в миниатюре увидеть общий принцип работы нервной системы. Этот принцип состоит в том, чтобы получать сенсорную информацию, поступающую от кожи по пучкам длинных нервных волокон, называемых аксонами, и преобразовывать ее в скоординированные моторные сигналы, передаваемые мышцам и приводящие их в действие.
3–2. Центральная и периферическая нервная система. Центральная нервная система, состоящая из головного и спинного мозга, двусторонне-симметрична. Спинной мозг получает сенсорную информацию от кожи по пучкам длинных аксонов, иннервирующих кожу. Пучки называют периферическими нервами. Кроме того, спинной мозг посылает моторные сигналы к мышцам по аксонам двигательных нейронов. Сенсорные рецепторы и моторные аксоны входят в состав периферической нервной системы.
3–3. Центральная нервная система
Продолжаясь вверх, в сторону головного мозга, спинной мозг переходит в мозговой ствол (рис. 3–3) – структуру, которая передает сенсорную информацию в расположенные выше участки головного мозга и моторные сигналы от этих участков вниз, к спинному мозгу. Мозговой ствол также регулирует внимание. Над мозговым стволом расположены гипоталамус, таламус и полушария головного мозга, поверхность которых покрыта крайне морщинистым наружным слоем – корой больших полушарий, связанной с высшими психическими функциями – восприятием, действиями, языком и планированием. В глубине коры расположены три структуры: базальные ядра, гиппокамп и миндалевидное тело (рис. 3–3). Базальные ядра помогают регулировать двигательную активность, гиппокамп задействован в некоторых аспектах работы памяти, а миндалевидное тело обеспечивает координацию автономных и эндокринных реакций в зависимости от эмоционального состояния.
Глядя на мозг, даже на его пластилиновую модель, трудно было не задаться вопросом, где размещаются в нем Фрейдовы “я”, “оно” и “сверх-я”. Фрейд живо интересовался анатомией мозга и неоднократно писал о важности биологии мозга для психоанализа. Например, в 1914 году он писал в своей работе “К введению в нарциссизм”: “Необходимо помнить, что все наши предварительные психологические положения придется когда-нибудь перенести на почву органических носителей”. В 1920 году Фрейд вновь отметил, на этот раз в работе “По ту сторону принципа удовольствия”: “Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы мы могли заменить психологические термины физиологическими или химическими”.
Хотя большинство психоаналитиков в пятидесятые годы рассуждало о психике в небиологических терминах, немногие из них уже заговорили о биологии мозга и ее потенциальном значении для психоанализа. Благодаря Эрнсту и Марианне Крис я познакомился с тремя такими психоаналитиками: это были Лоуренс Кьюби, Сидней Марголин и Мортимер Остоу. Переговорив с каждым из них, осенью 1955 года я решил пройти в Колумбийском университете курс по выбору, который вел нейрофизиолог Гарри Грундфест. В то время нейробиология во многих медицинских школах Соединенных Штатов не считалась важной дисциплиной, и в Нью-Йоркском университете никто из преподавателей не вел курса по ее основам.
Это решение от всей души поддержала Дениз Бистрен – необычайно привлекательная и высокоинтеллектуальная француженка, с которой я за некоторое время до этого начал встречаться. Когда я занимался на курсе анатомии Хаусмана, мы с Анной стали отдаляться. Наши отношения очень много значили для нас обоих, пока мы оба были в Кембридже[9], но все стало иначе после того, как я переехал в Нью-Йорк, а она осталась. Наши интересы тоже начали расходиться. Поэтому в сентябре 1953 года, вскоре после того, как Анна окончила Рэдклифф, мы расстались. Теперь Анна в высшей степени успешно работает практикующим психоаналитиком в Кембридже.
После расставания с Анной у меня были серьезные, но непродолжительные отношения еще с двумя девушками, с каждой из которых мы расстались всего через год после того, как сошлись. Когда мои отношения со второй из них уже почти разладились, я познакомился с Дениз. Я узнал о ней от нашего общего друга и позвонил ей, чтобы куда-нибудь пригласить. По ходу нашего разговора она недвусмысленно дала понять, что занята и не особенно стремится знакомиться. И все же я продолжал изо всех сил уговаривать ее. Но все было бесполезно. Наконец я обронил, что родом из Вены. Тон ее голоса внезапно изменился. Когда она узнала, что я европеец, она, должно быть, подумала, что знакомство со мной может оказаться не совсем пустой тратой времени, и согласилась.
Заехав за ней на ее квартиру на Вест-Энд-авеню, я спросил, хочет ли она пойти в кино или в лучший бар во всей округе. Она сказала, что хотела бы пойти в лучший бар, и я привез ее в свою квартиру на Тридцать первой улице, неподалеку от медицинской школы. Мы снимали эту квартиру вдвоем с моим другом Робертом Гольдбергером. После переезда мы с Бобом сделали ремонт и соорудили прекрасно работающий бар – определенно лучше, чем у кого-либо из наших знакомых. Боб, настоящий ценитель шотландского виски, держал превосходную коллекцию, включавшую даже несколько односолодовых сортов.
Наши (в основном Боба) способности в обработке древесины произвели на Дениз впечатление, но виски она не пила. Поэтому я открыл бутылку шардоне, и мы прекрасно провели вечер, в ходе которого я рассказал ей о жизни в медицинской школе, а она мне – о своей работе по социологии в аспирантуре Колумбийского университета. Предметом особого интереса для Дениз было использование количественных методов для изучения изменений человеческого поведения. Через много лет она применила эту методологию для изучения возникновения подростковой наркомании. Ее эпидемиологические исследования стали вехой в развитии социологии: на их основе была разработана “шлюз-гипотеза”, согласно которой переход к употреблению более сильных наркотиков связан с определенными элементами естественного хода человеческого развития.
Пора ухаживания прошла у нас удивительно гладко. Интеллект и любознательность сочетались в Дениз с удивительной способностью украшать повседневную жизнь. Она превосходно готовила, одевалась с большим вкусом (иногда она сама шила одежду) и любила окружать себя вазами, лампами и художественными произведениями, оживлявшими пространство, в котором она жила. Примерно так же, как Анна изменила мои представления о психоанализе, Дениз повлияла на мои представления и об эмпирической науке, и о качестве жизни.
Кроме того, благодаря Дениз я стал отчетливее ощущать себя евреем и человеком, пережившим Холокост. Отец Дениз, талантливый инженер-механик, происходил из старинного рода раввинов и ученых людей, учился в Польше на раввина. На двадцать втором году жизни он поселился во Франции, в нормандском городе Кан, где учился математике и машиностроению. Он стал агностиком и перестал посещать синагогу, но в своей обширной библиотеке хранил коллекцию религиозных книг на иврите, в том числе Мишну и выпущенное в Вильне издание Талмуда.
Семья Бистренов оставалась во Франции в течение всей войны. Мать Дениз помогла ее отцу бежать из французского концентрационного лагеря, и они оба сумели пережить войну, скрываясь от нацистов в городке Сен-Сере на юго-западе Франции. Значительную часть этого времени Дениз жила отдельно от родителей: ее спрятали в католическом монастыре в городе Каор, милях в пятидесяти от Сен-Сере. Между моими воспоминаниями и воспоминаниями Дениз о жизни в Европе под властью нацистов было немало общего, хотя ей пришлось намного хуже, чем мне. Эти воспоминания не ослабевали с годами и еще больше сблизили нас.