Читать онлайн Владыка ледяного сада. Носитель судьбы бесплатно
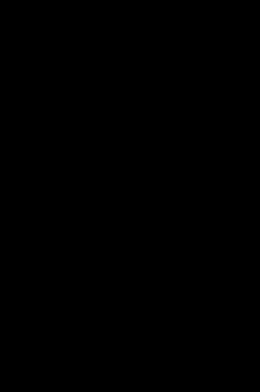
Jarosław J. Grzędowicz
Pan Lodowego Ogrodu. Tom 3
© 2009 by Jarosław J. Grzędowicz
© Сергей Легеза, перевод, 2018
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Глава 1. Горячий лед
«Reginsmál» – «Речи Регина»
- Кого это мчат
- Ревиля кони
- по высоким валам,
- по бурному морю?
- Паруса кони
- пеной покрыты,
- морских скакунов
- Ветер не сдержит (…)
- Это с Сигурдом мы
- на деревьях моря;
- ветер попутный
- и нам, и смерти;
- волны встают
- выше бортов,
- ныряют ладьи;
- кто нас окликнул?[1]
Я дрейфую на льдине.
На неустойчивом куске теплого льда, обросшем странными формами, что некогда были шпангоутами и бортом странного ледяного драккара. Формы и предметы поднимаются вокруг моего трясущегося, заливаемого ледяной и соленой водой тела, словно кривые клинки сабель, словно фрагменты стеклянного скелета; они все в овальных дырах, кружевных орнаментах, что лишь увеличиваются по мере того, как тает корабль. Тает посреди моря. В нескольких сотнях километров от ближайшей земли, среди яростно рычащих волн зимнего шторма, настоящих водяных гор, встающих на несколько метров, увенчанных дымящимися белыми шапками пены.
Я один.
Один над зеленой, гулкой бездной, один посреди ледяной штормовой кипени моря. Один в соленом вихре, что лупит в жесткую, покрытую скорлупой соли одежду. Вокруг меня встают ажурные прозрачные клыки того, что нельзя до конца назвать льдом, но который все же тает. Растворяется в море, будто ледышка, брошенная в тепловатый виски. Слишком далеко от суши. Решение быстрое, элегантное и ловкое. Простейшее из возможных. Без воплей, молний и заклинаний. Придуманное кем-то, кто умнее ван Дикена. Еще миг – и лед превратится в кучу бесформенных обломков, а мое трясущееся замерзшее тело соскользнет в ледяную воду, станет песчинкой, что еще лишь минуту проплывет среди гремящих водяных гор. Две минуты до гипотермии, а потом последний путь вниз, в холодную соленую темноту бездны, куда отбыли уже все остальные, те, кто мне доверился. Конвульсивные попытки дышать под водой во тьме, отчаянно давясь тяжелой ледяной солянкой. Остался только я. Я один.
И я дрейфую на льду.
А потом открываю глаза.
С судорожным вздохом, отчаянно давясь воздухом, хватая его большими глотками, словно он – тяжелая ледяная вода, резко сажусь среди жестких толстых мехов.
Этот кошмар не дает мне покоя с той минуты, как я поднялся на борт ледяного драккара. С той минуты, как позволил взойти на него остальным. Словно кретин. Словно последний дурак, я позволил им сделать то, что хотят. А теперь мы медленно плывем фьордом Драгорины, подталкиваемые неясной силой, вода расступается перед носом и плещет за кормой. У драккара нет парусов, нет никакого видимого двигателя, он идет себе, куда пожелает.
Он приплыл за мной. Двое местных до меня подошли к боту и просто пали замороженными.
А когда мы отправлялись и я взошел на борт вслед за остальными, ледяной трап просто растаял. Начал истончаться и делаться прозрачным, покрылся овальными дырами, распался среди ручейков стекающей в озеро воды. Как в моем кошмаре.
А корабль поплыл.
И теперь обратного пути нет. Не знаю, смогу ли сойти с палубы, когда в драккаре находятся другие люди. Не заморозит ли корабль их тогда? Не превратит ли каждого в лиофилизированную ледяную скорлупу? Или он просто утопит нас посреди моря, как в моем коротком нервном сне?
Трап растаял быстро, будто только и ждал, пока я войду во тьму трюма. Не было времени раздумывать: может быть, стоит втащить одну из рыбачьих лодок Людей Огня и попытаться привязать ее за кормой; не было времени ни на что. Он забрал нас, как поезд. Тот багаж, который мои люди собирались загрузить, просто остался на берегу, между бегающих людей.
И теперь мы плывем. Корабль дураков. Ледяной корабль дураков.
Я заснул в трюме. Среди стекловидных стен, шпангоутов и блестящих ледяных бортов, которые не совсем прозрачны: пропускают немного света, словно очень толстый синеватый хрусталь. Я хотел куда-нибудь спрятаться на миг и подумать. Выдавить из себя какое-то решение, а вместо этого впал в раздражающую регенерационную дрёму, похожую на летаргию.
Это цена за контролируемую ярость берсерка, в которую я приказал Цифраль ввести себя всего пару дней назад. За дополнительную скорость во время битвы, за весь стресс и страх, заметенные под ковер, растыканные по углам на потом, чтобы не мешали работе. А сейчас пришло время платить. Поэтому дрожь, приступы летаргии, боль в наполненных молочной кислотой мышцах, кровотечения из носа. Ничего не бывает даром.
Я должен проверить, возможно ли как-то влиять на курс корабля. Или хотя бы возможно ли им управлять.
Мы плывем небыстро, полагаю, удалось бы неким образом передать весточку Атлейфу. Пусть с несколькими людьми догнал бы нас небольшой лодкой, а потом вернулся по суше.
Я встаю с кипы свернутых мехов и иду в трюм, ведя пальцами по стекловидным стенам. Они не холодные. На ощупь напоминают материал: твердый, но податливый. Я прикладываю ладонь к вогнутой стене и жду. Лед под кожей не меняет температуры, ладонь моя не становится влажной.
Борт под воздействием моего тепла не тает.
Гладкая поверхность чуть просвечивает, за ней едва заметно маячат части конструкции. Я упираюсь лбом в стену и вижу внутри дугу шпангоута. Солидного, с литыми, сглаженными контурами; словно он отчасти биологического происхождения, но конструктивно он, шпангоут, совершенен. В разрезе напоминает двутавр, внутренняя поверхность его ажурна, покрыта крохотными отверстиями, как в самолете. Там, где нужно, стекловидный материал обрастает усилениями, утопленными в соседних элементах.
Поверхность, по которой я иду, покрыта сложным выпуклым узором, что повторяется на ступенях трапа и на каждой плоской поверхности, на которой можно стоять. Этот узор делает пол не скользким: он позволяет уверенно ходить даже в мокрой обуви и не обращая внимания на кривизну.
Я некоторое время ощупываю плиты пола и замечаю абрис панели. Большой, два на три метра. Отодвигаю небрежно брошенные вещи; не открываю всю плиту целиком, но с каждой ее стороны нахожу по два отверстия, куда можно засунуть пальцы. Панель довольно тяжела, словно ледяная плита. Но я приподнимаю ее с одной стороны и заглядываю под палубу. Вижу сходящиеся внизу, в зеленоватом сумраке, шпангоуты, солидный киль, похожий на уплощенный хребет, что тянется к носу, и толстую плиту борта, за которым переливается морская глубина. Там, на дне фьорда, смутно маячат скалы и темные формы – возможно, затопленные деревья. Я вижу какие-то канальцы вдоль киля, по которым течет густая, словно нефть, жидкость, синяя или флуоресцентно-зеленая; похожие каналы, потолще и потоньше, замечаю внутри борта, в шпангоутах и по всему каркасу.
Я опускаю на место узорчатую решетку и иду дальше по трюму.
Свободное пространство сужается, вдоль борта вспучиваются продолговатые, яйцевидной формы, предметы, похожие на стеклянные осиные гнезда; некоторые из них лежат плоско, будто саркофаги. Веретенообразные встают, глубоко воткнутые острым концом в углубления палубы, будто древнегреческие пифосы, вот только сделанные не из обожженной красной глины, но из того же стекловидного псевдольда, что и все здесь. В них – метра полтора высоты. По бокам углубления, перечеркнутые валками ухватов. Наверное.
Я берусь за два ухвата по бокам сосуда и пытаюсь сдвинуть тот с места, но он либо жутко тяжелый, либо насмерть прикреплен к палубе. Ниже, где-то в полуметре над решеткой, у каждого сосуда есть овальное углубление, как летка в улье. Я неуверенно сую туда ладонь, вогнутая стенка отодвигается назад, и на руку мою течет сильный, холодный поток жидкости. Я резко отдергиваю руку, поток иссякает, лужа под моими ногами просачивается под палубу сквозь мелкие отверстия гретинга, и я слышу, как хлюпает где-то внизу. Осторожно нюхаю руку, потираю мокрыми пальцами открытый участок кожи на сгибе локтя. Не чувствую ничего, кроме влаги. Потом прикасаюсь губами, а через какое-то время и кончиком языка.
Это вода. Холодная пресная вода.
Я по очереди проверяю остальные кувшины, расставленные вдоль стен. Отверстие над полом действует как дозатор в бутылках с минеральной водой. Если вталкиваю дверку внутрь – течет вода, а внутри пифоса слышно бульканье. Хорошо.
По-крайней мере вода у нас есть. Jupi du. Аллилуйя.
Я всаживаю внутрь свою металлическую кружку, слушаю бульканье жизнедавной жидкости, которая может оказаться не слишком-то и жизнедавной, отпиваю небольшой глоток. Миг-другой держу воду во рту, но не чувствую никакой подозрительной горечи, никакого привкуса горького миндаля; глотаю. А потом жду три минуты с болезненно лупящим под ребра сердцем. Не чувствую судорог желудка, ледяного холода в венах, не слепну и не задыхаюсь в агонии центральной нервной системы с легкими, полными воздуха, как было бы, атакуй цианид мою нервную ткань. Не взрываются у меня глаза, я не превращаюсь в камбалу.
Естественно, это глупость, но, с другой стороны, ведь эту воду придется пить. А отравить питье было бы еще более простым и элегантным решением, чем драккар, что тает в открытом море. Однако ничего не происходит, а я чувствую облегчение.
Какое-то время я вожусь с торчащими вдоль борта саркофагами, но безрезультатно. Кажется, верхняя их часть не монолитно сопряжена с остальным массивом, но снять ее мне не удается. Я подцепляю край ножом, тяну вверх, дергаю во все стороны, но это ничего не дает. Саркофаг как коробка, защищенная от детей; но как ее открыть, не знают и взрослые. Пригодился бы пятилетний шалун, который небось распечатал бы саркофаг в две минуты.
Посредине каждой крышки, у края, расположен орнамент из двух треугольников. Вершина одного упирается в основание второго – как стилизованная елочка, но всего из двух деталей. Я смотрю на орнамент, поскольку что-то меня здесь сбивает, он слишком прост, слишком техничен по сравнению с псевдороманскими украшениями, что вьются повсюду. Это не дает мне покоя.
А потом я вспоминаю. Я видел такие символы, только расположенные горизонтально, в детстве, когда панели, управляющие плеерами или мультимедийными программами, напоминали старое, еще механическое оборудование. Fast forward или rewind. Знак из времен, когда звук записывался на магнитной ленте.
Я тыкаю ладонью в край плиты сразу под символом, и тогда она легко уступает, раздается треск, а потом крышка мягко отходит в сторону. Итак. Слив, как в автоматах с напитками, символ FF на ящике; тот, кто не родился на Земле, будет иметь серьезные проблемы с тем, чтобы добраться к содержимому этих вместилищ. Изнутри саркофага пышет холодом, оттуда вырывается пар, но там не столько суровый мороз, сколько холод. Я смотрю на пучки жестких, пахнущих копченостями пластов сушеной рыбы, на глиняные кувшины, наполненные мукой или странными зернами, похожими на сухую фасоль, на полоски сушеного мяса, на закрытые банки залитого жиром мяса, на черные от дыма колбаски, старательно перевязанные шнурком.
Припасы. Как же мило.
Причем – в холодильнике.
Я тяну крышку на себя, она въезжает на место со щелчком, и саркофаг снова становится монолитом.
Трюм делит на части полупрозрачная стена, в которой движутся невнятные гибкие формы. Я прижимаю лицо к ледяной поверхности и вижу, что в зеленой жидкости маячат живые создания, словно адские угри. Они длинные, мясистые, с мерзкими зубастыми мордами глубинных тварей, со встопорщенными колючими плавниками. Выглядят как помесь дракона с муреной. Вдоль их боков помигивают маленькие точечки, зеленые и синие. Рыбы. С человеческими, жуткими глазами с заметным белком и круглыми зеницами, окруженными золотыми радужками.
Запасы? Аквариум? Поверхность ледяной стены не идеальна; если смотреть прямо, то плывущие змеиными движениями тела видно очень отчетливо, но под углом они превращаются в туманные, невыразительные формы. Я хочу знать, что дальше, я ведь еще не дошел и до середины драккара, и до носа осталось добрых десять метров.
Я ощупываю холодную стену, рыбы с другой стороны напротив моих ладоней распластывают об лед колючие присоски. Рыбы. Скажем так. Вроде-как-рыбы. Конвергентные соответствия.
Я догадываюсь, что если есть проход, то он должен находиться посредине. Так велит логика. Но, несмотря на это, ничего не видно.
После долгого ощупывания я все же нахожу в зеленоватом полумраке трюма очередной выпуклый значок. Это «плюс». Или греческий крест. Чуть дальше – круг с точкой внутри. Они находятся в полутора метрах друг от друга, на одной и той же высоте. Еще одна головоломка? Крест… Аптечка? А круг с точкой? Солнце? Я отхожу на пару шагов, но умнее от этого не становлюсь. Земной символ. Греческий крест и круг с точкой. Что-то настолько же простое, как и FF на холодильнике. Что-то, связанное с открыванием дверей?
Двери служат для того, чтобы войти или выйти.
Я должен сыграть в «крестики-нолики»?
Давлю рукой то на один из символов, то на другой, кажется, они поддаются, но, возможно, мне только кажется.
Войти или выйти.
Символ. Нет ни одного графического символа, связанного с дверью.
Есть только надписи: «толкать» или «тянуть», push или pull.
И тогда на меня снисходит озарение. Вектор. Когда его обозначают в двух измерениях, он отрезок со стрелкой. Но если в трехмерном мире, то, когда он направлен от нас, становится крестиком, символизирующим оперение стрелы, когда же он смотрит на нас – он круг с точкой, потому что символизирует наконечник. Об этом мог помнить только тот, кто учился, используя бумагу. Уже многие годы трехмерное пространство для школьников – просто трехмерное. Виртуальное.
Я кладу одну ладонь на «плюс», а вторую – на круг и нажимаю обеими сразу. «Плюс» поддается и входит внутрь, но не круг. Пытаюсь потянуть его на себя, но пальцы скользят по стене. Я отвожу ладонь, и тогда короткий валик льда выдвигается навстречу ладони.
Слышен скрип гладких поверхностей, и загородка отходит в сторону. Есть проход.
Не слишком удобный. Как тут пройти человеку, который что-то несет?
Я вхожу в зеленую, переливчатую темень, машинально ощупываю стену рядом со входом, будто надеюсь найти выключатель. И натыкаюсь на небольшую выпуклость, похожую на приклеенное к стене блюдце. Глажу его, словно оно – девичья грудь, ищу торчащую кнопку, но ничего не нахожу. Вжимаю блюдце в стену, щипаю – все без толку. Наконец признаю себя проигравшим и луплю по нему кулаком.
Раздается глубокий, вибрирующий звук, и по запертой в стене жидкости вроде-как-аквариума идут круги, как по поверхности пруда, куда бросаешь камень. Вот только волны расходятся в вертикальной плоскости. Угреподобные существа прянули во все стороны и внезапно налились резким зеленоватым и голубым светом.
Я включил свет.
Поздравления. Вы переходите к следующему этапу.
Я отстегиваю ножны с мечом и кладу в направляющие, блокируя дверь. Некогда подобным образом решили казнить одного самурая. Трон суверена поставили на таком расстоянии, чтобы гостю пришлось встать на колени и поклониться точно в раздвижных дверях. Когда его выбритая башка, увенчанная коком, оказалась между створками, слуги должны были захлопнуть их, но ловкач склонился, положив меч в направляющие желоба, и ничего не получилось.
Эдакий вопрос из кроссворда – а погляди-ка, пригодился.
Это помещение по центру пересекает толстый, лоснящийся столб, будто ствол дерева. Втыкается в потолок и уходит под палубу, врастает в киль. Продолжение мачты. Очень солидное, вцепившееся в палубу по всем сторонам выростами, что выглядят корнями старого дуба. По обе стороны от столба тянется длинный, сверкающий стол, сбоку от которого стоят лавки. Колонна пронзает стол примерно посредине. Кают-компания.
У нас есть кают-компания.
Сядем вечером да затянем моряцкие песенки…
Борта будто сближаются, как бы намекая, что внутри находятся какие-то емкости, может, рундуки. Впрочем, вот же значки FF. Я открываю первую попавшуюся крышку и вижу стопку оловянных тарелок в вогнутом гнезде – чтобы не рассыпались при качке. Рядом пучок металлических ложек, воткнутые одна в одну кружки. Над самой палубой крышки овальные, тянутся рядами. Внутри – матрасы: толстый слой простеганного войлока, укрытого косматой шкурой. Койки. Сопоставление этого стерильного, сверкающего нутра с сушеным мясом, мехом и оловянными кружками, украшенными геометрическим плетеным узором, производит странное, сюрреалистическое, впечатление.
Скансен и космический корабль, два в одном. Нос, увенчанный штевнем с головой дракона, и раздвижные двери с биолюминесцентным освещением. Безумие.
За кают-компанией я натыкаюсь на еще одну перегородку, но двери, означенные кругом и крестом, уже не представляют никакой проблемы. Последнее помещение, в которое я вхожу, – треугольная камера. На нормальной яхте была бы якорной комнатой и складом парусов.
Однако здесь стоят овальные формы, заполняющие все помещение, как поставленные торчком гигантские яйца. Они немного поменьше, чем емкости для воды; отличаются не только отсутствием отверстий, но и выпуклым орнаментом на верхушке, который – совсем не головоломка. Я даже не пытаюсь понять: ощеренный череп со скрещенными костьми означает пиратский флаг или высокое напряжение. Просто выхожу из каморки и прикрываю дверь.
Возвращаюсь на корму, туда, где я оставил коня, оружие и часть багажа.
Ядран лежит, как собака, вытянув ноги, и обгрызает кость, придерживая ее копытами. Кость хрустит в мощных челюстях. В этот миг он больше напоминает дракона, чем коня. Я смотрю на него, он же вскидывает башку и издает приветственное голготание, и я на миг ощущаю свое одиночество. Я потерян в космосе, среди драконов, заклинаний, диких воинов и ледяных драккаров.
Одинокий, потерянный и всеми забытый. Тоскую за толикой чего-то нормального.
Ближе к штирборту я нахожу спиральную лесенку к форкастелю, а с бакборта – небольшую овальную заслонку. Но знакомого мне уже символа векторов нет, только след от вогнутой растопыренной человеческой ладони.
Я смотрю на него минуту с явной усталостью.
Ладонь. В Северной Африке это «рука Фатимы», отпугивающая демонов. Синие или охряно-красные следы такой ладони оттискивают на стенах. Не пройдешь. Я, Фатима, охраняю своих детей. Будь отпечаток стилизован, с тремя выпрямленными пальцами и отставленными большим и мизинцем, означал бы «хамсу», пять столпов ислама. В нынешние времена рука Фатимы чаще делается из фольги и означает там: «Внимание, стекло». Мне не хочется что-то придумывать, потому я просто прикладываю руку, проплешина льда проваливается внутрь, плиту удается передвинуть. Я чутко приседаю, готовый отскочить, но при виде того, что мне открывается, только тихонько смеюсь.
Вижу глянцевую стену небольшого помещения, гладкое место для сидения, накрытое крышкой, торчащую овальную миску и плененных во льду светящихся угрей.
Смеюсь. На миг я пылаю братской любовью к тому, кто создал ледяной драккар.
Поднимаю крышку и закрываю дверь с ощущением невыносимого облегчения.
Толчок одновременно работает и как биде, не хватает только чего-нибудь почитать. В форкастеле я нахожу капитанскую каюту, впрессованную в косо встающий штевень, что заканчивается сложенным, будто зонтик, драконьим хвостом в паре метров над водой.
Внутри – круглый деревянный стол с резными северными узорами, обставленный креслами, свиснутыми со двора Одина; в овальной бортовой нише – койка, прикрытая косматыми шкурами. «Стар Трек» и «Песнь о Нибелунгах» одновременно.
Я переношу в каюту свои узелки, рядом с койкой обнаруживаю стойку, увешанную оружием, откладываю меч, палаш и отставляю лук. Щит упираю в стену, и вдруг меня одолевает желание намалевать на нем что-то викинговское.
Хотя бы логотип банка «Нордика».
Сквозь полупрозрачные борта я вижу черную воду фьорда, проплывающие вдали темные деревья и скалы, припорошенные снегом, – они словно смазанные призраки, мелькающие за стекловидной стеной.
Я набиваю трубку, вытягиваю из мешка пластиковую бутылку и наливаю себе немного в металлическую чашку. У нас есть капитанская каюта – вещь на борту драккара исключительная, у нас есть и некомпетентный капитан, который станет пить весь рейс, не в силах вынести тяжесть ответственности и собственной бесталанности. Драккар пропадет где-нибудь среди льдов и штормов, и останется после нас только песня.
Я выхожу из каюты, укутанный в меха, с кружкой в руке, напевая: «Сказал он: „Теперь вы пойдете со мной, йо-хо-хо, и бутылка рому! Вас всех схороню я в пучине морской, йо-хо-хо, и бутылка рому…“» Отряд мой сидит под прикрытием бортов, Сильфана связывает веревки из бухт, лежащих на палубе, Грюнальди опирается на монструозный ледяной штевень с драконьей головой и мрачно смотрит вверх по фьорду.
Увидев меня, он поднимает брови и вопросительно тычет пальцем сперва в меня, а потом в палубу.
– Там есть проход, – поясняю я. – И там безопасно. Нет смысла сидеть наверху. Я нашел воду, мясо и сыр, кучу еды. Корабль странный, но солидный и укомплектован для путешествия. Не кажется мне, что может распасться.
– Там воняет от песен богов, – цедит Варфнир.
– Лучше бы тебе привыкнуть, – говорю. – Теперь мы в этой ерунде будем сидеть по уши. Мы должны убить Песенника и к Песеннику плывем. Что ты делаешь с этими веревками?
– Нам нужна лодка, – говорит Грюнальди, отвлекаясь от пейзажа перед носом корабля. – Нормальная, такая, что не превратится в миску каши или в стайку сельди. Там, вдоль фьорда Драгорины, живут люди. Зима только-только началась, наверняка не все еще успели спрятать лодки. Когда будем проплывать мимо, Спалле прыгнет за борт с веревкой, доплывет и привяжет. Потом мы натянем веревку и получим лодку.
– А почему Спалле? – спрашиваю я. Как-то привык, что парень то остается при лошадях, то на страже.
– Потому что он плавает лучше всех, – поясняет Грюнальди. – С детства купается в проруби и в ручьях с ледников. Любой другой потонет от холода, а ему хоть бы хны. Ты же не можешь сойти с корабля, ведь не известно, не заморозит ли он нас.
Я киваю. Охотно бы придрался к чему-то, но идея неплоха, тем более что я и сам уже думал, что без меня драккар превратится в морозильник. По крайней мере у Грюнальди есть хоть какая-то идея. Лучше, чем ничего.
– Тут, в верховьях, нет никаких селений, – говорю я. – До тех маленьких соединенных озер. Пусть один остается высматривать, позже его сменим. Нет смысла мерзнуть всем. Внизу тепло, светло, там есть еда. А лодку мы найдем в лучшем случае завтра. Остается Варфнир, остальные – вниз. В сумерках его сменит Спалле, потом Сильфана, потом я, потом Грюнальди.
Они спускаются, преисполненные вдохновленной убежденностью, что я знаю, что делать, и контролирую ситуацию.
В кают-компании ударом кулака я зажигаю мерцающий проблеск ярящихся зеленью драконоугрей. Люди Огня чутко отскакивают, хватаясь за рукояти мечей, смотрят, замерев, на стены, сбившись в группку спиной к спине.
– Этот корабль сделал Песенник, – поясняю. – Догадываюсь, что он из моего народа, точно так же, как Аакен, король Змеев. Потому все здесь такое странное, но я не нашел ничего опасного. Пока что. Найдите себе места для сна. Не знаю только, как сделать, чтобы стало теплее.
– Обычно для такого разводят огонь, – кисло говорит Грюнальди. – Но как сделать это на льду, не имея поленьев…
– Это не настоящий лед. Ведь обычно, если хочешь, чтобы корабль плыл, нужно работать веслами или ставить парус. Этот плывет сам по себе. С теплом будет так же.
Они неохотно расходятся по кают-компании, напряженные и чуткие. Сильфана оглаживает пальцами крышку рундука, стиснув правую ладонь на рукояти меча, перевешенного через спину. Грюнальди осторожно постукивает в стену, за которой змееподобными движениями плавают адские светящиеся мурены. Спалле приседает у откинутой койки, кончиком меча приподнимает лежащие там меха и осторожно заглядывает под матрас.
Все молчат. Атмосфера сгущается. Они взошли за мной на борт, ведомые миссией и солидарностью, а теперь чувствуют себя так, будто я приказал им сидеть рядом с протекающим реактором.
Они тут и глаза не сомкнут, а тем более не выдержат того, что случится позже. А единственное, что я могу им обещать – еще больше холодного тумана, магии и всякой ерунды, рядом с которой корабль, плывущий на автопилоте и освещаемый угрями, совершенно рационален.
– Садитесь, – говорю я приказным тоном. Они неохотно подходят, ощупывая ледовые табуреты и осторожно присаживаясь, словно те могут взорваться прямо под их задницами.
Я открываю контейнеры с пищей, отворяю крышки рундуков, вынимаю миски, ножи и кружки. Кроме того, осматриваюсь в поисках оборудования камбуза. Если раскушу, как действует плита, и сумею приготовить хотя бы суп, наверняка пойму и то, как включается отопление.
Грюнальди прикладывает ладонь к скользкой столешнице и ждет, не начнет ли ее поверхность таять под пальцами. Спалле вытягивает из кошеля оселок и начинает медленно водить им вдоль клинка меча. Кают-компанию наполняет скрежет, аж мурашки ползут по спине. Сильфана закусывает губу и неуверенно поглядывает на стены, будто те вот-вот упадут ей на голову.
Я открываю очередные шкафчики, потом отступаю и прищуриваюсь. Архитектура яхты логична. Она зависит от условий и эргономики. Тот, кто позаботился о туалете на корме и втором, как я проверил, на носу, наверняка подумал и об обогреве кают и приготовлении пищи.
Готовка на корабле не слишком проста, особенно в открытом море. Кок не может рисковать в любой момент облиться кипятком или быть осыпанным углями из печи. Кухня должна быть застрахована от качки. Камбузы были даже на древних кораблях. Порой в виде крытых черепицей домиков с трубой, выступающей над палубой.
– Где обычно готовят на волчьих кораблях? – спрашиваю я.
Спалле указывает на корму.
– Позади, в… – тут он произносит нечто, что звучит как плевок в раскаленные уголья. Мой словарь не охватывает моряцкого жаргона. Спалле размахивает руками, словно разыгрывая ремонт невидимого велосипеда. – Котел с углями подвешен на цепи, подвешивается… так… и так… Когда качка, очаг всегда остается ровным, а над ним горшок, тоже крепится… – снова сложная пантомима.
Кардан. Они изобрели карданное соединение. Неплохо. Ну, на корме так на корме. Я иду на корму и ищу. Камбуз, судя по размерам корабля, по меньшей мере на двадцать человек, это не иголка. Его не спрятать под лежащим в трюме мешком или моей шапкой.
Потом я выхожу наверх около капитанской каюты и еще брожу по палубе в поисках трубы. Может, в каком-то из шкафчиков скрывается магическая микроволновка? В таком случае мы обречены на холодную пищу – мои люди и пальцем не тронут нечто, подогретое песнями богов.
Варфнир сидит на носу, укутанный косматой шкурой и обсыпанный мелким снегом, что падает с утра, и смотрит вдоль носа на скалистые берега фьорда, на реку, голые, выкрученные деревья, торчащие из сугробов. Мир белизны и черноты.
Оборачивается, едва я появляюсь. На коленях его – короткий лук.
– Ищу трубу, – поясняю я. – Не могу найти кухню.
– Песни Людей говорят, что на кораблях место для приготовления пищи устраивают сзади, под… – снова непонятное бурчание. – Слева от лестницы, но тут все не так, как в Песне Людей. – Он сплевывает на палубу и качает головой. – Такой корабль сразу увидят боги. И им это совершенно не понравится… Думаю, они потопят нас, едва только мы выйдем в море. А еще и в это время года…
– Ну, как-то он да приплыл, – замечаю я, – к воротам Дома Огня. И боги его не потопили.
Я простукиваю мачту, но совершенно не представляю себе, как это странное ледяное творение должно звучать. Глухо или нет? Я даже не знаю, действительно ли это мачта. Я вижу горизонтально подвязанные к столпу деревяшки, что-то вроде латинского гафель-бома, но ни следа самого паруса. Я обхожу драккар несколько раз и не нахожу ничего, что могло бы напоминать трубу камбуза.
Я сдаюсь и возвращаюсь под палубу носовой лестницей, которая прикрыта крышкой с растительным узором. Ну ладно. Значит, холодный перекус.
Не нравится мне, как мой экипаж сидит за столом. Напуганные, безвольные, пропитанные суеверным ужасом. Они взошли на корабль в акте бессмысленной, отчаянной отваги, а тут – ни битвы, ни героической смерти, одни лишь магические песни, и все не как в Песне Людей, все странно.
Я бросаю на стол вязанку сухого мяса, что-то, что напоминает сыр, связку – надеюсь – сухарей, а потом роюсь в саркофагах, встряхивая все, что напоминает по форме бутылки. Наконец нахожу контейнер, наполненный оплетенными шнуром кувшинами, каждый литров на пять, и ставлю один на столе, молясь, чтобы в нем не оказалось какой-нибудь разновидности драконьего масла. Спалле давит воск ножом, вынимает затычку с хлопком, что напоминает об открытом шампанском, и осторожно нюхает шейку кувшина. Хмурится, вливает капельку чего-то темного и чуть пенного на дно кубка, а затем макает и облизывает палец, и лицо его на миг освещается радостью.
– Драйянмьяал, – по крайней мере, именно так это звучит. Чего-то-там-молоко. Начало слова тоже что-то мне напоминает, только понять бы что. Орлобестия? Львоорел? Грифон?
– Грифоново молоко? – спрашиваю я.
Спалле радостно кивает.
– Делают его на Побережье Грифонов, к северу от пустошей Тревоги. Его нужно смешивать с водой, если не хочешь упиться сразу. Оно темное, насыщенней и дороже пива. Секрет его знают только грифонцы.
– Да они просто доят грифонов, – цедит Грюнальди и отбирает у него кувшин, чтобы налить в свою кружку. – Пиво как пиво, только сладкое, темное и тяжелое. Варят его с медом, какими-то сливами и не знаю с чем еще, чтобы продавать таким вот невинным козлятам за серьезные деньги и рассказывать им сказочки о грифонах. Наше пиво лучше. Хоть и признаю, что это больше подходит для морских путешествий, потому что его на дольше хватает.
Я делаю осторожный глоток, и на миг во рту моем будто вспыхивает сверхновая, взрыв не подходящих друг другу вкусов. В носу – пережженный ячменный кофе, хлебный квас и гиннесс, во рту – сироп от кашля, взбитые сливки, скипидар, хозяйственное мыло и гнилое манго. Я проглатываю и решаю разбавить водой. В послевкусии чувствуется еще и банан с селедкой. Учитывая, что приходилось пить раньше, это куда как неплохо.
Грифоново молоко льется в кружки, на столе встает жбан с водой. В каюте холодно, но, по крайней мере, на голову не сыплется снег, не гуляет ветер. После двух кружек на лицо мораль начинает укрепляться. Я набиваю трубку.
– Расскажи мне о Ледяном Саде, – прошу я, смотря Грюнальди прямо в глаза. – Ты единственный из нас, кто там был.
– Проклятое место, – говорит он, слегка подумав. – Это на острове. К северу от Остроговых. Годами туда плавали только те, кто потерялся в шхерах или кого загнал туда шторм. Скалистый остров, всего несколько рощиц, дикие козы и горы. Но вода там была. И никто не жил. Только иной раз вставали там лагерем мореходы или те, кто охотится на морских тварей. Но несколько лет назад все изменилось. Там было извержение вулкана. Не слишком большое, но грохот слышали и на море, ночью на горизонте виднелся свет, а днем над линией воды стоял столб дыма. Угас через пару месяцев. В следующем году начались рассказы о каменном городке, который там создала лава, и о созданиях, которые вышли из кратера, чтобы поселиться в нем. О сильном Песеннике, которого породил вулкан, Песеннике, что владеет водой, льдом и огнем. О призрачных кораблях изо льда, которые нападают на ладьи, возвращающиеся из далеких странствий. И правда, начали находить пустые «волчьи корабли», дрейфующие по морю, без экипажа и трофеев. Случалось даже, что странные южные воины выходили ночью из моря и грабили поселения на побережье. Странные бестии, напоминающие призраков из тумана, Пробужденных, только разумные. Забирали вещи, но необязательно ценные. Ну и похищали людей. Прежде всего молодых девушек. Никто не знал, кто это. Нигде не находили ни единого трупа Людей Вулкана. Говорили, что им не вредит железо, что они исчезают в темноте, проходят сквозь частоколы, дышат водой, но сделаны из огня, или же изо льда, или же из почерневшей лавы. Что едят они огонь и срут молниями, в общем, что обычно и начинают рассказывать, когда творится странное. Люди сразу начинают болтать невесть что. Обычные сказочки старых баб и дедов, у которых в голове помутилось.
Грюнальди отпивает из своей кружки, а потом со злостью заглядывает внутрь. Я пододвигаю ему кувшин, Спалле подает жбан с водой.
– Тогда вся эта Война Богов уже началась, и люди на каждом шагу видели такие чудеса, что не понять было, кто рассказывает о том, что видел сам – или, по крайней мере, видел кто-то из его рассудительных знакомых, – а у кого просто в голове помешалось от хмеля в пиве. А мы сидели в Земле Огня и смеялись над всем этим. И как-то я, мой кузен Скафальди Молчащий Ветер и Хорлейф Дождевой Конь созвали людей и пошли в море тремя кораблями. Хотели дойти за Остроговые острова и отправиться на юг к проклятой земле, которую амистрандинги зовут Кангабадом, чтобы отобрать там часть того, что амистрандинги забрали у нас, когда похитили нашу страну. А тогда-то для них уже настали тяжелые времена. Наступила великая сушь, и они вспомнили о своей мрачной богине, которую почитали давным-давно, при других императорах. Они потеряли остатки разума и начали у себя войну. Прежде чем мы туда доплыли, встретили много кораблей, что возвращались назад, домой, а на палубах сидели мрачные мужи, переполненные злостью, поскольку не нашли в чужой стране ничего, кроме проблем. Утверждали, что теперь амистрандинги режут друг друга и что там можно найти только голодное, ободранное войско, убегающих неудачников да жрецов в масках, слишком глупых даже для того, чтобы обогатиться. А еще – сожженные селения, голод и мерзкие болезни. Мы не знали, что делать, ибо, чтобы плыть дальше, у нас не хватало ни времени, ни припасов. И тогда в порту на острове Волчий Вой, где мы сидели и пили, пытаясь найти выход, нам встретился муж. Звался Эйольф Несущий Камень. Вроде бы некогда он был богатым селянином и большим стирсманом, выставлявшим четыре ладьи, а жил на Побережье Грифонов. Когда мы его встретили, он находился в положении совершенно бедственном, поскольку, как утверждал, демоны вулкана напали на его поселение, похитили его дочь и еще каких-то женщин. Эйольф тогда был на море, а когда вернулся, увидел свой двор в руинах, а многих из людей порубленными. Сказал нам, что если мы отправимся на проклятый остров и найдем его дочку, он заплатит нам все, что у него осталось: тысячу марок серебром. А кроме того, в селении Людей Вулкана мы найдем немало ценностей, которые те захватили на море и у несчастных жителей побережья, подобных ему. Говорил, что Людей Вулкана не может быть много, а большинство их наверняка сейчас на море, и последнее, чего они могли бы ожидать – что кто-то нападет на них в собственном селении. Тысяча марок серебром – это много, даже если делить на три корабля, а с тех пор, как наступили тяжелые времена, непросто было столько заработать на амистрандингах. Мы посовещались и решили так и поступить. С нами был старый кормчий, Алофнир Водяной Конь, который утверждал, что знает, где этот остров находится, и поэтому нам можно будет туда попасть. В шхерах Остроговых островов непросто попасть в одно место дважды, особенно дальше к северу, куда почти никто не плавает. Эйольф не поплыл с нами, утверждая, что должен присматривать за тем, что у него осталось, и заплатил наперед только треть, договорившись, что остальное отдаст, когда привезем его женщин. Мне это не слишком понравилось, и я хотел знать, отчего он сам туда не отправится, если уж он стирсман с четырьмя ладьями. Как по мне, муж, у которого забрали добро и к тому же украли женщин, должен сам поплыть и отмерить врагам справедливость – особенно учитывая, что тогда бы он сберег немало денег и, мало того что покрыл бы себя славой, так еще и сумел бы взять немалую добычу и вернуть свое богатство. Однако меня никто не захотел слушать. Треть с тысячи марок, среди которых попадались и золотые гвихты, насыпанная одной кучей, помутила всем разум, и команда не скрывала, что одна мысль о том, что пришлось бы отдать серебро только потому, что я слишком осторожен, их злила. Утверждали, что Эйольф слишком раздавлен потерей, чтобы самому заниматься местью, или что его люди немногого стоят, как оно обычно и бывает с грифонцами, а кораблей, может, и четыре, вот только наверняка они небольшие. Это, впрочем, его дело, хватает ли ему духа или нет. Мой кузен, Скафальди Молчащий Ветер, даже решился сказать что-то о стариках, которым стоило бы оставаться дома и играть с внучками, вместо того чтобы путаться под ногами у смелых мужей, которые не боятся ни моря, ни сказок о тварях из вулкана и берут любое золото, какое только видят, – и потому пришлось с ним биться.
…Мы покинули Волчий Вой и поплыли на север. Много дней кружили средь островов в тумане и несколько раз даже потеряли друг друга. Два раза мы сражались с морскими чудовищами, и наконец где-то через месяц, Алофнир, который до этого был несколько угнетен и растерян, начал узнавать что-то по звездам и берегам, мимо которых мы проплывали. И повел нас через скалистые проливы. Тогда-то мы и увидели проклятый остров. Был он весь укрытый туманом, а в горах на берегу вставал большой двор из стекловидного камня. Были там стены, башни и донжоны, много их, как деревьев в лесу, со сверкающими, острыми, будто сосульки, крышами. Некоторым из нас приходилось видеть такие здания в южных краях, они утверждали, что это опасные места, поскольку обычно сидит там король или кто-то настолько же суровый и окруженный воинами. Чтобы захватить такую крепость, нужна армия из сотен, а то и тысяч людей, мощных машин и много времени. Достаточно было бы просто посмотреть на стены.
…Потому мы оплыли остров и нашли небольшой заливчик, окруженный лесом и скалами, с галечным пляжем. Мы обождали на море, пока не стемнеет, и пристали к берегу под охраной ночи. Выбрали жребием тех, кто должен остаться на кораблях и в случае чего отплыть в море, а сами отправились на сушу. Остров был не слишком велик, но горист, и только на рассвете мы добрались до тех мест, где стоял замок. Высокий, весь из камня, выглядел он как несколько соединенных дворов и упирался в склон горы, которая казалась совершенно спокойной. Видели мы немного, поскольку отделяли нас кратер и скалы, окружавшие вулкан. Кратер затянулся камнем, который только местами дымился; но он был совершенно холоден и тверд, и по нему можно было ходить. Тепло, шедшее откуда-то из-под земли, позволяло чувствовать себя как на юге. А в центре кратера оказалось круглое озеро. Не воняло серой, как бывает в таких местах, а вода была чистой и синей, как у нас. На склонах росли такие деревья, какие встретишь только на юге. Кусты медовых слив, фруктовые кусты, виноград и странные растения. Место было очень красивым и диким одновременно. И мы не встретили никого, идя той долиной, только немного птиц и животных.
Он делает большой глоток и некоторое время крутит кружку в ладони. Кажется напряженным и сбитым с толку, рассказывает как-то иначе, чем обычно бывает с моряцкими побасенками. Похоже, до этого времени он никому о том не говорил, хотя история, похоже, аккурат подошла бы для любого из зимних вечеров. Я доливаю себе грифонового молока и спокойно пыхаю трубкой, ожидая, что там будет дальше.
– До этого времени мы шли цепочкой, каждый корабль отдельно, в полной броне, и вместе нас было сто тридцать один человек, – продолжает Грюнальди. – Но потом мы разошлись среди кустов и деревьев, на случай, если бы кто-то решил туда заглянуть. Мы прокрались на край грани, заглянули вниз и увидели, что от стен замка нас отделяет еще одна долина. Вся покрытая кустами и деревьями, и те были белыми и сверкающими. По дну долины полз густой туман. Дальше виднелись водопады, льющиеся со скал, а потом – поток, стекавший по скалистому ущелью вдоль сверкающей гладкой стены. Мы видели и ворота в стене, и мост над ущельем. И множество башен, острых, словно наконечники копий. Крепость упиралась в гору спиной и была открыта к морю. Мы видели, как оттуда выплывают рыбацкие лодки, обычные снеки и долеры, и как вплывает ледяной корабль, вроде этого вот, загнутый с двух концов, сверкающий и длинный, как нож, а замок будто заглатывал его. Стены заходили глубоко в море. Даже с края скалы, откуда мы смотрели, было видно, что за стенами ходят люди, и то, что у них в руках, похоже на удочки. Я спросил своих товарищей, как теперь в их глазах выглядят рассказы Эйольфа и что нам теперь делать, сотней против каменных стен. Хотел также знать, как они намерены найти в этом каменном лабиринте женщин стирсмана, если уж нам удастся проникнуть внутрь.
…Хорлейф Дождевой Конь сказал, что мы должны устроить засаду в море на один из тех ледяных кораблей, захватить его и вплыть внутрь, изображая экипаж, – а там поглядим. В свою очередь, Скафальди считал, что можно попытаться пройти вратами за мостом, и если уж они открыты, то смешаться с толпой, а потом внезапно ударить, захватить, что сможем, а после прорубить себе дорогу в порт и сбежать лодками на наш пляж. Если удастся узнать, где они держат похищенных женщин, – то забрать, кого сумеем. Я сказал, что обе идеи, на первый взгляд, хороши, и что с тем же успехом можно пройти хребтом, а потом спуститься внутрь на веревках. И что внезапно добраться за стены можно многими способами, если уж жители, похоже, ничего такого не ждут. Вот только это не слишком-то нам поможет, если не знаем, что может ожидать нас в замке. Потому мы согласились, что нужно сперва разведать и, по крайней мере, узнать, как много там воинов.
…Мы разделились. Те, которые жили в горах и лучше прочих умели лазить по скалам, разобрали веревки и пошли краем вокруг кратера, чтобы пробраться за водопады и попытаться сделать так, как предложил я, а часть должна была пробраться белой долиной к воротам и узнать, что можно сделать этим путем. Остальным придется ждать сигнала, спрятавшись меж скал. Я пошел с теми, кто должен был пройти долиной и подкрасться к воротам. Естественно, сперва мы все немного передохнули после непростого ночного марша через горы и лес и немного выпили, как делают перед битвой.
…Было непросто сойти по склону на глазах у стражников, прохаживавшихся вдоль стен. Удалось нам только потому, что там росли кусты и было много скал, а дно долины наполнял туман.
…Это не был холодный туман, который приходит, когда появляются призраки урочищ. Там было довольно тепло, а в воздухе чувствовался необычный запах. Сладкий, печальный и прекрасный одновременно. Вернее, так говорили остальные. Для меня он был слишком сладок, у меня сразу начала кружиться голова и подступила тошнота. На дне долины мы уже перестали красться от скалы к скале и прятаться среди кустов и сухой травы. На нас опустился туман. Мы не видели ни стен, ни за́мка, только деревья и кусты изо льда. Теплого льда, который не таял, точно так же, как этот корабль. Ветки, листья и цветы были будто сплетены из ледяных кружев, которые, когда мы их касались, мягко позванивали, как колокольчики.
Он на миг выпрямляется и смотрит на свои руки, словно желая проверить, не трясутся ли они. Сжимает кулаки и упирается в стол, а потом тянется за оловянной резной кружкой и выпивает до дна. Глядит на нас по очереди, будто опасаясь, что мы станем смеяться, но не смеется никто. Сильфана смотрит на него из-под сплетенных ладоней, склонив голову набок. Спалле глядит выжидающе, поигрывая кусочком сухого мяса в одной руке, с ножом в другой. Грюнальди наливает себе половину кружки грифонового молока, а потом доливает воды.
– То, что случилось позже, я помню, как сквозь сон, – говорит он, медленно покачивая головой. – Или как после суровой пьянки. Не знаю, правда ли то, что я видел. Помню, что мы спускались между теми ледяными деревьями и кустами, что под нашими ногами росли сверкающие, звенящие под ветром цветы. А потом утреннее солнце вышло из-за туч, лежавших над горизонтом, и сад засверкал всеми красками. Как радуга или кристаллы. Переливался туман, листья и цветы, а мы смотрели, остолбенев. И тогда все те ледяные цветы раскрыли чашечки.
…Теперь я думаю, что, возможно, рассудок наш отобрал запах цветов. Я видел, как человек, который стоял рядом со мной, снял шлем и опустил его на землю, а потом сел на корточки, воткнул меч в землю и принялся рыдать, словно ребенок. Я испугался и спросил, не болит ли что у него и не перепил ли он, и тогда он ответил, что слышит колыбельную, что пела ему мать, и чувствует себя так, будто он нашел все, что так долго искал, будто наконец-то вернулся домой. Туман начал рассеиваться, и я увидел, что большинство наших бродят среди этих ледяных растений, будто пьяные: как отбрасывают они оружие и садятся или ложатся на землю. Я чувствовал, что голова моя кружится все сильнее, что я начинаю потеть. Я понял, что скоро нас увидят стражники на стенах, и достаточно будет, чтобы всего один взялся за лук. Я увидел Скафальди, моего кузена: тот сидел на земле среди скал над небольшим родничком и хохотал. Я подошел к нему и схватил за плечо. Он повернулся, и тогда я увидел, что у него страшные глаза: мутные, словно наполненные кровью и молоком. Он зачерпнул шлемом воды из источника и подал мне, приговаривая, чтобы я выпил. «Пей! – крикнул. – Это лучше, чем вина Юга, лучше, чем праздничное пиво. Я никогда не пил ничего подобного!» Я отпил глоток, но это была просто чистая вода. Я встряхнул кузена, но он снова принялся пить, а потом опустил шлем и сказал: «Я нашел. Наконец-то нашел». Везде вокруг я видел Людей Огня, которые ходили неуверенным шагом, смеялись, плакали или садились на землю и таращились перед собой с глуповатой улыбкой, будто им настежь отворили гаремы Ярмаканда. Таких как я осталось немного: тех, кто стоял с оружием в руках, не зная, что делать. А потом мы увидели… – Грюнальди обрывает себя, делает несколько беспомощных жестов, не в силах найти слов, что с ним бывает довольно редко. – Это было похоже на… на тех людей, что изменены силами урочища, на тех, кого выращивают безумные Песенники в далеких краях. Мы увидели группку девушек. Голых девушек, но если присмотреться, можно было заметить, что это не простые женщины. Они были очень красивыми, но одновременно напоминали животных. Серн или газелей. Они точно так же переступали на месте: совсем как напуганные, сбитые в стадо серны. Я увидел, что кожа их покрыта очень мягкой короткой шерстью, что вместо пальцев ног у них маленькие копытца. Измененные чаще всего уродливы, похожи на больных, но эти выглядели естественно, будто такими и родились в согласии с природой. Лица прекрасных девушек и животных одновременно. Казалось, разума в них не больше, чем в газелях. Я слышал хихиканье, но это был призыв, а не настоящий смех.
…Другие вдруг вынырнули из источника, гладкие и мокрые, как морскони из проруби, у них тоже были фигуры прекрасных женщин, но одновременно они были как морские создания, волосы их были зелены и напоминали водоросли, а на шее открывались жабры. И все они прижимались к нашим воинам, чтобы гладить их и ласкать, а те стояли, будто угоревшие, опустив оружие. И в этой ополоумевшей толпе осталось не больше десятка-полтора тех, кто был вроде меня: оглядывающихся, присев с выставленными мечами; они, в конце концов, сбились в круг спиной друг к другу, не зная толком, что делать дальше.
…Туман рассеялся под лучами утреннего солнца, будто кто отодвинул занавес. Я увидел водопад, гору и сверкающие стены замка. А немного сбоку, на выступающей из земли скале, присело чудовище. Выглядело оно как мощный муж, голый, но в странном нагруднике, похожем на панцирь черепахи. Из его висков вырастали закрученные рифленые рога, лоб был большим и выпуклым, а еще у него были странный плоский нос и грязно-желтые круглые глаза. Я глянул на то, как он странно сидит на той острой скале, на его ноги с двумя только пальцами, что заканчивались копытами, на мощные плечи. В одной руке его был железный молот на длинной рукояти, а в другой – большая гнутая раковина. Я слышал, как стоящие рядом люди призывают Хинда или Кузнеца, чтобы те увидели их смерть и приготовили им луга в Долине Сна. Бык взглянул на нас и фыркнул, аж земля задрожала. А потом соскочил со скалы и подул в раковину. И тогда через мост из боковых ворот на нас вышли воины. Были там обычные люди и были странные существа, перемешавшись вместе. Входя на луг, встали в три ряда и выставили перед собой стену из раскрашенных щитов.
…Девушки разбежались во все стороны, словно напуганные газели, наши люди поднимались с земли, некоторым приходилось зашнуровывать штаны, искать брошенное оружие. Потом они присоединились к нам, стоящим в кругу. Водяные жены впрыгнули в прудики, ловко, как выдры, но сразу же повыставляли наружу головы с черными, любопытными глазами, в которых не было ничего человеческого.
…Раздался рев нескольких рогов, звучал он как жалоба морских чудовищ, и стоящие в строю Люди Вулкана расступились, пропуская рослого мужа со светлой короткой бородой в портках и кафтане, в коротком плаще, на котором серебряной нитью вышито было безлиственное дерево. Человек казался старым, но шел решительно, как юноша, упираясь в землю копьем. Я взглянул на его диадему и подумал, что это, судя по всему, проклятый король. И что нам нужно его убить, потому что это – первый король, появившийся в нашем мире за Остроговыми островами, и если мы этого не сделаем, то скоро появятся и другие. Короли станут множиться, как мыши, если только им это позволить. А когда он подошел ближе, я увидел: то, что торчит из его головы, – не диадема, но это и есть его череп. Из него вырастали острые, будто сосульки, шипы, покрытые нормальной кожей; напоминали замок с башнями, точно такой же, как и тот, что вставал перед нами. Рядом с этим мужем вышагивало и другое создание, выше короля на добрых пару локтей, с мордой, как у хищного кота, и с длинной золотой гривой, падающей на спину и плечи. Он был покрыт короткой шерстью в коричневые полосы и держал огромный двуручный топор с двумя лезвиями. Позади шло еще четыре мужа, чьи лица были спрятаны под капюшонами плащей с вышитым деревом. Когда весь кортеж остановился, они сбросили плащи, показывая небольшие шлемы с кольчужной сеткой, закрывающей лицо. Сзади все время ревели раковины и рога, а со стороны воинов то и дело доносился медленный стук барабана. Быколак отошел от своей скалы и встал рядом с остальными.
…Мы сомкнули строй, кто-то сзади подобрал лежавшие среди ледяных цветов щиты. Я покачивался, по коже моей прокатывался жар, словно сидел я между кострами, но внутри наполнил меня мороз, будто я хлебнул ледяной морской воды. Остальные, те, кто сохранил рассудок в Ледяном Саду, выглядели точно так же: пот стекал из-под шлемов и капал на землю, оружие тряслось в руках, но я знал, что это не страх, а ровно такая же болезнь, которая точила и меня.
…Муж, который подошел к нам, встал в нескольких шагах, а потом сказал: «Приветствую вас, странники моря! Приветствую вас, кто ищет свое место, поскольку вы его нашли! Приветствую вас в Ледяном Саду, который примет всякого и всякому даст то, что тот утратил». Муж этот говорил довольно коряво, словно был слегка не в себе, и выламывал звуки так, как делают это живущие на Пустошах Тревоги. Я сказал ему, что мы воины из Земли Огня и прибыли за женами, которых он похитил, и за возмещением обиды, нанесенной морякам и обитателям Побережья. Посоветовал, чтобы он отпустил жен и позволил им вернуться домой, а потом мы оговорим размер выплаты, которая будет, однако, не меньше чем десять марок на каждого из нас и по сотне за каждую похищенную.
…Вернее, мне казалось, что я это говорю. Я слышал, что слова, выходящие из моих уст, неразборчивы и странны, что язык у меня как кусок деревяшки, и что я не в силах им шевелить – более того, что я забываю слова. Вместо «марки» я произносил «гвозди», а вместо «море» – «там, где рыбы». Муж со странной головой, однако, понимал, что я говорю, потому что ответил, что Ледяной Сад принимает всех, кто пожелает остаться, и никого не держит силой. Все мужи и жены всегда могут, захоти они, уйти. «Вы также можете выбирать», – сказал он. «Можете остаться или уйти, откуда пришли, как пожелаете. Там, за Ледяными Вратами, вас ждет приветственный пир, если решите, что вы здесь нашли потерянный дом. А вот там, за вашей спиной, находится тропа, что ведет к пляжу, к тому месту, где вы оставили свои корабли. Если же вам не хватает разума и вы решите покорить нас силой, то за мной стоят мужи. В любом случае все обстоит ровно так, как я и говорю: можете остаться. В Саду или в земле, которая его питает, либо можете уйти».
…Среди ледяных деревьев я увидел ворота: круглые, сложенные из искусно сплетенных ледяных веток; они были отворены и открывали вид на дальнюю часть Сада, где среди уставленных яствами столов стояли молодые девушки, обычные и измененные Песнью Богов. Я слышал, как играют там арфы и флейты, видел котлы, где варилось мясо, вертела, на которых пекли птиц, тарелки, в которых лежали горы фруктов, – и чувствовал, как желудок подкатывает к горлу.
…Я услышал стук, с которым один юноша, Урлейф Красная Ладонь с корабля Скафальди, отбросил свой щит и покинул строй. За ним двинулись еще и еще. Один из моих людей заступил на опустевшее место и поднял щит, но то и дело кто-то отваливался от нашего круга и уходил.
«…Наши люди уже сходят с хребта, – сказал мой кормчий, обращаясь к Скафальди, который стоял перед ним. – Те, кто шли по хребту, видели, что происходит, и вот-вот будут тут. Я слышал рев рогов в горах. А воинов перед нами – не больше трех сотен. Выстроимся копьем и ударим. Убьем короля и пойдем к вратам, ведь они открыты. Они вышли всеми своими силами, поэтому на стенах нет никого. Мы можем захватить этот город».
«… – Твои слова звучат для меня как карканье ворон и вой волков, – ответил на это мой кузен. – Ты будто уговариваешь меня, чтобы я изнасиловал и убил подростка. Если я покину это место, то никогда уже не перестану его искать. Если я его разорю, будет хуже, чем если бы я сжег храм Друга Людей, убил собственных отца и мать и моих братьев. Потому что я попал домой, и я не позволю уничтожить этот дом».
…И тогда Скафальди вдруг развернулся и одним движением проткнул моего кормчего, с хлюпаньем выпуская его кишки на землю, а потом ударил его в глотку так быстро, что тот не успел и крикнуть. Мой кормчий и друг, Арлаф Говорящий-с-Медведем, пал нам под ноги, брызгая кровью, и тогда нас охватило безумие. Те, кто сперва казались отуманенными Ледяным Садом, подняли мечи на тех, кто сохранил рассудок, а было таких немного, не больше дюжины. Я уколол Скафальди, моего кузена, но я был слаб, он легко отбил мой клинок, а потом ударил сверху так быстро, что разрубил половину моего щита, и нас сразу же разделила толпа сошедшихся грудь в грудь орущих мужей, что сражались как стая оголодавших волков над единственным козленком.
Он снова стихает на миг, и никто из нас не нарушает молчания. Он отпивает глоток.
– Я помню немного. Только крик, звон железа, падающих людей, кровь, которая летала в воздухе, и ледяную пыль, поднимавшуюся из-под наших ног. Она сверкала на солнце. Тот муж со странной головой что-то кричал с поднятыми руками, крик его вяз в воплях и перезвоне железа, но люди его стояли неподвижно и лишь смотрели, как мы вырезаем друг друга. Кто-то душил меня, я изо всех сил толкнул разбитым щитом, ударил коленом и махнул мечом, перерубая наносник шлема, кто-то другой ранил меня в плечо. Кто-то хрипел, перхая кровью, и так много мужей уже лежало под нашими ногами, что мы то и дело о них спотыкались, запинаясь о разбросанные конечности. Некоторые вдруг потеряли запал к битве и принялись по одному, по двое отступать к Ледяным Вратам. Только наиболее ярые еще бросались на нас, но все равно было их немало, а нас – горстка. В конце концов спиной друг к другу стояло лишь четверо из нас, заслоняясь сломанными щитами и люто рубя своих же, потом осталось трое, а потом кто-то метнул в меня топор. Я отбил его краем щита, но обух все равно ударил меня по голове, и на меня пала темнота. Через некоторое время я пришел в себя от боли, стукнувшись об каменистую горную тропинку. Это молодой скальд с корабля Хорлейфа, Сивальди Гусиный Крик, тянул и волок меня тропой, то и дело падая, потому что я бессильно обвисал на его плече, а его раны кровоточили. Но я пришел в себя, выплюнул зуб, меня стошнило, а после мы пошли дальше, к пляжу. Теперь уже я волок его, и мы то и дело падали среди кустов и камней. Наконец мы оба рухнули на землю где-то в лесу, а когда проснулись, то поволоклись к пляжу. Но тогда Сивальди начал кашлять кровью. Не знаю, сколько времени минуло, пока мы не нашли залив, в котором оставили корабли. Но наконец-то мы туда добрались. И не нашли там никого. Пляж и лес были пусты, остались только угли от костров в гальке над морем и мачты, торчащие из вод залива.
…Наши люди ушли, забрав с собой все, что имели, и прорубив дно кораблей перед уходом. Мы не знали, что случилось, но видели следы схватки, а в воде залива плавали два трупа. Это была небольшая битва. Мы нашли лишь немного свежей крови на стволе дерева и на траве, а на самом пляже лежал еще и шлем. И это все.
Он выпрямляется и снова отпивает, а потом смотрит на нас по очереди, словно ожидая оваций. Сильфана не выдерживает.
– Ты все еще сидишь на пляже? – спрашивает она ядовито и демонстрирует ему широкую зубастую улыбку.
– Около одного из кораблей на дне залива лежала лодка, – продолжает Грюнальди. – Маленький долер, что возят на борту, чтобы подплывать к берегу, когда невозможно причалить или вытянуть на берег корабли. Они пробили дно, но было там неглубоко. Мы сумели его достать, потом я нырнул еще несколько раз, нашел пару досок, гвозди, со дна корабля мы содрали немного смолы и подлатали долер настолько, что удалось на нем уплыть. Это было безумие, но мы были готовы сделать все, чтобы спастись с проклятого острова. Лодка чуть протекала, но наша латка держалась. Несколько дней мы шли только на веслах. Потом однажды ночью умер Сивальди: он все сильнее кашлял кровью. Я отдал его морю и поплыл дальше. Потом причалил к какому-то небольшому острову, где в расщелину собиралась пресная дождевая вода. Ел яйца чаек, морских улиток, собирая их на берегу. Через несколько дней меня забрали оттуда ловцы моржей, что возвращались своим кораблем в Землю Грифонов с грузом шкур, ребер, клыков и жира. Они были так потрясены моим жалким положением, что даже не забрали остатки серебра в моем поясе и меч. Зато накормили меня и напоили, а один из них перевязал мои раны. Таким-то образом я и вернулся – один – домой, и таков-то он, остров Ледяного Сада, куда мы теперь плывем.
Опускается тишина.
А потом все вопросительно смотрят на меня. Я пыхаю трубочкой и некоторое время ощущаю в голове пустоту. Расчудесно. Тишина делается тяжелой.
– Хорошо было бы знать, как так случилось, что на тебя не подействовали чары Ледяного Сада, – говорит Спалле.
– А ты когда-либо болел от еды, которую остальные нахваливали и ничего дурного не ощущали? Или от обычного запаха цветов или трав? – спрашиваю.
Грюнальди пожимает плечами.
– Я муж в расцвете сил. Я не одного перепью и не с одним справлюсь в схватке, и не стану сбегать от девки, а то и двух. Было у меня и время набраться ума-разума. Но знаете, как говорят: если муж перестал быть юношей и утром ничего у него не ноет, значит, ночью он помер. Я ем то же, что и все, а если потом ноет у меня брюхо, то так же бывает и с другими. Я не заметил в себе болезней, которых нельзя было бы объяснить тем, что я перемерз, перепил или переел, – как и тех, что не миновали бы после заговора от мудрой бабы, трав, огней и хорошего сна.
– А что с теми, кто остался на перевале или пошел в горы? – спрашивает Сильфана.
Грюнальди качает головой:
– Пару-другую из них я заметил в битве, но там была такая толчея, что мне могло и примерещиться. А потом ни одного из них я не видел. Думаю, что они пропали так же, как и те, кто остался на пляже. Забрали их Ледяной Сад и Люди Вулкана.
– А ты и прочие чувствовали себя странно в самом начале, едва только прибыли на остров? – спрашиваю я, крутясь по кают-компании в поисках того, что могло бы сойти за пепельницу.
– Нет, – отвечает он сразу же. – Только когда мы вошли в долину Ледяного Сада. Причем – не сразу.
– Значит, нам хотя бы известно, что туда идти не стоит, – говорит Сильфана.
– Корабль привезет нас, куда пожелает, – говорит Спалле. – И причалит туда, куда захочет Песенник с вулкана, тот, с сосульками на голове.
– Потому-то нам нужно достать лодку, – говорю я. – Причем раньше, чем мы выйдем в море. Кроме того, нужно будет что-нибудь придумать. Нас только пятеро. Что бы ни происходило, выживем мы лишь в том случае, если окажемся ловчей других.
– Ну, пока что удается нам не слишком-то, – мрачно заявляет Грюнальди. – То есть с Песенниками.
Замечает мой взгляд и вскидывает руки. На кончике языка у меня замирает: «Я никого силой не тяну», но Спалле успевает первым.
– Можешь сойти, – говорит. – На Драгорине берега близко, хватит прыгнуть за борт.
– Покусываешь при первой возможности, – ворчит Грюнальди. – Я не закончил, и плохо нам будет, коли не сумеем договориться. Хочу сказать, что самое время нам найти способ на тех Песенников, потому что начинает подниматься вьюга. И лучше будет, если ты, Ульф, научишься деять, как они.
– Все мне об этом говорят, – отвечаю. – Стараюсь, но это не так просто. Это вам не на флейте играть!
– Ты получил то копье, – внезапно начинает перечислять Сильфана. – Вылез из дерева, два раза вырвался у него из рук. Учил тебя тот, что обитал в пещере. Сумел ты сделать так, чтобы мы все в один миг перескочили в страну Змеев. Ты убил железного краба укусом магической осы. И все еще не веришь, что ты – Песенник.
– Я над этим работаю, – отвечаю я устало и отрываю себе кусок мяса. – Пока что у меня проблемы с метанием молний из рук. Но по очереди: сперва лодка. Потом нужно вообще доплыть и – ты права – что-то выдумать по дороге. Поймите: я обучен оружию и выслеживанию. Я умею справляться с тем, что я понимаю. А песен богов я не понимаю. Это не так просто, мол – подумал о чем-то и получил.
Я слушаю и с раздражением слежу за облачком пара, которое вырывается у меня изо рта. Я с кораблем не могу справиться, а они хотят, чтобы я превращал камни в гусей.
Я поднимаю решетку и всовываю руки в темноту. Вниз свет проникает сквозь плетение в плитах над головой. Я вижу шпангоуты и темную воду, отекающую борта, странные жилы и сосуды, вьющиеся в киле и стенах зеленоватые проблески. Я замечаю пиллерс с растопыренными, утопленными в корпус корнями, как ствол дерева; рядом другая вытянутая форма, в которой что-то движется. Я ударяю в это нечто и пробуждаю колючее змеевидное создание, которое, вырванное из дремы, начинает светиться зеленоватым блеском, будто миниатюрная молния. Наверху раздаются крики и топот.
– Все нормально! – кричу я. – Я просто зажег свет.
Камера под палубой почти пуста, вдоль бортов тянутся лишь ряды овальных емкостей, маячат еще какие-то продолговатые формы, едва видные и с носа, и с кормы, из киля торчит вверх цилиндрический аквариум, который я миг назад пробудил, ну и есть еще большой картофелеподобный предмет, распертый на воткнутых в дно корабля изогнутых ножках. Он пузатый, создан из куда более матового и непрозрачного материала, чем остальная часть корабля, и напоминает огромную дыню, или, возможно, луковицу, что заканчивается вросшей в палубу трубой, похожей на перья порея. Но самое важное, что на выпуклом боку находятся две пары дверок, размещенных одна над другой. Я бывал в скансенах. Знаю, как выглядит печь.
Я отворяю верхние дверки и вижу внутри камеру с ажурным полом, ниже вторая камера, в которой лежит горсточка серой пыли. Зольник?
А потом я обыскиваю емкости, стоящие вдоль бортов, в поисках какого-то топлива. Подозреваю, что оно не будет напоминать ничего привычного. Наверняка здесь не найдется дров или древесного угля, ничего, что может продиктовать логика. Чувствую, что идя методом проб и ошибок, закончу, пытаясь поджечь колбасу или запасы мыла.
В одном из саркофагов и правда нахожу некие уложенные рядком полешки из мутно-белого вроде бы льда. Или еще из чего. Я закрываю глаза и чувствую запах различных углеводородов и еще каких-то чуждых примесей, которые не ассоциируются у меня ни с чем. Скажем так. Если это гранаты или хотя бы сигнальные ракеты, я это быстро пойму. Если нагружу ими печь, то-то будет смеху. Я не ощущаю нитратных связей, как и вообще азотных, а это их драконье масло отдает как бы рыбьим жиром, серой и селитрой – в общем, тоже пахнет иначе.
Я открываю камеру печки, но, поразмыслив, вытягиваю нож и скребу по одному из полешек. Оно крошится и неохотно уступает клинку, на мою ладонь падают белые опилки, которые я раскладываю на плоской поверхности толстого киля, и вытягиваю огниво.
Провожу тупой стороной ножа по кресалу – выстреливает пучок веселеньких рождественских искорок, но ничего не происходит. После второго или третьего раза опилки начинают тлеть странным голубоватым пламенем и гаснут. Я снова ударяю ножом, раздуваю жар – и появляется огонек. Голубой, как от горящего спирта, и от него бьет тепло. Пламя не растет резко, не шипит и не бьется, а потому я решаю рискнуть. Одно странно тяжелое полешко я кладу на решетку и переношу на ноже пылающие хлопья. Мне не слишком нравится то, что я делаю, поскольку это глупая импровизация, но выбора у меня нет. Эти их Остроговые острова – быть может, и не Ледовитый океан, мы слишком далеко на юге, но зима тут суровая. Нынче восемь градусов мороза. Когда температура упадет всерьез, замерзнем, как сверчки, если я ничего не придумаю.
Синеватые огоньки охватывают верхнюю часть полешка, из дырочек печи начинает бить тепло. Надеюсь, я нашел топливо. Существует много вещей, которые можно поджечь и которые не обязательно для этого служат. Например, масляная краска, микроволновки, покрышки или солонина. Запасы продолговатых ледяных брикетов, однако, выглядят как топливо. Я закрываю дверки печи, освобождаю поддувные щели в зольнике. Огонь растет, но спокойно. Из печи начинают доноситься шум и пощелкивания, но звуки эти меня не беспокоят. Подумав, я вбрасываю в печь еще одно полешко и возвращаюсь в кают-компанию. Меня больше всего интересует, куда идет тепло. Прослеживаю одну трубу, что идет, похоже, от печи к колонне мачты; две другие бегут под палубой на корму и нос, а еще одна толстая нитка внедряется прямиком в стол.
В кают-компании уже чувствуется теплое дыхание от пола, я прикладываю ладони к мачте и убеждаюсь, что начинает нагреваться и она. Слава Богу, мокрой она не становится. Если этот корабль растает, то не от печки.
– Что ты там сделал? – подозрительно спрашивает Сильфана. Она наклоняется с лавки вниз и приставляет ладонь к плетению гретинга.
– Растопил печь.
– Чем?
– Как бы льдом, – она смотрит на меня тяжелым взглядом, потому я добавляю: – Горит синим.
– Это успокаивает, – замечает Грюнальди, выпуская пар изо рта. – До утра не замерзнем – уже что-то.
Я ощупываю столешницу, однако она равномерно холодная. В том месте, где должен быть выход канала от печи, я нащупываю круг, который легко проваливается вниз. Спутники смотрят на меня с подозрением, когда я, охваченный вдохновением, открываю шкафчики в поисках посудины, нахожу котелок и наливаю в него немного воды. Для пробы, потом добавлю что-то съедобное. Столешница проваливается под тяжестью посуды, мягко, словно лифт, и котелок до половины погружается в стол. Экипаж стоит вокруг меня и внимательно следит, наконец Грюнальди тянет ладонь и нажимает на край посудины. Котелок наклоняется вместе с подставкой, будто присосавшись к ней или примагнитившись, и свободно движется во все стороны. Я присаживаюсь к столу со светским выражением лица и наливаю себе грифонова молока, которое развожу водой.
Через несколько минут вода начинает чуть парить, через раздражающе долгое время появляются пузырьки, а потому я бросаю в котелок содержимое найденного горшка – солидную порцию мяса с жиром и чем-то еще. Будет суп. Или рагу. Или что-то еще. Победа человеческого гения над примитивной магией.
Уже смеркается, но я посылаю Грюнальди сменить Варфнира, когда тот прикончит миску густого, горячего гуляша, немного пахнущего козлятиной и букетом странных трав.
А потом я и сам иду подремать перед вахтой и проваливаюсь в регенерирующий полуторачасовый сон.
Едва я прикрываю глаза – дрейфую на льду.
* * *
Ледяной драккар резал воду и плыл сквозь черную как смоль ночь. Драккайнен сидел на носу, положив себе под задницу свернутую в рулон шкуру, и следил за покрытыми снегом берегами, что проплывали мимо.
– Соберись, Цифраль, – говорит он сам себе, прямо в торчащий во мраке носовой штевень, увенчанный головой дракона. – Термовидение. Способность различать температуру и видеть в отраженном свете. Давай. Вспоминай.
Искристая, светящаяся голая фея размером с банку пива, которую никто, кроме Драккайнена, не видел, зигзагом, словно горящая ночная бабочка, мелькнула перед его лицом, а потом встала на бухте промерзшего каната и топнула ножкой, складывая неоновые крылышки.
– Ноктолопия охватывала бионические изменения в сетчатке и зрительной коре. Термовидение тоже. Эти системы со мной не стыкуются! Я не знаю, исчезли ли они или всего лишь была разорвана связь, я их просто не вижу. Не вижу, понимаешь? Это не мой каприз, я лишь операционная система.
– Обычно в инструкциях пишут, что следует проверить соединения всех кабелей, а если не поможет – связаться с изготовителем, – заявил он мрачно.
– Перестань упираться насчет того, что ты имел раньше. У тебя есть новые способности. А этот корабль весь наполнен магией.
– Хорошо, – неохотно проговорил он. – Покажи.
Он ожидал мерцающего тумана, наполненного радужно опалесцирующими искрами, такими, какие он видел ранее в урочищах, но ничего подобного не случилось. Вместо этого он увидел раскаленные докрасна линии, бегущие через корпус, будто нервные волокна, но этот блеск был приглушен, как жар, просвечивающий сквозь щели в очаге.
– У нас тут есть песни богов, запертые внутри. Изолированные, – проворчал он. – Ради безопасности или чтобы избежать потерь. Это элементы двигателя.
Пылающие приглушенным светом линии тянулись вдоль киля и разветвлялись по борту: в нескольких местах он видел большие скопления силы, напоминали они бусинки, насаженные на линию вдоль корабля. Видел их нечетко, свет едва пробивался сквозь ледяной борт и палубу, но на корме, поблизости от его каюты, и на самом носу под штевнем маячили овальные формы, собравшиеся в гроздья.
– Я ничего не заметил на корме, но в форпике были те емкости, обозначенные черепами, – догадался Драккайнен.
Встал и прошел на нос, критично поглядывая на голову дракона, вздымавшуюся над волнами метра на три, на его ощеренную пасть с геральдически свернутым, выставленным наружу языком. Осторожно влез на борт, а потом подпрыгнул, ухватываясь за гребень шипов на драконьей шее, и, скользя подошвами по сверкающей поверхности льда, сумел подтянуть тело поближе к башке и заглянуть в пасть.
– Есть дыра, – выдохнул, соскочив назад на палубу. – Возможно, удалось бы вывести через нее немного этого свинства, которое, похоже, служит горючим для двигателя и сидит в замкнутой системе. Если же оно работает как оружие, то эта башка дракона вполне логична, с точки зрения здешней вывихнутой логики.
– Ты бы предпочел пушку? – ядовито спросила Цифраль, паря рядом с его головой.
– Еще бы, – ответил он. – С одним орудием или хотя бы с какой-никакой винтовкой я бы добился раз в сто больше, чем с кретинскими чудесными туманами, которые магичны, капризны, неуправляемы и непредвиденны. И не пари рядом с моим лицом, у меня внимание рассеивается.
Он уселся на шкуре и некоторое время нервно барабанил по грифу лука.
– Давай попробуем выпустить немного этой ерунды, – заявил наконец. – Только осторожно.
Он выпрямился и прикрыл глаза и некоторое время сидел так, сосредоточенно представляя магическую жидкость, вытекающую из емкостей и идущую по ледяному пищеводу вдоль драконьей шеи.
Продолжалось это довольно долго. Он склонил голову и сжал кулаки в страшном ментальном усилии, однако не происходило ничего особенного, кроме того что на виске его начала пульсировать жилка.
– Juosta, perkele sumu, – процедил он наконец, но и это мало чем помогло. – Это как высасывать бензин из закрытой канистры, – заявил мрачно. – Или пытаться уговорить воду течь из закрытого крана. А ведь наверняка хватит одним пальцем приподнять затвор, вот только не знаю, где он находится.
Драккар плыл спокойно и неудержимо, без усилия рассекая воду и мягко сворачивая на петлях реки. Драккайнен сплюнул за борт, а потом пошел длинными шагами на корму, считая про себя.
– Примерно четыре узла, – заявил, когда колышущийся на волнах, едва видимый отсюда плевок остался далеко позади. Ухватился рукой за скрученный кормовой штевень и выглянул за борт. – И ни следа двигателя. Ни винта, ничего. Просто плывет. Тянемся на невидимой веревке. Или нас толкают притаившиеся под дном дельфины.
Он вернулся на нос и снова уселся на шкуре.
– Ладно, еще раз. Все мудрецы толкуют, что заклинание должно быть конкретным. Я так понимаю, что следует взывать не к эффекту, а к тому, что должно происходить вовремя. Шаг за шагом. Допустим, речь о наливании чего-то из бутылки в стакан при помощи магии. Не орем: «Водку – в стакан!», потому что магия не понимает, в чем там дело, мы сперва заставляем пробку провернуться несколько раз против часовой стрелки, пока она не упадет с горлышка. Потом делаем так, чтобы жидкость покинула бутылку через горлышко. И тут начинаются проблемы, поскольку это мне никто не объяснял. Я могу двигать материю против законов физики, силой воли, разве нет? Потому что с той подковой – ты ведь помнишь, что ее раскачивал Бондсвиф, смилуйся Господь над его душой, уставший от моих неудач. Поэтому я могу приказать ручейку жидкости течь по любой траектории, или мне нужно придумывать, скажем, воздушную подушку внутри бутылки? Предположим, я могу перемещать объекты, да и все твердят, что это возможно. Тогда направляю водку вверх по бутылке, а потом по траектории, которую визуализирую себе как стеклянную трубку, ведущую к стакану, – и дело сделано. Но, возможно, я должен выстрелить ею, как шампанским, и направить в сосуд, а? Jebem ti majku… Не проще ли встать и налить ее по-человечески? А теперь вопрос онтологии: могу ли я отдавать приказы магической материи, закрытой в емкости, затем, чтобы, используя ее, отдавать приказы другой материи? Ладно, jebał to pas. Возвращаемся к емкостям с песнями богов на носу и к закупоренному горлу дракона. Шаг за шагом, как с той водкой… Ох, perkele saatani Vitti!
Песни богов в виде мигающих микроскопических искр слетали с головы дракона, словно пар из чайника, создавая небольшое облачко. Однако вытекало оно не из зубастой пасти, а из ноздрей, как дыхание в морозную ночь.
– Ни слова, – предупредил он Цифраль. – Давай без комментариев. Ну, иди к дядюшке… – последнее было обращено к переливчатому облачку, стекающему с носового штевня.
Он раскинул руки, облачко перед ним сформировалось в неустойчивую круглую форму. Драккайнен сконцентрировался и выбросил руки перед. Из облачка вытянулись две дрожащие полоски и охватили его ладони, а потом взобрались на самые плечи.
– Осторожно… – заскулила Цифраль.
– Спокойно, – сказал Вуко тоном, каким говорят с тигром, встреченным на улице. Он стоял, окруженный облачком радужных искр, будто в нимбе бриллиантовой пыли. Берега Драгорины расступились, и драккар вплыл в озеро, поблескивающее во тьме, как черное зеркало. Дохнул легкий ветер, но окружающая Драккайнена звездная пыль не развеялась, а пошла легкими волнами.
Разведчик сглотнул:
– Ладно… Посмотрим, что можно с этим сделать. Сперва поворот…
Он стиснул зубы. Прошла минута, а потом драккар дрогнул. По корпусу прошли вибрации, будто внезапно включился раздолбанный двигатель рыбачьего катера. Корпус заскрипел, внизу, в кают-компании, что-то с лязгом упало на пол. Но корабль начал поворачивать. Легонько, градусов на десять по курсу, и со все большим дрожанием – но поворачивал. Драккайнен стоял на согнутых ногах, и казалось, пытается толкать грузовик. Потом он выдохнул и выпрямился. Корабль сразу же перестал трястись и плавно вернулся на свой курс, будто с облегчением.
Драккайнен снова уселся на шкуре.
– На это ушло немало энергии, – заявила Цифраль. – Это облачко сделалось куда более разреженным. Полагаю, должен быть более простой способ.
– Есть, – ответил он. – Нужно просто отключить автопилот. А так-то да, я действовал наперекор мотору. Но важнее, что на драккар вообще можно влиять. Теперь попробуем кое-что другое.
Он вынул стрелу из колчана и прицелился куда-то в ночь. Положил ее на раскрытую ладонь, прикрыл глаза и прошептал что-то по-фински, не слишком вежливо. Стрела со стуком свалилась на палубу.
– Это будет длинная ночь… – вздохнула Цифраль.
* * *
Увы, лодку мы не находим ни утром, ни на следующий день. Попалась только позабытая, полузатопленная долбленка, немногим больше корыта, вмерзшая в лед и заросли камыша на берегу. Вернее, каких-то растений, что напоминают камыш, потому что – высокие и растут в воде. Однако долбленка не пригодится ни для чего: ни как шлюпка, ни вообще. А больше – ничего. Похоже, лодки старательно спрятали, едва лишь выпал первый снег. А на что мы надеялись?
В итоге – дрейфуем по течению на льдине. На льдине в форме драккара.
Реку начинает схватывать лед. Подле берегов уже появляется молочная масса, она протягивается метра на полтора и заканчивается тонкими кружевами, все стволы и камни тоже окутаны в ледяной иней, в течении плывет шуга, тонкие – пока что, – как стекло, плитки льда начинают собираться в стайки и с легким треском уступают носу драккара. Еще день-два – и река встанет до самой весны. У нас тут континентальный климат. Жаркое лето и суровые зимы. Я надеюсь, что это означает также и то, что до самой весны будет царить спокойствие. Пожалуй, даже ван Дикен не настолько глуп, чтобы ударить по Побережью Парусов в мороз и снег. А если он и решится, то не будет проблем. Вымерзнут в шатрах и куренях, поломают зубы о частоколы местечек, и прежде чем я вернусь, на нем можно будет поставить крест. Но что-то мне говорит, что все будет не так просто.
Я высматриваю лодку, поскольку это базовая часть моего плана. И тут даже речь не о том, что драккар начнет таять в открытом море, а я очнусь, дрейфуя на льдине.
Тем временем мы готовим консервированное мясо на ледяных брикетах, пьем грифоново молоко с водой и сменяем друг друга на вахтах. Я ввел корабельные порядки. Нет необходимости следить за курсом, рулить или поправлять такелаж, а потому мы просто стоим контрольные вахты и убираем кают-компанию. Кормим лошадей и чистим трюм, выводим коней по решеткам, превращенным в сходни, и проводим их по палубе. Проверяем оружие, при свете аквариумов тренируемся в схватке на мечах, копьях и ножах или врукопашную. Я показываю им техники подкрадывания к часовому, тихого убийства, обездвиживания. Преподаю основы саботажа и тактику малых отрядов. Нужно. Мы или спецотряд, или пятерка безымянных трупов. Потому я не даю им покоя. В ином случае в море мы выйдем группкой ленивых, рассорившихся пьяниц. Возникнут проблемы – будем трупами.
Себе я тоже не даю отдыхать. Тренируюсь со своими палашами и мечом. А прежде всего пытаюсь освоить песни богов. Именно тогда, во время тренировок в одиночестве на своих вахтах, без особого успеха пытаясь освоить чудеса, я нахожу трон. Происходит это в результате неудачной попытки поджечь издали сухое дерево. Попытки, что заканчивается половинчатым успехом. Потому что кое-что пламя все же охватывает, но вовсе не то дерево, в которое я целился. Не сумел увидеть, что именно, надеюсь только, что не чей-то дом, но подходя, чтобы рассмотреть, к кормовому штевню, я вдруг замечаю: тот поставлен по-дурацки. Будто с запасом. Драккар отсылает к образу ладей викингов, но только до определенной степени. Он больше, он чрезмерен, как из оперы. На настоящих «длинных лодках» нет нескольких трюмов, лестниц или крытых помещений. Это были ладьи – не корабли. В случае шторма люди сбивались под полотняные тенты или под наброшенную на голову попону. Штевень не встает на высоту второго этажа. Здесь, на носу, борта встают мягкой линией, врастая в задранный штевень, на корме же материал вверх от палубы создает выпуклый выступ, охватывающий и борта, и торчащую балку. Как усиление это смысла не имеет. Идиотский валок льда, блокирующий доступ к корме.
В какой-то момент я замечаю в нем абрисы более плотной материи, будто тень кресла, помещенного внутрь. Кресла или трона, с высокой спинкой и подлокотниками. Просто тень, сгусток с чуть молочными контурами. Я не уверен, действительно ли я его вижу: осматриваю вросшую в корму глыбу льда под разными углами, даже приседаю подле нее, но во мраке зимней ночи не слишком много видно.
Шесть утра, я продолжаю назначать себе «собачьи вахты» – мне хватает и пары часов сна, потому мне все равно. В «морских котиках» мне вбили в голову, что командир берет худшую работу. В это время года солнце встает в половине восьмого, сейчас самое дно зимней ночи: черное, ледяное и мертвое.
Меня сменяет Грюнальди, от рыжей бороды которого отдает теплом трюма – он приходит с двумя рогами горячего грифонового молока. Я беру свою порцию и с облегчением вхожу в уютную кают-компанию.
Утром мы уже близко от Змеиной Глотки. После двух часов сна, настолько глубокого и тяжелого, словно я умер на миг среди тех мехов и одеял в своей каюте на корме, я встаю бодрым и готовым к работе. Может, я ищу одиночества, а может, просто избегаю Сильфаны. Пытаюсь оставаться командиром. Она красивая, если не считать этих черных глаз призрака. И с каждым днем, проводимым вдали от дома, все красивее. Красивая, гибкая и слишком молодая. И заинтересованная. А я – всего лишь человек. Если мы превратимся в пару милующихся в ахтерпике голубков, мораль рухнет, и с тем же успехом нам можно будет прыгать за борт. Потому я выхожу на палубу из своего одиночества, приветствуя Грюнальди кубком этого странного, но горячего типа-гиннеса-со-специями и приношу с собой топор. Один из наших длинных данаксов на полутораметровом топорище, с длинной бородкой и массивным обухом. Таким можно снять с коня всадника в полном доспехе. Или разбить глыбу льда.
Остальные вылезают на палубу, распрямляя после сна спины, сморкаясь за борт и дыша паром на морозном воздухе. Выходят и смотрят на меня с ошеломлением в черных глазах. Безумец с топором на рассвете.
– Мне нужно кое-что проверить, – говорю я и замахиваюсь из-за головы. Слышен глухой звон, обух выбивает во льду круглый след, но больше не происходит ничего особенного. Я бью еще несколько раз под разными углами – с тем же эффектом.
– Рушим корабль? – бесстрастно спрашивает Сильфана, которая как раз выходит, кутаясь в шубу, на палубу, с куском сыра в одной руке и с кубком в другой. – Он нам уже не нужен?
– Напротив, – отвечаю я, взвешивая топор в руке. – Хочу, чтобы он сделался более управляемым.
Ударяю сверху вниз, и после второго раза во что-то попадаю. В какую-то магическую точку, помещенную в самой вершине ледяного валика. Раздается резкий стеклянный треск, потом второй, паутина трещин покрывает глыбу, и лед рассыпается, как перекаленное стекло или кристалл. Превращается в кучу мелких обломков. Сугроб ледяной каши.
И открывает трон.
Высокий, со спинкой, вросшей в штевень, оплетенный клубком ледяных драконов, огней и змей, обещающих сомнительные развлечения. Я не замечаю черепов и молний, которые могли бы меня от трона отвадить. Отдаю топор и подхожу, чтобы обмести трон от ледяной каши, но та превращается в клубы переливчатого тумана и впитывается в палубу сквозь отверстия гретинга.
– Ладно… – говорю я. – Сейчас я на него сяду. Не знаю, что случится, но что бы вы ни увидели – не предпринимайте ничего. И лучше не прикасайтесь ко мне, особенно если пойдут дым или искры. Если со мной будет совсем плохо, попытайтесь сбросить меня чем-то деревянным. Древком, веслом, но ни в коем случае не притрагивайтесь ко мне железом. Если с древком начнет происходить что-то странное, сразу же его бросайте.
Они напряженно смотрят на меня. Сильфана окаменела с куском сыра во рту.
– Погоди, – говорит мрачно Грюнальди. – Схожу поищу весло.
– Сделаем проще, – заявляет Сильфана и обвязывает меня вокруг пояса веревкой. А потом, воспользовавшись тем, что оказывается так близко, поднимает голову и смотрит – долго и глубоко – мне в глаза. – Если будет плохо, мы дернем за веревку, – добавляет она и старательно проверяет узел, который оказывается странно низко. Увы, я как раз собираюсь сесть на проклятое сиденье и на шуточки меня как-то не тянет.
– Ты здесь, Цифраль? – шепчу я. – Готовься.
Фея появляется сбоку, как бабочка, но выглядит еще более напряженной, чем я.
Глава 2. Люди-медведи
Песня рабов, Побережье Парусов
- Вижу тень отца,
- старца сурового тень.
- Стоит в стране тьмы,
- где черны ночь и день.
- Матери вижу лицо,
- где обрыв, пустота.
- Отводит суровый взгляд,
- сжимает уста.
- Братьев своих узрел
- на Другом Берегу.
- Мечи сломаны их,
- гнев достался врагу.
- Не дадут мне коня,
- не зазвенит подкова,
- ибо веревка на шее,
- руки и ноги в оковах.
- Нет для меня места
- на Достойных Поле,
- ибо душу мне вырвали,
- ибо иду в неволю.
Часто можно повстречать глупцов, утверждающих, что не существует такого, как свобода человека, поскольку мы все равно не можем делать то, что нам угодно, что только придет в голову. Потому что нам приходится считаться с другими людьми, с законами божьими и человеческими или с судьбой. Если все так, то не имеет значения, сколько этой ложной свободы у нас есть. И мы легко можем отдать еще немного ее за то, чтобы некто помог нам в нужде или дал миску пищи. Человек свободный, делают они вывод, должен обо всем заботиться сам. Он не знает, что принесет ему новый день, сумеет ли он наполнить котелок, добыть жбан воды или разжиться парой медяков. Что бы ни случилось, придется ему справляться с таким дело самому, как сумеет. Потому-то лучше, когда занимается этим некто мудрее, кто накормит и вылечит, требуя за это лишь послушания.
Так говорят дураки. И речь их такова, поскольку они перекручивают слова, заботясь лишь о том, чтобы те оказались красиво составлены. И благодаря этому кажется, что содержится в них некая бездонная мудрость, хотя те, кто так говорит, обычно немного повидали в этом мире, и еще меньше из увиденного поняли. А прежде всего, можно быть уверенным, что ни один из этих глупцов никогда не испытал настоящей неволи.
Я испытал и знаю, что если ты сам не почувствовал на своей спине кожаного кнута, если не открывал ты глаз лишь затем, чтобы выполнять чьи-то приказы и ни зачем более, то рассказывать о таком – все равно что объяснять потерянному в песках пустыни, что питье воды всего лишь пустая привычка.
И уж нигде и никогда не найдете вы большего глупца, чем человека, который отдает себя в рабство добровольно. Я же знал целых четырех таких, и сам был глупейшим среди них.
Сноп, сын Плотника. Бенкей Хебзагал. Н’Деле Алигенде.
И я – Филар, сын Копейщика. Теркей Тенджарук – Владыка Тигриного Трона, Пламенный Штандарт, Господин Мира и Первый Всадник. Император. Раб.
Товар.
Точно такой же, как плиты соли, завернутые в промасленные мешки, как шкуры каменных волов, как кувшины благовонных масел и пачки бакхуна.
Товар, который через миг заберут косматые чудовища, и за который ньямбе Н’Гома и его племянники получат оплату в золотых слитках, драгоценностях и камнях, насыпанных горкой на расстеленных шкурах.
А потом наберут, сколько удастся, воды, убьют часть бактрианов и заготовят их мясо, и отправятся на юг, через Ярмаканд в Кебир. В огромную, жаркую страну за морем, на равнины, где живут стада удивительных животных, к теплому морю и к шумным цветным городам.
Будут богаты, мы же отправимся в неволю, как того и пожелали.
Потому что только таким образом мы можем попасть в страну за горами.
Мы сидели на каменистой равнине, за границей, обозначенной рядами белых скал; за спиной же у нас были бескрайние просторы Эрга Конца Мира, в бесконечности своей протягивающиеся до самого Амитрая; впереди же нас были горы, увитые туманом и прикрытые лесом настолько зеленым, что от него болели глаза. И еще – близились к нам люди-медведи. Путы наши были наложены таким образом, чтобы в случае чего сумели бы мы быстро освободиться, были у нас спрятанные в одежде ножи и оружие – во вьюках, но не могли мы на них напасть. Нам нужно было, чтобы они провели нас в глубь своей страны, подальше от притаившихся среди деревьев и скал стражников, что следили за равниной, не придет ли кто из ненавистного Амитрая через лысую степь и пустыню. И только потом мы могли бы сбежать.
Но когда люди-медведи приблизились, я понял, насколько плох был этот план.
Похоже, наш вид их удивил.
Люди-медведи – это чудовища. Это не клановое имя или название народа. Они не люди. Они правда ходят на двух ногах, но не всегда. Когда что-то напугает их или удивит, когда начинают они спешить, тогда падают на четвереньки и, упираясь в землю огромными кулаками, бегут совершенно как медведи. У них высокие остроконечные черепа, низкие лбы, выступающие челюсти, полные острых зубов, словно у боевых леопардов, плоские лица с почти человеческими глазами, и они отвратительно смердят. А еще они поросли длинной густой шерстью. Мы видели, как они приближаются, пока мы, связанные и бессильные, сидим, ожидая их. Пять чудовищ. Нельзя было даже сказать, что они просто животные. На них были кожаные пояса с железными заклепками, куски кольчуг, на запястьях – повязки, а еще – странные, приспособленные к их черепам шлемы. Двое из них были при оружии. Напоминало оно дубину, но заканчивалось острием, выгнутым, как мощный клюв.
Когда они увидели нас, на загривках их встала дыбом шерсть, они упали на четвереньки и принялись рычать, а потом скакать с дикими воплями, воздевая над головами дубины, лупя ими о землю, или хватая камни и колотя ими так, что пыль вставала столбом.
Продолжалось это недолго, и вскоре стало ясно, что твари не собираются атаковать. Кто-то из них подошел ближе и понюхал, раздувая плоские, сморщенные ноздри, а потом поднялся и принялся хрипло порыкивать в сторону остальных. Другое создание побежало в сторону гор, да так, что земля задрожала, и я видел, как подрагивает его мех.
Остальные окружили нас, рыча, ворча и плюясь пеной. Один из них зашипел, осторожно вытянул вперед дубину и легонько толкнул Бенкея в ногу.
– Да в жопу себе это засунь, урод вшивый! – рявкнул разведчик и задергался, насколько позволяли ему веревки.
– Не обращай внимания, – посоветовал Сноп. – Теперь мы станем невольниками, а терпение – единственная добродетель, которую мы можем себе позволить.
– Я не должен обращать на это внимания?! Как подумаю, что этот Н’Гома еще и заработал на мне, то хочется приволочь его сюда, чтобы эти обезьяны поимели его толстую жопу на моих глазах.
Через какое-то время, хотя мы и не могли сказать, какое именно, поскольку в этой проклятой стране солнце пряталось за тучами, создание, побежавшее в сторону гор, вернулось, а с ним прибыли два существа поменьше. Эти тоже были поросшие мехом, но носили кожаные и железные панцири и приличное оружие – мечи, топоры и копья; ходили они как люди. Однако лица их были еще отвратительней. Бесформенные, словно измененные болезнью, с торчащими рогами, зубастые и ни на что не похожие.
Чудовища минуту-другую совещались, но звуки, которые они издавали, не напоминали человеческий язык. Хриплый и твердый, звучащий будто рев бактрианов или собачий лай, были они все же словами какого-то языка.
Наконец один из них, с лысым, словно бы ковечьим черепом с раздвоенными рогами, подошел ближе и начал тыкать в нас, а потом без усилия поставил на ноги – легко, будто мы были детьми. Он был ростом почти с Н’Деле, с мощной грудью и плечами.
Второй, с глазами круглыми и вытаращенными, как два роговых кубка, имел на голове короткие шипы, торчащие из чешуйчатой кожи. Сказал что-то хрипло, указывая копьем сперва на нас, а затем на лагерь каравана, стоящий вдали, и оба они рассмеялись. Когда я услышал смех этих созданий, то не понял, хорошо это или плохо. Правда, я предпочел бы тварей совершенно диких.
Странно было смотреть, как они переговариваются, как считают на пальцах, глядя на рассыпанные по шкурам драгоценности. То, что чудовища были разумны, казалось еще опасней. Они осматривали нас одного за другим, щупая руки, толкая в грудь, поднимая нам губы и заглядывая в зубы, словно мы были лошадьми. Потом лысый принялся покрикивать на кудлатых медведей-оборотней, сунул в рот короткий свисток, висевший на груди, и пронзительно свистнул. Кудлатые монстры вздрогнули и будто перепугались, после чего двое опять помчались в сторону гор. Но быстро вернулись, таща за собой большой, сколоченный из толстых бревен воз на двух колесах.
Нам разрезали веревки, а чудовище произнесло длинную хриплую речь, наполненную рыком и карканьем.
– Поверь, тварь, что для всех нас было бы полезней, если бы ты показал нам, что ты желаешь, потому что из твоего хрипения и попердывания мы ни слова не понимаем, – сказал Сноп с вежливым выражением лица, разводя руками.
Рогатое создание грозно зарычало в ответ и толкнуло Снопа в грудь, да так, что тот уселся на песок. Но второй придержал монстра за плечо, качая головой.
Указал нам на плиты соли, а потом похлопал по днищу повозки. Стало понятно, что мы должны грузить товар. Мы стали носить мешки и свертки на повозку. Товары нужно было укладывать в каком-то определенном порядке, а потому, когда я тянулся не за тем свертком, получал удар древком копья по рукам и по спине, после чего мне показывали на другой, одновременно с хриплым порыкиванием. Таким-то образом я начал изучать новый язык. После нескольких ударов я уже знал, что соль на их языке зовется «свьоль», а «хайсфинга» – какое-то ругательство.
Таким же образом я узнал, как называют они кувшины, свертки кож и бутыли пряных приправ.
Когда мы загрузили повозку, на дышла надели деревянное ярмо, крепя железными крюками, и приказали нам тянуть. Оба создания уселись на куче товара, а медведи-оборотни шагали по бокам. Повозка оказалась страшно тяжелой, и хотя мы упирались в ярмо, сдвинуть ее с места было непросто. Мы получили несколько ударов древком копья, потом одна из тварей соскочила с повозки, но вовсе не затем, чтобы нам стало легче. Создание нашло некий куст, из которого вырезало длинный гибкий прут, завывший в воздухе, когда оно махнуло им на пробу. Однако повозка уже покатилась, покачиваясь на скалах. Мы не загрузили даже десятую часть товара, и было понятно, что вернемся снова.
Шли мы долго, руки и плечи ломило от усилий, и через какое-то время мне даже не хотелось осматривать новую страну, видел я только гравий, скалы, купы травы под ногами да собственные мои сапоги. И я не чувствовал ничего, кроме боли в спине да пота, что стекал у меня по лицу и капал с носа. Время от времени существо, сидевшее на козлах, лупило нас прутом: не слишком сильно, но больно.
Через некоторое время мы добрались до подножья гор, где вставала обомшелая стена, сложенная из каменных блоков, увенчанных заплотом из толстых, заостренных бревен. Внутри находилось селение, в котором роились чудовища.
Меня удивило, что каждое выглядело иначе. У всех были жуткие башки звероподобных монстров, клыки, торчащие рога и шипы, но все они были совершенно друг на друга непохожи. Когда мы протолкнули повозку в ворота, раздался шум и вой каких-то труб или рогов и лай огромных черных псов, что рвались с цепи. Стояли там и мрачные дома, выстроенные из толстенных колод на каменных фундаментах, и под крышей их, поросшей мхом и травой, были треугольные отверстия, из которых сочился густой дым.
– Может, они живут в урочищах? – выдохнул Бенкей, когда нам приказали разгрузить повозку. – И это имена богов изменили их в лонах матерей, оттого они так различны.
Но я был одной большой болью и усталостью, чтобы обращать внимание на красоту этого народа. Меня больше занимало, сколько времени придется провести в таких трудах и как я сумею это вынести. Я повидал уже много чего, а потому для меня было понятно, что дальше будет только хуже. Как оно обычно и бывает в жизни.
Когда мы разгрузили повозку, раскладывая товары там, где нам приказывали, нам дали деревянный подойник, из которого мы по очереди пили некое пиво, а вернее, опивки – кислые, со странным, будто подгнившим, запахом. Однако нас не поили водой, как животных, и я решил, что это добрый знак.
А потом нам снова приказали впрячься в ярмо, и мы возвратились на пустоши. Повозка, хотя довольно тяжелая и плохо сбалансированная, была пустой, а потому тянуть ее было подобно отдыху. Вместе с нами отправились еще несколько повозок, некоторые были запряжены большими, уродливыми волами со странными рогами, раздутым горлом и толстыми спинами, покрытыми костяными пластинками, и были они куда тяжелее наших. Вокруг вышагивали медведи-оборотни, порыкивая на нас и показывая зубы.
Довольно быстро я перестал думать о бегстве. Нас окружало слишком много существ, больших и маленьких. А когда я увидел, как один из людей-медведей припустил в степь, несясь на четырех ногах, как олень, а потом, приподнявшись на задние лапы, метнул палицу в кролика, я понял, что бегство не будет легким. Даже бросься мы наутек, нас бы сразу же догнали.
Создания поменьше сидели на спинах рослых коней с коротко подрезанными рогами, с выгнутыми шеями, мощными горбоносыми головами, которые они опускали на грудь. Мне показалось, что здесь, в стране за Нахель Зим и вне известного мира, все больше, тяжелее, грубее. Такими были и обитающие здесь существа, и волы, и деревья, и даже горы.
За товаром братьев Мпенензи прибыло много повозок, а потому в тот день нам пришлось обернуться всего пару раз. А когда мы добрались до поселения за каменной стеной, нам снова дали подойник пива на всех. Но во второй раз я увидел, что от каравана на горизонте не осталось и следа. Все родственники, орнипанты и сам Н’Гома ушли назад, в Кебир. Мы остались одни, отданные на милость косматым двуногим хищникам. Я уже успел привыкнуть к каравану и моему орнипанту. Седло на спине птицы, плетеный навес и место в строю, или вечерняя кормежка и котелок над костром, разведенным сухим навозом, стали моим последним домом и последним, что соединяло меня с моей страной. Теперь были у меня лишь мозоли на руках, натертая грудь, ярмо – и ничего больше. Я даже пожалел, что мы все же не отправились на юг, в Ярмаканд, Нассим, а после в бескрайние равнины и леса Кебира, в его города с башнями и округлыми куполами домов из обожженной глины в разноцветных мозаиках. В землю солнца, пальмового вина и зрелых плодов. Могли бы мы осесть среди высоких, как башни, стройных людей с прекрасными лицами и кожей цвета старой меди. Среди их королей, торговцев и путешественников. Среди длинных кораблей с красными парусами, поэтов и песенников. Осесть там и забыть о нашей проклятой земле, о правящих там жрецах и пророчице, по приказу которой на всю страну опустилась тень Красных Башен. Забыть о том, что я – Носитель Судьбы. Забыть о Воде, дочери Ткачихи, и о всех кирененцах, бредущих скальным бездорожьем восточных провинций в поисках нового места на земле.
Я прикрыл глаза и сильнее навалился на выскальзывающее дерево ярма. Я видел Воду. Ее красивые губы, узкие глаза и растрепанные волосы. Черные брови и ресницы.
Вода.
Остался мне скрип колес повозки, тяжелое дыхание, мокрая рубаха, пот, разъедающий потертости на спине. Боль в плечах и руках.
И отсутствие воды.
Я не ошибался, говоря, что обычно, если некто оказывается в подобном нашему положении, единственное, что он тогда может знать наверняка, – это то, что дальше будет только хуже. По крайней мере именно так и было в тот первый день. Потому что, когда мы уже свезли всю соль, кожи каменных волов, благовония, ткани и приправы, оказалось, что теперь придется тащить их еще дальше. Едва мы разгрузили товар и напились разведенного пива, нам снова приказали грузить – только носили мы на этот раз на другие повозки, которых прибыло еще больше. Создали караван, что вышел из задних ворот поселения по каменистой дороге в густой мрачный лес, где росли неизвестные мне деревья высотой с мачты самых больших кораблей, а то и с башни Праматери. Толстые стволы вставали по обе стороны тракта, как колонны, и везде я видел зелень настолько яркую, какая у нас бывает лишь после первых весенних дождей.
В этом лесу поднимался странный запах, здесь было темно, зелено и влажно. Водяная пыль оседала на наших лицах, и было тут холодно. Повозка наша запряжена была одним волом, но дорога вела вверх, и потому нам раз за разом приходилось толкать борт и колеса. По тракту текли небольшие ручейки, мы то и дело падали, оскальзываясь в грязи и мокрой траве, разбивая локти и колени об острые камни. Создание, нас охраняющее, выбросило прут, которым погоняло нас, и вооружилось плетеным бичом. Когда оно стегнуло меня впервые – неожиданно, – мне показалось, будто меня ударили мечом. Я даже не смог крикнуть, потому что резкая боль заставила воздух замереть в груди. Лишь через некоторое время я понял, что не перерублен напополам, что живу и что могу подняться.
Когда мы не падали от усталости, мы бредили. Шерстяного тепла пустынных плащей хватало для ночей в Нагель Зиме, ткань уберегала нас от солнца, однако для здешних мест она была слишком тонка, так же как и наши штаны и куртки. Когда дорога шла вверх, мы обливались потом, а когда шла она ровнее – тряслись от холода.
И толкали повозку.
Мы видели повозку, едущую впереди, и слышали тарахтение повозки, катившейся за нами. И это тянулось бесконечно.
Я все обдумывал способы, которыми нам удастся сбежать, и тогда я был уверен, что случится это быстро – если не в ближайшую ночь, то на следующую. Когда мне это надоедало, я повторял услышанные слова: «соль», «повозка», «кожи», «быстрее», «кувшины», «благовония», «полотно». И я уже знал, что этих больших существ, которых меньшие воспринимали как дрессированных домашних животных, зовут нифлинги.
Караван волокся вверх по склону.
Камни калечили наши колени и локти.
Мокрый воздух пронизывал нас до мозга костей.
Бич свистел в воздухе и резал шкуру вместе с сукном плаща, вырывая из глотки человека звук примерно такой же, какой издавала и сама плеть.
Мы толкали повозку.
На место мы добрались в сумерках, хотя весь их серый и туманный день напоминал сумерки.
Мы вышли из леса и теперь толкали повозку узким крутым трактом, что вел скалистым склоном к воротам каменного замка, вделанного в горный склон. Строения из камней и дерева врастали в гору, их охраняла стена с двумя башнями, внизу каменными, а наверху сколоченными из толстых бревен. Все было старым, обомшелым и издалека мало отличалось от скалистой стены, о которую твердыня опиралась.
Крепость не была большой. В Амитрае тут стоял бы, самое большее, бинхон армии, а может, и половина его. Так, приличная горная застава.
Караван сбился под воротами, а когда деревянные створки отворили, возы поехали по мосту над скальным распадком, потому мы могли немного отдохнуть, опираясь о борта, хватая воздух, будто вытащенная из воды рыба, и бросая взгляды туда, откуда мы пришли. Таково благословение рабов – момент передышки, не более чем время, нужное, чтобы в часах пересыпался песок. Только чтобы сердце не выскочило из груди, чтобы перестать хватать воздух так, словно он был чем-то, что нужно откусывать и глотать, только на один взгляд по сторонам.
Внизу мы видели стену леса, а потом ковер, сотканный из верхушек деревьев, а еще ниже – серые пустоши до самого горизонта, что за туманами медленно превращались в море песка. А там, где над землей тучи оставили полоску свободного неба, мы увидели ржаво-желтый отблеск солнца, которое, как казалось, осталось в землях запада навсегда. А потом наша повозка двинулась, скрипя и тарахтя, и мы вошли в крепость.
Внутри та не напоминала военную заставу. Были там дорожки, насыпанные из окатышей, между которыми стояли длинные деревянные дома, точно такие же, как и внизу, со скрещенными стропилами, чьи кончики были вырезаны в виде конских или драконьих голов, вокруг бродили какие-то птицы, собаки рвались в загородках и лаяли на нас, фыркая клубами пара. Посредине двора тлели в большом очаге уголья, а сам очаг был окружен сколоченными из бревен столами, и я видел многих худых и высоких мужей с обычными лицами, покрытыми короткой щетиной, порой с длинными волосами, были там и жены в длинных, разрезанных на боках платьях или в штанах и куртках несколько иного кроя, чем мужские. Вокруг бегали дети, играли в догонялки с деревянными мечиками в руках или с копьями с кожаными нашлепками на концах.
Никто не удивлялся виду созданий, которые привели нас, более того, больших тварей звуками свистулек, ударами бича в землю и собаками загнали в пещеру, которую затем закрыли решетками.
Вся скальная стена внутри частокола выглядела как муравейник, поскольку была испещрена овальными отверстиями, балконами и полками. Но возникло это не само собой, силой природы, а было вырублено: должно быть, скала оказалась достаточно мягкой. И в этой стене обитали люди, вырубая кельи для своих семейств или для содержания животных и коридоры между ними, там, где было бы удобней. Полки располагались на разных уровнях, а между ними поставлены были лестницы. Так и жили в этой стране, и после я это там видел; такие же одинокие скалы где-нибудь над ручьем, в которых вырезаны жилища. Люди точно так же вырубали кирками углубления и полки в стене для вещей, водосборников, кроватей и столов.
Тварь с бичом указала нам место в углу, а потом, помогая себе древком, сбила нас в тесную кучу, заставив положить руки на плечи друг другу. Потом к нам подошел человек с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу, и с бородой; в руках он держал рог некоего животного, окованный по краю серебром. С явным удовольствием отхлебывая из него, он присел на деревянном табурете и стал присматривать за нами, опираясь древком копья в пол. Лицо его пересекала полоска мастерски сделанной татуировки со сложным узором, свивавшимся на щеках, идя через нос.
Через какое-то время этот, с бичом, вернулся в компании еще одного мужа, который указывал на что-то на скальной стене повыше. Грыз при этом какой-то круглый плод, хрупая, как ковца. Тварь спрятала бич под мышку, а потом схватилась за голову, будто желала сорвать ее с плеч, и сняла шлем, после чего оказалось, что у твари обычное человеческое лицо, тоже перерезанное полосой татуировки, что бежала через веки и щеки, а еще у него – поросль под носом, похожая на пучки соломы. Потом он расстегнул панцирь и кольчугу, снял с себя косматый мех, оказавшийся ловко пошитым кафтаном, так, чтобы выглядеть, как его собственная шерсть. И я убедился, что Люди-Медведи – просто название народа, совершенно похожего на нас, только с другими чертами лица, обычаями, ну и, возможно, чуть более рослого.
Он отставил голову чудовища на стол рядом с очагом, приказал нам встать и повел по лестницам и скальным полкам к пещере, вырезанной над двором. Не слишком высоко, может на три роста лошади.
Одного за другим втолкнул нас в камеру и запер кованую железную решетку. Не было двери, только эта решетка и ряд узких отверстий в стене, будто бы окна; но отверстия эти узкие настолько, что в них никто не сумел бы протиснуться.
Мы были изможденные и озябшие, а потому просто упали на пол, завернувшись в порванные, иссеченные кнутом пустынные плащи. Какое-то время мы лежали в тишине, дрожа, слишком обессиленные, чтобы разговаривать или отзываться хотя бы словом, но слишком замерзшие, чтобы уснуть.
Лежали мы, прислушиваясь к гулу внизу, к крикам и реву животных. Теперь нам нужно было восстановить силы и не замерзнуть.
Через какое-то время решетка отворилась с ужасным скрипом, и вошел человек с бичом в сопровождении еще одного, широкоплечего с рыжей бородой и в шапке, которая казалась миской из войлока.
– Амистранд? – спросил он гортанно, указывая на нас.
Мы не ответили, не понимая, что он имеет в виду. Просто уселись под стеной.
– Амитрай? – повторил он, продолжая выговаривать слова так твердо, что мы с трудом различали их, но теперь смогли согласиться.
– Знаю амитрай, – сказал мужчина. Стукнул себя в грудь. – Ньорвин. Ньорвин много амитрай. Хорошие женщины амитрай. Фики-фики маленькая с большой моряк. Ньорвин много фики-фики амитрай. Много война амитрай.
Он расшнуровал рубаху на груди и чуть приспустил ее с плеча, показывая нам дыру под ключицей и шрам в форме звезды.
– Амитрай, – пояснил, сделав жест, словно стрелял из невидимого лука, и сказал, – фьюх!
Потом задрал рубаху на спине и показал нам два длинных, рваных шрама.
– Амитрай, – сказал. Махнул рукой. – Шух!
Тот, другой, обронил что-то, теряя терпение, потом похлопал себя по паху, тоже махнул двумя руками, говоря: «Шух!», а потом во фразе его снова прозвучало твердое «амитрай». Ньорвин фыркнул и что-то ему ответил.
– Не амитрай, – сказал я. – Говорим на амитрай. Но тут… – я похлопал себя в сердце, – не амитрай. Тут киренен.
Указал на себя, Бенкея и Снопа, повторяя «киренен», а потом указал на Н’Деле и сказал «кебир».
– Кебир… – повторил Ньорвин, а потом повернулся к приятелю и что-то сказал снова, тыча пальцем в Н’Деле, а во фразе его было слово «Кабирстранд». Из реплики второго, его легкомысленного тона и жеста, с каким он указал на свои глаза, я понял, что говорит он, что должен был бы ослепнуть, чтобы не заметить, что Н’Деле – кебириец, и что благодарит за такое пояснение.
– Киренен? – спросил Ньорвин, а потом махнул рукой и добавил «амитрай». А потом кивнул на Снопа и Н’Деле, приказав им встать, и вышел с ними. Когда они вернулись, Сноп тащил два больших ведра, а Н’Деле – охапку каких-то тряпок и еще одно ведро.
Они поставили все это на землю а Ньорвин принялся объяснять.
– Это есть, – сказал, указывая на один подойник. – А это купаться, – показал на второй. – И пись-пись. А там пиво. Надо пиво. Куча пол, много бичи… бити… быти. Куча ведро – хорошо. – Похлопал себя по груди. – Мореходы Смарсельстранд – чистый люди. Нельзя куча пол. Еда надо. Горячо. Тут зима, амитрай. Амитрай – малый человек. Слабый. Амитрай болей, плохо дело. Мало гильдинг. Не надо болей. Болей амитрай… – тут он снова показал «шах!», на этот раз проведя ладонью по глотке, и указал на двор, где в пещере за решеткой сидели чудовища. – Еда нифлинг. Понимай? Теперь одежда, – махнул рукой в сторону кучи тряпья. – Одежда тепло, одеяло. Одежда нужно. Одежда амитрай – куча. Плохо зима амитрай, все амитрай одежда. Кабир очень хорошо. Кабир сильный люди. Но зима тоже не умей. Кабир тоже одежда. Нет одежда – сильно бей. Теперь все люди спать. Отдыхать. Не надо слабый, болей. Слабый, болей – мало гильдинг, еда нифлинг, шах! Завтра мало работа. Завтра говорит закон: сколько неволя и моряки большой дело. Завтра продать люди. Ночь, амитрай. Ночь, кабир-человек.
Он отвернулся от решетки, когда второй что-то сказал:
– Ана. Амитрай-люди и кабир-человек теперь невольны. Не надо бегать. Не знай горы, сразу поймай. Взяли собаки, нифлинг, поймай до завтрак. Потом много бей, много боли, нифлинг фики-фики амитрай и кабир-человек, потом все: еда нифлинг. Шах! Не надо. Хорошо работал и послушный – нет проблема. Дали всегда еда, дали одежда и хорошо. Нет биты. Понимай? Теперь ночь.
Оба мужчины вышли, закрыли решетку и забрали лестницу, что вела на полку.
– Невероятно, – сказал Сноп. – А он оратор.
Бенкей заглянул в подойники с едой и с пивом.
– Еда большой куча. Пиво – пись-пись.
– Фики-фики такой одежда, – подхватил Н’Деле, осматривая принесенные одеяла.
И мы начали думать, что делать дальше. Балахоны были пошиты из толстой, косматой шерсти – просто прямоугольные одеяла с дырой для головы, сшитые по бокам. Я надел свой, поверху набросил порванный пустынный плащ и понял, что мне стало немного теплее.
В подойнике с едой мы нашли деревянную мисочку, которую использовали как ложку, передавая друг другу по кругу, чтобы каждый зачерпнул трижды, а потом отдал следующему. Ведро было почти полным, а потому миска обошла круг несколько раз, пока не начали мы скрести по дну. Еда же представляла собой какой-то суп с особенным вкусом, как бы подкисшим – а может, он и должен был таким быть. На вкус настолько странный, что никто из нас не мог сказать, хороший он или ужасный. Не напоминал ничего из того, что нам приходилось есть раньше. Однако в нем плавало и что-то густое, будто куски каких-то овощей и листьев, а еще много размякших от варки зерен, чувствовался острый привкус странного мяса.
Благодаря горячей пище мы почувствовали себя лучше, а потому выпили и принесенное пиво. Было оно лишь чуть крепче тех опивок, которыми поили нас днем, но в нем все так же чувствовались вода и привкус старой деревянной бочки.
Я долго не мог уснуть, несмотря на чудовищную усталость и боль во всех членах. Я свернулся у решетки, укутанный в плащ и шерстяную накидку, в месте, откуда я видел двор и большой, ревущий огонь, который там разожгли. Люди-Медведи сидели за столами, над огнем вращалась коричневая от пламени и истекающая жиром туша какой-то животины с торчащими ногами, от которой отрезали куски розового мяса и складывали на деревянные тарелки. Вокруг стояли треноги, на которых в установленных мисках тоже пылало пламя. Выкатили бочки, поставили их на подпорки и принялись наполнять кувшины. Я смотрел на рослых бородатых людей и высоких, под стать им, женщин, как они сидят вместе, перекрикиваются друг с другом и то и дело возносят кубки и рога, дико при этом вопя. В этой стране, когда у людей есть, что есть, – они едят много и жадно. И редко тут случаются сложные блюда. Чаще всего они вымачивают мясо в соли и травах, от которых оно становится странного розового цвета, а потом варят тушу целиком или запекают над огнем большие куски мяса, натертые приправами. Запивают это кувшинами пива. Орут и слушают музыку. Там, во дворе, у них тоже были музыканты, играющие на флейтах, барабанах и арфах странной формы, для одной руки.
Но некоторое время казалось, будто пирующие не обращают на музыкантов особого внимания и более заняты обгрызанием мяса с костей и вливанием в себя пива.
Я во дворце наслушался музыки со всего мира, но здесь она не походила ни на что. Дикая и примитивная, либо воинственная и горделивая, или тоскливая и трогательная. Казалось, что эти люди умеют либо смеяться, либо плакать. Или любить, или убивать.
Я сидел и смотрел, как они развлекаются. Смотрел на столы, на собак, что дерутся за брошенные кости. И все, что я видел, казалось мне большим, грубым и животным.
Ночь была холодной, однако многие из них сидели с голым торсом либо руками, будто вокруг царила жара. Я видел, как они поют что-то хором, перекрикивая друг друга и лупя по столу кулаками, кубками и рогами. Видел, как танцуют в кругу, толкаясь и сталкиваясь. Кто-то рассказывал историю, отыгрывая сценки всем телом. То крался, то сражался, обгрызенная кость в его руке становилась то мечом, то веслом, а то и головой врага.
Новые и новые бочки скатывались со стоек, на их место волокли следующие и вновь наполняли кувшины. Полагаю, что у нас, пей мы столько пива, бо́льшая часть собеседников лежала бы вповалку под столом, пусть бы даже были это матросы северного флота или рубаки «Каменного» тимена. Но эти люди были как горные чудовища. Вливали в себя пиво, орали и кипели дикой жизнью. Манерами своими более напоминали волков, а не людей. Волков, которые ходили на двух ногах, торговали, разговаривали и играли на арфах, но все равно оставались волками.
Запах жареного мяса и пива ощущался и у моего укрытия подле решетки. Внизу развлекались, танцевали, пели и пили, я же был невольником, запертым как скотина. Невольник – это тот, кто за решеткой. Отделенный от свободных людей, даже когда решетки этой не видно. Он не может делать ничего, что захотел бы, поскольку всегда решают за него. Тогда я еще не познал полного рабства, но, сидя за железными прутьями, уже предчувствовал, какова эта судьба. И я знал, что когда освобожусь, больше никто и никогда не сумеет, пока я жив, посадить меня за решетку.
Я держался за толстые прутья и глядел между ними, как развлекаются свободные люди. Свободные настолько, что даже дикие.
Я видел, как двое мужей за столом поссорились, как один из них схватил второго за шею и за рубаху и притянул к себе через стол, а тот вскочил на столешницу и пнул собеседника так, что опрокинул его с лавки. Какое-то время они катались по земле, обхаживая друг друга кулаками меж перепуганных собак и обгрызенных костей, а потом вскочили и схватились за мечи. Блеснуло железо, клинки лязгнули, высекая искры. Это не было шутками или обычной дракой. Когда они лупили друг друга, звуки ударов доносились до моей скальной ниши, и я видел, как с лиц их брызжет кровь, и что они плюются зубами и кровавой пеной, а когда ухватились за оружие, то через пару минут один рубанул второго между плечом и шеей так сильно, что клинок перерубил тело чуть ли не до половины и застрял в кости. Но раненый, несмотря на это, продолжал сражаться, пока не ослаб настолько, что покачнулся и упал на пол, забрызгав все вокруг кровью. Победитель освободил свой меч, наступив павшему на грудь, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся на свою лавку, хотя с плеча и у него свисал красный пласт срубленного мяса, а из раны на голове ручьем лилась кровь. Смеясь, он смахнул ее с лица и стряхнул на камень, как если бы это был кусок грязи, а потом взял у кого-то кувшин и пил, позволяя хлопать себя по спине среди смеха и шуток. Только потом, словно бы с неохотой, перевязал рану принесенными ему повязками.
Мертвого оттянули, как тряпку, и казалось, что эта резня никому не испортила вечер.
Молодая женщина танцевала босиком на столе, в одной руке держа рог с пивом, а во второй – край юбки, которую подняла она так высоко, что я видел ее ритмично покачивающиеся ягодицы.
Влияние пива стало заметно лишь поздно ночью, когда бы им уже лежать без чувств, когда очаг превратился в кучу рдеющих головешек, и горели лишь лампы на треногах. Тогда-то Люди-Медведи начали расходиться парами по закуткам, со смехом бегать друг за другом в темноте и даже скатываться в объятиях под стол на глазах у всех остальных. На подмостках подо мной какой-то рослый муж угождал даме с таким рвением, что, казалось, разорвет ее напополам, а скала позади них треснет, но и она отвечала ему с таким энтузиазмом, будто были они совершенно одни.
Я ждал, поскольку казалось мне, что ночное пьянство – лучший момент для бегства. Во всем городке, кажется, не осталось никого трезвого, кому было бы дело до чего-то, кроме того, есть ли что у него в кувшине или у соседки под платьем.
Я ощупал решетку, но это мне мало помогло. Петли висели на железных крюках, глубоко вбитых в скалу, прутья были толще моего большого пальца, а засов находился далеко, и запирала его железная скоба, до которой не дотянуться изнутри. Скала, может, и была мягче, чем можно ожидать, и наверняка легко было бы рубить ее железным долотом, киркой или долбить молотом, но тщетно было бы думать, что удастся сокрушить ее ногтями либо клинком ножа, все еще скрытого под мышкой, в специальном кармане куртки. Поднять решетку или выбить петли было невозможно, даже сумей мы ее сдвинуть: она входила в вырезанные углубления, а потому уперлась бы в каменный свод.
И все же я ждал в надежде, что случиться нечто, благодаря чему мы сумеем сбежать.
Через какое-то время пир начал утихать и замирать: из разных уголков зала еще доносились крики, стоны и хохотки, но музыканты уже перестали играть, остался только один, негромко тренькающий печальную песню на арфе, да еще несколько людей, сидящих за столами и беседующих о чем-то с жаром и увлеченностью. Было и еще двое мужей, что мрачно переговаривались, сидя чуть в стороне, уставившись в жар гаснущего очага и делясь друг с другом пивом из одного кувшина. Остальные разошлись либо заснули в самых странных местах, порой на столе, с головой среди мисок, раскрошенных кусков хлеба и костей, а то и – как один из мужей – под конюшней, на куче навоза, смешанного с соломой.
Один из последних собеседников, прежде чем пошел спать, выпустил из загородки нескольких нифлингов, которые принялись бродить по подворью, обнюхивая лежащих людей или грызя найденные кости. Их вид совершенно лишил меня надежды, хоть и не знаю отчего, если я уже сидел за решеткой.
Я отодвинулся от прутьев и пошел спать, с капюшоном пустынного плаща на голове, обняв себя руками. Заснул, думая о Маранахаре моего детства. Но думал я об улицах, дворцах и базарах, а не о людях. И особенно – не о женщинах, чье отсутствие потихоньку становилось для меня невыносимым. Хотя я стал рабом, хотя били меня кнутом, а на следующий день должны были продать на торге, более всего досаждала мне не неволя, израненная кожа и боль в мышцах, а моя вконец изголодавшаяся мужественность. Потому что такова уж сила молодости, которую воспевают поэты и о которой всякий вздыхает, хотя большинству она не приносит ничего, кроме жажды, тоски и ненасытного желания.
Но когда я заснул, то не вернулся ни в мой город, ни в объятия Воды, дочки Ткачихи. Я блуждал подземельями Красной Башни, среди дыма благовоний, криков и вьющихся по стенам рельефов зубастых богинь и мозаик из костей. Потому пробуждение холодным туманным утром было для меня облегчением: я радовался, что я там, где я есть.
Разбудил меня Сноп, раньше, чем нам принесли еду.
За решеткой уже посерело, но большая часть Людей-Медведей, которые не ушли под крышу, все еще спали.
– Нам нужно посовещаться, – заявил Сноп. – Потом может не представиться случая.
– Сегодня нас продадут, так сказал тот человек, – ответил я. – Какова надежда, что мы останемся вместе?
– Небольшая, – сказал Сноп. – Весьма небольшая. Но то, что происходит, мы не изменим.
– Тогда мы должны убежать, прежде чем дойдет до торговли, – сказал Бенкей. – Чем раньше, тем лучше. Прежде чем мы оголодаем и обессилим, прежде чем кнут пересчитает наши кости. И прежде чем нас разделят.
– Отсюда мы не сбежим, – мрачно заявил Сноп. – Слишком многие отправились бы на наши поиски, потому что они еще не заработали на нас и потому еще, что они этого ждут. Любой раб пытается сбежать в самом начале, когда у него еще есть надежда. Этот Мордсвин, или как там он зовется, был прав. Нас быстро поймают, а потом нифлинг фики-фики амитрай и – ш-шах!
– Тогда что делать? – спросил я. – Нас продадут разным людям в разные места, как мы потом отыщем друг друга в этих диких горах? Даже если сбежим?
– Тот, кто сбежит первым, пусть найдет и освободит остальных, – предложил Н’Деле.
– А как ему искать, если его самого станут преследовать?
– Мы разведчики. Нас всю жизнь преследуют. Такая работа.
– Я должен идти на север, – сказал я. – Так говорит мне моя судьба. На север, в сторону моря. Когда я освобожусь, направлюсь туда. Встретимся к северу отсюда, на берегу моря, если уж не сумеем встретиться по-другому.
– Только не на всем берегу, – прервал его Сноп. – Потому что будем ждать друг друга на расстоянии стайе, пока не поседеют наши внуки. С гор обычно стекают реки. Встретимся у устья той, что впадает в море на севере, ближе прочих к этому селению.
– Мы даже не знаем, есть ли здесь такая река. Пусть будет первое устье от западной границы этой страны. Значит, дадим себя продать?
– А никто нас не станет спрашивать. Отсюда, говорю же, сбежать не сумеем. Но потом попадем к хозяину. И это может оказаться обычное поселение, а не крепость.
– Я сначала расскажу вам, каково это, быть рабом, – внезапно отозвался Алигенде. – У нас в Кебире некогда бывало так, что люди из разных кланов и родов ловили друг друга. При войне, ссоре, вражде, что бы там ни было. Каждый кебириец мог попасть в плен по любой причине. Некоторых продавали за море, а некоторых – другим кебирийцам. Дошло до того, что когда у какого-то нкози – по вашему король – не было денег, то он начинал продавать подданных. Бедняки продавали собственных детей. Человек мог продать себя сам, если был слишком беден. Свекровь могла продать невестку. Брат – брата. Это было какое-то безумие. У нас были рабы, у которых были рабы с рабами. Каждый кому-то принадлежал и кем-то обладал. Никто уже не мог сказать, отчего так повелось. Так было во времена моего отца, и я сам еще такое помню, оттого и знаю об этом немало. Скажу вам, как оно бывает с невольниками. Сначала всякий хочет сбежать и не думает ни о чем другом. Потому у него отбирают надежду. По-разному. Кнутом, голодом или страхом. Делают вид, что не сторожат тщательно, а когда рабы бегут – хватают и холостят. Карают так, чтобы не хотел убегать. Порой убивают одного, чтобы помнили остальные. Но порой используют имена богов: Суджу Кадомле или Ифа Хантерия. И этого следует опасаться сильнее прочего, потому что если отберут у тебя душу и спрячут, ты перестанешь оставаться свободным. Навсегда. Услышишь слово или звук – и падешь, послушный, на лицо свое. Потому говорю: мы должны их перехитрить. Переждать. Работать терпеливо и не сбегать, когда представляется возможность, поскольку первые возможности сами они и создают. Нельзя убегать в первые два-три месяца. Пусть они успокоятся. Пусть им надоест быть наготове. Учитесь их языку. Работайте. Берегите силы и здоровье. Готовьтесь и узнавайте, где вы точно находитесь. Познайте страну и людей. И только потом бегите. Я говорю: убегаем через три месяца, разве что настанет такая погода, что сделает это невозможным. Тогда – убегаем первой теплой порой. И идем на север.
– Как быть с ножами? – спросил Бенкей. – Если найдут, то нифлинг фики-фики, ну и так далее.
– Ножи хорошо спрятаны, потому что им и в голову не пришло, что связанный раб, выставленный на торги, может иметь нечто подобное. Нужно их сохранить, но мы серьезно рискуем. Полагаю, стоит оставить куртки здесь вместе с ножами, потому что во время торговли нас разденут и станут щупать.
– Купец может не позволить вернуться в эту чудную комнату за вещами. Купит и заберет. Возьмем куртки, но станем раздеваться сами. Если скажут одеваться, не станем надевать куртки, пусть те лежат рядом. Потом попытаемся спрятать ножи в другом месте. Когда обыскивают человека, обычно охлопывают ноги, руки и бока. Есть два хороших места: в сапоге или на ремне, на котором ножны висят под мышкой, на спине. Но ремень у нас завязан не на шее, а привязан к петле за воротником. Можно опустить нож низко, чтобы он оказался между ягодицами. Мало кто любит щупать чужие зады, и если повезет, мы таких не встретим. Это я говорю для ушей тохимона, не разведчика – остальные-то прекрасно это знают. А теперь попрощаемся и вверим душу Идущему Вверх, потому что позже может не представится случая, – сказал Сноп.
Мы уселись в круг, соприкасаясь коленями, а потом я вытянул перед собой кулак, который своей ладонью накрыл Сноп, а потом и остальные. Мы опустили головы и обратились к Идущему Вверх, чтобы он повернулся и осветил наш путь.
Когда мы встали, каждый из них поклонился мне, поднимая кулак, охваченный другой ладонью, и сказал: мосу кандо.
– Мы аскары армии Киренена, тохимон. Твои люди, – сказал Сноп. – Мы никогда не станем ничем другим, пока миссия наша не завершится. Эти дикари нас не захватят. Мы тебя найдем. Никто не удержит разведчика в путах – того, кто умеет убивать даже иглой.
А потом мы услышали шаги на лестнице и нас проведали те же два человека – Ньорвин и тот второй, что переодевался в чудовище. Но сегодня он был уставшим и бледным, то и дело кривился и тряс головой. Ньорвин же держал в руке большое продырявленное яйцо, из которого пил содержимое. Оба не стали входить, а только призвали Бенкея, который вернулся через миг с ведром с юшкой, кислой и реденькой, а еще с большой, толстой лепешкой, которую он тащил под мышкой. Когда мы ее поломали, она оказалась хлебцем темного, коричневого, цвета со странным запахом. Тесто было глинистым и скрипело на зубах, будто в муку добавили песок.
А потом нас послали на работу. Не слишком тяжелую. Мы убирали сарай, носили горячую воду в ведрах. Я и Бенкей должны были собирать в кучи солому с навозом из-под конюшни и грузить ею двухколесную повозку, поменьше той, какой в прошлый день мы возили товары. На куче навоза еще лежал муж, который свалился на нее вчера ночью и спал, несмотря на то, что по нему лазили жуки и мухи.
Бенкей отвесил ему пинка, потом с уважением склонился и, оставаясь в поклоне, объявил покорным и униженным тоном:
– Встань, облеванная тварь, поскольку я должен вывезти этот навоз, а я не умею отличать его от твоей туши. Поэтому вставай, прежде чем я надену тебя на вилы вместе с остальным навозом и вывезу в яму, где тебе и место.
Муж очнулся и поднял лицо из навоза, выплевывая солому, а потом неуверенно встал и критично осмотрел свою кожаную рубаху. Потом заметил нас с повозкой и вилами, развернулся, поднял страшно заляпанную шапочку, натянул на голову и внезапно произнес на чистом амитрайском:
– Странно, мне снилось, словно я снова попал в страны юга.
После чего ушел, покачиваясь.
Когда мы вывозили навоз за стену, нас сопровождал человек с луком и большим, как теленок, псом, однако мы могли увидеть небо, где ползли тяжелые тучи, лес и горные хребты вокруг нас. Мы лишь не могли дышать воздухом свободы, поскольку воздух вонял навозом.
Были это обычные хозяйственные дела, не слишком сложные или тяжелые. Мы носили корзины каких-то корнеплодов, поросших чешуей, подметали подворье.
Когда мы с этим справились, Ньорвин в обществе нашего хозяина провел нас в вырубленную в скале камеру, где находился вырезанный в скале очаг и ярились угли.
– Амитрай нести больше дерева. Там куча, куда принести. Зажжет много пожар. Потом вода в казан, – тут он указал на гигантский котел с цепями и крюк над очагом. – Потом горячая и холодная вода в ведра. Все амитрай и кебир-человек к ведрам и хлюп-хлюп. Все вымыты до блеска. Не надо смердеть кучей. Человек не любить покупать, когда смердит кучей. Большой куча, мало гильдинг. Плохо. Потом амитрай и кебир-человек всю грязный вода в дыру и умыть ведро. Там миска с зола. Мало взять, жжет. Когда умылись, надеть одежду и подворье прийти к владыка Вальгарди. Он владыка Вальгарди. Быстро-быстро, мыться.
Итак, мы смогли выкупаться и умыться, и доставило это нам немалую радость. Вода, которую мы потом выливали в выбитую в скале круглую дыру, была как река после паводка: мутная и илистая, воду почти не напоминая.
На подворье царило судорожное оживление. Вдоль стены рядком расставили столы на козлах из бревен, везде было полно людей, спешащих с узелками в руках. Главным образом, к столам несли плиты соли, которые мы привезли из Амитрая, и другие товары нашего каравана. Вальгарди тотчас же приставил нас к работе, указывая на всякие вещи свернутым бичом. Мы перенесли деревянный стол, а потом поставили над ним навес из жердей, накрыв их матами, сплетенными из тростника. А потом он приказал нам носить соль, кувшины благовоний и шкуры: мы укладывали их под столом и на столе, в то время как Н’Деле под присмотром хозяина развешивал складные железные весы. Потом он приказал нам принести длинную деревянную лавку и сесть на ней рядком. Что еще страннее, рядом с нами поставили наши корзины путешественников, поскольку это их обычай – продавать невольника с тем, что тот имел при себе, и он по праву может это оставить. Оружие, что он нашел во вьюках, посчитал, должно быть, частью товара, оставленного ему караваном, и никак с нами не связал, а потому он, ни о чем не подозревая, просто развесил его под козырьком своего прилавка.
Потом из-за туч вышло мрачное, дарующее совсем немного тепла солнце, и мы поняли, что пришел полдень. С утра в крепость входили и въезжали чужаки, кружили между прилавками и смотрели на выложенные товары. Однако никто ничего не покупал.
Потом появился Ньорвин и принялся говорить с нашим господином, который дал ему несколько монет.
– Все амитрай и кебир-человек идти с я. К Старику Говорить-Закон. Ньорвин услышать старик и сказать амитрай, как быть.
Мы пошли на суд, то есть перед лице маленького, худого старика с длинными седыми волосами и бородой; старик сидел, закутанный в плащ, на бочке, с рогом в руках. Сперва нам приказали назвать свои имена, которые юноша со старательно зачесанными волосами, сидящий у стоп старика, записал тростниковой палочкой на большом куске белой коры угловатыми знаками.
– Зачем купцы продать амитрай и кебир-человек? – спросил Ньорвин.
– Мы наемники, – ответил я. – Мы охраняли караван, а они решили, что лучше нас продать, чем платить. Потому что не боялись обратной дороги без охраны, поскольку идут они далеко от проторенных путей. Они отравили нас водой онемения и связали.
Ньорвин наклонился, нахмурившись, надо мной, пока я говорил, и казалось, что изо всех сил старается понять, что я сказал. Повторил беспомощно: «наймиками», но стоящий рядом муж подсказал ему. Старик тоже что-то сказал, и, пожалуй, они поняли.
– Амитрай и кебир-человек быть когда-то невольник? – снова спросил Ньорвин, скрещивая руки в запястьях и сжимая кулаки, будто подставляя их под веревку.
– Все мы – свободные люди, – ответил я гордо.
– Мужчина-дитя говорить за всех амитрай и кебир-человек? – спросил он, указывая на меня. Мы кивнули.
– Теперь не врать, потому как бить больно. Кто-то бить моряк Смарсельстранд люди?
Я ответил, что мы никогда не сражались с Людьми-Медведями, а Ньорвин покачал головой.
Старик почесал голову, а потом прикрыл глаза и принялся раскачиваться на бочке; даже показалось, что он уснул.
Мы беспомощно стояли, а потом Ньорвин протянул руку, чтобы встряхнуть его за плечо, и тут дед открыл глаза и что-то проговорил скрипящим, четким голосом.
– Закон говорить: вы не взяты в плен на война. Вас продать другие люди. Кебир-люди хороший, все амитрай – нехороший. Теперь год осень. Дадут тавро лист осень и цифра пять. Теперь болеть. Не вырываться и не биться, потому что тогда держать долго, пока невольник не упасть от боли.
Потому принесли корзину с углями, откуда торчали железки, заканчивающиеся знаками, как тавро для скота, только меньшие, ими нас и заклеймили. Мы не вырывались, зная, что ничего не сможем сделать, но все равно два больших Человека-Медведя держали нас за руки. Они приложили нам к плечам два знака, один в форме листка, и второй, что выглядел как ветка с отростками. Они держали железо недолго, едва лишь несколько мгновений. Мне удалось не вскрикнуть, но при втором клеймлении слезы потекли у меня из глаз, хотя я и не намеревался плакать. Н’Деле, казалось, ничего не заметил, Сноп только зашипел сквозь зубы, а Бенкей долго обзывал всех любителями ослиц, сынами шлюх и еще всякими словами, многих из которых я и не знал.
Боль была ужасной, и мне казалось, что рана прожигает руку насквозь и скоро проступит на другом плече. Ньорвин дал мне кубок холодной воды и посоветовал вылить на ожог, но это помогло лишь на миг, а надетая рубаха принесла еще больше боли. Потом мы вернулись к нашей лавке, где Вальгарди отвешивал кому-то отломленный от плиты кусок соли. Покупатель заплатил двумя серебряными монетами, и я понял, что Н’Гома Мпенензи прав, инвестируя именно в эту приправу, поскольку в стране Людей-Медведей она была дороже ниссамских благовоний.
Вальгарди не понравилось то, что он услышал, и некоторое время он спорил с Ньорвином, но после попросил у того прощения. Потом велел, чтобы Ньорвин постерег его лавку, а сам отправился ругаться со стариком, но, похоже, так ничего и не добился.
Потому мы сидели подле навеса, а Вальгарди, в конце концов, надел на нас железные ошейники с цепью: скорее, чтобы было видно, что мы рабы, чем для чего иного, поскольку ошейник был заперт лишь на палочку. Покупателей было немного, казалось, что они только начинают приезжать в городок и что интересует их лишь соль. Несколько раз кто-то говорил нам встать и снять одежду, а потому дальше мы сидели обнаженными, укрытые лишь наброшенными на спину плащами. Мужчины жестко толкали нас и щупали мышцы или заглядывали в зубы, а женщины совершенно бесстыдно щипали за ягодицы и осматривали наше естество, поскольку эти люди живут совсем как волки и не знают никакой скромности.
Однако до вечера не продали ни одного из нас, и мы уже начали опасаться, что теперь погибнем. Но пришел Ньорвин и уселся рядом на табурете.
– Не быть еще напуган, – заявил. – Первый день ярмарка всегда мало людь, все только соль и соль. Завтра лучше день, лучше купец, много гильдинг, много людь. Купил оружие, материал, благовония. Теперь: что уметь делать?
Однако мы не знали, что на это ответить, и Ньорвин отставил свой кувшин и принялся изображать всякое разное.
– Что уметь? Копать? Играть музыка? Лечить больной, слабый? Петь? Стрелять? Рубить меч? Делать еда? Сапоги? Что уметь хорошо? Что уметь ребенок-мужчина? Как звать?
– Я Теркей, – ответил я, решив не открывать своего кирененского имени. – И я резчик. Еще умею играть на ситаре и флейте, умею писать и читать, – говоря это, я показывал руками, а Ньорвин поглядывал на меня из-за кубка.
– Играть музыка, очень хорошо. А что есть резчик?
Я указал на один из наших мечей разведчика – короткий, чуть искривленный ясарган, которым поигрывал Вальгарди и, похоже, был не прочь оставить себе. Ясарган принадлежал Снопу и на нем был медью напылен знак «Молниеносного» тимена пехоты.
– Кузнец? Делать ножи?
– Умею, – кивнул я. – Но резчик делает украшения на железе. Умеет шлем, умеет панцирь.
Ньорвин что-то сказал Вальгарди, и оба они с недоверием покачали головами, а потом обратились к остальным.
Сноп, как любой кирененец, имел посвящение в ремесло, но делал лодки, что непросто показать руками.
– Делать корабли? Кнар?
– Корабль большой, – объяснял Сноп. – Много людей. Хорошо умею лодку. Лодка маленькая, корабль большой. Понимаете?
– Утка… – повторил неуверенно Ньорвин. – Маленькая лутка?
Сноп сделал вид, что гребет веслами и обвел вокруг себя ладонями:
– Лодка.
Ньорвин просиял и выкрикнул что-то вроде «снекья-мактар», указывая на Снопа, а потом пересказал это Вальгарди.
Н’Деле и Бенкей не были ремесленниками, но прежде чем вступили в армию, Н’Деле торговал, как и любой кебириец, обрабатывал землю и охотился, но не был уверен, пригодятся ли его умения в этой стране, а Бенкей мрачно заявил, что делал множество вещей, но сведения о многих из них предпочел бы сохранить для себя. В конце концов решили, что оба они охотятся, Н’Деле умеет ловить рыбу, а Бенкей – ремонтировать обувь и одежду, а также стрелять из лука, что в принципе мог всякий солдат. Ньорвин же хотел узнать, умеет ли Н’Деле драться. Выспрашивал об этом разными путями, но Алигенде выкручивался, поскольку мы условились скрывать наши боевые способности. Наконец оказалось, что Ньорвин имеет в виду какие-то соревнования и бой без оружия, потому Алигенде признался, что немного дерется, поскольку в его племени этому учатся все, до женщин включительно.
Дело шло к вечеру, и мы накрыли лавку густой сетью с нашитыми колокольчиками, которую внизу соединили цепью, поскольку Вальгарди опасался за ценный товар, а потом нас отправили в камеру за решеткой и дали ведерко, полное вареных зерен, и немного пива. Вальгарди принес нам и некую мазь с резким запахом в маленьком глиняном горшочке; та принесла облегчение ранам от клеймления.
Поздно ночью из-за ворот были слышны крики и пение – там разложились на лугах своими повозками те, кто прибыл за солью, и многие продолжали бродить подворьем, где за столами беседовали обитатели крепости – покупая у них пиво кувшинами, отдавая за это немало меди. Я видел и как некоторые женщины из прибывших шли с купцами, если те платили им солью, хоть и выглядели они состоятельными хозяйками, и никто этому не удивлялся, а обе стороны, похоже, полагали, что ведут дела с обоюдным интересом.
На второй день солнце проглянуло сквозь тучи, и сделалось чуть теплее, хотя то и дело срывался холодный ветер. Мы же не работали, а сидели в ошейниках на лавке. В тот день прибыло куда больше покупателей, вокруг всех лавок стояла толпа. Лучше всего шла соль, и я заметил, что ее цена только растет.
Покупающие также это видели, и начало доходить до скандалов, тогда они ругали друг друга жесткими словами, звучавшими так, словно кто-то гремел цепью о скалу, а покупатели, когда платили, грызли усы и часто хватались за рукоять меча. Другие товары тоже пользовались спросом, особенно приправы; впрочем, интерес пробуждали всякие вещи. Духи и ароматические масла наиболее охотно покупали женщины, но брали их и мужи, осторожно разливали в маленькие металлические бутылочки, клали на весы, отмеряя плату в чистом серебре. Какой-то старик купил задешево мой посох шпиона. Я знал, что мой, потому что в нем чуть постукивал скрытый наконечник копья: похоже, старик решил, что трость достаточно для него красива и выторговал ее за бесценок. Когда я это увидел, мне сделалось невыносимо жаль. Не сосчитать, сколько раз скрытое в посохе оружие спасало мою жизнь, и я очень его полюбил. Странник с посохом мог передвигаться по стране Праматери, где все запрещено, и никто не будет знать, что странник вооружен. В тот день нам куда чаще приказывали вставать голыми и толкали в разные стороны, но все же казалось, что Вальгарди хочет за нас слишком много. Он и Ньорвин нахваливали наше здоровье, силу и необычные умения. Я умел, кажется, по их словам, ковать магическое оружие, как в сказках, а к тому же петь, как никто в мире. Сноп был чуть ли не королевским строителем кораблей, Н’Деле и вообще сказочным магом из Кебира и мастером кулака, а Бенкей сделался исключительным охотником и лучником, какого свет не видывал: якобы попадал на лету в ласточку.
Благодаря этим захваливаниям, нас ощупывали куда чаще, и через некоторое время мы чувствовали себя как избитые палками. Нам то и дело приходилось приседать и вставать, но кроме этого мало что происходило.
Но когда наступили сумерки, нашу четверку не отослали в клетку. Я почувствовал внезапный страх, хоть то, что через два дня нас могут убить, казалось мне, несмотря ни на что, неправдоподобным. Все же на подворье крутилось множество людей, играла музыка и торговля продолжалась, а на прилавках оставалось все меньше плит соли, несмотря на пугающе высокие цены. К Вальгарди подошло двое мужей. Один из них был местным, крупный и бородатый, он имел те же продолговатые черты мореплавателя, но был лыс и невысок. Зато второй – большой, с толстым брюхом и куда выше остальных моряков. Ходил полуголым, носил только кожаную перевязь и обувь и походил на нассимийца. Волосы на голове его были выбриты, только на макушке остался небольшой хохолок, а вокруг рта – щетина. Запястья он украсил кожаными браслетами, истыканными железом, в ушах его были крупные кольца. Он какое-то время торговался с Вальгарди и показывал то на деньги, то на сидящих на лавке, но оказалось, что он не собирается покупать рабов.
Безотказный Ньорвин сразу же выложил нам, в чем там дело.
– Они двое хотеть Черный Урф бить кебир-человек. Давать много гильдинг. Вальгарди согласиться. Тоже дать гильдинг. Теперь очень надо кебир-человек сильно бить Черный Урф. Бить, чтобы тот лежать, и Вальгарди радоваться. Давать кебир-человек мясо и пиво и пол десятой целый гильдинг. Если кебир-человек лежать, Вальгарди очень печален. Плохо для всех амитрай и кебир-человек. Продать дешево. Если кто купить дешево, то не заботиться. Вся тяжелая работа и много бить, ломать камень и рубить дерево. Мало есть у кого-то глупый. И все скоро умереть и не увидеть свобода, а лежать в болото, мертвый и печальный.
Так оно и случилось, что Н’Деле пришлось выйти на средину и встать напротив большого нассимийца, который ревел как бык, пускал пену изо рта, топал и вращал глазами. А вокруг встал круг зрителей, все кричали и то и дело показывали на кошели и пожимали друг другу бицепсы. Эти люди любят драки, но еще больше любят спорить. Мы очень быстро сделались для них развлечением. Определили место, где состоится бой, по углам расставили лампы на треножниках, очертили круг, усыпали его опилками из мешка.
– Не знаю, что тебе посоветовать, – заявил Сноп. – Но лучше бы тебе выиграть. Попытайся его измучить, он толстый, как кабан, и высокомерный, как все нассимийцы, считающие себя потомками своих надаку.
– Мосу кано, окунин, – сказал Н’Деле и улыбнулся. – Сделаю, что смогу, вот только при таком бое ничего не скажешь наперед.
– Нет никакой оружие, – пояснял Ньорвин. – Так говорить закон. Ни железо, ни палка, ни камень, ничего. Если кто лежать и просить перестать, то конец бить. Если упасть и не двигаться, тоже перестать. Быть конец, когда один лежать или играть трубы.
Ставки приняли, и Н’Деле вышел в круг из опилок. Казалось, что из одного его противника можно сделать двух кебирийцев того же размера, а оставшимся накормить еще и собак. Нассимиец звался Черный Урф и выглядел, будто у него случился припадок ярости: он рвался, как гончая на цепи. Н’Деле стоял посредине, склонив голову, касаясь ладонью то губ, то сердца.
А потом принялся напевать что-то по-кебирийски. Монотонно, повторяя одни и те же выражения, он делал это все громче. Поднял длинные руки и принялся хлопать, а потом и притопывать на месте, все резче, так, что из-под подошв взлетала пыль. Черный Урф зарычал снова, склонил, как бык, голову и бросился в его сторону. Однако Н’Деле Алигенде танцевал, и его уже не было на том месте – нассимиец схватил только воздух. Потом молниеносно развернулся и поднял обернутые ремешками руки и крупные кулаки. Он держал их сбоку от головы, стоя на согнутых ногах, и некоторое время они кружили друг напротив друга, а Н’Деле продолжал петь, хлопать и танцевать. Толпа зароптала.
– Он понимать, что надо бить? – обеспокоился Ньорвин. – Я плохо ему объяснять?
Кулак нассимийца выстрелил вперед, словно камень из катапульты, а Н’Деле согнулся, как тростник, согласно ритму своей песни, и удар мелькнул мимо его уха. Урф моментально взмахнул второй рукой. Кебириец отклонился назад. Он продолжал танцевать, притопывая плетенными ременными подошвами землю и хлопая в ладоши – и это вовсе не напоминало бой. Урф снова зарычал и ударил четыре раза подряд и очень быстро. Каждый раз слышался свист, когда кулак резал воздух, а еще – хлопки в ладони и пение Н’Деле. Кебириец танцевал, и Урф ни разу по нему не попал. Н’Деле крутился, отклонялся в разные стороны и изгибался, все время ритмично хлопая. Нассимиец кинулся вперед, чтобы оказаться как можно ближе, а потом снова ударил. Сильно и очень быстро – и теперь уже начал попадать. Первый удар скользнул по плечу Алигенде, и сразу же в бок того ударил второй кулак – а потом еще раз, в голову. Думаю, что получи я так, умер бы, не коснувшись земли. Н’Деле полетел в сторону, кувыркнулся, а потом ударился спиной в стол, за которым стояло немало людей, и перевернул его. Толпа взорвалась смехом. Люди-Медведи хлопали друг друга по спине и рычали, глядя на поднимающихся с земли зрителей, один из которых, похоже, сломал руку – что возбуждало еще большее веселье.
Урф повернулся к толпе и поднял кулаки, а потом триумфально зарычал. Среди тех, кто поверил было в способности кебирийца, раздались стоны и ругань, люди потянулись к кошелям. Вальгарди стоял бледный от ярости, со стиснутыми челюстями.
Н’Деле вздрогнул, а потом поднялся, будто пригнутое к земле деревцо. Встряхнул головой, по лицу его текли яркие ручейки крови, словно свежий сок. Он сплюнул на подворье кровавой слюной, поднял ладони и снова принялся хлопать и притопывать.
– А может человек сойти с ума без причины и в один момент? – спросил Бенкей.
Н’Деле снова запел, Черный Урф оглянулся с удивлением, а потом опустил кулаки и снова двинулся к кебирийцу.
Алигенде хлопал и пел.
– Кебир-человек совсем без мудрость, – заявил Ньорвин. – Он уже видеть, что Урф не спать от колыбельной.
Нассимиец презрительно сплюнул и рассмеялся, а потом наклонил голову, согнул ноги, и кулак его выстрелил, будто таран, прямо в окровавленное лицо Н’Деле и в хлопающие ладони. Кебириец отклонился назад так сильно, что уперся ладонью за спину и перекувыркнулся, но сразу же снова принялся хлопать и приплясывать.
– Кебир-человек всегда так делать, когда его кто-то бить? – интересовался Ньорвин.
Урф подскочил, ударил Н’Деле в бок, согнув его напополам, потом – снизу в лицо. Кебириец подлетел в воздух, потом упал на спину, подняв облако пыли и опилок. Урф снова вскинул кулаки в жесте триумфа, но Н’Деле подтянул колени к лицу и выстрелил ногами, резко вскакивая.
И снова принялся хлопать и притопывать. И снова петь. Был в крови, но не сильнее, чем минуту назад. А ведь казалось, что лицо его должно напоминать растоптанный фрукт.
На этот раз Урф схватил его за плечо и бедро, а потом забросил себе на спину как мешок. Крутнулся, ревя, будто буйвол, поднял Н’Деле над головой и бросил его о землю. Мы вскочили с мест, но кебириец кувыркнулся в воздухе, как леопард, оттолкнулся ладонями от камня и ударил двумя ногами. Его пятка попала Урфу под колено, а стопа второй ноги – в челюсть, и огромный нассимиец тяжело рухнул на землю. Принялся ворочаться, поднимаясь, однако Н’Деле уже танцевал и хлопал. Урф встал, встряхнул головой и двинулся вперед, и тогда Алигенде внезапно откинулся назад, на миг оперся в землю одной рукой и ударил ногами, вновь повалив великана на землю.
– Айеете нгурул! Айеете умбайее! – снова запел Н’Деле.
Урф ударил, широко размахнувшись, промазал, но тут же влупил с другой стороны. Н’Деле перехватил его руку, выкрутил и бросился на землю, втыкая нассимийцу стопу под мышку и перебрасывая того через себя. Черный Урф кувыркнулся и грохнулся на спину.
Поднимался тяжело, из одного уха капала кровь, а когда он встал, некоторое время вращал одним плечом, как если бы оно выскочило из сустава. Он оскалился и двинулся вперед.
Алигенде пел и хлопал.
На этот раз нассимиец не собирался бить Н’Деле кулаками: схватил его поперек, прижав его руки к туловищу, и стиснул, желая выдавить воздух из груди. Поднял Н’Деле, как ребенка, а потом откинул голову и ударил его выпуклым, бычьим, лбом в лицо.
И снова не попал.
Алигенде отклонился зажатым туловищем назад, совершенно, казалось, невозможно, и голова Урфа только ударила его в грудь. А потом он выдернул ладони, зажатые, казалось, у локтей, и ударил нассимийца одновременно с двух сторон. Урф застонал и выпустил противника. Н’Деле легко приземлился на землю, ухватил Урфа за загривок, развернулся и бросил его через бедро.
И снова огромный нассимиец тяжело встал с камня подворья, а Н’Деле танцевал, хлопая и скандируя свое: «Айеете химба! Айеете умбайее!»
Урф подскочил и хотел ударить двумя кулаками снизу, а когда промазал, то с обеих сторон. Н’Деле прыгнул к нему, ударяя грудью в грудь, а потом подпрыгнул и в воздухе пнул нассимийца коленом в подбородок.
– Айеете нгана! Айеете химба нааль!
Лицо Урфа выглядело ужасно, один глаз заплыл, из уха все лилась кровь. Он уже не рычал, а только сплевывал на землю.
Бросился на кебирийца, молотя огромными кулачищами, будто рубя ветки. Алигенде два раза отклонился, как молодое деревцо под напором ветра, пропуская кулаки рядом с собой, а потом крутанулся в прыжке и трижды пнул нассимийца, вертясь, как смерч. Коленом, пяткой и еще раз ребром подошвы в голову. Оттолкнулся от огромного мужчины, кувыркнулся, встал ровно и принялся хлопать.
– Айеете!
Черный Урф рухнул головой вперед.
Н’Деле допел куплет до конца, хлопая и подпрыгивая все медленнее, потом поклонился лежащему, прикоснувшись к губам и к сердцу, развернулся и среди криков толпы пошел в сторону нашего прилавка и скамьи, на которой мы сидели, мокрые от пота и охрипшие от воплей.
Черный Урф, подрагивая от усилия, оттолкнулся ладонями от земли и сел на корточки. Еще раз сплюнул кровью и неуверенно поднялся на ноги.
Я крикнул, когда он схватил треножник, наполненный горящим маслом, но мое предупреждение исчезло в общем ропоте толпы.
Но когда Урф замахнулся треножником, все утихли, и когда Н’Деле понял, что что-то происходит, миска, теряя ручейки пылающего масла, уже летела в его голову. У Н’Деле было времени не больше, чем нужно, чтобы моргнуть.
Слишком мало. Будь у него дополнительные глаза на затылке…
Но выглядело так, словно они у него есть. Он кинулся в сторону, опершись одной рукой, а миска пролетела рядом с ухом, обливая загривок горящими каплями. Н’Деле выбросил ногу вверх и пнул Урфа в локоть, так что тот треснул, словно сухая ветка. Треножник грохнулся на подворье и несколько раз подпрыгнул со звоном, брызгая горящим маслом. Кебириец перекатился по камням, схватил горсть пыли и растер ее по шее.
Урф качнулся, взмахнув сломанной рукой, но бросился на Н’Деле, как разъяренный буйвол. Алигенде метнулся в сторону нассимийца и вдруг быстро, как молния, ударил его ладонями в оба уха сразу. Урф остановился, будто столкнувшись со стеной, выровнялся, кашлянул кровью, и из глаз его, как кровавые слезы, потекли два ручейка. Потом он окрутился на месте и упал навзничь.
Пока он лежал, глаза его наполнялись красным, но он не моргал и не шевелился. Н’Деле вернулся к нам и как ни в чем не бывало присел на лавку.
– И ты не мог сделать так сразу? – проворчал Сноп. – Из-за тебя у меня сердце в пятки ушло.
– Но ведь это было для развлечения, – ответил кебириец. – У нас тоже так бывает. Танцуем в кругу и бьем в барабаны, а те, кто хочет драться, входят внутрь, танцуют и сражаются, пока один не упадет. А потом снова. В кругу никого не убивают. Но мне пришлось это сделать, поскольку его покинул рассудок. Впрочем, он странно сражался, и мне хотелось сперва увидеть, каковы его намерения.
– Кебир-человек очень хорошо! – крикнул Ньорвин, сжимая ему плечи. – Хорошо, кебир-человек!
– Н’Деле, – прервал его кебириец. – Меня зовут Н’Деле.
– Н’Деле, – согласился Ньорвин. – Н’Деле Кабирингар… Нет. Н’Деле Клангадонсар. Твой имя в этот страна, Кланга-донсар. Кланга, – тут он показал сжатый кулак. – Донсар… – тут он начал крутиться, притопывая и делая странные жесты. – Танцевать. Вот ты иметь новое имя.
– Он дал тебе новое имя, – заметил Бенкей. – Похоже, он в тебя влюбился. В этой странной стране возможно все.
Вальгарди пришел к нам радостный и тоже похлопал Н’Деле по спине, а потом дал ему две серебряные монеты и горсть медяков из тех, что он заработал на ставках. Не знаю, была ли это обещанная половина десятой доли, но все же он заплатил монетой невольнику, и я подумал, что люди эти не настолько никчемны, как показалось сначала.
На середине подворья все так же неподвижно лежал Черный Урф, а маленький старый человечек прижимал его окровавленную голову к груди и отчаянно рыдал. Я отвел взгляд, поскольку ощутил сочувствие, хотя еще немного, и лежал бы там мой друг. Но нас бы никто не оплакивал.
Вальгарди снова принес жирную мазь и велел Н’Деле смазать ожоги на шее и спине, а потом дал ее и нам, чтобы мы втерли в клейма. Потом они с Ньорвином долго и бурно говорили, перекрикиваясь и размахивая руками.
За это время множество людей подходили на нас посмотреть, щупали наши плечи и тыкали в животы, но большинство хотело взглянуть вблизи на Н’Деле, а некоторые приносили ему кубок пива и хлопали по плечу – полагаю, были это те, кто поставил на его победу.
Вальгарди и Ньорвин наконец перестали спорить. Вальгарди плюнул в ладонь, а потом ударил в ладонь Ньорвина, они пожали друг другу бицепсы, потом взяли кувшин и каждый вылил на руку немного пива и прижал ладонь к земле. А еще позже – торжественно осушили кувшин.
Когда закончили, Ньорвин растолкал толпу зевак, подошел к нам и отстегнул обруч от шеи Н’Деле, который надели, когда он вернулся к лавке.
– Ньорвин купить Н’Деле Клангадонсар. Теперь кебир-человек для Ньорвин. Ньорвин давать гильдинг. Н’Деле сбить Урфа, теперь Ньорвин иметь гильдинг. Н’Деле ехать с Ньорвин ярмарки и бить людь. Хорошая жизнь. Н’Деле не лопата, не метла, не плуг. Только бить людь ярмарки и дворы сильных мужей. Хорошая жизнь. Много еда, много пиво, много фики-фики. Помытый и сытый. Не нужно работа, грязь, куча, камни. Люди смотреть Н’Деле бить и давать Ньорвин гильдинг. Ньорвин хорошо дело. Много гильдинг. Три года, потом Н’Деле свободен, получить гильдинг. Клеймо три года. Идти куда хотеть. Возвращаться Кабирстранд или построить дом страна мореходы и найти хороший девушка. Н’Деле свой мешок и идти. Завтра ехать дорога.
Алигенде встал и попрощался с каждым из нас отдельно, а передо мной легко поклонился, так, чтобы никто не обратил на это внимания.
– Я вернусь, тохимон. Найду тебя, или же встретимся подле устья реки. Судьба, которая выпала мне, возможно, не будет так уж плоха, и может я найду способ, чтобы вас найти и освободить! Пусть хранит вас длань Дхана Кадомле и ваш Идущий Вверх.
Я пожал его плечи и почувствовал, как у меня перехватывает горло, однако заставил себя успокоиться, чтобы никто не увидел моих слез. Я смотрел, как он уходит: высокий и стройный, в накидке, которая едва-едва прикрывала его бедра, смотрел, как он несет узелок, в котором оставили ему совсем немного вещей, и пустынный плащ, переброшенный через руку. Я научился уже не считать расставаний и людей, которых приходится терять по дороге. Однако я ничего не мог поделать: когда начали нас разделять, душа моя сделалась тяжела, как камень. И чувствовал я еще, что в конце мне неминуемо придется идти в одиночестве в поисках своей судьбы. Потому что в одиночестве мы рождаемся и умираем, а тем, кто сопутствуют нам в дороге, обычно приходится выбрать собственную дорогу.
Вальгарди, похоже, был в хорошем настроении, поскольку мы получили пиво, хлеб и ведро обгрызенных костей, на которых оставалось еще вдосталь мяса.
Назавтра мы снова сидели на лавке, скованные цепями, и позволяли ощупывать себя и толкать. До полудня Вальгарди избавился от остатков приправ и оружия, разлил по металлическим бутылочкам немало ароматических масел. Плиты соли, которые окружали его прилавок, лежа кучами и в мешках, исчезали одна за другой. Наконец продали и раскрошенные остатки, высыпаемые из мешков в глиняные миски, выскребли все, что могло остаться на внутренней стороне кожи.
И все это время в окованную шкатулку со звоном падали монеты, словно Вальгарди стоял под водопадом из золота, серебра и меди.
Одна женщина купила сразу два мешка плит соли лучшего качества, проверив лишь, белая ли она и чистая ли, нет ли на ней рыжей пыли пустыни, которую часто задувало на соленые озера под Маранахаром. Взяла также мешочек разнообразных приправ и один меч следопыта, а еще большой кусок шкуры каменного вола.
Была это самая большая женщина, которую приходилось мне видеть в своей жизни, с руками столь мощными, что им мог бы позавидовать не один рубака; была она плотная и высокая, с гривой прекрасных волос цвета полированной меди, одетая в платье из яркой материи и обвешанная золотыми украшениями. Даже на пальцах ног носила она кольца, а потому ходила босиком. На ней был и окованный пояс с массивным мечом, короткий кожаный кафтан, обшитый металлическими пластинками, из-под которого готовы были выплеснуться большие груди. Когда она торговалась с Вальгарди, голос ее звучал как рог загонщиков, и от него звенело в ушах, а еще она то и дело принималась громогласно хохотать: я слышал, как от этого смеха подрагивает металлическая посуда на соседнем прилавке.
Сопровождали ее двое мужчин. Один в накидке с капюшоном, худой и невысокий, с виду напоминал южанина. Второй был местным, мощным, сгорбленным, с тупым плоским лицом, на котором один глаз был нормальным, а второй постоянно глядел куда-то в сторону. Этот второй постоянно ковырял в носу и сплевывал. Был там и мальчишка, невысокий и толстый, с решительным лицом и пылающей в узких глазах злостью. Одет он был достойно, а вооружен небольшим мечом. Все покорно молчали, и лишь мальчишка с ненавистью поглядывал на нас и то и дело что-то произносил капризным тоном.
Потом женщина осматривала меня, Бенкея и Снопа, бесцеремонно щупая наши задницы, хватая каждого из нас за естество и больно сжимая, а позже принялась нас толкать все грубее, пока Вальгарди не заорал на нее, и потом они принялись вопить друг на друга, а женщина то толкала его, то вцеплялась в рукоять меча.
В конце концов она заплатила большой горстью серебра и двумя золотыми монетами, с презрением швырнув их на прилавок, а потом отошла, покачивая бедрами, а люди расступались перед ней, будто перед разъяренным буйволом. Вальгарди собирал рассыпанные монеты, качал головой и ворчал что-то на языке Медведей, радуясь, что она ушла прочь.
Парнишка пошел за ней, мужчины же нагрузились мешками и свертками, как бактрианы, и только потом отправились следом. Голос женщины и ее визгливый смех были слышны издалека, несмотря на рев толпы.
В тот день прилавки начали уже просвечивать пустотой, постепенно проредилась и толпа покупателей, выносивших товары за стены города, а большинство купечьих лиц уже расплывались в широких улыбках; с рогами пива в руках, они куда чаще тянулись к кувшинам, чем к медным и каменным гирькам; серебро же сыпалось в их миски и шкатулки все более слабым ручейком.
Из загородок раздавался визг зарезаемой животинки, и я был уверен, что в эту ночь будет еще больше музыки, еще больше печеного мяса и пива, поскольку обитатели города обогатились на караване и чрезвычайно радовались своей судьбе. Но я знал, что радость их пустая. Нынче бренчало у них серебро и они думали только о том, что его хватит на жирное мясо, лучшее пиво и меды. Я же знал то, о чем они и понятия не имели.
Я знал, что караваны из Амитрая больше не прибудут. Люди на башнях внизу еще долго не задуют в рога при виде груженных бактрианов и не крикнут, что вновь прибыл Н’Гома, привозя им соль, кожи и прочие вещи из стран Юга. Возможно, они уже никогда не увидят кувшинов и тканей из Ярмаканда, не попробуют вина со специями и не почувствуют запаха масел. Караван, который все это сюда привез, был последним.
Прежде чем мы принялись раскладывать прилавок, на котором почти ничего не осталось, вернулась огромная женщина, и выглядело так, что Вальгарди не слишком обрадовал ее вид. Между ними произошел долгий, громкий разговор, то и дело слышался визгливый хохот, рядом с которым рык бактрианов и вой волков казался бы сущей музыкой, а к нам подошел муж в капюшоне, который сопровождал ее и вчера.
– Вы амитраи? – спросил он. Мы кивнули, и только Сноп сказал, что он – кирененец. Мужчина отбросил на спину капюшон, показывая лысую голову и крючковатый нос.
– Я Удулай Гиркадал из рода Афрай. Лекарь. Но в этой дикой стране я служу моей госпоже, поскольку я такой же невольник, как и вы. И я скажу вам, что моя госпожа, Смильдрун Сверкающая Росой, хочет купить двух из вас, поскольку так ей нравится, а она обычно получает, что хочет. И я знаю, что она наверняка не купит кирененца, поскольку ей нужны невольники послушные, а не норовистый и высокомерный дикарь, не знающий покорности, которого придется выпотрошить, зря потратив деньги. Уважаемая Смильдрун заплатит за вас много, и хотя сразу видно, что вы из паршивых каст, ей нет до этого дела, поскольку она властительная госпожа и великая воительница, и сможет это сделать.
Я услышал пронзительный, резкий смех той, которую мужчина называл Сверкающей Росой, и у меня по спине поползли мурашки. Однако ничего нельзя было сделать. Монеты со звоном посыпались в медную миску Вальгарди, который сразу подошел, чтобы снять с нас ошейники, с Бенкея и меня. И мне казалось, что на лице его, когда он свертывал цепь, словно бы появилось сочувствие. Похлопал Бенкея по здоровому плечу, потом выдал нам по кубку пива и вручил мне посох шпиона Бруса, который поднял из небольшой кучки нераспроданных товаров. Полагал, что отдает мне просто посох странника, но я и не помню, когда меня кто-то так сильно радовал.
– Быстрее, госпожа не станет вас ждать, недотепы, – рявкнул амитрай, который представился нам как Удулай и утверждал, что он лекарь.
Мы забросили за спины подорожные корзины и послушно зашагали прочь, а на лавке остался только Сноп, сын Плотника, который приподнял ладонь на прощание, а потом упер руки в колени и смотрел, как мы исчезаем в толпе.
Смильдрун шла впереди, мощно ставя толстые ноги, а я смотрел, как колышутся ее огромные ягодицы. Сзади она казалась коровой. Мне она не нравилась. Не нравилось мне выражение сочувствия и вины на лице жесткого Вальгарди. А еще сильнее не нравился мне Гиркадал. Я чувствовал, что мы должны опасаться этого человека, хотя он и был невольником, как и мы.
Мы вышли за стены горного городка. Серая кровля туч разорвалась на бегущие за ветром облака, даже солнце выглянуло, а мы наконец перестали трястись от холода. Под стенами, на покрытой скалами равнине с низкой травой стояло немало повозок и шатров из цветного полотна, между повозками горели небольшие костры и крутилось множество людей. Некоторые уже паковали свои пожитки, другие завершали дела и вели между собой торги. Вниз по тракту, в сторону леса, уже ехали повозки, окруженные вооруженными всадниками, чтобы исчезнуть среди деревьев и долин.