Читать онлайн Здоровый кишечник бесплатно
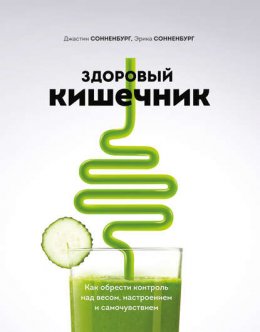
GUT REACTIONS by Justin and Erica Sonnenburg © 2015
This edition published by arrangement with InkWell Management LLC and Synopsis Literary Agency.
Translation © 2019 by Mann, Ivanov and Ferber
Введение
Здоровье во многом предопределяется генами. Мы знаем, что нужно правильно питаться, заниматься спортом и избегать стрессов, но спорим, как лучше это делать. Многие оздоровительные программы преследуют благие цели, но направлены исключительно на снижение веса или улучшение сердечно-сосудистой деятельности. Есть ли другой ключ к здоровью? Второй, изменчивый геном, на который можно повлиять образом жизни? Такой геном действительно существует. Он принадлежит бактериям, населяющим кишечник. Сейчас мы стали понимать, какую роль в самочувствии играют микроорганизмы, или микрофлора, и эти знания меняют наше представление об организме человека.
Все больше людей, преимущественно в развитых странах, страдают от рака, диабета, аллергии, астмы, аутизма и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Ученые убеждаются, что бактерии прямо или косвенно влияют на многие процессы в нашем организме.
Хотя поверхность нашего тела и полости, контактирующие с внешней средой, кишат бактериями и другими микроорганизмами, место их массового скопления – пищеварительный тракт. Эти бактерии расщепляют и поглощают трудноперевариваемые пищевые волокна. Работа бактерий – иногда наш последний шанс извлечь из этих волокон питательные вещества (некоторые – жизненно важные, незаменимые). Вот почему забота о кишечной микрофлоре имеет огромное значение для здоровья.
Состояние иммунной системы тоже зависит от кишечной микрофлоры. Если она в норме, то иммунная система почти наверняка функционирует правильно: эффективно борется с инфекциями и уничтожает новообразования. Если же работа кишечных бактерий нарушается, мы чаще болеем, увеличивается риск развития аутоиммунных заболеваний и рака. Химические вещества, производные микрофлоры, влияют на иммунный ответ – реакцию иммунной системы на повреждение или воздействие патогенного раздражителя, которая выражается в виде отека, покраснения и болезненности. С воспаления могут начинаться самые разные проблемы со здоровьем.
Некоторые химические соединения, вырабатываемые микрофлорой, напрямую действуют на центральную нервную систему через ось «кишечник – мозг». Она во многом определяет наше самочувствие, а не просто указывает, когда пора поесть. Нам предстоит узнать много нового об этих процессах. Кишечные бактерии могут менять настроение и поведение, а также влиять на развитие неврологических заболеваний.
Союз человека с микробами возникает при рождении. В утробе матери плод стерилен, но как только ребенок появляется на свет, девственную среду обитания заселяют микробы. Мы получаем их от матери, друзей и членов семьи, из окружающей среды. И это не плохо. Так что если ваш малыш сует в рот предмет, которым нельзя подавиться, не бросайтесь его отбирать и не хватайтесь за антисептик. Лучше подумайте, что ценные бактерии помогут сформировать новую микрофлору. В дальнейшем на нее будут влиять многие факторы: были роды естественными или при помощи кесарева сечения; грудное или искусственное вскармливание; как часто вы принимаете антибиотики; есть ли дома собака; чем вы питаетесь.
Меняя образ жизни, питание, лекарства, мы должны учитывать, как это отразится на микрофлоре. Секвенирование ДНК выявило более двух миллионов микробных генов, называемых микробиомом. Открылись удивительные факты. Во-первых, микрофлора каждого из нас уникальна так же, как отпечатки пальцев. Во-вторых, микрофлора может выйти из строя, что приводит к развитию болезней и патологий, таких как, например, ожирение (ранее это объясняли исключительно образом жизни). В-третьих, микрофлора способна к изменениям, а значит, состоянием здоровья по мере старения можно управлять.
Эта новая информация отвечает на многие вопросы. Как формировать здоровую микрофлору новорожденного? Как оптимизировать микрофлору взрослого, чтобы укрепить иммунитет, снизить риск аутоиммунных заболеваний и аллергии? Как изменить диету для оптимального питания микрофлоры? Как восстановить ее после приема антибиотиков? Как поддерживать ее по мере старения? Как найти правильную комбинацию микробов для кишечника?
В кишечнике обитает более 100 триллионов бактерий. Если выстроить их цепочкой, она достанет до Луны. Бактерии обнаруживаются во всех отделах пищеварительного тракта. Некоторые виды предпочитают жить в желудке, хотя мало кому подходит его суровый кислотный климат. Другие обитают в тонкой кишке, но большинство выбирает толстую: плотность «населения» здесь – 500 биллионов на одну чайную ложку содержимого кишечника.
Но вы не поверите: при таком количестве бактериям грозит исчезновение. У среднестатистического жителя Европы или США в кишечнике приблизительно 1200 различных видов бактерий[1]. Кажется, что это много. Но, например, у американского индейца, живущего в Венесуэле в районе Амазонки, их около 1600 – на целую треть больше. Разнообразие бактерий наблюдается и у представителей других сообществ, чей образ жизни и диета ближе к образу жизни и диете древних предков. Почему? Современные технологии изменили наше питание (высококалорийные продукты подвергаются обработке и производятся в промышленных масштабах) и образ жизни (мы дезинфицируем помещения антибактериальными средствами и злоупотребляем антибиотиками), став угрозой для кишечных бактерий. Найти пищу в продуктовом магазине для них то же самое, что человеку – в магазине стройматериалов. Наши привычные продукты означают голод для кишечных бактерий.
Последствия уже видны: распространяются ожирение, диабет и аутоиммунные заболевания, нетипичные для обществ с более разнообразной микрофлорой. Целые страны пристрастились к вредной еде, и дети стали жертвами стиля жизни взрослых. Сложно сказать, чем это обернется в будущем. Возможно, выживет половина или даже меньше видов бактерий, имевшихся у наших предков[2].
Сами мы уже пересмотрели диету и образ жизни. Многие наши знакомые стараются продумывать питание, особенно детское. Но самая актуальная информация им пока недоступна. Кроме того, рядовому читателю трудно понять научные публикации об исследованиях микрофлоры. Поэтому мы решили написать эту книгу. В ней собрана вся информация, которая позволит без специальной подготовки разобраться в результатах новейших исследований. На основе результатов, полученных в ходе двойных слепых плацебо-контролируемых исследований[3], мы сформулировали рекомендации, как улучшить здоровье с помощью микрофлоры.
Из книги вы узнаете, как развивается микрофлора у плода, младенца, ребенка. Мы расскажем, как прививать детям полезные пищевые привычки при переходе на твердую пищу. Объясним связь микрофлоры, иммунитета и метаболизма. Рассмотрим вредные для микрофлоры последствия современного образа жизни и обсудим способы их исправления. Мы продемонстрируем потрясающую взаимосвязь кишечной микрофлоры и мозга (по последним данным, состояние микрофлоры отвечает за настроение и поведение).
В отличие от генома человека, который в значительной степени определяется до рождения, микробиом можно изменить. Целая глава посвящена новейшим достижениям в лечении микрофлоры, обсуждаются будущие открытия в этой сфере. Нарушения микрофлоры вследствие старения организма можно предотвратить. Мы уделим внимание вопросам пищеварения, здоровья и самочувствия пожилых людей. Наконец, мы предложим план по оздоровлению микрофлоры и поддержанию баланса в долгосрочной перспективе. В книге вы найдете рецепты блюд, доступных даже самым занятым людям. Это эффективный и вкусный метод!
Прежде чем воспользоваться нашими рекомендациями, рекомендуем проконсультироваться у врача.
Человек – сложный организм, в котором человеческая часть переплетается с микробной. Если мы заботимся о микробах, они защищают наше тело – свой дом.
Глава 1. Что такое микрофлора и зачем мне это знать?
МИР МИКРОБОВ
Мы считаем, что миром правит человек. Он создал социум, города, потрясающие произведения искусства. Свидетельства человеческой активности: автотрассы, дамбы, крупные архитектурные объекты и прочее – видны даже из космоса! Люди оказали колоссальное влияние на планету, будучи относительно новыми и немногочисленными ее обитателями. Микроскопические организмы, такие как бактерии и археи, обитают на Земле миллиарды лет. На одной вашей руке микробов больше, чем людей на свете. Если собрать все бактерии Земли, эта биомасса превысит все растения и животные. (Вспомните об этом, когда в следующих главах будете читать о войне антибиотиков с микробами.) По некоторым оценкам, количество бактерий на Земле достигает пяти миллионов триллионов, или пяти нониллионов. На письме это цифра 5 с 30 нулями.
Бактерии есть везде: в холодных, темных озерах, спрятанных на глубине 800 метров подо льдами Антарктики, в термальных источниках, температура которых достигает 90°C, и в комке, образовавшемся в вашем горле при одной мысли об этом. Если мы когда-нибудь найдем инопланетную жизнь, скорее всего, это будут микробы. (Роверы на Марсе запрограммированы на поиск признаков среды, способной поддержать микробные формы жизни.) Одноклеточные микробы – старейшая форма жизни на Земле, им уже 3,5 миллиарда лет. Для сравнения: люди появились всего 200 тысяч лет назад. Если представить историю Земли как одни сутки, установив, что планета возникла в полночь, то микробы появились бы чуть позже четырех часов утра, а люди – всего за несколько секунд до окончания суток. Без микробов людей бы не существовало, но если мы все вдруг исчезнем, мало кто из них это заметит.
Несмотря на примитивную форму, современные микробы – продукт миллиардов лет эволюции. Они развиты так же, как и мы. Учитывая, сколько поколений у них сменилось (при цикле размножения от нескольких минут до нескольких часов), к условиям жизни микробы приспособились лучше, чем люди. Например, через несколько десятков лет в районе чернобыльской аварии появились грибы, способные поглощать энергию радиации[4]. Если планету постигнет масштабная катастрофа, некоторые микробы, скорее всего, быстро приспособятся к новой среде и размножатся. Человеческий организм не способен адаптироваться так легко.
Микробы многочисленны, обладают удивительной способностью быстро привыкать к смене обстановки и тут же поселяются в каждом живом организме. Они оседают на коже, в ушах и во рту, а также во всех полостях, соприкасающихся с внешней средой, включая пищеварительный тракт. Когда-то микробы лишь искали пищу и убежище, но в процессе эволюции стали важной частью нашего метаболизма.
ТРУБКА, ЗАПОЛНЕННАЯ БАКТЕРИЯМИ
Человеческое тело похоже на сложно устроенную «трубку», которая начинается ртом и заканчивается анусом. Пищеварительная тракт – «начинка» этой трубки. Как заметила Мэри Роуч в невероятно увлекательной книге «Путешествие еды», по своему строению мы ненамного отличаемся от дождевого червя. Пища входит с одной стороны трубки, переваривается внутри нее и выделяется в виде отходов с другой стороны. Если вы разочарованы «примитивностью» пищеварительной системы, учтите, что трубка с двумя отверстиями – большой шаг вперед по сравнению с существовавшими до этого трубками с одним отверстием. У гидры – микроскопического организма, обитающего в прудах, – есть только рот. Это означает, что для еды и выделения отходов используется одно и то же отверстие. На этом фоне наша «трубка» не кажется такой уж отсталой, правда?
В отличие от трубки червя, у нашей трубки в результате эволюции появился целый ассортимент приспособлений для ее питания и защиты. Чтобы накормить трубку, у нас есть руки, которые тянутся к еде и подбирают ее. Мы отрастили себе ноги, чтобы двигаться и искать больше еды. Все наши органы чувств и чрезвычайно сложный мозг можно считать «дополнениями», которые помогают раздобыть больше еды для трубки, защитить ее от внешних угроз и размножиться, создавая таким образом больше трубок. Новые трубки расширяют среду обитания для все большего количества бактерий.
Обитающие в кишечнике микробы оказывают на пищеварение мощнейшее влияние, однако с основной массой микробов еда контактирует только в самом конце, пройдя значительную часть пищеварительного тракта. Пища опускается по пищеводу в желудок, где оказывается в ванне из кислоты и ферментов, призванных начать процесс пищеварения и усвоения питательных веществ. После примерно трех часов механического болтания в этой суровой кислотной среде практически без микробов частично переваренная пища постепенно поступает в тонкую кишку. Это гибкая трубка длиной примерно 6,5–7 метров и диаметром 2,5 сантиметра. Внутренняя поверхность тонкой кишки представляет собой множество выступов, называемых ворсинками, через которые питательные вещества поступают в кровь.
В тонком кишечнике пища пропитывается ферментами. Их выделяют поджелудочная железа и печень, чтобы помочь нам переварить белки, жиры и углеводы. Здесь, в тонкой кишке, количество микробов относительно небольшое, всего лишь около 50 миллионов на чайную ложку кишечного содержимого.
Последняя остановка в этом путешествии продолжительностью примерно 50 часов – толстая кишка, где еда продвигается со скоростью улитки. Средняя длина толстой кишки – меньше 1,5 метра, диаметр – 5–8 сантиметров. Внутри она покрыта вязкой слизью. Именно здесь остатки съеденной пищи впервые встречаются с многочисленным и прожорливым сообществом микробов. В толстой кишке почти в десять тысяч раз больше микроорганизмов на чайную ложку содержимого, чем в тонкой. Кишечные бактерии живут и процветают за счет остатков еды, в основном сложных растительных полисахаридов, известных как пищевые волокна или клетчатка. Все, что бактерии не поглощают (или не могут поглотить), например семена или кожица зерен кукурузы, выводится из кишечника. Как правило, на это требуется от 24 до 72 часов после приема пищи. Вместе с отходами вымывается множество бактерий, живых и мертвых. Они составляют около половины массы фекалий. В кишечнике при этом остается достаточное количество собратьев, чтобы обеспечить его густонаселенность. При определенных санитарно-гигиенических условиях выжившие микробы могут переселиться в ближайший источник воды, что позволит им найти новый дом в новом кишечнике.
Как же все эти бактерии попали в пищеварительную систему? Мы воспринимаем внутренние органы как нечто изолированное. На самом же деле внешняя среда воздействует на них не меньше, чем на кожу. Мы постоянно встречаемся с микробами. Они – на руках, в еде, на домашних питомцах. Вот и наша «трубка» тоже непрерывно с ними контактирует. Некоторые микробы просто проходят через нас, другие остаются на годы и даже на всю жизнь.
Несмотря на огромное количество кишечных микробов, их жизнь непроста. Сначала им нужно пережить кислотную ванну желудка, а затем найти убежище в темной, влажной пещере толстой кишки, в которой обитают тысячи разных видов. Периодически в пещеру прибывает еда, но конкуренция за ресурсы невероятно сурова, и выживание зависит от способности урвать кусок, пока другие не наложили на него свои микробные лапки. Между приемами пищи некоторые микробы выживают, питаясь слоем слизи, покрывающим кишечник.
Жизнь кишечных бактерий всегда подвергалась опасности, но сейчас вопросы их защиты актуальны как никогда, учитывая трудности, с которыми им пришлось столкнуться в современном «цивилизованном» мире.
ОБЛОМКИ САМОЛЕТА
Представьте себе, что вы видите фото с места крушения самолета. Ничего не зная об авиации, вы вряд ли поймете, как самолет выглядел до катастрофы. С аналогичной проблемой сталкиваются ученые, пытаясь узнать, как работает микрофлора. Значительная часть исследований проводится с участием европейцев, подверженных «болезням цивилизации», или «западным болезням». Сравнивая микрофлору людей с воспалительным заболеванием кишечника и здоровых людей, ученые видят, что по «здоровой» группе нельзя судить о здоровой микрофлоре. Некоторое время микрофлора может «болеть» без симптомов. Так, простуженный человек выглядит больным, если сильно кашляет. Если же у него поднимается температура без кашля, он болен, но это незаметно. Кажется, будто проблема не в жаре, а в кашле. Исследователи пытаются описать здоровую микрофлору, изучая современных европейцев, поэтому вполне возможно, что представление о норме сильно искажено.
Первые люди добывали пищу исключительно охотой и собирательством. Питание древнего человека состояло из кислых, волокнистых диких растений, постного дикого мяса и рыбы. Ситуация изменилась около 12 тысяч лет назад. Зарождение сельского хозяйства радикально преобразило наш рацион. Стали привычными фрукты и овощи иного качества. Селекционная работа сделала их сладкими, с более насыщенной, менее волокнистой мякотью. Одомашненные животные получают специальные корма, в том числе зерно и продукты животного происхождения (молоко). Люди культивируют зерновые: рис, пшеницу и др.
Промышленная революция внесла беспрецедентные изменения. Теперь питание зависит от массового производства. Результат – продуктовые магазины, забитые обработанной, подслащенной, высококалорийной едой, лишенной пищевых волокон и продезинфицированной для продления срока ее годности. Новый рацион совершенно не соответствует тому, чем мы питались на протяжении всей нашей эволюционной истории. Раньше кишечная микрофлора подстраивалась под любые изменения, но теперь она на пути к катастрофе.
Бактерии кишечника размножаются молниеносно, они способны удваивать свою численность каждые 30–40 минут. Виды, процветающие на регулярно употребляемых продуктах, могут за короткое время увеличиться в числе. Однако некоторые виды нуждаются в пище, не входящей в обычный рацион человека. Они вынуждены жить за счет кишечной слизи или столкнутся с угрозой вымирания. Одно из наиболее удивительных свойств микрофлоры – адаптация к изменениям режима питания. В биологии она известна как модификационная изменчивость, и кишечная микрофлора большая мастерица в этом деле. Так, рацион древних охотников-собирателей менялся с временами года, и микрофлора легко подстраивалась, чтобы извлечь максимальную питательную выгоду. Однако эта изменчивость также означает, что когда-то многочисленный вид, приспособленный к древней диете, исчез, столкнувшись с современным рационом. Значительная часть микробов процветает сейчас в современной среде фастфуда. Такая западная микрофлора характерна для большинства из нас, даже тех, кто считает себя здоровым. К сожалению, это, как правило, разбившийся самолет.
Чтобы составить представление о полноценно функционирующей микрофлоре, обратимся к последним уцелевшим охотникам-собирателям племени хадза в Великой рифтовой долине в Танзании. Именно там были найдены самые древние останки наших предков, живших миллионы лет назад. По рациону и составу микрофлоры хадза ближе всего к людям досельскохозяйственной эпохи.
Хадза питаются мясом животных, на которых охотятся, ягодами, плодами и семенами баобаба, медом и клубнями – подземными запасающими органами растений. Клубни настолько волокнисты, что хадза приходится выплевывать самые жесткие волокна. По подсчетам ученых, представители племени употребляют от 100 до 150 граммов пищевых волокон в день. Для сравнения: американцы обычно съедают от 10 до 15 граммов.
Состав микрофлоры хадза намного разнообразнее, чем у западного человека[5]. Если представить себе микрофлору в виде банки с драже, где разные вкусы – это разные виды бактерий, то микрофлора охотников-собирателей – это банка, наполненная затейливой смесью множества разных цветов и вкусов, в том числе и очень необычных. А в банке с западной микрофлорой более однородная и простая смесь.
Микрофлора людей, ведущих традиционный образ жизни, схожий с тем, что господствовал в мире десять тысяч лет назад, также содержит богатую коллекцию микробов[6]. Это касается не только взрослых. Микрофлора детей из аграрной деревни в Буркина-Фасо и трущоб Бангладеша также отличается от микрофлоры их европейских или американских сверстников[7]. Итак, микрофлора людей, которые употребляют небольшое количество обработанных продуктов питания (или совсем их не употребляют), не пропивают несколько курсов антибиотиков ежегодно и не пользуются антисептиком для рук, более разнообразна.
Разнообразие обеспечивает жизнеспособность системы в целом. Представьте себе экосистему с огромным количеством видов птиц и насекомых. Если одно из насекомых исчезнет, у птиц все еще останется выбор «продуктов питания». Однако если будут исчезать и другие виды насекомых, птицы начнут голодать, и в итоге их гибель приведет к истощению видов внутри экосистемы.
ВЫНУЖДЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Люди – продукт эволюции многих поколений организмов, которые постепенно научились соседствовать со своими кишечными микробами. Заселение кишечника микробами было неизбежно, но от сотрудничества выигрывают и люди, и бактерии.
Мы приютили множество дружественных бактерий. Но есть и исключения: некоторые виды, такие как Salmonella, Vibrio cholera и Clostridium difficile, принято называть патогенными. Они выбрали путь враждебного взаимодействия и спровоцировали злоупотребление антибиотиками, что повредило и «благовоспитанным» членам микрофлоры. Относя все кишечные бактерии к захватчикам или просто посчитав их неважными, мы рискуем нанести вред этому сообществу и в результате самим себе.
У каждого вида бактерий есть собственный генетический код, или геном. Гены, закодированные в ваших микробах, – это ваш микробиом, второй геном. Он уникален так же, как и человеческий геном (за исключением однояйцевых близнецов). Микробиом – важный фактор индивидуальности (особенно если у вас есть близнец). Считайте, что ваш микробиом – своего рода внутренний отпечаток пальца. Он может закодировать способность расщеплять определенный тип углеводов. Например, только у японцев встречаются кишечные бактерии, которые питаются водорослями. Поскольку это значительная часть рациона японцев, в результате эволюции их микрофлора приспособилась использовать богатый источник пищи. Будем надеяться, что отличительная черта западной микрофлоры – это не способность поедать хот-доги!
Нам не обойтись без кишечной микрофлоры. У людей не было другого выбора, кроме как смириться с заселением многочисленного собрания бактерий. Мы поступили, как все эволюционно успешные организмы: заключили взаимовыгодный симбиотический союз. Другими словами, заставили микробы работать за пищу и жилье. Симбиоз – это тесное сотрудничество между двумя или более организмами. Некоторые симбиотические отношения паразитические, когда один организм получает выгоду за счет другого, как нежеланный гость, который съедает ваш ужин, наводит беспорядок в доме и не понимает намеков, что ему пора уйти. На микроскопическом уровне прекрасный пример таких нежеланных гостей – глисты. Комменсализм – другой тип симбиотических отношений, который приносит выгоду одному участнику, но очень мало или совсем никак не затрагивает другого (собака, которая ищет в вашем мусоре еду). При мутуализме, третьем виде симбиоза, выгоду получают обе стороны (собака, которая ищет еду у вас в мусоре, также отгоняет крыс, переносящих болезни). Такая «договоренность» аналогична нашим отношениям с кишечной микрофлорой.
Самое ценное, что мы получаем от микрофлоры, – это химические вещества, которые она выделяет (а мы усваиваем) во время реакций ферментации в кишечнике. Эти химические реакции позволяют нам не потерять дополнительные калории. Для наших предков, которым не хватало пищи, это было критично. Сейчас добыча дополнительных калорий менее актуальна, однако продукты ферментации по-прежнему выполняют важные биологические задачи: настраивают иммунную систему, помогают давать отпор болезнетворным бактериям и регулируют метаболизм.
Мы стабильно поставляем еду кишечным микробам. Все, что им нужно делать, – ждать ее появления. То есть мы едим для микробов, а они помогают переработать пищу в нужные молекулы. Но почему человеческий геном не закодирует способность полностью переваривать пищу без микробов-нахлебников? Главным образом потому, что избавиться от них практически невозможно. «Стерильное» существование в мире, полном микробов, потребовало бы титанических усилий и круглосуточной работы иммунной системы. Есть и другая причина: гены микробов функционируют как дополнение к нашему геному. Каждый ген в геноме человека приносит выгоду, но за нее нужно дорого платить (энергетическими ресурсами организма). Каждый раз, когда клетка человека делится, копируется генетический материал всего генома человека, содержащийся в данной клетке (около 25 тысяч генов). Мы получаем выгоду от генов микробов, которые выполняют функции, недоступные нашему геному. Например, позволяют превращать не перевариваемую по-другому пищу в ключевые молекулы, регулирующие очень многое – от уровня воспаления в кишечнике до эффективности запасания калорий. Такое разделение труда, появившееся в ходе совместной эволюции, настолько успешно, что используется организмами многие миллиарды лет.
Бактерия Tremblaya princeps живет в огородных вредителях войлочниках. Она особенная, потому что у нее один из самых маленьких геномов, с минимальным количеством генов, необходимых для жизни. Маленькие геномы – хорошая отправная точка для ученых при создании с нуля микробов, которые могли бы, например, очищать океан от утечек нефти или перерабатывать стебли кукурузы в топливо. После секвенирования генома Tremblaya princeps стало понятно, что у бактерии отсутствуют ключевые гены, необходимые для базового клеточного функционирования. Внутри T. princeps обнаружилась другая бактерия, Moranella endobia, которая и содержала гены, необходимые T. princeps[8]. T. princeps использовала невероятно умную стратегию: вместо того чтобы поддерживать все гены, необходимые для жизни, она ассимилировала гены другой бактерии, M. endobia, что позволило обеим выжить.
В отличие от нас природа давно поняла: ключ к успеху в конкурентной среде – это делегирование обязанностей и сотрудничество!
Отношения между T. princeps и M. endobia очень похожи на наш союз с кишечной микрофлорой: приюти бактерии, поручи им необходимые функции и сохрани подходящий геном. Загвоздка в том, что нам нужно заботиться о главных бактериях, выполняющих жизненно важные функции. Мы рассчитываем, что гены микробиома восполнят недостатки нашего генома. Для расщепления пищевых волокон из растительной пищи необходим набор генов, которые предоставляют кишечные микробы. Симбиоз сделал нас зависимыми от химических сигналов, которые микробы отправляют разным системам нашего организма начиная с рождения и до смерти. Эти сигналы, например, подтверждают, что кишечник правильно функционирует, что иммунная система активно (но не чрезмерно рьяно) борется с болезнями и что наш метаболизм поддерживает гомеостаз. Геном человека получает выгоду от трех-пяти миллионов генов, которые предоставляет нам микрофлора, без необходимости энергетически «платить» за их содержание.
ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ БАКТЕРИЙ
Если микрофлора так важна для здоровья, почему мы узнали об этом только сейчас? До недавних пор ученые занимались изучением «плохих» бактерий – патогенов – и борьбой с ними. Это возбудители таких заболеваний, как холера, туберкулез и бактериальный менингит. Они причинили страдания и смерть бесчисленному количеству людей на протяжении всей истории. В середине XIX века научное сообщество полагало, что за порчу продуктов и ферментацию – процесс, превращающий молоко в йогурт или виноградный сок в вино, – отвечает некая сущность, которая спонтанно рождается в продукте. Луи Пастер, известный микробиолог, выявил, что это не призраки, а нечто, материально существующее в окружающей среде. Это «нечто» – микробы.
Пастер понял, что микроскопические организмы могут быть причиной не только порчи молока, но и болезней. Теория микробного происхождения болезней стала прорывом. В то время доминировало убеждение, что причина недугов – миазмы (зловонные, ядовитые испарения от гниющих органических веществ)[9]. Гигиена строилась на вере в миазмы. Середина XIX века в Лондоне – период новых правил личной гигиены. Революционное изобретение – унитаз – с энтузиазмом приняли семьи, стремившиеся избавиться от негигиеничных ночных горшков. Но со смываемыми отходами возникла проблема. Канализации в Лондоне не было, и ночные горшки опорожнялись в выгребные ямы по всему городу. Вода из унитазов должна была сливаться туда же, но ее оказалось слишком много. Выгребные ямы быстро переполнились, и их содержимое потекло в Темзу, служившую источником питьевой воды для многих жителей города. Выросла смертность от холеры – как и уровень канализационных вод в Темзе.
Кризис достиг кульминации необыкновенно жарким летом 1858 года. Высокая температура и гниющие в Темзе отходы породили чудовищную проблему, которую назвали Великим зловонием. Запах был невыносимым, и многие люди не выходили из дома. Вспыхнула эпидемия холеры, и медики той поры связали ее с «миазмами» Темзы. Холера – это болезнь, вызываемая бактерией Vibrio cholerae, но тогда об этом не знали. Vibrio cholerae успешно распространяется. Главный симптом заболевания – диарея, благодаря которой микробы разносятся повсюду, особенно там, где канализационные отходы смешиваются с питьевой водой. Жители, бравшие воду ниже по течению Темзы, почти в четыре раза чаще заболевали холерой, чем те, кто брал воду выше. Зловоние было всего лишь признаком негигиеничности, а не причиной распространения холеры. Но запах нечистот и свирепствующая болезнь были так тесно связаны, что казалось, будто именно вонь вызвала эпидемию. В конце концов Великое зловоние заставило лондонцев улучшить санитарные условия. Темза (источник питьевой воды) очистилась, количество Vibrio cholerae в ней уменьшилось – и заболеваемость холерой пошла на спад.
Этот случай отражает вековую борьбу с невидимыми врагами – бактериальными патогенами, приносящими боль, страдания и смерть. Однако только в 1880-х годах немецкому ученому Роберту Коху удалось доказать, что бактерии – причины сибирской язвы, холеры и туберкулеза. Его революционный метод, известный как постулаты Коха, до сих пор служит стандартом определения того или иного патогена как возбудителя болезни. За свои исследования Кох получил Нобелевскую премию, а также престижную должность директора Института гигиены в Берлинском университете. Научные открытия Коха раз и навсегда положили конец «миазмической» теории и ознаменовали рождение микробиологии. В последующие 150 лет микробиологи сконцентрировались на бактериях, вызывающих болезни, и предотвращении инфекций. С этой целью и были разработаны антибиотики.
Только в начале XX века ученые осознали масштабы колонии бактерий в нашем кишечнике. Мы знали про бактерии внутри нас, но не понимали, что именно они делают и как влияют на здоровье, если вообще влияют. Кишечные бактерии воздействуют на здоровье человека относительно незаметно и продолжительно, в то время как патогены вызывают многие острые заболевания, из-за чего деньги выделяются в основном на исследования последних. Лишь недавно признали огромное влияние кишечных бактерий на внутренние процессы[10]. Можно даже сказать, что бактерии не просто населяют кишечник человека, а сам человек – это продукт жизнедеятельности бактерий.
СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ
В 1960-е и 1970-е годы группа микробиологов, включая Абигейл Сэлиерс, исследовала безвредных обитателей кишечника. Можно только догадываться, почему ученые выбрали бактерии, не вызывающие болезни. Сэлиерс занялась особым видом Bacteroides задолго до того, как выяснилась их роль в здоровье человека. Мы посетили ее лабораторию в Иллинойском университете в 2005 году.
Абигейл Сэлиерс – одновременно бесстрашный пионер и прагматичный экспериментатор – провела нас по лаборатории и коридорам, заставленным артефактами ее ранних экспериментов с микрофлорой. На вопрос, почему она взялась за Bacteroides, Сэлиерс ответила, что работать с ними было проще всего, потому что они выживали при контакте с кислородом. (Многие другие значимые кишечные бактерии погибают вне бескислородной среды кишечника.) Одно из ее ключевых открытий: многочисленная группа кишечных бактерий приспособлена для усвоения пищевых волокон[11]. Сэлиерс и ее современники уже знали, как много разных видов бактерий живет в кишечнике, питаясь частями растений, которые люди не могут самостоятельно переварить. Однако в то время существовали ограничения из недостатка инструментов и сложности работы с теми или иными бактериями в лабораторных условиях. Эта область ожидала новых технологий, которые могли бы продвинуть ее вперед.
Трамплин для такого прыжка появился в конце 1980-х годов вместе с проектом «Геном человека» – международной программой, направленной на секвенирование всех генов человеческого генома. Процесс секвенирования занял примерно 13 лет и обошелся в один миллиард долларов. Над расшифровкой терабайта данных ученые работают до сих пор. Важность этого геномного скачка, подстегнувшего научные открытия, бесспорна, хотя многие считают, что описание генома человека не принесло ощутимой выгоды в краткосрочном периоде. А ведь многие надеялись именно на это, учитывая стоимость вложений. Геном человека важен для разработки новых методов лечения и понимания заболеваний, но громкие обещания «персонализированной медицины» – лечения, подобранного с учетом генома каждого человека, – выполняются намного медленнее, чем предсказывала догеномная шумиха.
Неожиданным и крупным результатом проекта стало развитие технологий секвенирования ДНК[12]. С современными технологиями, которые в большинстве своем связаны с «геномом человека», весь процесс можно закончить за неделю, потратив 5000 долларов. Однако инновационная активность участников проекта не снижается, и в ближайшем будущем каждый из нас сможет секвенировать свой геном за один день и 1000 долларов.
Секвенирование генома – особая веха в науке и медицине. Новые открытия позволили осознать, что человек – не только продукт своих генов. Для полного понимания генетического материала нужно секвенировать геномы наших бактерий – из кишечника, с кожи, из носового канала, ротовой полости и мочеполовых путей. В 2008 году национальные институты здравоохранения США запустили проект «Микробиом человека». Его цель – описать бактериальную жизнь, связанную с организмом человека, используя технологии проекта «Геном человека». Если современные оценки объема генетического материала микрофлоры человека верны, то секвенирована всего одна сотая связанных с нами генов. Однако ученые узнали больше о микробах, обитающих в нашем организме, и проложили путь новой, более полноценной персонализированной медицине.
Персональный микробиом (превышающий геном человека более чем в сто раз) обеспечит нас поразительным количеством информации о сообществах микробов, которых мы приютили. Теперь мы можем задавать более четкие вопросы. Каким образом изменяется микрофлора у людей с определенной болезнью? Как на микрофлору влияют различные факторы, от общения с собакой до питания водорослями? Насколько быстро изменится микрофлора после корректировки диеты?
Сейчас в крупнейших мировых лабораториях ведется перепись всех обитателей кишечника с помощью технологий секвенирования. Многие ученые не ограничиваются работой с последовательностями ДНК. Они исследуют химические вещества, которые микробы производят внутри нашего организма. В следующем десятилетии наши знания взаимодействия с микрофлорой, возможно, повлияют на профилактику и лечение многих заболеваний.
Очерчивая границы новой области, ученые избегают чересчур оптимистичных прогнозов преобразований в медицине. Легко представить себе негативную реакцию, если ожидания оправдаются нескоро. Микрофлора – сложная биосистема, и внедрение открытий в медицинскую практику займет немало времени. Однако сдерживать энтузиазм, снижать активность научных работ по теме, вдохновляющей ученых и обычных людей, – это все равно что припарковать у дома новую «Феррари» на шестнадцатый день рождения ребенка и попросить дилера прислать ключи через несколько лет. Представьте, исследователь говорит родителям ребенка с аутизмом: «Да, мы нашли связь между заболеванием вашего ребенка и микрофлорой кишечника, мы исследуем ее и сообщим вам подробности лет через десять».
ЗАБЫТЫЙ ОРГАН
Более десяти лет назад, начав изучать кишечную микрофлору, мы не могли отделаться от мысли, что исследуем новый орган человеческого тела. И действительно, микрофлору часто называют забытым органом.
Научные исследования в любой области начинаются с «коллекционирования марок». Последние годы ученые регистрировали виды бактерий, живущих в нашем кишечнике. Проект «Микробиом человека» наряду с усилиями международных организаций сыграл важную роль в этой описательной фазе. Простейший способ составить перепись кишечной микрофлоры – сделать анализ кала. Сухой вес человеческих фекалий на 60 % состоит из бактерий. Чтобы узнать, какие виды бактерий водятся в кишечнике, нужно просто выделить ДНК из образца кала меньше чайной ложки и секвенировать ДНК нового поколения. Сравнение фекальных бактерий с бактериями, взятыми напрямую из толстой кишки (при колоноскопическом исследовании), показывает, что образцы очень схожи[13].
Еще один инструмент изучения микрофлоры – гнотобиотические мыши. Их кишечная микрофлора совершенно точно известна и контролируется учеными. Мышам можно подсадить человеческую микрофлору от особых доноров, страдающих болезнью Крона, диабетом, воспалительным заболеванием кишечника или ожирением, создав так называемую очеловеченную мышь. Некоторых гнотобиотических мышей поддерживают абсолютно стерильными, у них в кишечнике совсем нет бактерий. Изучая этих стерильных мышей, ученые лучше понимают возможности микрофлоры[14]. Такие функции микрофлоры, как помощь в извлечении питательных веществ и удержание баланса иммунной системы, были совершенно предсказуемы. Другие (например, способность влиять на настроение и поведение) – полный сюрприз.
Стерильные мышата рождаются у стерильных мышей-родителей, но в какой-то момент ученым удалось получить первую стерильную мышь. Для этого мыши сделали кесарево сечение и окунули матку с мышатами в легкий дезинфицирующий раствор, чтобы убить любые бактерии, которые могли увязаться следом. Новорожденные не контактировали с матерью из-за риска переноса бактерий, поэтому каждого мышонка ученые вскормили из стерильного контейнера со стерильным молоком.
Таких мышей кормят исключительно пищей, стерилизованной термически и под высоким давлением. Они пьют стерилизованную воду, спят на стерилизованных подстилках и живут в стерильных пластмассовых пузырях (изоляторах), в которые не могут проникнуть бактерии. Воздух, поступающий в изоляторы, фильтруется, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. В отличие от людей, страдающих тяжелым комбинированным иммунодефицитом, который также известен как синдром мальчика в пузыре, у гнотобиотических мышей не нарушена иммунная система, хотя на нее влияет отсутствие микрофлоры, и это не считается нормой (подробнее – в третьей главе). Время от времени стерильность мышей подтверждается (обычно отсутствием бактерий в фекальной пробе). Как можно догадаться, содержание мышей в подобных условиях требует огромных усилий и затрат. Малейшая оплошность (например, подача нестерилизованной воды или поломка воздушного фильтра) может скомпрометировать целую колонию мышей – а это зря потраченные месяцы исследований и тысячи долларов.
МИКРОФЛОРА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Доктор Джеффри Гордон – гастроэнтеролог по образованию, истинный ученый и провидец в том, что касается микрофлоры. В лаборатории Джеффа – ряды пластмассовых изоляторов. В каждом – группа гнотобиотических мышей. У одних (стерильных) совсем нет микрофлоры, у других (обычных) она нормальная мышиная, а у некоторых (очеловеченных) – микрофлора человека. Ученые заметили, что особи без микрофлоры ели больше, чем мыши с обычной (нормальной) микрофлорой, но при этом весили меньше. Выяснилось также, что у мышей, страдающих ожирением, в кишечнике совсем не такой набор бактерий, как у стройных[15]. Стало ясно, что кишечные бактерии и ожирение связаны. Но каким образом? Вызывало ли ожирение изменения в микрофлоре, или, наоборот, микрофлора «ответственна» за ожирение?
В научных исследованиях нередко возникает подобная трудноразрешимая проблема («курица или яйцо?»). В большинстве случаев мы можем утверждать лишь то, что два фактора (допустим, микрофлора и ожирение) фиксируются и каким-то образом перекликаются, но между ними может и не быть причинно-следственной связи. Однако именно в этом случае гнотобиотические мыши оказались очень полезны. Команда Джеффа переселила микрофлору мыши, страдающей ожирением, в мышь без лишнего веса и без микрофлоры. И стройная мышь стала набирать вес, при том что ее диета и физическая нагрузка остались прежними! К удивлению многих, кишечной микрофлоры оказалось достаточно для того, чтобы жировые отложения появились у стройной и здоровой мыши[16]. Эти данные заставили научное сообщество пересмотреть отношение к кишечным микробам. Очевидно, что микрофлора – не просто коллекция безобидных бактерий, болтающихся в нашем кишечнике. Они способны серьезно изменить физиологию «хозяина».
Последние исследования показывают, что связь между микрофлорой и ожирением – лишь верхушка айсберга. Дисбактериоз, или микробный дисбаланс, наблюдается у людей с самыми разными проблемами: болезнью Крона, метаболическим синдромом, раком толстого кишечника и даже аутизмом. Становится все сложнее найти нарушения здоровья, не связанные с изменениями в микрофлоре. Во многих случаях мы до сих пор не знаем, как микрофлора провоцирует эти заболевания, но очевидно, что нам необходимо изменить представление о себе.
ПОМОГАЯ МИКРОФЛОРЕ ПРОЦВЕТАТЬ
Чтобы разобраться во всех подробностях функционирования микрофлоры, необходимо огромное количество исследований, однако мы считаем, что собранных на сегодняшний день данных достаточно для коррекции рациона и стиля жизни. Знания о микрофлоре мы применяем и дома. Теперь мы иначе питаемся, делаем уборку в доме и проводим свободное время. Мы уже понимаем, как формируется микрофлора, как и чем она питается, каким образом подключается к иммунной системе, как взаимодействует с организмом и что с ней происходит после курса антибиотиков. На основе этой информации мы можем принимать взвешенные решения, которые улучшают здоровье и повышают адаптивность наших важнейших эволюционных попутчиков.
Глава 2
Как собирается вечная компания
До рождения люди стерильны, никаких микробов у них нет. Это единственный период в жизни, когда человек — лишь набор человеческих клеток. Однако в тот самый момент, когда дитя покидает безопасную утробу матери, начинаются его взаимоотношения с микроорганизмами. При входе в родовые пути набор человеческих клеток превращается в «человекомикробный» суперорганизм, которым и остается до конца жизни. Так же как новый остров, поднявшийся из океана, представляет собой пустынный пейзаж, со временем заселяемый флорой и фауной, тело новорожденного привлекает колонии микроорганизмов — и спрос на это жилище очень большой.
ПЕРВЫЕ ОБИТАТЕЛИ
Ребенок рождается незрелым во многих отношениях. Иногда первые три месяца жизни называют четвертым триместром. Те, кто придерживается этого мнения, тесно пеленают младенца и как можно чаще проигрывают ему белый шум, чтобы воспроизвести условия обитания в утробе. Любой, кто проводил время с новорожденными, подтвердит, что они мало готовы к жизни вне организма матери. Пищеварительная система ребенка при рождении заметно «недоработана». Слизистый слой, покрывающий и защищающий стенки кишечника, тонкий и неравномерный, что оставляет возможность злонамеренным микробам пробраться внутрь. У мышей без микрофлоры чрезвычайно тонкий слой слизи, но он быстро растет, как только мышам переселяют кишечные бактерии[17]. То же происходит и с младенцем: образуется слизистый слой, который полностью покрывает кишечник изнутри и обладает оптимальной вязкостью и толщиной, чтобы защищать целостность кишечника. Это своего рода склизкие внутренние доспехи, удерживающие бактерии на безопасном расстоянии от кишечных клеток младенца и сводящие к минимуму шансы каких-нибудь дерзких микробов прорваться через стенку кишечника, получить доступ к системе кровообращения и вызвать системную инфекцию. Создание этого заграждения — грандиозное предприятие. Так как длина нашего кишечника может достигать девяти метров, поверхность, которую необходимо защитить слизью, могла бы покрыть целый этаж в доме площадью 185 квадратных метров. Встречи с бактериями-колонизаторами определяют, во-первых, будущую эффективность слизистого слоя. Во-вторых, от контактов с микроорганизмами зависит, как иммунная система ребенка будет реагировать на «хорошие» и патогенные бактерии, а также на вирусы, аллергены и паразитов. Если стена из слизи формируется неправильно, заграждение получится дефектным и будет пропускать бактерии и токсины.
В отличие от взрослого, в кишечнике ребенка есть кислород, оставшийся от жизни в утробе. Перед первыми бактериальными обитателями стоит задача поглотить этот остаточный кислород (при этом они сами должны выдержать его присутствие), чтобы создать среду, свободную от кислорода. Бактериальные первопоселенцы, условно говоря, возделывают почву, подготавливая кишечную среду для нового поколения анаэробных бактерий, которые процветают без кислорода и обитают в кишечнике пожизненно. Виды бактерий, формирующие первоначальную микрофлору, определяются тем, как ребенок появляется на свет.
Ребенок, который проходит через родовые пути, встречается сначала с бактериями вагинальной микрофлоры матери и микрофлоры из ее заднего прохода. Во влагалище часто живут большие колонии Lactobacillus, группы микробов, терпимых к кислороду, которые распространены в кишечной микрофлоре детей, рожденных естественным способом. Это может показаться негигиеничным, но тем не менее факт. Вряд ли это эволюционная случайность. Фекальные бактерии из кишечника матери явно сопутствовали ей с детства до репродуктивного возраста, и вполне логично, что именно эти «протестированные» микроорганизмы получают шанс первыми занять новую жилплощадь. Микрофлора ребенка очень похожа на вагинальную микрофлору матери, то есть родительница передает ему не только половину своих генов, но и микрофлору.
Если же ребенок появляется на свет в результате кесарева сечения, то первая встреча с бактериями происходит при контакте с кожей — не так, как было задумано природой. Эти малыши не наследуют от мамы свое первое бактериальное сообщество. Ученые пока не понимают, почему так происходит. Возможно, микробы с поверхностей в больнице, с кожи и одежды медработников также поселяются в ребенке, и поэтому вклад матери не столь очевиден. Микрофлора детей, рожденных в результате кесарева, обычно содержит больше бактерий Proteobacteria и меньше Bifidobacteria, чем у рожденных естественным путем[18]. А это далеко не идеальный набор, как вы узнаете дальше. Важно понять, каким образом первый контакт с бактериями влияет на микрофлору и здоровье в долгосрочной перспективе. В последнее время опубликована масса научных работ, посвященных детям-«кесарятам» и их предрасположенности к недугам (ожирение, аллергия, астма, целиакия, кариес и пр.). Для этих малышей новости не слишком хорошие. Во многих случаях кесарево абсолютно необходимо для рождения здорового ребенка и защиты здоровья матери. Но теперь, зная, какую роль рождение играет в формировании микрофлоры, нам стоит придумать, как устроить благоприятную первую встречу новорожденного с бактериями.
Роб Найт — профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего и эксперт по определению мест обитания различных бактерий. Он помогает руководить проектом «Микробиом Земли», призванным описать популяции микробов во всем мире — от глубочайших океанов до самых засушливых пустынь. Помимо этого Найт довольно хорошо идентифицирует бактерии человеческого тела. Переписав все связанные с человеком бактерии, ученые сформируют базу данных, пользуясь которой можно будет выяснить, где обычно встречаются определенные микроорганизмы, могут ли они вызывать болезни.
Ребенок Найта родился в результате кесарева сечения. Зная, что у малыша не будет полноценной микрофлоры, родители приняли меры: нанесли вагинальные мазки, взятые у матери, на кожу в разных частях тела дочери. Такая своеобразная «прививка» обеспечила контакт с бактериями, которые младенец получает, проходя через родовые пути. Подход нестандартный, но, возможно, в будущем он будет сопровождать все операции кесарева сечения. Однако прежде чем действовать подобным образом самостоятельно, очень важно проконсультироваться с доктором, у которого вы наблюдаетесь.
Оба наших ребенка родились при помощи кесарева сечения. Тогда мы еще не знали, как способ родоразрешения влияет на раннюю микрофлору, иначе бы тоже подумали о «прививке» мазком. К тому же нашему первому ребенку дали антибиотики всего через несколько часов после рождения. Такой вот двойной удар по развивающейся микрофлоре. Мы говорим об этом, чтобы показать: даже при наличии специальных знаний и наилучших намерений иногда приходится принимать негативные для микрофлоры решения.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ПРЕРВАННАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ
Дети, рожденные прежде срока, не бывают абсолютно здоровыми. Нередко у таких малышей отмечаются неврологические проблемы, плохо развитые легкие и повышенный риск инфекции. Их желудочно-кишечный тракт недостаточно подготовлен для жизни в мире микробов. Неразвитость кишечника увеличивает риск развития некротического энтероколита. В результате этого тяжелого заболевания иммунная система ребенка запускает острый воспалительный процесс в кишечнике, и часть его тканей отмирает. Если процесс некроза уже запущен, спасти малыша очень сложно: от 20 до 30% новорожденных с некротическим энтероколитом погибают[19]. Все еще неясны причины этого заболевания, однако кишечная микрофлора недоношенных детей с некротическим энтероколитом сильно отличается от микрофлоры здоровых младенцев[20].
Микрофлора недоношенного младенца не столь разнообразна[21]. Еще меньше набор бактерий у недоношенных детей с некротическим энтероколитом. Кроме того, в их кишечнике шире представлены «нездоровые» сообщества микроорганизмов. Характерная для некротического энтероколита микрофлора образуется за целых три недели до развития симптомов. Ученые задались вопросами: «Может ли незначительное разнообразие микрофлоры и распространение неполезных микроорганизмов стать причиной некротического энтероколита или благоприятными условиями его развития? Можно ли защитить недоношенных детей, восполнив недостаток полезных бактерий?»
У недоношенных детей, получивших дополнительную дозу полезных бактерий, например Lactobacillus, намного реже развивается некротический энтероколит[22]. Почему, не до конца ясно. Похоже, однако, что для завершения развития кишечника и начального «обучения» иммунной системы организму нужны определенные сигналы от бактерий. Это важно даже для младенцев, рожденных в срок. Возможно, недоношенным детям из-за недоразвитости кишечника и иммунной системы сложнее заполучить такие бактерии, как Lactobacillus, — именно они посылают сигналы, необходимые кишечнику и иммунной системе для развития, борьбы с проблемными бактериями и контроля воспалений[23]. Кроме того, полезные бактерии могут заселить кишечник, препятствуя появлению возбудителей болезней. Вот что значит хороший набор «пусковых» микроорганизмов в начале жизни.
Наша дочь родилась в срок. Мы понимали, насколько важны ранние колонизаторы кишечника, и решили, что дополнительные пробиотические бактерии помогут сгладить последствия неидеального начала формирования микрофлоры в результате кесарева сечения и лечения антибиотиками. В первые две недели после выписки мы брызгали ей в рот содержимое капсул Lactobacillus GG[24]. Конечно, это не были полноценные научные, плацебоконтролируемые исследования, поэтому нельзя точно узнать, какое именно воздействие оказали Lactobacillus на микрофлору и здоровье нашей дочери. Но она избежала некоторых проблем, иногда возникающих у детей в подобных случаях (например, кандидоз слизистой рта, вызываемый дрожжевыми грибами).
Дрожжевые грибы — не бактерии, поэтому не погибают от антибиотиков. Но наши бактериальные «партнеры» помогают контролировать популяцию дрожжевых грибов на поверхности организма и внутри него, просто занимая место. Представьте себе магазин Apple в день запуска продаж нового iPhone. Утром, как только открываются двери, внутрь просачивается поток людей, многие из которых ждали всю ночь, и все жадно набрасываются на новинку. В какой-то момент магазин заполняется, и никто больше не может войти. Точно так же ограничено пространство в нашем организме.
Предоставив наиболее полезным бактериям доступ к ресурсам кишечника, мы ограничим число нежелательных микроорганизмов. Раннее знакомство нашей дочери с антибиотиками могло помешать бактериям-пионерам заселить ее кишечник. В этом случае злонамеренные микроорганизмы получили бы преимущество. Надеемся, что именно добавка в виде полезных микробов избавила нас от проблем.
БЕРЕМЕННОСТЬ: ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ
Большинство из нас знакомы с изменениями, сопутствующими беременности: покраска стен для создания идеальной комнаты малыша, аккуратные стопки детской одежды и бесконечные походы по магазинам в попытке собрать полный арсенал качелей, автокресел и люлек. Тело будущей матери также готовится к родам: размягчаются связки таза, чтобы облегчить появление ребенка на свет, вырабатывается молозиво, гарантируя питательную закуску, доступную сразу после рождения. Микрофлора тоже преображается.
Доцент Корнеллского университета Рут Лей в свое время не побоялась даже запрыгнуть в стоячие воды мексиканского болота, чтобы понять, как работает сложная микробная экосистема. Позднее команда Рут исследовала, как экосистема кишечника реагирует на значительное физиологическое изменение — беременность. Во время беременности женское тело трансформируется, превращается в инкубатор, своего рода гнотобиотный изолятор, чтобы питать и защищать зародившуюся жизнь. Рут было очевидно, что микрофлора также меняется. Научная команда Рут исследовала микрофлору 91 женщины на протяжении всей беременности[25]. Они собирали информацию о том, чем питались женщины, развился ли у них гестационный диабет, и даже следили за микрофлорой родившихся детей, в некоторых случаях — до четырехлетнего возраста. Выяснилось, что в конце беременности количество видов бактерий сокращалось по сравнению с ее началом. Микрофлора последнего триместра напоминала микрофлору человека, страдающего ожирением.
Чтобы понять, как воздействует на организм микрофлора третьего триместра, Рут пересадила ее группе обычных мышей. Они набрали больше веса, чем особи, получившие микрофлору первого триместра. При этом обе группы одинаково питались и в них не было беременных. Бактерии микрофлоры третьего триместра извлекали из еды больше калорий и запасали их в виде жира у мышей — носителей этих бактерий. С эволюционной точки зрения способность получать больше калорий из обычного количества еды чрезвычайно выгодна для матери и плода. В этом случае матери не нужно искать больше пищи, чтобы удовлетворять растущую потребность в калориях.
Команда Рут отметила еще одну особенность. Похоже, так называемая микрофлора третьего триместра может вызывать воспаление. Во время третьего триместра у женщин наблюдалось больше Proteobacteria, которые преобладают у людей с воспалением кишечника и дисбактериозом, и меньше Faecalibacterium, помогающих снять воспаление. Такая смена микрофлоры в конце беременности кажется нелогичной, так как именно с этими микроорганизмами в первую очередь встретится младенец. Зачем маме сразу знакомить ребенка с бактериями, провоцирующими воспаление?
Оказалось, что микрофлора новорожденных больше походит на материнскую микрофлору первого триместра и мало совпадает с микрофлорой третьего триместра, вызывающей воспаления. Пока не совсем ясно, почему это так. Возможно, кишечник ребенка — неподходящая среда для микроорганизмов третьего триместра, и они у младенцев не приживаются. Бактерии первого триместра немногочисленны, но они сохраняются и в конце беременности. Именно эти микробы лучше всего размножаются в детском кишечнике. Похоже, что кишечник новорожденного может «сортировать» все поступающие в него бактерии: одни оставляет себе, другие нет. Отчасти эта способность, конечно, обусловлена генетикой. Однако появляется все больше доказательств важности внешних факторов в формировании комплекса бактерий, процветающих в детском организме.
ГРУДНОЕ МОЛОКО: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В первые несколько месяцев жизни младенца состав микрофлоры колеблется. Периоды расцвета определенных видов микробов сменяются спадами. В 2007 году в Стэнфордском университете ученые наблюдали за микрофлорой детей от рождения до достижения годовалого возраста[26]. В экологии термином «сукцессия» обозначается порядок появления и доминирования различных видов в экосистеме. Исследователи надеялись описать сукцессию — сценарий перехода ребенка от стерильности к полной и сложной микрофлоре. Однако они обнаружили, что кишечная микрофлора формируется хаотично. Процессы отличались нестабильностью и оказались уникальными для каждого из четырнадцати младенцев. Лишь два ребенка обладали более-менее схожим профилем микрофлоры в течение первого года жизни — единственные близнецы, участвовавшие в исследовании. Для близнецов характерны совпадение многих генов и одинаковая среда обитания, поэтому сложно сказать, что послужило главной причиной схожести микрофлоры: природа или, например, питание.
Действительно ли в первый год жизни микрофлора развивается хаотично? Или же мы просто не понимаем сложные взаимоотношения между разными бактериями, создающими стабильную микробную экосистему с нуля? Очевидно, что нам предстоит еще многое узнать.
Хотя в процессах раннего формирования микрофлоры не просматривается система, совершенно ясно, что природа не все пустила на самотек. Первый продукт большинства младенцев мира — грудное молоко. Оно создано эволюцией, чтобы предоставить ребенку наилучший шанс на выживание. На его производство затрачивается огромное количество ресурсов: матери требуется до 500 дополнительных калорий в день. Для сравнения: беременность требует всего 300 дополнительных калорий в день. В состав грудного молока входят все главные питательные вещества: жиры, белки, углеводы и многие другие элементы. Это сбалансированное питание для младенца. Кроме того, в нем присутствуют антитела и другие молекулы иммунной системы, поддерживающие пассивный иммунитет, пока собственная иммунная ребенка развивается, а также олигосахариды грудного молока (ОГМ).
ОГМ — набор сложных углеводов. В составе грудного молока этот класс молекул занимает третье место по распространенности (после жиров и лактозы). Химическая структура ОГМ настолько сложна, что люди не способны их переварить. Да-да, именно так: младенец не может усвоить один из главных ингредиентов грудного молока. Дело в том, что ОГМ предназначены не для кормления ребенка, а для поддержания его микрофлоры. Микрофлора с ее набором 25 миллионов генов обладает способностью переварить и извлечь энергию из ОГМ. Кормящая мать обеспечивает питанием не только малыша, но и 100 триллионов бактерий, которые гостят в организме ребенка. И убирать за ними приходится тоже ей — когда она меняет подгузник.
Неслучайно бактерии, которые питаются в основном ОГМ, такие как Bifidobacteria, наиболее распространены в кишечнике здоровых детей[27]. Однако ОГМ не только поддерживают бактерии, необходимые младенцу в этот период, но и помогают размножению другого вида полезных бактерий — Bacteroides, которые изучали Абигейл Сэлиерс и ее коллеги[28]. Bacteroides обладают уникальной способностью процветать за счет растительных элементов рациона. Таким образом, предоставив Bacteroides преимущество на столь ранних сроках, ОГМ подготавливают малыша к питанию твердой пищей.
Через грудное молоко мать также делится с ребенком живыми молочными бактериями, хотя не очень понятно, откуда они берутся[29]. Живут ли они в груди кормящей матери, составляя отдельную молочную микрофлору? Или же они попадают в грудь из других частей организма, например из кишечника? Какие именно виды бактерий передаются и что это значит для здоровья младенца — на эти вопросы у науки пока нет ответов. Очевидно одно: кормление грудным молоком гарантирует заселение наиболее полезного сообщества бактерий.
Эти данные заставили производителей детского питания осознать огромные недостатки своего продукта. Принимая во внимание здоровье микрофлоры, некоторые компании рекламируют новые ингредиенты в смесях линии «премиум» с претензией на имитацию грудного молока. Один такой ингредиент — галактоолигосахарид (ГОС). Это синтетический углевод, который, однако, сильно проигрывает ОГМ как в сложности структуры, так и в воздействии на микрофлору. В некоторые смеси даже добавляются живые пробиотические бактерии. У нас недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос об эффективности подобных добавок. И, как вы можете догадаться, эти «премиум»-смеси продаются по «премиум»-ценам. ОГМ характерны именно для человека. Ни одно животное не производит такой комплекс углеводов. Из-за сложной химической структуры ОГМ чрезвычайно дорого стоят, и их производство требует значительных временных затрат. Мы не знаем, какие именно виды бактерий идеальны для детей. Конечно, попытки оптимизировать смеси с учетом потребностей микрофлоры — уже шаг вперед. Но они базируются на данных, полученных всего-навсего за 50 лет научных исследований и пищевой инженерии. Для сравнения: грудное молоко — результат тысячелетней эволюции человека.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудным молоком до достижения ими двух лет и даже дольше. Однако если подобный режим невозможен, матерям рекомендуют давать ребенку столько грудного молока, сколько они могут. Даже небольшое количество ОГМ и молочных бактерий (не говоря уже о других многочисленных полезных для здоровья лакомствах, содержащихся в молоке) поможет микрофлоре преодолеть неспокойный первый год. Мы предпочли грудное вскармливание обоих наших детей и знаем, как это иногда сложно. Младшая дочь не сразу приняла грудь, и Эрика столкнулась с большими проблемами. Но мы не отступили.
Очевидно, что одна из ошибок нашего общества — недостаточное продвижение грудного вскармливания. Помните, что любое количество грудного молока поможет ребенку направить микрофлору по верному пути.
МИКРОФЛОРА ПРИ КОЛИКАХ
Некоторые новоиспеченные родители представляют жизнь с младенцем очень романтично. Они осознают необходимость смены подгузников, ночного кормления, но при этом мечтают о неспешных прогулках с коляской, о трогательном сюсюкании, хихикании и милых улыбках. Однако для очень многих детей эти счастливые моменты редки, значительную часть их времени занимает непрерывный плач. Четверть младенцев страдает от колик.
Их родители обескуражены и чувствуют себя беспомощными. Кажется, таких детей нельзя ничем успокоить. Книгам о коликах нет числа. Известны и разные способы «лечения» — от гомеопатической укропной воды до ректального катетера, помогающего вывести газы. Эти методы прекрасно иллюстрируют отчаяние родителей.
Все больше научных данных указывает на то, что в развитии детских колик и степени их тяжести определенную роль играет микрофлора. Группа ученых из Нидерландов под руководством Виллема де Воса изучала микрофлору 24 младенцев на протяжении первых ста дней жизни[30]. У половины из них были колики, у половины не было. Оказалось, что микрофлора детей без колик намного разнообразнее. В кишечнике детей с коликами было больше Proteobacteria, меньше Bifidobacteria и Lactobacillus, что напоминало микрофлору детей, родившихся в результате кесарева сечения, и детей на искусственном вскармливании.
Наша дочь, получившая антибиотики в первые два дня жизни, тоже страдала от колик. Мы не знаем, каков был состав ее микрофлоры, но, судя по состоянию, неразнообразным. Скорее всего, преобладали Proteobacteria и недоставало Lactobacillus и Bifidobacteria. Если бы тогда мы знали о связи колик и микрофлоры, то продолжали бы давать дочери пробиотик Lactobacillus еще пару месяцев, чтобы уменьшить дискомфорт. Если бы он не снял симптомы, мы пробовали бы другие виды пробиотических бактерий, чтобы найти эффективный. Если ваш ребенок страдает от колик, возможно, вам стоит обсудить выбор пробиотка с педиатром. ОГМ из грудного молока также поддерживает распространение Lactobacillus и Bifidobacteria и потенциально облегчает боль от колик.
ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ГРУДИ: ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ЗДОРОВЬЯ МИКРОФЛОРЫ
Дети впервые получают твердую пищу примерно в полгода. Любой, кто менял младенцу подгузник в этот период, подтвердит, что твердая пища вызывает значительные перемены в пищеварительной системе ребенка.
Анализ микрофлоры ребенка от рождения до двух с половиной лет прекрасно иллюстрирует развитие микрофлоры от младенчества до почти взрослого состояния. Исследование длилось более двух с половиной лет[31]. За это время у ребенка взяли более 60 анализов кала. Кроме того, велись подробные записи, фиксировавшие изменения в рационе и все события, связанные со здоровьем малыша. Наиболее радикальные изменения микрофлоры произошли с введением твердой пищи, в данном случае — зеленого гороха. Первый же опыт употребления растительных веществ привел к «взрыву» микробного разнообразия: в кишечнике ребенка неожиданно появились самые разные виды бактерий. Такое изменение микрофлоры было предсказуемо. Кишечные бактерии получили новый источник энергии, появились и стали размножаться новые виды. Однако удивляло, насколько быстро эти новые бактерии появились — всего за день после употребления гороха! Как будто «ясновидящая» микрофлора уже приготовилась к появлению новой пищи.
Даже во время исключительно грудного вскармливания микрофлора ребенка содержит, хоть и в небольших количествах, бактерии, наилучшим образом подходящие для твердой пищи. Как такое возможно? У микрофлоры есть осведомитель, ОГМ, специальная пища для микрофлоры, присутствующая в грудном молоке. Этим и питаются расщепляющие растения бактерии во время молочной диеты ребенка. Затем, когда появляется растительная пища, нужные бактерии уже готовы размножаться. Отлучение от груди — критический переходный период для микрофлоры. Поэтому логично вводить в детский рацион продукты, максимально полезные для здоровья микрофлоры.
Нашего первого ребенка мы переводили на твердую пищу так же, как это делают многие другие родители. Сначала добавляли горох, морковь, брокколи (в виде пюре, конечно же), затем фрукты. Такой порядок возник по следующим соображениям: если дети попробуют сначала фрукты, им не понравятся менее сладкие бобы и овощи. Также мы давали дочери зерновые каши (в том числе рисовую и овсянку), молочные продукты и мясо. Когда она немного подросла, попробовала «взрослую» еду. Мы не покупали специальное детское питание и избегали блюд из «детского» меню. Мы хотели, чтобы она привыкала к «настоящей» еде — например, к макаронам с сыром или куриным наггетсам. Во многих культурах первый прикорм ребенка — это еда взрослых, но в виде пюре. В Индии — рис с чечевицей и специями, на Ближнем Востоке — хумус, за полярным кругом — тюлений жир.
В три года у дочери начались запоры, настолько серьезные, что она плакала из-за болей при дефекации. Это заставило нас обратить внимание на то, чем мы ее кормим — то есть чем питаемся сами. Мы составили подробный список продуктов и с удивлением обнаружили: наш рацион довольно убог и беден пищевыми волокнами, хотя нам казалось, что он богат фруктами, овощами и цельными злаками. Мы жили будто на автопилоте, выбирая привычное: обработанные продукты, содержащие пшеничную муку, сыр и минимум овощей. Ажиотаж от новых родительских хлопот не отменял того, что значительную часть дня мы проводили на работе. К тому же по ночам мы не высыпались. Нам редко удавалось насладиться драгоценными часами с ребенком. Поэтому таким привлекательным казался совместный ужин: счастливое общение, улыбки. Мы любовались тем, как наша двухлетняя дочь уминает пасту под сырным соусом или кусок моцареллы на тортилье из пшеничной муки. Позже мы осознали, что выбирали все недорогое, что можно тут же приготовить, и многие решения принимали под влиянием голода и усталости. Мы хватались за то, что можно быстро поставить на стол и что придется по вкусу привередливому ребенку.
Мы радикально пересмотрели рацион и решили тщательно следить за количеством и видами пищевых волокон. Выбросили пачки белого риса, пшеничной муки и практически все в чрезмерно ярких упаковках (нередко это показатель низкокачественных продуктов). Полки заполнились злаками, такими как киноа и просо, диким рисом и бобовыми. Мы стали регулярно есть сырые фрукты и овощи. Мы не отказались от мяса, но в качестве основного источника белка выбрали бобовые (фасоль и чечевицу). Всего через несколько дней после смены диеты запоры у дочери прекратились — и больше не повторялись. Вторая дочь, рожденная вскоре после изменений в нашем рационе, избежала подобных проблем с самого начала. Этот опыт преподал нам важный урок: кормить детей взрослой едой можно только в том случае, если она здоровая.
Каждая семья должна придерживаться здорового рациона, полезного для микрофлоры!
Мы полагаем, что кесарево сечение сформировало неправильное сообщество микробов, переселившихся в основном с кожи, и последующий курс антибиотиков ухудшил ситуацию. В сочетании с далеко не идеальным питанием эти факторы способствовали сильному запору. Без смены рациона проблемы могли усугубиться. Впоследствии развились бы серьезные недуги — например, синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника. Мы опасались ухудшения здоровья ребенка, поэтому заявили: «Теперь у нас будет другая еда. Это не обсуждается!» До этого уговоры съесть овощи, приготовленные на пару, или спор с ребенком за столом казались нам утомительным и тоскливым занятием. Да, сначала было непросто. Но вскоре мы увидели, что совместный обед — это еще и хорошая возможность рассказать детям о преимуществах здорового питания. Это стоило всех усилий.
Вообще, мы подходим к задаче привить детям привычку правильно питаться одновременно как к образованию и психологическому внушению. Дети редко приходят в восторг от брокколи на пару, но за едой мы обсуждаем, как важно стать большими и сильными, оставаться здоровыми и избегать болезней. Мы говорим о микробах, которые живут в их кишечниках, поддерживают здоровье и «ожидают» порцию овощей. Это тяжелый труд, но мы освоили всякие трюки. Здоровый десерт (например, небольшой кусочек темного шоколада) может стать сильной мотивацией доесть чечевичную похлебку. Психологическое внушение в таком деле тоже необходимо. Можно даже сказать, что мы практикуем своего рода промывание мозгов, последовательно настаивая на том, что здоровое питание — единственный возможный вариант. Вредной еде не место в нашем доме! Иногда (редко!) мы уступаем просьбам дочерей, позволяем съесть лакомство или оставить на тарелке особенно нелюбимый овощ. Важно, что мы, родители, едим то же самое, постоянно работаем над полезными привычками в питании, подаем пример.
Сегодня нашим дочерям шесть и девять лет. Когда мы спрашиваем, почему они едят овощи, то получаем ответ: «Потому что они вкусные». Дети приняли нашу «религию» здорового питания, теперь они и бровью не ведут, если мы подаем на обед капустный салат.
Допустим, ваш ребенок слишком привередлив и вы уверены, что вам не удастся перевести его на преимущественно растительный рацион. Подумайте вот о чем: в мире есть дети, которые едят насекомых, потроха животных и многие другие вещи, которые нам кажутся отвратительными. Однако эта еда — часть их культуры, и выбор ограничен. Если их спросят, как они могут это есть, то, вполне вероятно, ответом будет: «Потому что это вкусно».
НАПАДЕНИЕ НА РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ СООБЩЕСТВО
Сейчас детям реже прописывают антибиотики, но многие родители и врачи все равно считают, что проблема обостряется. Микрофлора кишечника несет огромные потери с каждым новым курсом. Подобное убийство обитающих в нас микробов — «стрельба по своим». Для здоровья это не проходит без последствий — кратковременных и долгосрочных.
Исследования показали, что за введением твердой пищи следует расцвет разнообразия микрофлоры ребенка. Однако антибиотики подавляют этот благоприятный процесс. После первого курса разнообразие кишечной микрофлоры младенца сократилось. Это не было неожиданностью. У многих антибиотиков широкий спектр действия, то есть они разработаны для убийства разных видов бактерий: и плохих, и хороших. Через несколько недель во время второй инфекции ребенку вновь назначили курс тех же самых антибиотиков. При этом разнообразие его кишечной микрофлоры пострадало не так, как раньше: бактерии адаптировались, чтобы пережить вторую атаку.
Исследование позволило сделать два важных вывода. Во-первых, антибиотики вызывают глубокое и немедленное сокращение кишечной микрофлоры. Во-вторых, по окончании лечения микрофлора как сообщество или экосистема вряд ли станет прежней. После единственного курса антибиотиков кишечная микрофлора адаптируется. В рассмотренном выше случае она оказалась более устойчивой, когда знакомый антибиотик использовали повторно. Кратковременная ли это адаптация, или такое свойство микрофлоры сохранится в течение всей жизни, пока неизвестно. Однако, по нашим данным, подобное восстановление неидеально. Микрофлора подключена к разным аспектам работы иммунной системы (подробнее об этом — в следующей главе), поэтому ее изменения потенциально могут привести к серьезным проблемам. Лечение детей антибиотиками ассоциируется с повышенным риском развития таких заболеваний, как астма, экзема, ожирение[32]. Каким образом антибиотики приводят к развитию этих болезней, пока неясно, но похоже, что нарушения в микрофлоре могут вызвать проблемы, на первый взгляд не связанные с кишечником.
«СЛИШКОМ ТЯЖЕЛАЯ» МИКРОФЛОРА
Несколько десятков лет назад фермеры узнали, что небольшие дозы антибиотиков могут увеличить вес коров, овец, куриц и свиней до 15%, — а ведь это дополнительная прибыль для поставщиков мяса. Оказалось, чем раньше в жизни животного ему дают антибиотики, тем больший вес оно наберет. Детей нередко лечат антибиотиками, поэтому ученые задумались о взаимосвязи раннего приема антибиотиков и проблемы лишнего веса у детей.
У лабораторных мышей, которым в ранние периоды жизни давали небольшие дозы антибиотиков, как и у домашнего скота, увеличился процент жира в организме[33]. К тому же эти мыши обладали микрофлорой, похожей на микрофлору человека, страдающего ожирением. Мыши на антибиотиках не употребляли большее количество калорий, но «запасали» их в виде лишнего веса. Если усвоение калорий зависит от состава микрофлоры, то это объяснило бы набор веса у домашнего скота, принимающего антибиотики, а также связь между лечением антибиотиками и ростом детского ожирения.
Сравнение более 11 тысяч британских детей, принимавших и не принимавших антибиотики, выявило поразительную разницу в весе[34]. Получавшие антибиотики до достижения шестимесячного возраста в среднем весили больше сверстников. Разница в весе сохранялась до трехлетнего возраста. Если малыши впервые получали антибиотики в возрасте старше шести месяцев, они тоже, как правило, были менее стройными, хотя в этом случае разница была уже не столь заметна. Дети, впервые прошедшие курс антибиотиков в возрасте от года до двух лет, были значительно тучнее, чем их сверстники из контрольной группы, даже через пять-шесть лет после лечения. Эти исследования показывают, что использование антибиотиков в раннем детстве напрямую влияет на состав микрофлоры, на долгосрочный набор веса и ожирение годы спустя после «атаки».
МИКРОФЛОРА: ПЯТЬ УРОКОВ НА «ОТЛИЧНО»
В начале жизни ребенка есть все условия, чтобы наилучшим образом сформировать благоприятное сообщество бактерий. Следует помнить пять правил. Первое: идеальный способ рождения — естественный. В этом случае младенец сразу встречается с набором бактерий, задуманным природой. Если же естественные роды невозможны, обсудите с врачом использование вагинального мазка матери.
Второе: пробиотики могут снизить негативное влияние факторов (например, недоношенности), создающих дисбаланс в первом сообществе микрофлоры. Некоторые пробиотики разработаны специально для малышей. Они будут полезны, если ребенок страдает от колик или ему назначили антибиотики. Однако все вопросы употребления пробиотиков обязательно нужно обсудить с педиатром. Микрофлора каждого человека индивидуальна, поэтому, чтобы выбрать подходящий пробиотик, иногда приходится действовать методом проб и ошибок. В последующих главах мы подробно разберем этот вопрос.
Третье: грудное вскармливание. Вне зависимости от способа рождения это прекрасная возможность обеспечить ребенка пре- и пробиотиками, «одобренными» матерью. Если исключительно грудное вскармливание невозможно, обсудите с педиатром целесообразность использования смеси, содержащей пребиотики и (или) пробиотики. Но помните, что любое количество грудного молока полезно, даже если это всего лишь кормление перед сном. Материнское молоко и содержащиеся в нем ОГМ способствуют росту здоровой детской микрофлоры.
Четвертое: даже если без антибиотиков не обойтись, лечение должно учитывать их вред для кишечника. Важно поддержать микрофлору. Наилучший способ восстановить ее — грудное вскармливание. В молоке матери содержатся ОГМ (ими питается микрофлора). Кроме того, бактерии, присутствующие в грудном молоке, заново населяют кишечник. Если кормление грудью невозможно, следует рассмотреть молочные смеси, содержащие пре- и пробиотики. Детям, уже перешедшим на твердую пищу, врач, выписавший антибиотики, должен порекомендовать пробиотические добавки, йогурты или другие ферментированные продукты. Пока неизвестно, могут ли пробиотики бороться с долгосрочными неблагоприятными последствиями антибиотиков. Однако доказано, что прием пробиотиков защищает детей от диареи, вызываемой патогенами (распространенный побочный эффект действия антибиотиков).
Пятое: отлучение от груди — прекрасная возможность приучить детей правильно питаться. Заставляя ребенка есть полезные блюда, родители иногда ввязываются в изматывающую войну. Не отступайте! Настаивайте, даже если малыш отказывается пробовать здоровую еду. Пройдет время — и он будет есть это с удовольствием. В последней главе мы детально обсудим, какая еда лучше всего подходит микрофлоре и одновременно привлекательна для детей. Забота о микрофлоре начинается с рождения, и чем лучше вы стартуете, тем проще будет ребенку поддерживать здоровую микрофлору и хорошее самочувствие на протяжении всей жизни.
Глава 3
Настройка иммунной системы
ПОМЫТЬСЯ И ЗАБОЛЕТЬ
За последние полвека на Западе отмечен резкий рост аллергий и аутоиммунных заболеваний. Многие жители промышленно развитых обществ страдают от сезонной аллергии, экземы, дерматита, болезни Крона, язвенного колита и рассеянного склероза.
Почему заболевания, связанные с иммунной системой, так распространены? На этот счет существует множество теорий. Среди называемых причин — контакты с токсичными химикатами, загрязнение окружающей среды, депрессии и хронический стресс (стрессы наших предков были периодическими и интенсивными). Без сомнения, любая патология возникает под влиянием многих факторов. Однако все больше данных указывает на то, что при развитии перечисленных болезней микрофлора определенным образом взаимодействует с иммунной системой.
КИШЕЧНИК: ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Кишечные микробы поддерживают постоянную связь с частью иммунной системы, расположенной в кишечном тракте. Это «общение» позволяет организму отличить безвредные посторонние элементы, например еду, от таких опасных, как Salmonella. Очевидно, что иммунная система должна по-разному реагировать на съеденный вами арахис или кусок зараженной курицы, и микрофлора помогает иммунной системе учиться их различать. Эти полезные контакты не изолированы в кишечнике. Наш системный иммунитет — иммунная система, действующая по всему организму, — также получает инструкции через общение с микрофлорой.
Кишечник подвержен воздействию окружающей среды (мы все-таки всего лишь трубка) и очень уязвим. Для многих патогенов он служит проходом в систему кровообращения, а оттуда — к другим органам. Однако организм обращает уязвимость кишечника и его постоянное взаимодействие с окружающей средой в свою пользу.
Иммунная система чрезвычайно мобильна. Иммунные клетки, живущие в кишечнике и «общающиеся» с микрофлорой, могут внезапно покинуть его, войти в систему кровоснабжения и разместиться на новом месте. Т-лимфоциты — один из главных классов иммунных клеток — могут завтра оказаться в легком или спинномозговой жидкости. И эти клетки помнят опыт, который получили от микробов кишечника. Такая мобильность кажется странной, но с точки зрения выживания в ней есть логика. Представьте, что тот или иной Т-лимфоцит встречает инвазивного агента в кишечнике. Он может разделиться на множество клеток и распространиться по всему организму, чтобы предупредить другие ткани о грозящей опасности. Если патоген появится в легких, Т-лимфоцит, уже знакомый с ним, поможет бороться с инфекцией. Клетки иммунной системы, обитающие в кишечнике, — стражи, которые поднимают тревогу при виде возможного захватчика и координируют иммунный ответ по всему организму, чтобы подготовиться к потенциально масштабному столкновению.
Представьте, что кишечная микрофлора управляет рычагом, который «переключает» чувствительность или быстроту реакции всей иммунной системы. Микробы в кишечнике могут «предписывать» локальные иммунные реакции, связанные с пищеварительной системой (например, продолжительность диареи путешественника). Но от них зависит также реакция ребенка на вакцину или серьезность сезонной аллергии.
В некоторых случаях кишечная микрофлора дезинформирует иммунную систему. Если сообщения, поступающие из центра управления, неправильно интерпретируются, иммунная система может отреагировать слишком быстро и слишком рьяно. А если кишечник дает указания иммунной системе срабатывать мгновенно, аутоиммунная реакция приводит к тому, что Т-лимфоциты и другие иммунные клетки атакуют безвредные объекты в организме.
В 2011 году в Калифорнийском технологическом институте Саркис Мазманян руководил группой, исследовавшей влияние микробов кишечника на рассеянный склероз (заболевание центральной нервной системы, на первый взгляд с кишечником никак не связанное). Эксперименты на мышах показали, что степень тяжести аутоиммунной атаки на нервную систему зависит от видов кишечных бактерий[35].
Это исследование — одно из многих, доказывающих, что кишечные микробы контролируют реакцию иммунной системы на ощутимые угрозы по всему организму. Иммунологи, считавшие кишечные микробы всего лишь элементом на пути еды к калу, изменили мнение. Они осознали: чтобы глубже понять иммунологические ответы нашего организма, следует учитывать положение «рычага», которым микробы управляют иммунной системой.
КИШЕЧНЫЕ МИКРОБЫ: КУКЛОВОД ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ
В описаниях работы иммунной системы часто используется военная терминология. Если в организм проникает возбудитель инфекции, мы мобилизуем целую армию иммунных клеток и других молекул, которые должны нанести ответный удар и победить враждебный объект.
Если, например, вы съели кусок плохо сваренной курицы, зараженный Salmonella, патогенные бактерии проходят через пищеварительный тракт, где могут проникнуть в клетки, выстилающие кишечник. Из этих клеток выделяются цитокины — молекулы, отправляющие сигнал SOS иммунной системе. Иммунные клетки тут же отвечают на призыв о помощи, собираясь в месте нападения, чтобы противостоять врагу. В конце концов B- и Т-лимфоциты, пехота иммунной системы, работают совместно с другими специализированными клетками, борющимися с инфекциями, чтобы освободить организм от захватчиков.
Тем временем вы чувствуете жар, боль и, как это часто бывает в случае с инфекцией Salmonella, необходимость сбегать в туалет. Острое состояние помогает представить неистовое сражение, в котором наш организм противостоит микробам. Борьба с захватчиками — неоспоримо важная функция иммунитета. В последние несколько десятилетий в научных исследованиях использовался именно такой образ иммунной системы — армия в полной боевой готовности.
Однако последние достижения в изучении микрофлоры уточнили эту модель. Иммунологи обращают внимание на гораздо более обширные — на самом деле постоянные — контакты иммунной системы с микрофлорой. Иммунная система — это не просто армия, готовая вступить в битву при первых признаках нападения. Это государство, выстраивающее собственную внешнюю политику. Реагируя на инфекцию, «страна» вступает в войну. Но если речь идет, например, о взаимодействии с симбиотическими микробами, это, скорее, длительные дипломатические контакты. Как и в реальной политике, мирная работа иммунной системы требует повседневных усилий, а сражения крайне редки и случаются во времена кризисов.
Иммунная система постоянно ведет переговоры с обитающими в нас микробами. Тема этих переговоров — мы, общий ресурс, на который претендуют оба «государства». Иммунная система хочет установить безопасное расстояние между человеческими клетками и нашими партнерами-микробами. Микробам нужен беспрепятственный доступ к месту обитания — кишечнику, а также гарантии, что их оттуда не изгонят. «Политика» меняется в зависимости от того, что вы съели, открыли ли доступ микробам в организм, и от многих других факторов. Если в вашем кишечнике начинают доминировать «наглые» бактерии, иммунная система приходит в повышенную боевую готовность. Обычно трения в конце концов ослабляются, иммунные клетки договариваются с микрофлорой о «разрядке международной напряженности». Однако до начала мирного урегулирования иммунная система реагирует на атаки весьма активно. В немирное время она может «перейти в наступление», даже если угроза только кажется ей реальной. Результаты такой чрезмерной реакции — от небольшой аллергии до болезненной язвы в толстой кишке.
Кишечник связан со всей иммунной системой, поэтому обитающие в нас микробы формируют иммунные ответы в целом. Иммунная система принимает, например, такие решения: как реагировать на вторжение патогенов; как будут возникать и развиваться аутоиммунные заболевания; какие типы микробов будут уничтожены, а какие останутся в составе микрофлоры. Некоторые даже предлагали дать иммунной системе новое название, которое отражало бы ее истинную роль, — «система взаимодействия с микробами». Очевидно, что одна из ее функций — защищать нас от вредных микробов, но гораздо чаще она вовлечена в диалог с микробами, которые мы встречаем ежедневно. Чем реже заводятся подобные «разговоры», тем меньше вероятность «разрядки напряженности». Иммунообусловленные заболевания все шире распространяются по миру. И в качестве одной из причин дисфункции иммунной системы исследователи называют нашу «излишнюю чистоту».
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГИГИЕНЕ
В 1989 году Дэвид Страхан, сегодня профессор эпидемиологии в колледже Святого Джорджа Лондонского университета, выдвинул гипотезу, что распространение сенной лихорадки и атопии (кожной аллергии) в промышленно развитом мире — результат сокращения контактов с возбудителями инфекции[36]. Он предположил, что иммунная система человека развивалась в среде, в которой ей постоянно приходилось отбиваться от множества болезнетворных микробов, встречавшихся в еде, воде и в окружающей среде в целом. Сто лет назад (и сегодня в традиционных обществах) иммунная система работала круглосуточно, отражая непрекращающиеся атаки патогенных бактерий. Но теперь, благодаря антибиотикам, очищенной питьевой воде и стерилизованной пище, мы встречаем гораздо меньшее количество микробов, значительно сокращая загруженность нашей иммунной системы. Гипотеза гигиены основывалась на наблюдении, что дети в многодетных семьях реже страдают от аллергии[37]. Это объяснялось тем, что они чаще сталкиваются с заболеваниями дома, поэтому их иммунная система занята борьбой с инфекциями и у нее «нет времени» остро реагировать на пыльцу или глютен.
В гипотезу гигиены впоследствии включили новые данные. Дети, выросшие на фермах, реже страдали от аллергии, чем дети, жившие в очень чистых, богатых домах. Чтобы обеспечить систему полезной деятельностью, нужно контактировать не только с болезнетворными, но вообще с любыми микробами — например, с теми, что встречаются у животных на ферме или в грязи. По-прежнему ведутся споры о сложном взаимодействии факторов и механизмов, описанных в гипотезе гигиены. Однако очевидно, что рост числа аутоиммунных заболеваний в обществе зависит от того, сколь активно это общество сокращает свои контакты с микробами. Улучшение санитарных условий окружающей среды и уничтожение микробов при помощи антибиотиков позволяют заметно снизить распространение инфекционных заболеваний. К сожалению, победа над болезнетворными микробами сопровождается сокращением числа полезных бактерий.
Значит ли это, что нам нужно больше болеть, чтобы гарантировать адекватное функционирование иммунной системы? Похоже, правильный ответ «нет». Распространение аутоиммунных болезней, видимо, тесно связано с чистотой, а не с сокращением инфекций. Значительная часть микробов, с которыми мы сталкиваемся, не должны вызывать болезни. Однако они самыми разными способами раздражают иммунную систему, которая постоянно «на взводе». В большинстве случаев ее реакция незаметна. Эти слабые иммунные мини-реакции, зависящие от регулярного взаимодействия с микробами, — часть системы поддержания адекватно функционирующего иммунитета.
По мере очищения окружающей среды и продуктов питания мы теряем многочисленные контакты с микробами, необходимые, чтобы занять работой нашу иммунную систему. Антибактериальное мыло и антисептики на спиртовой основе, кажется, распространяются быстрее, чем микробы, с которыми они должны бороться. Такие антибактериальные вещества, как триклозан, пропитывают значительную часть кухонного оборудования. Недавно доказали связь триклозана с аллергическими реакциями[38].
Современная городская жизнь отдалила нас от почвенных микробов, с которыми мы могли бы встретиться, ухаживая за урожаем или добывая пропитание собирательством. Наши контакты с безвредными бактериями ограничены из-за постоянного использования антибиотиков и антибактериальных химикатов. А микробы, устойчивые к их воздействию, распространяются все шире. Высокий риск встречи с опасными супербактериями, которые обитают, например, в больницах или мясном фарше, усугубляет проблему[39]. В прессе часто обсуждают заболевания, вызванные употреблением зараженной дыни, салата или гамбургера. Это заставляет нас еще активнее уничтожать микробы — и иммунообусловленные заболевания продолжают расти. Конечно, очень важно свести к минимуму контакты с опасными микробами. Но можно ли восстановить наше взаимодействие с полезными микробами окружающей среды без риска подхватить серьезную инфекцию?
ПОТЕРЯ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ
Мы ежедневно контактируем с двумя большими группами микробов. Первая — наша микрофлора. Вторая — «случайные встречные», которые находятся, например, на клавиатуре или попадают к нам при рукопожатии. Иммунологические проблемы могут возникнуть при сокращении контактов с микробами, обусловленном снижением разнообразия микрофлоры и чересчур чистой средой обитания. Например, лечение детей антибиотиками (которое снижает разнообразие микрофлоры) несет риск развития астмы, при этом с каждым новым курсом риск становится все выше. Однако если в семье есть собака, риск снижается[40]. В соответствии с гипотезой гигиены присутствие собаки увеличивает контакты ребенка с внешними микробами, и таким образом смягчается потеря внутренних бактерий, убитых антибиотиками.
Важно заметить, что исследования не установили причинно-следственной связи между антибиотиками и развитием иммунообусловленных заболеваний. Использование антибиотиков связано с ростом аутоиммунных проблем, но пока неизвестно, является ли их причиной уничтожение микрофлоры. Если объект исследования — человек, то причинно-следственный анализ затрудняется различными факторами, искажающими результаты. Например, люди, время от времени принимающие антибиотики, обычно чаще болеют, у них больше проблем с иммунной системой, и по ряду других показателей они отличаются от тех, для кого употребление антибиотиков — исключительный случай. Но вне зависимости от причинно-следственных связей есть данные, доказывающие, что микрофлора может защитить организм от аутоиммунных заболеваний. У стерильных мышей, выращенных без контакта с микробами, в присутствии аллергенов развивается острый ответ в дыхательных путях, похожий на астму. Мыши с полноценным набором микрофлоры защищены[41].
Еще несколько слов о снижении разнообразия — на этот раз более специфического. С начала эволюции человека существовали виды организмов, обитавшие у него внутри. Речь идет о бактериях и глистах (группе паразитов, таких как острицы или анкилостомы). Этот симбиоз сохранялся тысячелетия, и паразитов со временем стали называть «старыми друзьями». Некоторые из этих «друзей» вызывают болезни, но у нашей иммунной системы было время «выучиться» правильно отвечать на исходящую от них опасность. «Цивилизованный» образ жизни (санитария и гигиена, антибиотики и многие другие факторы) сопровождается гибелью таких организмов. Большинство людей считает, что без глистов нам намного лучше. Очень немногие знают о важных бактериях, которых мы потеряли. Вполне возможно, что отсутствие этих старых друзей — одна из причин аллергий и аутоиммунных заболеваний.
СЛОЖНЫЙ БАЛАНС ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Пул иммунных клеток находится в слизистой оболочке кишки. Они постоянно наблюдают за средой кишечника и готовы дать отпор плохим бактериям, стремящимся проникнуть сквозь слизистую оболочку и вызвать инфекцию. Иммунная система слизистых оболочек — местный иммунитет — стоит на страже полостей, сообщающихся с внешней средой. Рот, нос, горло, глаза, легкие и кишечник — это входные ворота для инфекций и должны охраняться особенно тщательно.
Иммунная система слизистых оболочек может действовать разнонаправленно: она агрессивно реагирует на угрозу (провоспалительная функция) и притупляет агрессивный ответ, когда угроза отступает (противовоспалительная функция). Постоянный баланс между этими направлениями деятельности системы определяет адекватность реакции на кишечных микробов. Так же балансируют качели-маятник, если вес на каждой их стороне одинаковый. Качели в равновесии — иммунитет в гармонии. Местный иммунитет не позволяет микробам проникнуть в стенки кишечника и не дает стенкам кишечника слишком сильно воспалиться: кишечные микробы и кишечная ткань мирно сосуществуют. Однако если провоспалительная сторона качелей перевесит противовоспалительную, это может вызвать чересчур рьяную атаку на обитающих в нас микробов и вылиться в болезнь. К сожалению, когда равновесие качелей нарушается, их очень сложно сбалансировать снова.
Болезнь Крона и язвенный колит — два вида воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), при которых развивается воспаление нижних отделов пищеварительного тракта. Его возбудители плохо изучены, но очевидно, что развитию болезни способствуют как генетика, так и влияние окружающей среды. Некоторые генетические мутации приводят к воспалениям, подобным ВЗК, у лабораторных мышей, если у них есть кишечная микрофлора. Во многих случаях у мышей, выращенных в стерильных условиях и не имеющих кишечной микрофлоры, болезнь не развивается. Можно сказать, что генетические мутации, определяющие риск развития ВЗК, «устанавливают мяч в гольфе», но именно микробы «замахиваются клюшкой и отправляют мяч в лунку».
При лечении ВЗК пытаются сбалансировать иммунную систему, которая слишком активизировала провоспалительную деятельность. Для снятия воспаления используют иммунодепрессанты. Также применяют антибиотики, сокращая количество микробов и таким образом сводя к минимуму угрозу, «заметную» иммунной системе. Однако как только воспалительная реакция на микробов началась, ее становится трудно контролировать, именно поэтому лечение ВЗК может оказаться сложным. Часто единственное решение — хирургическое удаление воспаленных частей кишечника.
Сложность лечения ВЗК показывает, как непросто сбалансировать иммунный ответ. Если он слабый, микробы могут проникнуть сквозь слизистую оболочку кишечника. Слишком сильный иммунный ответ может спровоцировать постоянный воспалительный процесс. Люди с иммунитетом, ослабленным в результате химиотерапии или ВИЧ-инфекции, — пример того, насколько опасным может быть недостаточный контроль со стороны иммунной системы. Для них намного выше риск микробного вторжения в ткани кишечника, потому что травмированная иммунная система не в состоянии четко исполнить строгое правило «Микробам вход запрещен!», вывешенное на стенках кишечника. В свою очередь, в организме человека с чрезмерной реакцией иммунной системы при взаимодействии с микробами может сработать чересчур активный воспалительный режим. Некоторые виды иммунотерапии при раке запускают подобный провоспалительный сценарий, устраняя предохранители или тормоза, которые обычно сдерживают неадекватный иммунный ответ. Такой тип лечения предполагает, что поощрение провоспалительной деятельности заставит агрессивно настроенную иммунную систему атаковать раковые клетки. Опасность, однако, состоит в том, что дружественные бактерии в кишечнике также попадут под прицел, что приведет к заболеванию, подобному ВЗК. Такие клинические ситуации демонстрируют ненадежную природу иммунного гомеостаза.
К сожалению, не только люди с ослабленным иммунитетом или проходящие иммунотерапию должны заботиться о поддержании здорового баланса иммунной системы. Похоже, что современный образ жизни сломал качели, поставив под угрозу хрупкое равновесие, благодаря которому про- и противовоспалительная деятельность иммунной системы находилась в гармонии с жизнью наших микробов. Все больше данных указывает на то, что кишечные микробы не сторонние наблюдатели в процессе тонкой настройки иммунной системы. Микрофлора играет активную роль в реакции иммунной системы на микробов — кишечных и чужеродных патогенных.
БАКТЕРИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
Внутренняя оболочка кишечника защищена липкой слизью. Эта физическая преграда не позволяет микробам подобраться к тканям человека слишком близко. Слой слизи не только держит микрофлору на безопасном расстоянии, но и служит богатым источником углеводов, которыми могут питаться бактерии в составе микрофлоры. Производя углеводы, кишечник обеспечивает питание полезных членов сообщества. Эти микробы, в свою очередь, помогают защитить кишечник от вторжения патогенных бактерий и уравновесить иммунную систему.
Патогенная E. coli из съеденного вами недожаренного гамбургера прибывает в пищеварительный канал, надеясь на быстрое и простое проникновение в стенки кишечника. Однако еще до того, как она попробует атаковать слой слизи, с ней сразятся некоторые микробные обитатели кишечника.
Кишечные микробы служат первой линией защиты против подобных захватчиков, устанавливая физическое и биохимическое препятствие насильственному вторжению патогена. С точки зрения иммунной системы микрофлору можно сравнить с наемником, которому платят (слизью) за помощь в устранении плохих бактерий, но недостаточно доверяют, чтобы полностью снять наблюдение. Микрофлора не только служит дополнительным барьером на пути патогенных микроорганизмов — она регулирует масштаб и продолжительность реакции иммунной системы. Например, если иммунная система в присутствии захватчиков организует медленный или апатичный ответ, плохие бактерии получают преимущество. С другой стороны, чрезвычайное рвение иммунной системы может привести к избыточному воспалению и повреждению тканей и даже к аутоиммунным реакциям. Во многих отношениях обитающие в нас микробы держат нити, контролирующие иммунную систему, помогая ей определить силу и скорость реакции. Микрофлора настраивает иммунную систему по мере ее изменений. Особенно быстро и заметно иммунная система развивается в первые годы жизни, когда плод, защищаемый утробой, превращается в младенца, а затем в ребенка, столкнувшегося с триллионами микробов. Оказывается, контакт с микробами, теми самыми существами, за которыми должна следить иммунная система, очень важен для ее правильного развития.
Из второй главы мы знаем, что у мышей без микрофлоры тонкий и неравномерный слой слизи, покрывающей кишечник. Без микробов этот чрезвычайно важный элемент иммунной системы слизистых оболочек формируется неправильно. Кроме того, иммунная система слизистых оболочек мышей без микрофлоры сильно отличается по ряду других признаков, таких как внешний вид, состав и функционирование. У них в кишечнике практически нет иммунных клеток, которые необходимы для ответа на микробные атаки. Некоторые дефекты иммунной системы в стерильных мышах можно исправить, если подсадить им полноценную микрофлору. Однако дефекты не всегда подлежат исправлению. Если контакт с микробами происходит слишком поздно, критический ранний период развития упущен — и иммунная система блокируется в недоразвитом состоянии. Представьте, что вы забыли добавить какой-то ингредиент при готовке. Суп можно посолить даже в самый последний момент — это не проблема. Если же, вынимая пирог из духовки, вы понимаете, что не добавили в тесто разрыхлитель, то уже никак не поможете плоской лепешке подняться!
Человек получает микрофлору в начале жизни. Но вполне вероятно, что в первые недели микробов будет недостаточно из-за использования антибиотиков и слишком чистой среды. Микробы, с которыми мы взаимодействуем в критически ранний период жизни, могут определять необратимые процессы созревания иммунной системы[42]. Таким образом, возможно, что воспитание детей в чрезмерно чистой среде оказывает долгосрочное пагубное влияние на развитие их иммунной системы.
БАКТЕРИИ — РЕГУЛИРОВЩИКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Чувствительность иммунной системы к кишечным бактериям означает, что развитие отдельных членов микрофлоры потенциально способно оптимизировать иммунные реакции. Возможно ли определить, какие бактерии наилучшим образом влияют на иммунную систему, и создать совершенную пробиотическую добавку, «способствующую укреплению иммунитета»? Таблетка с полезными бактериями, создающими идеально сбалансированную иммунную систему, которая быстро отражает атаки инфекций и при этом не реагирует на пыльцу или арахис, — это как раз то, что нам нужно, правда?
К сожалению, сложность иммунной системы слизистых оболочек переводит такую возможность из разряда науки скорее в разряд научной фантастики. Иммунный ответ обычно определяется B- и Т-лимфоцитами, которые «включают высокую передачу» в провоспалительном рывке, вызывая покраснение, отек и боль. Обратная сторона такой реакции — уменьшение покраснения, отека и боли. Эта работа проделывается иммунными клетками, которые называются регуляторными Т-лимфоцитами, или Т-супрессорами. Недостаток Т-супрессоров может привести к избыточному иммунному ответу, что в свою очередь может вылиться в аутоиммунные реакции, воспалительное заболевание кишечника и даже рак. Некоторые предполагают, что недостаток Т-супрессоров — отличительный признак многих людей, ведущих современный образ жизни, и основа множества болезней, распространенных в «цивилизованном» мире. Набор дополнительных Т-супрессоров, если его можно было бы получить, стал бы основой новых видов лечения и профилактики воспалительных заболеваний.
Исследовательская группа Кеньи Хонды в Центре интеграционных медицинских наук в японском институте RIKEN обнаружила, что микрофлора ответственна за население тканей кишечника Т-супрессорами[43]. Хонда придерживается мнения, что из-за антибиотиков и неправильного питания современная микрофлора пришла в упадок и ее носители более склонны к развитию аутоиммунных и аллергических реакций. Он отмечает, что в Японии в последние десятилетия стремительно растет количество пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, аллергией и рассеянным склерозом.
Хонда и его команда выяснили, что представители фирмикутов (одного из двух главных типов бактерий в кишечной микрофлоре) способны привлекать Т-супрессоры в полость кишечника у лабораторных мышей. Изобилие Т-супрессоров смягчает воспалительные реакции и снижает у мышей риск развития колитов, аутоиммунных заболеваний и аллергий. Эта смесь кишечных бактерий может регулировать иммунную систему млекопитающих, как ни одно известное лекарство. Вопрос в том, будет ли один и тот же коктейль бактерий работать для всех людей, если у каждого своя микрофлора? «Я уверен, что разница в микрофлоре людей будет значимым фактором», — говорит Хонда. Шансы, что определенный коктейль бактерий приведет к одному и тому же противовоспалительному эффекту во всех случаях, невелики. Но возможно, вид микробов не так важен, как молекулы, которые они производят.
Поглощая еду в кишечнике, микробы производят отходы — бактериальные фекалии. Это не слишком эстетично воображать, но многие из продуктов жизнедеятельности бактерий не так вредны, как кажется. Напротив, некоторые полезны для здоровья. Один из наиболее распространенных продуктов жизнедеятельности микробов — короткоцепочечные жирные кислоты, или КЖК (подробнее об этих особых молекулах — в следующих главах). Они помогают кишечнику привлекать Т-супрессоры[44]. Для кишечной микрофлоры, возможно, не так уж важно, «кто это», главное, «что они делают». Многие виды бактерий способны производить КЖК, поддерживая таким образом Т-супрессоры и снижая воспаление. Пока это предварительные исследования, но они указывают, в каком направлении нужно действовать. Волшебные комбинации бактерий, улучшающие здоровье, вряд ли скоро появятся в продаже. Но подталкивание микрофлоры к производству большего количества КЖК и других важных химических посланников, регулирующих иммунный ответ, может предотвратить болезнь или смягчить ее симптомы.
«НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ КВАРТИРАНТЫ»: ХЛОПОТНОЕ И ЗАТРАТНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ
Во многих отношениях избавление от врагов — самая легкая задача для иммунной системы. Она разработала мощный военный арсенал, невероятно эффективный при нейтрализации «плохих парней». Оружие ближнего боя — специфические антитела, массового уничтожения — высокая температура и диарея. Гораздо сложнее отличить «своих» от «чужих». Если иммунная система ошибется, опасная инфекция останется незамеченной или, как в случае с рассеянным склерозом, будет атакован нормальный и жизненно важный набор клеток. У людей также возникают проблемы с классификацией хороших и плохих бактерий, многие из которых относятся скорее к «серой» зоне: они могут нанести вред в некоторых ситуациях или определенным людям, но в других случаях оказываются полезными.
Мартин Блейзер — профессор Нью-Йоркского университета и руководитель исследований бактерий, живущих в желудке, — Helicobacter pylori. Эти бактерии могут вызывать язву и рак желудка. Точно злодей, правильно? Медицинское сообщество именно так и решило и нацелилось на уничтожение «плохого» микроба антибиотиками.
«Концепция называется “тестировать и лечить”, — говорит Блейзер. — Когда врач находит H. pylori, он избавляется от них. Однако, если изучить данные, лечение от Helicobacter нужно совсем небольшому количеству людей».
Для кого-то H. pylori могут обернуться проблемой, но многие даже не осознают, что живут с этими бактериями, и не испытывают никакого вредного воздействия. На самом деле появляется все больше информации о том, что H. pylori могут быть даже полезными. H. pylori обычно наследуются, поэтому если будущие родители лечатся и теряют H. pylori, они не могут передать их детям. Именно это и происходит в западных странах. На протяжении всего нескольких десятилетий, с тех пор как H. pylori получили ярлык «плохой бактерии», данный микроб уничтожается. С каждым новым поколением все меньше детей становятся носителями H. pylori. Прекрасная новость на первый взгляд: у детей не разовьются язва или рак желудка, вызванные H. pylori. Но, похоже, это поверхностная оценка. Как показывают исследования Блейзера и других ученых, у детей, не несущих H. pylori, выше риск развития астмы и аллергии[45]. Есть основания полагать, что бактерия, которая эволюционировала вместе с человеком в течение десятков тысяч лет, помогает регулировать иммунную систему, доводя ее настройки до оптимальных. Без этого «учителя» иммунная система отчасти теряет способность отличать подходящую цель, такую как вирус гриппа, от неподходящей, например пыльцы. Потеря H. pylori может быть всего лишь верхушкой айсберга. По мере того как мы узнаем больше о бактериях и других микроорганизмах, населявших пищеварительный тракт наших предков, становится очевидно, что современная цивилизация уничтожила нескольких выдающихся представителей дружественного сообщества.
Исчезновение H. pylori позволило сделать два серьезных вывода. Во-первых, даже единственный вид бактерий может оказаться важным «наставником» иммунной системы. Прежде чем истреблять бактерии, нужно оценить потенциальный вред, который может понести иммунитет. (Особенно это касается микроорганизмов, тысячелетиями живших в симбиозе с людьми.) Во-вторых, некоторые связанные с нами бактерии ведут себя как Джекил и Хайд. Мы пока не полностью понимаем факторы, которые превращают кажущуюся доброжелательной бактерию в патоген. Наклеивание на бактерии ярлыков, таких как «симбиотические» или «патогенные», — чрезмерное упрощение, которое не принимает в расчет способность микроба меняться в зависимости от ситуации.
«В будущем врачи будут отдавать детям H. pylori обратно, а затем уничтожать их в более позднем возрасте», — говорит Блейзер. Уничтожение H. pylori после репродуктивного возраста гарантировало бы, что этот микроб и его полезные возможности передаются будущим поколениям.
ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
В идеале иммунная система настроена правильно: справляется с опасными инфекциями и не трогает наши собственные клетки и дружественных микробов.
H. pylori демонстрируют силу кишечных микробов в управлении иммунной системой. Но это лишь один из многих микробов, способных формировать иммунные параметры нашего организма. Микробы, которые традиционно составляли часть суперорганизма «человек-микробы», потеряны в субпопуляциях современного населения. Люди зависят от обитающих в них микробов. Если подобные важнейшие связи нарушаются (например, когда уничтожаются целые виды бактерий), это может привести к дефектам и недугам. Конкретные детали, или контекст, каждого союза невероятно важны при определении, полезен или нет тот или иной микроб для жизни его хозяина.
Можем ли мы положительно повлиять на нашу микрофлору и иммунитет? К сложности распутывания хитросплетений иммунной системы добавляется непростая природа персонализированных микробных сообществ. Однако нам кажется, что существует достаточно информации, чтобы принять меры, которые вполне безопасны, положительно влияют на микрофлору и наше здоровье. (Конечно, всегда полезно проконсультироваться с врачом и убедиться, что прочитанные советы вам подходят.)
Родители, которые надеются вырастить детей без аллергии и астмы, нередко задаются одними и теми же вопросами. Нужно ли заставлять детей мыть руки перед едой? Заводить ли собаку? Достаточно ли дети играют с землей? Очевидно, что на эти вопросы нет одного правильного ответа. Ответы зависят от анализа затрат и выгоды. В каждой конкретной ситуации взвешиваются все «за» и «против».
Вот как мы решаем, что делать.
Наш личный подход к мытью рук — пример того, как действовать в отношении новых данных, даже в отсутствие исчерпывающего научного исследования. Мы не заставляем детей мыть руки перед едой, если они играли в нашем дворе, ласкали собаку или занимались садоводством. Однако после посещения торгового центра, больницы, контактного зоопарка или другого места, в котором больше шансов столкнуться с патогенами, мытье рук обязательно. Мы требуем более частого мытья рук в сезон простуды, гриппа или при контакте с химическими веществами (например, пестицидами). Мы осознаем риски контактов с патогенными микробами. Учитывая существование супербактерий, устойчивых к антибиотикам, ставки высоки, и решения нужно принимать со всей серьезностью. Однако эпидемия аутоиммунных заболеваний в современных обществах наводит на мысль о том, что санитария и гипергигиена — не панацея.
К вопросу о домашних животных. Содержание домашнего животного — это огромная ответственность, которую не стоит брать на себя исключительно ради контакта с микробами. Существуют другие, менее трудоемкие способы. Однако для нас взаимодействие с микробами — это бонус. К этому добавляется дружеское общение и обязательность ежедневных прогулок (и то и другое полезно для здоровья). У владельцев собак бактерии на коже схожи с бактериями их собаки, но отличаются от бактерий других собак[46]. Физический контакт с собакой переносит микробы, скорее всего, в обоих направлениях. Результатом переноса бактерий от собаки становится более разнообразная кожная микрофлора ее владельца. Вероятно, на собачьей шерсти собираются микробы из таких мест, с которыми люди реже контактируют. Рост микробного разнообразия частично объясняет, почему дети, выросшие рядом с животными, реже страдают от аллергии или астмы.
Людям, не желающим заводить домашних животных, не нужно беспокоиться. Земля — еще один способ контактировать с микробами окружающей среды. По оценкам некоторых ученых, бактериальное разнообразие в типичном образце почвы примерно в три раза выше, чем в нашем кишечнике. То, что мы счищаем с ботинок и велим нашим детям смывать с рук, — чаща, заселенная микроорганизмами. К сожалению, обжегшись на молоке, мы дуем на воду. Все больше научных данных свидетельствуют, что контакт с микробами окружающей среды, например обитающими в почве, может защитить нас от аутоиммунных заболеваний.
Однако прежде чем убирать дверной коврик или отправлять детей на улицу лепить куличики, поощряя проникновение микробов в дом, проанализируйте затраты и выгоды. Да, наши предки выкапывали съедобные клубни и жили в домах с земляным полом. Но почва современного мира зачастую перенасыщена различными техногенными химикатами, такими как удобрения, гербициды и инсектициды. Употребление этих веществ перечеркивает любые возможные полезные свойства почвенных микробов. Если вы не обрабатываете свой участок на даче химикатами, нет необходимости мыть руки, покопавшись в земле. Если же ребенок играл на детской площадке, покрытой травой без единого сорняка, мытье рук после прогулки обязательно. Домашнее садоводство, даже если оно ограничено цветочным горшком, — прекрасный способ взаимодействия со здоровой, обогащенной компостом почвой, содержащей бактерии.
Данные исследований указывают, что многие наши современники могли бы улучшить состояние иммунной системы, чаще контактируя с микробами. Но такие контакты должны быть безопасными и комфортными.
Глава 4
Туристы
КРИК О ПОМОЩИ
Наш близкий друг обратился за советом. Рик в целом здоров, но иногда у него возникают проблемы с пищеварением, запор, вздутие живота. Его врач посоветовал попробовать пробиотики. С определенной долей вероятности полезные бактерии из пробиотиков, попав в кишечник, восстановят здоровье пищеварительной системы. К тому же пробиотики помогают иммунной системе функционировать сбалансированно. В аптеке Рика ошеломил ассортимент пробиотиков. Он пришел к нам с массой вопросов. Какие пробиотики подойдут? Как часто их нужно принимать? Помогут ли они вообще? Стоит ли принимать их в виде добавок или лучше получать из продуктов питания?
Пробиотик означает «для жизни». По определению ВОЗ, это «живые микроорганизмы, которые при употреблении в необходимом количестве предоставляют носителю выгоду для здоровья». Это определение, однако, оставляет серую зону для целого набора микробов, потенциально выгодных для здоровья (например, микробы в ферментированной пище), которые не подходят под официальное определение потому, что не были достаточно исследованы. По этой причине в книге мы будем использовать термин «пробиотик», говоря о пригодных для употребления бактериях, которые предоставляют выгоду для здоровья или имеются в продаже (и при этом позиционируются как приносящие такую выгоду).
Пробиотические бактерии, в отличие от постоянных обитателей, составляющих микрофлору, — временные гости в кишечнике. Но их влияние не остается незамеченным нами и нашими микробами. Появляется все больше данных, свидетельствующих, что пробиотические бактерии снижают шансы подхватить некоторые инфекции, а в случае заражения помогают быстрее выздороветь.
Пробиотики предлагают метод настройки микрофлоры, отличный от диеты, а вместе с диетой они могут положительно повлиять на здоровье. Проходя по пищеварительному тракту, пробиотики общаются с обитающими там микробами и клетками кишечника. Иммунная система извлекает выгоду от этого взаимодействия, так как люди, принимающие пробиотики, лучше способны побороть простуду, грипп и заболевания, сопровождающиеся диареей. Информация, касающаяся пробиотиков, противоречива, но практика употребления бактерий существует столько же, сколько само человечество. Кишечник эволюционировал, чтобы справляться с постоянным потоком проглатываемых бактерий и получать выгоду от этих ежедневных гостей.
РОЖДЕНИЕ ФЕРМЕНТАЦИИ
Какой у вас самый дорогой кухонный прибор? Мы спрашиваем не о стоимости. Без чего вы не представляете свою жизнь? Многие назовут холодильник.
Как же люди сохраняли свежесть продуктов до появления современного холодильника? Раньше пользовались деревянными ледниками, похожими на шкафы. А еще раньше — подземными ямами, заполненными снегом или льдом (так было у древних греков, римлян и китайцев). Но как сохраняли пищу от порчи наши доисторические предки, особенно те, что жили в странах с тропическим климатом, без доступа ко льду и снегу? Чаще всего никак. Однако они научились контролировать процессы таким образом, что портящаяся еда оставалась съедобной.
При ферментации микробы поглощают сахар и производят кислоту, спирт и газы. Наиболее известные продукты ферментации — вино и пиво. В этом случае дрожжи превращают сахар фруктового сока или зерновых в спирт. Сегодня мы наслаждаемся опьяняющими эффектами ферментации, как это делали наши предки, но для них, скорее всего, более важной была консервирующая функция спирта, который увеличивал срок хранения напитков. Подобным образом бактерии ферментируют еду, чтобы продлить срок ее годности. Например, некоторые виды ферментированных сыров, хранимых при комнатной температуре, остаются съедобными на протяжении многих лет.
Открытие ферментации, скорее всего, было случайностью. Возможно, однажды собрали много еды, слишком много, чтобы съесть сразу. В те времена дорога была каждая калория, и это сильно мотивировало наших предков не выбрасывать пищу, начавшую портиться. Осознав, что некоторые гниющие продукты по-прежнему можно есть, люди научились использовать ферментацию как способ поддержать стабильность запасов продовольствия.
Мы знаем, что организация социальных групп и разделение труда позволили обществу преодолеть ограничения охоты и собирательства. А может быть, важную роль сыграла способность контролировать ферментацию. Отпала необходимость непрерывно охотиться. Некоторый запас еды можно было брать с собой, и наши предки получили возможность переселяться в другие районы.
Самый древний случай употребления ферментированной еды зафиксирован более 8000 лет назад, и почти в каждой культуре есть ферментированные продукты питания[47]. При ферментации бактерии начинают за нас процесс переваривания пищи. Один из наиболее известных ферментированных продуктов — йогурт. Для его производства в молоко — богатый источник сахара лактозы — добавляют определенные бактерии. Бактерии ферментируют лактозу, превращая ее в молочную кислоту, которая придает йогурту характерную терпкость. Можете представить себе, что эта баночка йогурта в холодильнике — внешний пищеварительный тракт, заранее переваривающий лактозу до того, как она попадет к вам в рот. Это означает, что йогурт могут есть люди, не переносящие лактозу, но те, кто может ее переварить, «уступают» некоторое количество калорий бактериям. В прошлом эти «жертвенные» калории были недорогой ценой, которую стоило платить за более длительный срок хранения. В богатом простыми и дешевыми калориями современном мире потеря калорий в пользу бактерий — вообще не жертва.
Когда микробы ферментируют еду, они извлекают из нее моносахариды (например, лактозу в случае с йогуртом). Если моносахаридов слишком много, может резко вырасти уровень сахара в крови, что способно привести к проблемам со здоровьем, в том числе к диабету второго типа. Бактерии же через ферментацию уменьшают содержание моносахаридов в еде, делая ее немного здоровее. Наблюдения, проводившиеся больше века, дают основания предположить, что люди, употребляющие большое количество ферментированных продуктов, пользуются плодами благой деятельности микробов, выполняющих две полезные для здоровья функции: снижают уровень сахара в пище и взаимодействуют с кишечником и микрофлорой.
СОХРАНЕНИЕ КИШЕЧНИКА
Илья Ильич Мечников, русский ученый конца XIX века, очень интересовался микробами и их взаимодействием с иммунной системой. Он наблюдал под микроскопом, как определенный вид иммунных клеток в нашей крови поглощает патогены. Соединив греческие слова «phages» и «cite», означающие соответственно «есть» и «клетка», он назвал поедающие микробов клетки фагоцитами. Обнаружив эти клетки, Мечников открыл главную стратегию иммунной системы для избавления от патогенных микробов. За это открытие он получил Нобелевскую премию.
Ближе к концу карьеры Мечников заинтересовался процессами старения и смерти. В 1908 году он записал свои открытия и идеи в книге «Этюды оптимизма»[48]. Ученый предположил, что старение и смерть могут быть результатом накопления в кишечнике токсичных отходов, вырабатываемых живущими в нем бактериями. Мечникову толстая кишка представлялась по большей части бесполезным органом, который появился в результате эволюции для хранения фекальных отходов. (Те из нас, кто провел значительную часть своей взрослой жизни за изучением микрофлоры, стараются видеть в подходе Мечникова некоторое упрощение, а не оскорбление.) Он рассуждал, что для эффективной охоты нужен был способ избежать постоянного испражнения. «Хищник, принужденный во время погони за добычей несколько раз останавливаться, был бы поставлен в очень невыгодное положение по сравнению с тем, который мог бы этого не делать», — объяснял он. Но, по мнению Мечникова, за хранение фекальных отходов в толстой кишке пришлось «платить», ведь в кишечнике «встречаются и безобидные микробы, но рядом с ними — множество вредных». Он был уверен, что именно эти пагубные бактерии — причина того, что люди не живут дольше. Заметив, что добавление кислоты в еду может предотвратить разложение, Мечников рассудил, что люди могут свести к минимуму внутреннее гниение также при помощи кислот, и особенно молочной.
Он верил, что употребление бактерий, которые производят молочную кислоту (как бактерии в йогурте), сохранит кишечник так же, как сохраняется кисломолочный продукт. Механическое объяснение Мечниковым полезности ферментированных продуктов требовало пересмотра. Однако его доводы (в том числе указание на долголетие болгарских крестьян, которые ежедневно употребляли кисломолочные продукты) начали менять существовавшее в те времена представление о микробах. Он писал: «Мнение о вредности микробов настолько распространено в публике, что малосведущий в этом вопросе читатель, вероятно, будет удивлен, что ему предлагают поглощать микробы в большом количестве. Между тем это мнение совершенно ошибочно».
Сейчас мы больше знаем о том, как именно пробиотические бактерии функционируют внутри кишечника. Ясно, что представление Мечникова, считавшего причиной их полезности для здоровья возможность окислять кишечник, не отражает полной картины. Эти бактерии составляют совсем небольшую часть всех бактерий, обитающих в кишечнике, однако они способны оказывать на наш организм влияние, которое вроде бы им не по силам. Они могут даже отправлять сигналы к наиболее отдаленным частям тела, включая мозг.
ТУРИСТЫ В КИШЕЧНИКЕ: ПРОЙТИ И ОСТАВИТЬ СЛЕД
Одно из наиболее распространенных заблуждений в отношении пробиотиков — что эти бактерии поселяются в кишечнике навсегда. Пробиотические бактерии обычно всего лишь временные члены микрофлоры, проникающие в кишечник с едой и позже покидающие его. Так, Lactobacillus, которые можно обнаружить в кисломолочных продуктах, лучше всего чувствуют себя в среде, содержащей лактозу, например в молоке[49]. Бактерии, производящие молочную кислоту, как те, что ферментируют молочные продукты, обычно не поселяются даже у младенцев во время грудного вскармливания, так как лактоза молока матери усваивается ребенком и оказывается недоступна для живущих в толстой кишке микробов.
Многие пробиотические бактерии могут выжить в нашем кишечнике, но значительная их часть не приспособлена к подобной среде. Они не питаются «экзотическими продуктами», которые есть в нашем кишечнике (например, съеденным ужином или слоем слизи, покрывающим стенки). Они проходят через пищеварительную систему, но не остаются в ней. Поэтому сторонники пробиотиков рекомендуют их регулярное употребление, чтобы гарантировать стабильный проходящий поток. Пробиотические бактерии подобны туристам, приехавшим в зарубежную страну (кишечник) из своего родного края (йогурта или другого ферментированного продукта, в котором они выросли).
Тот факт, что эти бактерии не задерживаются в кишечнике надолго и не слишком многочисленны по сравнению с постоянными бактериями, не значит, что это инертные существа. Существуют данные, доказывающие, что пробиотические бактерии укрепляют защиту организма против атакующих патогенов. В некотором смысле пробиотики служат своего рода «грушей», которая позволяет иммунной системе «потренироваться», настроить реакцию на более опасные микробы.
Клетки, составляющие стенки нашего кишечника, располагаются бок о бок, как плитки. Между ними — сеть белков, служащая своеобразным цементным раствором. Зацементированная, покрытая плиткой «стена» не позволяет микрофлоре и кусочкам переваренной пищи проникнуть в ткани и кровь. В идеале бактерии не преодолевают эту стену. Исследования дают основания полагать, что пробиотики могут участвовать в укреплении ограждения, побудив клетки кишечника производить больше белкового «цемента»[50]. Кроме того, пробиотики могут содействовать производству слизи — липкой защиты от нежелательных захватчиков, которая покрывает эту стену.
Похоже, однако, что пробиотическим бактериям недостаточно укрепления кишечной стенки и увеличения слоя слизи. Они умеют также убеждать клетки слизистой оболочки кишечника продуцировать антимикробное химическое оружие — дефензины. Организм использует их против вторгающихся бактерий, вирусов и грибов. Дальнейшие исследования определят, какие конкретно пробиотические штаммы задействованы в охране нашего кишечника и как именно они выполняют эту задачу[51]. Мы все лучше понимаем положительные реакции внутри кишечника, поддерживаемые пробиотиками. Возможно, правильнее было бы сравнивать их не с туристами, а с миротворцами ООН, помогающими соблюдать границы и останавливать агрессивные силы.
Пробиотические бактерии, укрепляющие границы кишечника и тренирующие иммунную систему, должны проявить себя эффективными союзниками в борьбе против желудочно-кишечных инфекций. Группа исследователей из Медицинского центра Джорджтаунского университета провела эксперимент, в котором участвовали 638 детей в возрасте от трех до шести лет. Половина из них (выбранная случайным образом) должна была ежедневно употреблять кисломолочный напиток, содержащий пробиотические бактерии. Другая половина пила плацебо без бактерий. Исследование длилось 90 дней. Каждую неделю родители заполняли анкеты с вопросами о здоровье детей. В частности, спрашивалось, пропускали ли дети занятия из-за болезни; страдали ли от рвоты, запора, болей в желудке или жара; принимали ли антибиотики. Дети, употреблявшие пробиотический напиток, на 24% реже страдали от желудочно-кишечных инфекций по сравнению с контрольной группой. Кроме того, пока шло исследование, детям, пившим пробиотики, реже назначали антибиотики.
Способность пробиотиков защищать нас от желудочно-кишечных инфекций подтверждается не только этим экспериментом. Сразу несколько исследований показали, что пробиотики в целом (не какой-то отдельный штамм или продукт) положительно влияют на людей, страдающих от инфекционной диареи, снижая ее тяжесть и продолжительность. Эти полезные бактерии укрепляют кишечное «ограждение», напрямую или косвенно убивают патогенные бактерии, а в некоторых случаях снижают их выживаемость.
НЕ ТОЛЬКО КИШЕЧНИК
В своем путешествии пробиотические бактерии проходят через пищеварительный тракт, оказываясь в толстой кишке. Однако, подобно постоянной микрофлоре, пробиотические бактерии, похоже, оказывают влияние далеко за пределами кишечника и помогают поддерживать здоровье всего организма.
Ученые установили, что принимавшие пробиотики дети реже страдали не только от желудочно-кишечных инфекций, но и от инфекций верхних дыхательных путей. Это подтвердили и другие исследования, охватывавшие тысячи людей. Употребление пробиотиков в любом возрасте снижает риск острых инфекций верхних дыхательных путей, уменьшает вероятность назначения антибиотиков. Эти данные доказывают, что пробиотические бактерии способны воздействовать на функционирование иммунной системы не только в локальной среде кишечника, но и глобально.
Некоторые исследования показали, что прием пробиотиков совпадает с изменениями работы иммунной системы, которые помогают бороться с инфекциями. Похоже, иммунная система постоянно делает «перепись микробного населения» кишечника. В присутствии пробиотических бактерий она приходит в состояние готовности, как при команде «На старт!». Когда появляется инфекция, даже если она находится в верхних дыхательных путях, иммунная система уже готова к командам «Внимание!» и «Марш!».
Но если это так, почему врачи всего мира не поощряют употребление пробиотиков в массовом порядке? Дело в том, что значительная часть опубликованных исследований пробиотиков основана на относительно маленькой выборке (наблюдались небольшие группы людей), и полученные специфические данные не удалось повторить в других экспериментах. Кроме того, в очень немногих экспериментах на людях особые полезные свойства удалось приписать определенным штаммам пробиотических бактерий. Причина скептицизма именно в том, что не были обнаружены механизмы, специфические молекулярные взаимодействия и гены, так или иначе влияющие на иммунную систему.
Почему эффекты от употребления пробиотиков кажутся беспорядочными? Пробиотические бактерии взаимодействуют с микрофлорой человека. Она уникальна, поэтому пробиотик А в Человеке 1 может действовать иначе, чем в Человеке 2. Возможно, Человеку 2 нужно принять пробиотик Б или в десять раз больше пробиотика А, чтобы получить эффект, наблюдаемый у Человека 1. Более того, микрофлора может меняться день ото дня даже у одного и того же человека, поэтому и воздействие пробиотиков не будет постоянным. Наше понимание микрофлоры недостаточно полно, чтобы предсказать, как именно определенный пробиотик повлияет на микрофлору. По этой причине нам кажется, что ферментированные продукты питания, содержащие разнообразный набор микроорганизмов, предлагают наилучшую возможность «заполучить» микроб, который окажет положительное воздействие.
Наиболее распространенные продукты, содержащие пробиотики, — кисломолочные. Чтобы получился кефир, в процессе ферментации используется до ста различных видов бактерий и дрожжей. В кефире миллиарды живых микробов. Он стал любимым напитком в нашем доме, особенно во время сезонов простуды и гриппа. Разнообразный набор микробов в кефире увеличивает шансы, что микрофлора отреагирует хотя бы на один из микробов в этом питьевом зоопарке. В продаже также широко представлены йогурты и сметана (правда, сметана может производиться без бактерий, то есть не в любой сметане содержатся живые микробы). Из немолочных ферментированных продуктов хорошо известен чайный гриб.
Люди нашли способ ферментировать практически все: овощи, фрукты, бобы, злаки, мясо, рыбу. Хаукарль, традиционное исландское блюдо, — это акулье мясо, которое ферментировалось в течение трех месяцев в наполненной песком и гравием яме, вырытой на склоне холма. (Наклон обеспечивает стекание соков.) Мы не можем лично высказаться относительно вкусовых качеств данного блюда, но предполагаем, что пристрастие к нему вырабатывается привычкой.
ПРОБИОТИКИ: КАК ПРОЙТИ КВАЛИФИКАЦИЮ?
Огромная индустрия поставляет все больше пробиотических добавок и ферментированных продуктов питания. Компании-производители надеются убедить нас в том, что пробиотические микробы очень полезны для здоровья.
Масса интернет-ресурсов продают пробиотические добавки, как они заявляют, «для улучшения деятельности кишечника». Непонятные термины: «синбиотический», «функциональная пища», «нутрицевтический» — могут вселить надежду, напугать, запутать или все сразу. Многие сайты уверяют, что нам следует принимать эти добавки ежедневно и в больших количествах. Если вы здоровы, эти продукты предотвратят болезни. Если у вас проблемы с кишечником — вот и решение. Привлекают внимание названия добавок: «Идеальная Флора Супер Важная Добавка», «Основная Защита», «Здоровая Троица». Такие продукты кричат: «Если хочешь быть здоровым, я нужен тебе!»
Внутри медицинского сообщества нет согласия относительно того, кто по-настоящему получает выгоду от пробиотиков. Однако в последние годы пользу их употребления неоднократно доказывали клинически. Мэри Сандерс, кандидат наук и независимый консультант в области пробиотиков, занимает должность исполнительного директора Международной научной ассоциации по вопросам пробиотиков и пребиотиков. Она согласна, что есть веские причины использовать пробиотики при таких заболеваниях, как некротический энтероколит у недоношенных детей, диарея, связанная с приемом антибиотиков, острые заболевания, сопровождающиеся диареей, и даже обычная простуда.
К сожалению, доказательств пока недостаточно. Поэтому многие врачи допускают, что пробиотики не навредят и, возможно, помогут. Это разумный подход, принимая во внимание отличный профиль безопасности пробиотиков и множество перспективных предварительных исследований.
Доктор Пурна Кашьяп, гастроэнтеролог, заместитель директора программы исследования микрофлоры в Центре персонализированной медицины клиники Мэйо в Рочестере, провел два года в нашей лаборатории в Стэнфорде, изучая, каким образом микрофлора влияет на желудочно-кишечное здоровье. Его практика сосредоточена на функциональных нарушениях пищеварения, в том числе и синдроме раздраженного кишечника. В отношении пробиотиков его подход скорее пассивный: «Если пациент спрашивает, я не буду отговаривать от использования, но не стану предлагать в качестве первоочередного лечения».
Многие врачи осторожны по отношению к пробиотикам. Они утверждают, что клинические исследования должны завершиться полноценными результатами — однозначными и воспроизводимыми. Общих свидетельств «улучшенного самочувствия» недостаточно, чтобы рекомендовать пробиотики. Кстати, скептик Пурна Кашьяп регулярно пьет пахту. Этот культивированный молочный напиток напоминает доктору йогурт, который делала для него мама в Индии.
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
У многих потребителей возникают положительные ассоциации со словом «пробиотик». Поэтому его используют компании для продвижения товара на рынке, даже если это не оправдано. Согласно руководству ISAPP[52] по пробиотикам для покупателей, «использование слова “пробиотик” еще не означает, что это действительно пробиотик. Некоторые изделия с маркировкой “пробиотик” не содержат штаммы, чья эффективность была доказана, или же не могут гарантировать необходимое содержание живых пробиотиков до истечения срока годности»[53]. Таким образом, существует много причин, по которым потребителям стоит скептически относиться к продуктам с ярлыком «пробиотик».
Разные виды бактерий продаются как пробиотики. Прежде чем мы углубимся в подробности, стоит обсудить, как бактерия получает название, в котором, кстати, может содержаться информация о ее свойствах. Потребители также должны понимать, что названия, которые компании дают бактериям, могут быть использованы в качестве инструментов маркетинга.
В научной среде для обозначения бактерии используются два слова, которые указывают на род и вид. Bifidobacterium и Lactobacillus — два рода наиболее распространенных на рынке пробиотиков. Представьте, что род — это фамилия бактерии (с нее начинается название). Все бактерии, относящиеся к отдельному роду, состоят в близком родстве. Указание на вид (то есть на особого представителя рода) схоже с именем (это второе слово в названии бактерии). Bifidobacterium longum и Bifidobacterium animalis — два разных вида бактерий из одного рода. Они больше похожи друг на друга, чем Bifidobacterium longum похожа на Lactobacillus acidophilus. Кроме того, к одному роду и виду могут принадлежать разные штаммы бактерий. Отличия между штаммами есть, но они мелкие. Если сравнивать с людьми, то мы все Homo sapiens, однако у каждого из нас есть индивидуальные характеристики. Штамм бактерии обычно отмечается набором букв и цифр, которые ставятся после названия рода и вида, например Bifidobacterium animalis DN-173–010. Отдельные штаммы бактерий можно запатентовать и дать им торговые названия, которые часто придумываются таким образом, чтобы вызвать ассоциации со здоровым пищеварением. Например, на баночках йогурта «Activia» бросается в глаза название пробиотической бактерии Dannon: Bifidus regularis — торговое название, данное их штамму Bifidobacterium animalis.
Если вам кажется, что существует определенный свод правил, который не позволяет компаниям вводить в заблуждение потребителей, вы правы лишь отчасти. Термин «пробиотики» используется для большой и разнообразной группы продуктов, содержащих живые бактерии, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработало общие принципы контроля этих товаров в зависимости от их планируемого использования. При продвижении на рынке значительной части пробиотических продуктов не заявляется, что с их помощью можно лечить конкретные болезни, поэтому они не подпадают под категорию медикаментов, не должны проходить тестирование и соответствовать регламенту аттестации лекарств[54]. Таким образом пробиотики могут миновать пристальное внимание со стороны FDA, чья главная забота — скорее безопасность этих продуктов, чем их эффективность. FDA лишь запрещает производителям и продавцам как-либо наводить на мысль о лечебном эффекте пробиотиков.
Очень немногие пробиотики, содержащиеся в еде или продаваемые в виде добавок, прошли какой-либо серьезный отбор (хотя компании-производители и продавцы могут не согласиться). Некоторые пробиотики действительно были выделены на основе их особых свойств, но большинство штаммов выбирались произвольно из того, что встречается в ферментированных продуктах.
Давайте рассмотрим три главные группы товаров с пробиотиками: ферментированные продукты, такие как йогурт; продукты, в которые были добавлены живые бактерии, не запускающие реакции ферментации, например злаковый батончик, содержащий пробиотики; бактерии в виде добавок. Во всех этих случаях бактерии либо давно уже используются, либо имеют статус «безопасных» — пометку в виде аббревиатуры GRAS. Чтобы получить статус GRAS, консилиум квалифицированных экспертов должен признать, что продукт безопасен для потребления, но из-за проблем с бюджетом FDA фактически сделала GRAS-регистрацию пробиотиков добровольной программой.
Скажем, я планирую основать собственную компанию, производящую пробиотические добавки, под названием «Усилители иммунитета». Моя первая пробиотическая добавка будет содержать бактерию Lactobacillus casei — распространенный вид, встречающийся в йогурте, поэтому я знаю, что он безопасен и не обратит на себя внимания FDA. У меня есть свой запатентованный штамм, который я выставлю на рынок под торговым названием Lactobacillus ProHealthy. Перед тем как выставлять бутылки с Lactobacillus ProHealthy от компании «Усилители иммунитета» в аптеках по всей стране, мне нужно будет уведомить FDA о содержащихся в них ингредиентах и информации по технике безопасности. Через 90 дней после отправки уведомления Lactobacillus ProHealthy можно поставлять потребителям — без какого-либо одобрения FDA. При том что ответственность за безопасность добавок лежит на компаниях, продающих эти самые добавки, неудивительно, что полки заставлены подозрительными товарами. Во многих случаях вид и количество живых бактерий в бутылке пробиотической добавки не совпадают с этикеткой, не говоря уже о такой серьезной проблеме, как неспособность продукта помочь потребителю. Так что бутылка Lactobacillus ProHealthy на самом деле может содержать другие виды бактерий, не указанные на этикетке, или даже вообще не содержать Lactobacillus ProHealthy.
Компании могут получать прибыль от продажи пробиотиков. Доказывать эффективность продукта не требуется, поэтому у производителей нет стимула исследовать новые пробиотики. Таким образом, доступные пробиотики — это в основном несколько традиционных видов, которые мы веками получали из ферментированной пищи. Скорее всего, существует множество видов бактерий из разных сред обитаний, которые стали бы хорошими кандидатами в пробиотики (в том числе и из пищеварительного тракта человека), но отсутствие истории безопасного употребления препятствует выпуску новых товаров. Если я решу, что «Усилители иммунитета» выпустит новую пробиотическую добавку, содержащую недавно открытую бактерию, которая демонстрирует обнадеживающие выгоды для здоровья в исследованиях, даже если я не стану указывать конкретное утверждение о полезности для здоровья на этикетке, мне все равно придется доказать, что эта новая бактерия безопасна для употребления. А это означает проведение объемных и дорогих исследований на животных и людях или риск судебного иска от потребителей или FDA. Многие компании пришли к выводу, что подобная авантюра того не стоит.
ИГРА ПРИТЯЗАНИЙ
Американская индустрия пробиотиков исторически балансирует на тонкой грани утверждений о полезности для здоровья, которые только чуть-чуть не дотягивают до притязаний, потребовавших бы набора длительных и дорогостоящих клинических испытаний, предписанных FDA. Доктор Сандерс указывает на то, что в Соединенных Штатах производители пробиотиков могут делать «притязания структурной функции», которые привязывают продукт к нормальной «структурной функции» человеческого тела, без необходимости получения одобрения FDA. Хоть эти утверждения должны быть правдивыми и не могут вводить в заблуждение, требования к наличию доказательств довольно мягкие. В США организация, которая определяет, существует ли у товара достаточно обоснований для любого рекламного утверждения, которое высказывается, — это Федеральная торговая комиссия. В 2010 году, как известно, компания Danon переступила черту, когда заявила, что употребление «Activia» «помогает наладить вашу пищеварительную систему за две недели, как было доказано клиническими исследованиями». Федеральная торговая комиссия постановила, что Danon зашла слишком далеко в своем утверждении, и подала в суд за рекламу, вводящую в заблуждение. После этого Danon перестала использовать термин «клинические исследования», а рекламные ролики «Activia» больше не упоминают способность облегчить нарушения пищеварительной системы.
Компании, продающие пробиотики, применяют специальную тактику, чтобы убедить нас в полезности этих продуктов. С сожалением следует упомянуть невысокий авторитет исследований, касающихся воздействия пробиотиков на кишечную микрофлору и здоровье носителя. Многие эксперименты проводились некорректно, значительная их часть спонсировалась крайне заинтересованными производителями пробиотиков и йогуртов. Тем не менее мы все лучше понимаем микрофлору, и роль пробиотических бактерий в поддержании нашего здоровья становится областью более серьезных научных изысканий. Мэри Сандерс настроена оптимистично в отношении будущего клинического использования пробиотиков: «Существуют веские доказательства некоторых благоприятных клинических эффектов пробиотиков, признанные отдельными организациями по результатам клинических исследований». Полагаем, что по мере проведения чистых экспериментов удастся определить, каким образом пробиотические бактерии могут употребляться с пользой для здоровья»[55].
ПОЛЕЗНЫЕ ПОПУТЧИКИ: ПРЕ- И СИНБИОТИКИ
В отличие от пробиотиков, пребиотики — не живые организмы, но конечная цель их употребления та же: увеличить количество полезных бактерий в толстом кишечнике. Пребиотики — вещества, извлеченные из пищи. Обычно это длинные цепи связанных между собой молекул сахара, известные как сложные углеводы или полисахариды — очищенная форма пищевых волокон. Они не усваиваются и не метаболизируются носителем (нами) и таким образом предоставляют питание бактериям в толстой кишке. Попав в толстую кишку, пребиотики расщепляются бактериями микрофлоры, содействуя их росту и размножению, и позитивно влияют на здоровье.
Один из наиболее распространенных пребиотиков — инулин. Это полимер, содержащий до 60 молекул фруктозы, соединенных, как звенья цепи. Инулин можно приобрести в виде пищевой добавки, но он есть во многих фруктах и овощах, особенно в луковицах (например, в репчатом луке) и в клубнях (например, в топинамбуре). Учитывая справедливо отрицательное отношение к употреблению большого количества фруктозы, логично предположить, что крупные полимеры фруктозы не полезны. Однако в этом случае дьявол кроется в деталях. Инулин — это полимер фруктозы, поэтому в пищеварительном тракте его ждет судьба, не сравнимая с участью отдельной молекулы фруктозы (например, из сиропа). Наша пищеварительная система искусно усваивает отдельные молекулы фруктозы, отправляя их в систему кровообращения. Бактерии также прекрасно справляются с ферментацией фруктозы, но так как мы усваиваем ее на ранней стадии процесса пищеварения, до микробов в толстой кишке доходит очень мало, если вообще что-то доходит. В то же время в геноме человека не записана способность разрывать химические связи, сцепляющие молекулы фруктозы в инулин, так что эти соединения работают как надежный замок, делая фруктозу недоступной для нас. Ключ от этого замка есть у бактерий микрофлоры. Как только инулин оказывается в кишечнике, бактерии открывают замок и угощаются отдельными молекулами фруктозы. Если бы у нас не было микрофлоры, инулин просто проходил бы через нас и оставался практически неизменным.
Кишечные бактерии расщепляют инулин и производят короткоцепочечные жирные кислоты. Как мы уже упоминали в третьей главе, КЖК могут усваиваться ради энергии и способны защитить наш кишечник от воспаления. Поэтому, несмотря на плохую репутацию фруктозы, важно учитывать ее вид. В форме полимера, например инулина, она может обеспечить питанием микрофлору.
Многие пребиотики — это всего лишь очищенные формы пищевых волокон и в изобилии встречаются в растениях. Например, инулином и фруктоолигосахаридами (ФОС) наряду со многими другими полимерами углеводов богаты репчатый лук, чеснок и топинамбур. На самом деле практически все полимеры углеводов и пищевые волокна растительного происхождения могут считаться пребиотиками, которые поглощаются представителями микрофлоры.
Весь овощной отдел магазина стоит пометить табличками и наклейками: «Содержит пребиотики!». В свое время наша семья поменяла рацион, чтобы увеличить употребление овощей, фруктов и бобовых, в основном из-за содержания в них пребиотиков. Как и в случае с пробиотиками, убедительные доказательства пользы отдельных пребиотиков только появляются. Однако достаточно данных, доказывающих, что увеличение потребления пищевых волокон для поддержания микрофлоры идет на пользу здоровью.
Синбиотики — это сочетание пробиотиков и пребиотиков. «Син» в слове «синбиотик» означает «синергию»: предполагается, что «союз» этих элементов производит эффект, значительно превосходящий суммарное воздействие пробиотика и пребиотика как самостоятельных продуктов. Пребиотики предоставляют питание для пробиотиков, позволяя бактериям размножиться, как только они попадут в толстую кишку. Как и пробиотики, синбиотики — не лекарства, производителям и продавцам нельзя заявлять, что они лечат какие-либо заболевания, но их производство не регулируется контролирующими организациями. Поэтому синбиотики часто носят внушительные названия, такие как «Иммунофлорин», а текст на их этикетках составляется очень аккуратно, например: «Способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры». Синбиотики также все чаще появляются в магазинах, но мы почти каждый день делаем собственные синбиотики, добавляя в миску с йогуртом (пробиотик) кусочки банана (пребиотик, содержащий инулин). Или же заправляем салат с луком (пребиотик) соусом на основе сметаны или кефира (пробиотик). Напомним еще раз: значительная часть фруктов и овощей — прекрасные источники пребиотиков.
БУДУЩЕЕ ПРОБИОТИКОВ
По мере совершенствования отдельных штаммов пробиотики смогут помогать в лечении синдрома раздраженного кишечника (СРК), воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), ожирения и связанных с ним болезней. Но пока это очень далекая перспектива. Учитывая индивидуальность микрофлоры каждого человека, актуальным, вероятно, было бы масштабное описание микрофлоры каждого участника исследования до, во время и после эксперимента с пробиотиком. Если в клиническом исследовании всего десять человек из ста продемонстрируют необходимую реакцию на пробиотик, его, скорее всего, признают неэффективным. Однако у этих десяти участников кроме необходимой реакции могут быть зафиксированы идентичные характеристики микрофлоры, не похожие на характеристики остальных 90 человек, у которых реакции не возникло. Вот в этом случае, вероятно, можно будет определить, кто получит наибольшую выгоду от данного пробиотика.
Скорее всего, в перспективе пробиотическое лечение будет включать бактерии, выделенные не только из кисломолочных продуктов. Возможно, их будут получать из человеческого кала. На самом деле многие штаммы Bifidobacterium, встречаемые в пробиотических добавках или йогуртах, изначально были выделены из содержимого подгузников здоровых младенцев и использовались для лечения диареи.
Постоянно растет объем информации относительно обитателей микрофлоры человека. Учитывая эти данные, можно предположить, какие виды бактерий станут новыми эффективными пробиотиками. Faecalibacterium prausnitzii — бактерия, обычно встречающаяся в кишечнике человека, — часто исчезает у пациентов, страдающих от воспалительного заболевания кишечника, болезни Крона, язвенного колита и колоректального рака[56]. У мышей — носителей этих бактерий уменьшалось воспаление кишечника и обнаруживались другие положительные показатели иммунной системы, что делает Faecalibacterium prausnitzii хорошим кандидатом на роль эффективного пробиотика[57]. Время покажет, можно ли будет вернуть определенные бактерии, такие как F. prausnitzii, исчезающие во время болезни, для облегчения симптомов. Большой интерес представляют бактерии, которые не просто пройдут мимо, но и смогут обосноваться в кишечнике. Их потенциал для улучшения здоровья огромен.
Возможно, мы будем использовать разные виды бактерий, своего рода пробиотический коктейль. Бактерии вступают в симбиоз друг с другом и с человеком, поэтому сочетание совместимых штаммов может дать грандиозный эффект. Если микрофлора кишечника нестабильна, добавление одного штамма бактерий можно сравнить с вызовом пожарных без оборудования на место крупного пожара. Однако если вы добавите инструменты, такие как лестницы и шланги, привлечете работников других аварийных служб, их совместные действия будут в высшей степени эффективными. Поиски бактерий среди здоровой микрофлоры помогут определить особо полезные штаммы. А удачные сочетания — потенциальный путь к созданию новых пробиотиков.
Вне нашего кишечника существует обширный набор микробов, в котором можно найти «неограненный пробиотический бриллиант», — это земля.
Геофагия — поедание земли — широко распространена в животном царстве. Нам всем случалось невольно глотать землю с рук или плохо вымытых овощей и фруктов. В ряде культур земля поедается вполне осознанно. На Гаити некоторые люди едят «bon bons de terre» (дословно — «земляные конфеты») — печенье из земли, приготовленное с добавлением масла и сахара. Согласно «Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам», поедание земли ненормально, хоть и практикуется в течение многих сотен лет.
Если речь не идет о муках голода, то не совсем понятно, почему некоторые люди испытывают тягу к поеданию земли. Согласно некоторым теориям, она удовлетворяет недостаток питательных веществ[58]. Есть мнение, что земля, а точнее глина, впитывает токсичные вещества из пищеварительного тракта и довольно эффективно борется с тошнотой. Но что, если вместе с землей человек употребляет полезных микробов? Некоторые данные подтверждают, что почвенные бактерии облегчают симптомы, связанные с синдромом раздраженного кишечника[59]. Возможно, отсутствие земли в рационе людей, живущих в промышленно развитых странах с повышенным уровнем гигиены, приводит к определенным проблемам, и земляные пробиотики могли бы восстановить отношения, установившиеся в ходе эволюции. Пока неизвестно, каким будет результат строгих научных исследований употребления почвенных бактерий, но земляные пробиотики стоит попробовать, если пробиотики из более традиционных источников не приносят заметной пользы.
Еще одна интересная перспектива создания будущих пробиотиков — генная инженерия. Допустим, у человека воспалился кишечник. Что, если бы существовал искусственный «умный» пробиотик, который, проходя по кишечнику, мог бы определить точное место воспаления и доставить туда специализированную противовоспалительную молекулу — своего рода управляемую бомбу микробного мира? Затем пробиотик мог бы почувствовать, что воспаление взято под контроль, и переставал бы выпускать противовоспалительное лекарство. Можно было бы также создавать бактерии для проведения диагностических обследований, которые служили бы датчиками, обнаруживающими заболевание на ранних стадиях. Подобные микробные маячки могли бы вытеснить из медицинской практики такое некомфортное для пациента исследование, как колоноскопия.
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОБИОТИКОВ
Наши предки постоянно контактировали с бактериями. Некоторые бактерии были полезны, другие вызывали больше проблем. И именно проблематичные бактерии привели к чрезмерной дезинфекции пищи и воды, домов, одежды, кухонной утвари и пластмассовых безделушек. Многие согласятся, что уничтожение как можно большего числа патогенных микробов — это прекрасно, однако, вероятно, микробный вакуум — не лучший вариант. Может быть, нам просто следует заменять плохие бактерии полезными, такими как пробиотики.
Перед использованием пробиотиков для лечения какого-либо заболевания очень важно посоветоваться с врачом, чтобы определить, какой именно пробиотик лучше всего вам подходит. Мы без проблем употребляем пробиотики в течение тысячелетий. Однако люди, например, с ослабленным иммунитетом должны быть осторожны: прием каких бы то ни было средств следует обсудить со специалистом. Пробиотики скорее помогут здоровым людям предотвратить болезни, чем вылечат то или иное заболевание.
Живые бактерии, пригодные к употреблению, доступны в самых разных видах. Это добавки, ферментированные продукты, которые не прошли стерилизацию (йогурт, квашеная капуста, кимчи, паста мисо и пр.), и неферментированные продукты, в которые были добавлены живые бактерии (такие как фруктовые соки с добавкой бактерий Goodbelly). Кефир, сметана и некоторые виды сыров — примеры продуктов, которые могут быть ферментированы и содержать живые бактерии. Версии этих продуктов, обогащенные бактериями, обычно содержат меньше микробов, чем необходимо для получения ярлыка «живые и активные культуры» (как минимум 100 миллионов бактерий на один грамм). Некоторые ферментируемые продукты пастеризуются, то есть проходят процесс, убивающий все бактерии, и таким образом не могут быть источником живых микробов. Если ферментированные продукты питания хранятся не в холодильнике, а при комнатной температуре в банках, вряд ли они содержат живые микробы. Поэтому очень важно читать этикетки, если вы хотите убедиться, что продукт содержит живые микробы.
Наша семья регулярно употребляет микробы, обычно в виде кисломолочных продуктов, таких как йогурт и кефир. Когда болезнь кажется неотвратимой, мы увеличиваем количество таких продуктов. Предпочтение йогурта и кефира — исключительно личное, оно не обусловлено какими-либо данными, показывающими, что пробиотические бактерии в них лучше, чем в других видах ферментированных продуктов. Время от времени мы едим мисо, кимчи и даже ферментируем собственные пикули. При выборе йогурта остерегайтесь сахарных бомб, выставленных под видом здоровых закусок для детей. К несладким кисломолочным продуктам, возможно, придется привыкать. Особенно это касается детей. Бактерии молочной кислоты, которые используются для ферментации йогурта, создают характерный кисловатый вкус, с которым производители ароматизированных йогуртов борются при помощи подсластителей. Если вы боитесь, что ваши дети откажутся есть натуральный йогурт из-за его кислого вкуса, подсластите его самостоятельно, например медом или кленовым сиропом, а затем постепенно уменьшайте количество сладости, пока она не перестанет быть необходимостью. Свежие или замороженные фрукты — еще один способ подсластить натуральный йогурт и в то же время добавить немного пребиотиков.
У нашей семьи нет привычки употреблять пробиотические добавки. Разнообразие бактерий в ферментированных продуктах предоставляет наилучшую возможность встретить микроб, который принесет пользу здоровью. Однако в прошлом мы иногда принимали добавки наряду с ферментированными продуктами после курса антибиотиков, заселяя больше бактерий в кишечник, чтобы компенсировать урон, нанесенный микрофлоре. Мы подумали бы об употреблении пробиотиков после болезни, сопровождаемой диареей. Принятие антибиотиков и диарея — это два обстоятельства, которые предприимчивые патогены могут использовать, чтобы создать проблемы. Дополнительный прирост бактерий, который вызывают пробиотики, может потенциально отпугнуть мерзких микробов, пытающихся воспользоваться уязвимостью вашего кишечника.
Микрофлора каждого человека индивидуальна, и невозможно предсказать, какой вид и какое количество пробиотиков помогут при определенной болезни. Поэтому очень важно найти пробиотики, которые подходят именно вашей микрофлоре. Любой пробиотический продукт, вызывающий неприятное вздутие, чрезмерное газообразование или головные боли, вам не подходит. Одно из наиболее очевидных преимуществ, которые вы должны получить от пробиотиков, — это более регулярный и легкий стул. Возможно, вам потребуется попробовать разные продукты, содержащие пробиотики, или добавки, чтобы найти оптимальное решение. Вы можете поэкспериментировать с широким ассортиментом пробиотических продуктов питания. Многие из них — молочные, но есть варианты, не содержащие молока. В приложении вы найдете список ферментированных продуктов. В интернете предлагают свои товары поставщики заквасок, с которыми можно приготовить собственный йогурт, кефир, чайный гриб и даже ферментированные соевые продукты, рис и овощи. Если все это вам не подходит или вам кажется, что наилучший выход — прием добавок, помните, что у вас очень много вариантов из самых разных источников. Чтобы избежать потенциально неблагонадежных производителей пробиотиков, покупайте у авторитетных компаний. Наиболее солидные производители предоставляют информацию об исследованиях, проведенных с их товарами, и четко обозначают на этикетках названия содержащихся бактерий и срок годности. К продуктам, на которых указывается только дата изготовления, следует относиться с подозрением.
В поисках подходящего пробиотика важно систематически пробовать самые разные, пока вы не найдете то, что будет работать для вас. Как это узнать? Главный показатель состояния вашей микрофлоры — это стул. Идеальный стул гладкий, мягкий и легко выходит одним длинным змееобразным куском без трещин, которые служат симптомом запора. Отсутствие брызг означает, что вы на верном пути.
Глава 5
Триллионы голодных ртов
ВЫМИРАНИЕ МИКРОФЛОРЫ
Микробному сообществу в кишечнике приходилось приспосабливаться к смене рациона человека в разные эпохи. От охоты и собирательства общество перешло к фермерству, а теперь — к промышленному производству еды. За это время некоторые виды бактерий исчезли из кишечников людей, ведущих современный образ жизни. Потеря разнообразия микрофлоры обусловлена разными факторами. Один из них — недостаток полезных микробов, передаваемых через еду. В этом случае ситуацию могут поправить ферментированные продукты, как мы объяснили в предыдущей главе. Второй фактор — недостаток растительных пищевых волокон в нашей пище. На протяжении тысячелетий разнородную микрофлору людей питали растения. Теперь их в рационе значительно меньше, из-за чего страдают бактерии.
Следовательно, можно повернуть вспять вымирание микрофлоры, если выполнить два условия: увеличить количество полезных микробов и улучшить качество питания обитателей кишечника. Повторим еще раз: дополнительные бактерии можно получить из ферментированных продуктов, из окружающей среды и от домашних животных. Отказавшись от стерилизации домов токсичными антимикробными средствами, мы также помогаем микробам проникать в наш кишечник.
Для развития разнообразия микрофлоры абсолютно необходимо увеличить объем пищевых волокон. Микробы в кишечнике процветают в присутствии сложных углеводов, из которых в основном и состоят пищевые волокна. Эти сложные углеводы очень отличаются от обоснованно критикуемых простых углеводов, которые усваиваются в тонком кишечнике и редко добираются до микробов, живущих дальше, в толстой кишке. Вместо неточного термина «пищевые волокна» мы предпочитаем говорить «доступные микрофлоре углеводы» (ДМУ)[60]. ДМУ — это компоненты пищевых волокон, которыми питаются кишечные микробы. Поедание большего количества ДМУ предоставит больше питания микрофлоре, поможет кишечным микробам размножиться и увеличит разнообразие сообщества. С этой целью необходимо серьезно изменить привычки питания людей, ведущих современный образ жизни. Рацион нашей семьи богат сложными углеводами, которые мы получаем из фруктов, овощей, бобовых и неочищенных цельных злаков.
НАША МИКРОФЛОРА: ИДЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ
Микрофлора остро реагирует на диету. Зная этот факт, можно «управлять» микробами. Состав кишечного сообщества и его функциональные возможности напрямую зависят от того, что вы едите[61]. Какие решения помогут вам создать и поддержать наилучшую микрофлору? Что лучше: диета с низким содержанием жиров или диета с низким содержанием углеводов? Стоит ли есть натуральные продукты? Можно ли сократить вред от съеденной горы картошки фри, оставив несколько штук на тарелке? На первый взгляд кажется, что вопросов слишком много. Однако существуют простые правила, следуя которым можно увеличить количество ДМУ в рационе и исцелить микрофлору. Однако, чтобы поправить ее здоровье, необходимо понять, как кормить микробов. Для этого нужны базовые знания о том, что происходит с пищей, которая проходит по пищеварительному тракту.
В норме пищеварительная система работает как эффективно управляемое предприятие по переработке отходов. Так же как мусор сваливается на конвейерную ленту для сортировки, содержимое желудка (то, что мы съели) выгружается в тонкий кишечник. Пищеварительный тракт сортирует материалы: жиры, белки, углеводы, соли, витамины и многие другие вещества. На конвейере в первую очередь собирается все ценное, пригодное для переработки: стекло, металл и пр. Аналогично тонкий кишечник усваивает ценный перерабатываемый материал: простые углеводы, аминокислоты из белков и жирные кислоты. Эти компоненты обладают высокой калорийной ценностью. Они запросто могут использоваться для поддержания энергии, а в некоторых случаях по-настоящему перерабатываются клетками для создания новых тканей.
Следующий шаг в промышленной работе с отходами — удаление биологических материалов, из которых можно приготовить компост. Подобным образом оставшаяся неперевариваемая, неусвоенная часть еды отправляется в толстую кишку, где ее перерабатывают микробы. Значительная часть веществ, поступающих в толстую кишку, — это пищевые волокна, которые человеческие ферменты тонкого кишечника неспособны преобразовать в полезные калории или питательные вещества. Однако для микрофлоры эти пищевые волокна с ДМУ — настоящий пир.
ЦЕННОСТЬ МИКРОБНЫХ ОТХОДОВ
Некоторые виды микробов предпочитают питаться ДМУ из бананов, другим «больше нравятся» ДМУ из лука. От того, что мы едим, зависит, какие бактерии станут быстрее размножаться и получат наибольшее распространение. Важно, что человек не получает калории из тех компонентов пищи, которыми кормятся микробы. Они не живут за чужой счет, а расходуют материал, который наш организм оставил бы неиспользованным.
Как и всем формам жизни на Земле, бактериям нужно усваивать и преобразовывать молекулы, чтобы получить энергию для роста и размножения (у бактерий это клеточное деление). Для видов наподобие нашего, размножающихся половым путем, это может показаться эгоизмом, но цель каждой бактерии — сделать как можно больше своих копий, или клонов. Виды, которым удается наиболее эффективно размножаться в данных условиях, сохранятся и начнут доминировать (это пример естественного отбора в упрощенном варианте). Геном микроорганизмов способен приобретать, удалять или изменять гены, поэтому они могут эволюционировать и более эффективно конкурировать за выживание в кишечнике.
Конкуренция за питательные ресурсы заставляет бактерии разрабатывать умные метаболические стратегии. При этом все кишечные микроорганизмы сталкиваются с двумя большими проблемами. Первая: как извлекать энергию в отсутствие кислорода. В кишечной среде нет кислорода, то есть она анаэробна. Клетки человека используют кислород для аэробного метаболизма, создавая молекулярные строительные блоки для клеток и энергию для организма. Однако микрофлоре доступен только анаэробный метаболизм (ферментация). С его помощью она генерирует энергию и создает важные молекулы. Вторая проблема: скорость, с которой должен происходить метаболизм. Еда двигается по пищеварительному тракту очень быстро, и конкурентная экосистема заставляет бактерии мгновенно поглощать любые проходящие мимо питательные вещества. Для решения этой проблемы наиболее распространенные в человеческом кишечнике бактерии используют эффективную стратегию: они быстро ферментируют ДМУ — один из богатейших источников энергии в толстой кишке. Подобным образом проводят ферментацию микроорганизмы, обитающие за пределами кишечника. Так, чтобы получился йогурт, бактерии ферментируют лактозу молока в молочную кислоту. При производстве пива и вина дрожжи перерабатывают крахмал, сахарозу и другой сахар в этанол. Конечными продуктами ферментации в кишечнике чаще всего становятся короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК).
КЖК обеспечивают людей небольшим количеством энергии, извлеченной из растительных углеводов, которые без переработки микробами не имели бы никакой питательной ценности. Микрофлора выжимает из углеводов, на которых пирует, все калории до последней, но не может вырабатывать калории из КЖК. Для этого необходим кислород, а в кишечнике его нет. Усваивая КЖК из кишечника в наши ткани, содержащие кислород, организм получает последние оставшиеся калории из волокон, которые в противном случае остались бы непереваренными. В древней саванне, где пропитание было скудным, люди употребляли большое количество пищевых волокон в виде диких ягод и корней. КЖК, которые микрофлора вырабатывала в результате, скорее всего, были очень важным источником восполнения ежедневного расхода калорий и могли играть решающую роль в обеспечении достаточным количеством энергии для охоты и собирательства.
Однако в рационе человека, ведущего современный образ жизни, КЖК, вырабатываемые микрофлорой, составляют всего 6–10% от общего количества ежедневных калорий. Это эквивалентно энергии, полученной от 20 миндальных орехов. В целом не так много, но все-таки это лишние калории для цивилизации, в которой заболевания, связанные с ожирением, достигли ужасающего уровня. Разве не нужно пытаться исключать все ненужные калории? Что, если бы мы избавились от микрофлоры? Похудели бы мы со стерильным кишечником? Возможно. Мыши, лишенные микрофлоры, едят больше, но весят меньше, чем мыши с микрофлорой. Но так как люди не могут постоянно жить в стерильном пузыре (как живут мыши без микрофлоры), попытка избавиться от микрофлоры потребует постоянного приема огромных доз антибиотиков. И этого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы освободить наш кишечник от микробов. Бактерии легко приспосабливаются к новым условиям, поэтому наш кишечник быстро заселят бактерии, устойчивые к антибиотикам.
КЖК действительно источник некоторого количества лишних калорий, но очевидно также, что они играют намного более важную роль в организме. Согласно новой точке зрения, нам, наоборот, стоит увеличить производство КЖК, поглощая больше ДМУ. КЖК выступают важными медиаторами различных функций организма. Некоторые данные доказывают, что КЖК не приводят к набору веса.
НЕ ПРОСТО ПУСТЫЕ КАЛОРИИ
КЖК — источник калорий, однако люди на диете, обогащенной пищевыми волокнами, производящими КЖК, теряют вес. Этот парадокс подтверждается известным примером: во Франции рацион людей относительно богат жирами, но в целом французы скорее стройная нация. В их рационе достаточно пищевых волокон. Возможно, благодаря КЖК дольше сохраняется чувство сытости, соответственно, сокращается число приемов пищи. Может быть, производство КЖК в результате ферментации шпината, который мы только что съели, добавляет несколько лишних калорий, но в то же время мы чувствуем себя достаточно сытыми, чтобы устоять перед печеньем или другим десертом.
КЖК — это всего лишь один из нескольких видов веществ, потенциально полезных для здоровья и производимых микрофлорой. Метаболические сценарии микрофлоры разнообразны и позволяют синтезировать ряд химических молекул внутри кишечника. Ученые обнаружили множество таких молекул, но большинство из них пока не идентифицированы, и неизвестно, каким образом они влияют на организм.
Согласно одной из наиболее распространенных теорий в области исследования микрофлоры, недостаток пищевых волокон стал причиной многих заболеваний жителей промышленно развитых стран. Употребляемый ими растительный материал зачастую содержит мало пищевых волокон и богат простым крахмалом, который перерабатывается в тонком кишечнике. Употребление большего количества клетчатки для ферментации микрофлорой, скорее всего, приведет к потере веса, уменьшению воспалений и снижению риска развития «болезней цивилизации», не говоря уже о более стабильной и разнообразной микрофлоре. Многие традиционные общества едят значительно больше растительной пищи, чем современные горожане. В частности, у представителей сообществ с высоким уровнем употребления пищевых волокон в микрофлоре наблюдается больше видов бактерий (некоторые из них никогда не встречались у европейцев и североамериканцев) и более низкий уровень воспалительных заболеваний. Но действительно ли так нова концепция оздоровления благодаря повышенному употреблению клетчатки?
ДАВНО ЗАБЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Почти сто лет назад Journal of Medical Research опубликовал исследование под названием «Регуляция кишечной флоры у собак при помощи диеты»[62]. Уже тогда было известно, что химические характеристики собачьей еды (например, виды углеводов) влияют на формирование состава микрофлоры. Возможно, столь давнее пристальное внимание к диете собак объясняется тем, что обычно именно люди ответственны за уборку экскрементов Шарика. Почему мы так долго шли к пониманию, что типы углеводов влияют на нашу микрофлору так же, как на собачью?
Доктор Томас Клив начал продвигать употребление пищевых волокон в 1950-х. В книге «Сладкая болезнь» (1974) он утверждает, что многие современные недуги — результат чрезмерного потребления рафинированных углеводов и снижения числа пищевых волокон[63]. Клив был британским морским врачом, который лечил моряков во время Второй мировой войны. Из-за недостатка фруктов и овощей на военных кораблях экипажам часто приходилось бороться с запорами, которые Клив лечил, прописывая отруби. Их быстрый положительный эффект придал смелости Кливу, он стал советовать употребление отрубей при самых разных проблемах со здоровьем — от дивертикулита и геморроя до кариеса и головных болей. Он даже получил прозвище «Человек-отруби», а также репутацию чрезмерно ретивого поборника клетчатки. Многие нашли смешным объяснение современных болезней употреблением большого количества сахара и малого количества пищевых волокон. Эту идею Клива скорее ругали, чем принимали в медицинском сообществе.
Хирург Денис Беркитт провел много времени в африканских больницах за изучением и лечением особого вида рака, который стал известен как лимфома Беркитта[64]. Он читал некоторые работы Клива и заметил, что диета африканцев, богатая пищевыми волокнами, казалось, защищала их от диабета, сердечных заболеваний, колоректального рака, а также от геморроя и запора. Как и Клив, Беркитт заинтересовался ролью пищевых волокон в здоровье человека. В результате исследования, проведенного Беркиттом и другими учеными (среди которых Алек Уокер и Хью Трауэлл), обнаружилось, что стул африканцев был в три — пять раз массивнее, чем у англичан, а кишечный транзит проходил вдвое быстрее. В целом африканцы ели в три — семь раз больше пищевых волокон (от 60 до 140 граммов против «английских» 20 граммов). Беркитт провел оставшуюся часть своей академической карьеры, изучая и прославляя важность употребления пищевых волокон для здоровья. В частности, он заявлял, что, если у жителей страны маленький стул, им нужны большие больницы.
Работа, проделанная Кливом, Беркиттом, Уокером, Трауэллом и многими другими, побудила FDA в 1977 году рекомендовать американцам увеличить употребление пищевых волокон. Производители продуктов питания отреагировали и стали на видном месте упаковки указывать содержание пищевых волокон. В 1997 году FDA позволила на продуктах, содержащих некоторые виды клетчатки, писать: «Могут снизить риск развития сердечных заболеваний». В городах, где Беркитт проводил публичные лекции о связи между пищевыми волокнами и здоровьем, очень быстро распродавались отруби, а «грубая пища» была одной из главных тем разговоров.
Так почему мы сейчас не едим огромное количество пищевых волокон? К сожалению, в то время, когда прославлялись их преимущества, всеобщее внимание переключилось на жир. Его признали врагом не только талии, но и сердца. Везде появились продукты с низким содержанием жира, и, вместо того чтобы обращать внимание на граммы пищевых волокон, думающие о здоровье покупатели сосредоточились на количестве жира. В целом это логично. Если вы хотите избавиться от жира, вы едите его меньше. Все просто. Аргумент за употребление большего количества пищевых волокон был расплывчатым: высокое содержание пищевых волокон снижает риск развития болезней, распространенных в промышленно развитых странах, но мы не очень понимаем почему.
В предисловии к книге Клива «Сладкая болезнь» Беркитт признает, что связь между ограниченным потреблением пищевых волокон и многих болезней очевидна, но ее механизмы неясны. Теперь мы наконец начинаем понимать суть этих оздоравливающих процессов. Нашей микрофлоре необходимы пищевые волокна.
ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ УГЛЕВОДОВ
Каждый из нас, наверное, знает человека, который сидел на низкоуглеводной диете. Диета Аткинса, диета Южного пляжа, зональная диета, палеодиета и другие быстро набрали популярность. Некоторые производители кондитерских изделий даже обвинили эти диеты в потере прибыли. Но прежде чем демонизировать углеводы, важно понять, что это такое. Углеводы — это группа органических соединений, содержащих углерод, водород и кислород, которые служат главным источником энергии для животных. Набор веществ, относящихся к углеводам, очень разнообразен. Условно можно разделить углеводы на три широкие категории: 1) усваиваются человеком; 2) усваиваются микрофлорой; 3) остаются неусвоенными.
Для начала рассмотрим углеводы, которые перевариваются и усваиваются в тонком кишечнике без помощи микробов. Моносахариды — это простейшие углеводы, состоящие из одной молекулы сахара (например, глюкозы или фруктозы). Моносахариды могут усваиваться напрямую из пищеварительного тракта в кровеносную систему. Два моносахарида, соединенных вместе, называются дисахаридами. Примеры дисахаридов — лактоза и сахароза (столовый сахар). Моносахариды и дисахариды в продуктах питания обозначаются на этикетках как «сахар». Полисахариды — это множество моносахаридов, связанных вместе, и они относятся к сложным углеводам. Крахмал — один из видов полисахаридов. Однако, как и простые моно- и дисахариды, многие виды крахмала перевариваются и усваиваются до попадания в толстую кишку. Крахмал составляет основу значительной части современных продуктов питания: паста, белый хлеб, картофель, белый рис — в них во всех огромное количество крахмала. Значительная часть крахмала перерабатывается в простую сахарную глюкозу, усваивается системой кровообращения, не достигнув микрофлоры, и метаболически соответствует такому же количеству сахара. При этом количество крахмала в продуктах не указывается на этикетке.
Углеводы второй категории — ДМУ — питают микрофлору. В овощах и фруктах содержатся тысячи разных видов доступных микрофлоре углеводов[65]. Олигосахариды состоят из трех — девяти моносахаридов и встречаются в фасоли, цельных зернах и многих овощах и фруктах. Большинство олигосахаридов не перевариваются в тонкой кишке и отправляются в толстую, где их тут же ферментируют бактерии. Подобным образом некрахмальные полисахариды (такие как пектин, встречающийся во фруктах, и инулин, встречающийся в луке) состоят из 10–100 моносахаридов, соединенных вместе, и предназначены для переработки микрофлорой в короткоцепочечные жирные кислоты.
Последняя категория — углеводы, которые выходят из пищеварительного тракта неизменными. Большинство из них — полисахариды, обладающие химическими или физическими характеристиками, обеспечивающими устойчивость к расщеплению человеком или бактериями. Целлюлоза, то есть деревянные волокна, встречающиеся в стенках растительных клеток, — один из примеров такого неуступчивого полисахарида. Кишечные микробы, обитающие в коровьем рубце или кишечнике термитов, успешно перерабатывают целлюлозу. Однако эта задача требует намного больше времени, чем доступно при кишечном транзите человека.
Именно простой сахар, используемый в качестве подсластителя, и легко усвояемый крахмал виновны в плохой репутации углеводов. Сразу после употребления этих «плохих» углеводов уровень сахара в крови повышается. Организм реагирует выработкой инсулина, что позволяет клеткам печени, мышц и жира усвоить циркулирующий сахар. Инсулин также предотвращает использование организмом жира в качестве источника энергии, пока весь сахар не будет исчерпан или сохранен в виде гликогена.
Если уровень сахара в крови постоянно завышен, например из-за диеты с высоким содержанием простых углеводов, инсулинозависимые клетки перестают реагировать на инсулин. У них снижается чувствительность — это один из этапов развития диабета второго типа. Результатом такой потери чувствительности становится опасно высокий уровень глюкозы в крови, который может привести к сердечным заболеваниям, инсульту и отказу почек.
Скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови, измеряется гликемическим индексом. Гликемический индекс моносахаридной глюкозы, которая усваивается быстрее всего, равен 100. Гликемический индекс может быть высоким (выше 70), средним (от 56 до 69) и низким (ниже 55). Чем больше в пище легкоусвояемых углеводов (таких как моно- и дисахариды), тем выше будет ее гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис и картофель — примеры продуктов с высоким гликемическим индексом. Среди продуктов со средним гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, коричневый рис и неочищенный картофель. У фасоли, семян и целых неочищенных зерен наиболее низкий гликемический индекс благодаря совсем небольшому содержанию моносахаридов, дисахаридов и крахмала, а также обилию некрахмальных сложных углеводов[66].
Гликемическая нагрузка еще важнее гликемического индекса. Гликемический индекс отражает скорость, с которой углеводы в продукте поднимут уровень сахара в крови. Гликемическая нагрузка учитывает количество углеводов в определенном объеме данного продукта (например, в одной порции), которое повысит уровень сахара в крови. Гликемическая нагрузка может сказать о продукте больше, чем гликемический индекс. Прекрасный пример — тыква. Из-за определенных видов углеводов у тыквы высокий гликемический индекс. Но воздействие одной порции тыквы на уровень сахара в крови невелико — то есть у нее низкая гликемическая нагрузка. У большинства овощей низкая гликемическая нагрузка и высокое содержание ДМУ. Наши любимые закуски — свежие фрукты и орехи с йогуртом, цельнозерновой хлеб с хумусом. Нам нравятся паровые, вареные (при необходимости даже приготовленные в микроволновой печи) стручковые бобовые.
Сегодня многие онлайн-ресурсы позволяют как следует разобраться в вопросах гликемической нагрузки разных продуктов, прежде чем отправляться в супермаркет.
ЧТЕНИЕ ЭТИКЕТКИ РАДИ КИШЕЧНЫХ МИКРОБОВ
Изучение питательной ценности продукта в магазине — непростая задача. Прочитав весь текст на упаковке (утверждения о пользе для здоровья, список ингредиентов, пищевую и энергетическую ценность), мы надеемся, что хоть что-то подскажет нам, стоит ли покупать этот товар. Бывает сложно определить, правдивы ли утверждения о пользе для здоровья или это всего лишь маркетинговый трюк. (При том что из написанного легче всего понять именно эту информацию.) Даже нам, биохимикам, список ингредиентов многих продуктов непонятен. (Обычно это знак, что лучше положить такой товар обратно на полку.) Обязательная этикетка с указанием пищевой ценности должна предоставлять простую и унифицированную информацию о продукте. На этикетке указывается количество калорий, жиров, холестерина, натрия, белков и общее содержание углеводов. Многие фокусируют внимание на количестве калорий, жира и сахара и игнорируют все остальное. Две характеристики углеводов в продукте питания кажутся нам наиболее важными, но, к сожалению, не указываются на этикетках: гликемическая нагрузка и количество углеводов, питающих микрофлору. Чтобы вычислить, сколько приблизительно еды для микрофлоры содержится в данной упаковке, нужно понимать, как вообще интерпретируется количество углеводов.
Общее количество углеводов определяется взвешиванием образца продукта и вычитанием веса белков, жиров, влаги и золы (неорганических молекул, таких как железо и бикарбонат). Другими словами, углеводы измеряются не напрямую, а исходя из того, что останется после измерения остальных элементов. В категории общего количества углеводов обычно на этикетке также указываются подкатегории сахара и пищевых волокон (клетчатки). Вы, возможно, замечали, что сумма сахара и пищевых волокон необязательно равна общему количеству углеводов, так как в эти подкатегории не входят некоторые другие виды углеводов. Содержание сахара — это вес всех моно- и дисахаридов, углеводов, которые с легкостью усваиваются системой кровообращения. Пищевые волокна — это смесь полисахаридов, и эта подкатегория служит показателем, накормит ли этот продукт вашу микрофлору, но в этом отношении потребителям нужно понимать некоторые важные ограничения.
У термина «пищевые волокна» есть различные определения, данные разными официальными группами. В одних формулировках учитывается ферментация микрофлорой (так мы определяем ДМУ), в других не учитывается. Потенциальная путаница относительно термина «пищевые волокна» дополняется отсутствием стандартных методов, используемых для измерения количества пищевых волокон в продуктах питания.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, для измерения количества пищевых волокон в продуктах используются по крайней мере 15 методов[67]. Различные лабораторные исследования могут выдать немного отличающиеся объемы пищевых волокон. Впоследствии более совершенные методы будут определять, какие углеводы, скорее всего, подвергнутся ферментации микробами в толстой кишке, то есть какие углеводы можно отнести к ДМУ. Но помните, что из-за разницы между микрофлорой разных людей и из-за изменений микрофлоры, которые происходят со временем, подобный тест все равно выдаст только предварительную оценку. Пока нет теста, считающего содержание ДМУ в продуктах питания, наилучшим доступным приближением служит содержание пищевых волокон.
В большинстве привычных фасованных продуктов пищевые волокна отсутствуют. Продукты, приготовленные из белой муки и большого количества сахара, не питают микрофлору. У любителей такой еды кишечники, скорее всего, населены голодающими микробами. Мужчинам рекомендуется употреблять 38 граммов пищевых волокон в день, женщинам — 29 граммов. При этом среднестатистический житель крупного современного города употребляет жалкие 15 граммов пищевых волокон в день. Этот дефицит, без сомнения, нарушает баланс микрофлоры.
Вы сейчас, наверное, представили себе толпу истощенных микробов, но все обстоит не совсем так: бактерии могут быть очень изобретательными в отсутствие пищевых волокон. У них есть другой источник углеводов — кишечная слизь. При недостатке клетчатки кишечные бактерии могут поддерживать свое существование за счет углеводов, которые постоянно выделяют клетки кишечника и которые служат заграждением, защищающим наши клетки от прямого контакта с микрофлорой[68]. Питаясь углеводами слизи, наши микробы уничтожают защитный слой кишечника, ослабляя его функцию заграждения и увеличивая воспаление. Пока точно неизвестно, как потеря кишечной слизи сказывается на здоровье человека. Предварительные исследования дают основание предположить, что это может привести к развитию колита[69]. Однако микрофлора умеет очень быстро приспосабливаться: предоставьте микробам питание в виде пищевых волокон, и они перестанут поедать слизь.
Доступные микрофлоре углеводы
Термин «пищевые волокна» несет в себе некую неопределенность, поэтому мы предпочитаем «доступные микрофлоре углеводы» (ДМУ). Таким образом мы подчеркиваем, что определенные элементы нашей еды питают микрофлору. Как было сказано ранее, ДМУ — это углеводы, которые ферментируются микрофлорой. Они есть в овощах, фруктах, бобовых и зерновых. Пищевые волокна в продуктах питания и в пищевых добавках могут содержать углеводы, недоступные микрофлоре и, значит, неферментируемые. Неферментируемые волокна могут быть очень эффективны при избавлении от запора. Они служат наполнителем, который позволяет стулу впитывать больше воды и приводит к более легкому испражнению. Но чтобы кормить микрофлору и вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, нужно употреблять ДМУ. Чем больше ДМУ попадет в кишечник, тем активнее будет ферментация, а значит, будет произведено больше КЖК. От видов ДМУ, которые вы скармливаете микрофлоре, зависит преобладание тех или иных микробов, разнообразие микрофлоры и ее работа. Если вы едите большое количество лука с высоким содержанием инулина, в вашей микрофлоре преобладают микробы, которые умеют ферментировать инулин. Яблоки поддержат распространение бактерий, разлагающих пектин. Пшеничные отруби накормят микробов, питающихся арабиноксиланами, а грибы помогут размножиться микробам, ферментирующим маннан. Мы назвали наиболее распространенные ДМУ, но каждое растение содержит разнообразный набор углеводов, питающих микрофлору, а также множество углеводов, которые совсем не подвержены микробному расщеплению.
Невозможно измерить количество ДМУ в образце продукта, как измеряется, например, содержание белков. Из-за индивидуальности микрофлоры каждого человека ДМУ, подходящие одному, могут не подойти другому. В 2010 году группа ученых исследовала фермент порфираназу[70]. Она расщепляет полисахариды, встречающиеся в морских водорослях, известных в кулинарии как нори (традиционная «обертка» суши и добавка ко многим японским блюдам). Как и следовало ожидать, некоторые морские бактерии несут в себе ген фермента, расщепляющего водоросли нори, чтобы питаться ими. Однако, что удивительно, эти гены есть и у кишечных микробов. Зачем кишечному микробу ферменты, которые расщепляют водоросли? Ответ стал очевиден, когда ученые, обнаружив эти гены в коллективном геноме микрофлоры (или микробиоме) японцев, не нашли подобного в североамериканских микробиомах. В определенный момент истории микрофлора японцев, питавшихся водорослями, приспособилась использовать этот новый источник. Как это произошло? Наиболее вероятно, что вместе с водорослями люди получали и морские бактерии, которые на них жили, — еще один пример того, как нестерильность позволяет контактировать с полезными микробами из окружающей среды. Проходя через толстый кишечник, морские бактерии передали генетический материал микрофлоре — и ее функциональные возможности расширились.
Этот пример поглощения водорослей микрофлорой иллюстрирует два важных момента. Во-первых, микробиом способен быстро адаптироваться к окружающей среде в относительно короткий срок. Выбор растений для рациона — один из главных способов поменять или поддержать состав микрофлоры. Если японцы полностью прекратили бы употреблять нори, в конце концов их микрофлора утратила бы способность перерабатывать эти водоросли. Во-вторых, несмотря на ошеломляющее количество генов в микробиоме, поддерживаются только те, которые используются относительно часто и имеют для микробов практическую ценность. Микробы «платят» высокую энергетическую цену за гены микрофлоры, каждый раз копируя их во время деления. Чтобы свести усилия к минимуму, микробы поддерживают свои геномы в относительной чистоте, оставляя только полезные гены.
БОГАТАЯ МИКРОФЛОРА ПРОТИВ БЕДНОЙ МИКРОФЛОРЫ
В работе, опубликованной в 2013 году, многонациональная группа ученых исследовала количество генов в микробиомах 292 датчан[71]. Они выяснили, что всех участников можно было разделить на две группы: с богатым микробиомом (много генов) и бедным (мало генов). Носители богатого микробиома были стройнее, и в их кишечнике много видов противовоспалительных бактерий. Носители бедного микробиома более склонны к ожирению. У них также много видов бактерий, ассоциируемых с воспалением, например таких, которые встречаются у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника. Кроме того, бедные микробиомы обнаруживали более высокую устойчивость к инсулину и обладали метаболическим потенциалом производства прокарциногенов. Другими словами, люди с бедным микробиомом демонстрировали профиль, связанный с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями печени и онкологией. У людей с богатым микробиомом было больше генов, связанных с производством полезных для здоровья КЖК.
Очевидно, что лучше иметь богатый микробиом, но как этого добиться?
Похожее исследование богатых и бедных микробиомов проводилось во Франции[72]. Ученые расспросили участников об их диете и выяснили, что люди с бедным микробиомом употребляли меньше фруктов и овощей (меньше ДМУ), чем группа с богатым микробиомом. Но для участников бедной группы не все было потеряно. Им предложили диету с низким содержанием жиров и калорий и высоким содержанием белков и пищевых волокон. Те, кто придерживался такого рациона, за шесть недель не только стали стройнее, но и повысили генное богатство своего микробиома. По мере увеличения разнообразия у них также улучшились другие показатели здоровья. В числе прочего угасли воспалительные процессы и снизился уровень холестерина в крови.
Эти два исследования приближают к пониманию того, почему не все люди с избыточной массой тела страдают диабетом, сердечными и другими заболеваниями. С другой стороны, все эти недуги могут поражать людей без лишней массы тела. Результаты исследований показывают, что богатство (или бедность) микробиома определяет риск развития таких болезней не меньше, чем вес. В будущем врач, вместо того чтобы измерять индекс массы тела пациента, возможно, будет оценивать состояние его микробиома и, если оно окажется неудовлетворительным, пропишет диету, богатую ДМУ.
Другой возможный способ восстановить бедный микробиом — добавить больше видов (и сопровождающие их гены) в микрофлору. В 2013 году доктор Джеффри Гордон из Вашингтонского университета возглавил исследование по изучению микрофлоры близнецов с несоответствием веса (один из них был стройным, а другой страдал от избыточной массы тела)[73]. Когда исследователи пересадили бедную микрофлору полного близнеца мышам, те набрали вес. Пересадка богатой микрофлоры от стройного близнеца оставила мышей стройными. Затем обе группы мышей поместили в одну клетку. Мыши едят фекалии, поэтому, находясь в одной клетке, полные мыши ели фекалии (а вместе с ними и соответствующие бактерии) стройных мышей, и наоборот. В результате «стройные» микробы поселились в микрофлоре полных мышей, повысив ее богатство и послужив фактором против ожирения.
Прежде чем вы броситесь просить ваших стройных друзей поделиться микрофлорой, учтите: чтобы защита от ожирения работала, диета полных мышей должна была содержать большое количество фруктов и овощей и минимальное количество жира. Когда исследователи обеспечили совместное проживание стройных и полных мышей, но повысили объем жиров в рационе и понизили количество фруктов и овощей, полные мыши набирали вес, а бактерии «стройной» микрофлоры не приживались. Для повышения разнообразия бактерий в микрофлоре недостаточно просто принимать больше микробов. Полезные для здоровья микробы задержатся в кишечнике, только если мы будем поддерживать особую диету.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ДМУ ИЗ РАЦИОНА
Куда подевались все ДМУ из нашего рациона? Прекрасной иллюстрацией может служить история употребления пшеницы. Сегодня у нее «проблемы с имиджем», но так было не всегда. Люди ели пшеницу на протяжении более десяти тысяч лет, и иногда в очень больших количествах. Почему же древний продукт получил в последнее время такую плохую репутацию?
Зерно пшеницы, а точнее, его ядро состоит из эндосперма, отрубей и зародыша. В эндосперме в виде простого крахмала содержится все для питания растущей пшеницы. Отруби покрывают ядро снаружи твердой оболочкой волокна. Зародыш, наполненный жиром орган размножения, также содержит волокна и дает побеги для нового растения.
Тысячи лет назад люди перемалывали ядра пшеницы каменными жерновами. Злаки, переработанные таким способом, не имеют ничего общего с мукой, получаемой на современных фабриках. Во время промышленной революции использование паровых мельниц позволило значительно увеличить выпуск муки. Однако производителям было трудно поддерживать ее свежесть в течение нескольких месяцев, которые уходили на доставку потребителю. Поставщики узнали, что, убрав из пшеницы маслянистый зародыш (ту часть, которая портится) до помола, они могут сделать срок годности практически неограниченным. Однако таким образом терялось большое количество пищевых волокон, не говоря уже об остальных полезных микронутриентах, содержащихся в пшеничном зародыше. Также мельники заметили, что, убрав еще и отруби, они смогут предложить потребителям белую, легкую, «пушистую» муку, состоящую исключительно из эндосперма, которую многие находили привлекательной, вкусной и более простой в использовании. Технология подарила нам «муку богачей», но рацион нашей микрофлоры стал беднее. Технологии помола совершенствовались, пшеницу стали перемалывать все мельче — и на полках в современных магазинах мы видим нечто, скорее напоминающее тальк.
Понятно, почему удаление отрубей и зародыша из пшеницы привело к уменьшению количества ДМУ. Но каким образом качество помола муки влияет на доступность ДМУ? Разве в упаковке цельнозерновой пшеничной муки не столько же ДМУ, сколько в нетронутых ядрах? Не совсем. Некоторые ДМУ попадают к микрофлоре, потому что в геноме человека не закодирована способность их расщеплять. Это как замок для тех, у кого нет ключа. Другие ДМУ попадают к микрофлоре, так как частицы еды, в структуру которых они включены, слишком большие и организм может их усвоить только в толстой кишке. В этом случае у нас есть ключ к замку, но замок спрятан. Эти «спрятанные» углеводы содержат соединения, которые мы можем расщеплять, но сначала нужно переварить их защитную оболочку. Вот почему они проходят по кишечнику относительно нетронутыми, сохраняя ДМУ для ферментации.
Если мука помолота в очень мелкий порошок, у наших пищеварительных ферментов есть время, чтобы разорвать гораздо больше связей в углеводах и усвоить получившиеся моно- и дисахариды напрямую в кровеносную систему. С мукой более грубого помола у ферментов не хватает времени на все соединения углеводов, и они оставляют часть нетронутыми для микрофлоры.
Вы можете съедать такое же количество хлеба, что и ваша прабабушка. Однако ее хлеб был сделан из муки более грубого помола, которая содержала также отруби и зародыши, в ней было больше ДМУ. Современный батон хлеба из мелкой белой муки, который во многих отношениях больше походит на торт вашей прабабушки, практически вообще не содержит ДМУ. Ломоть хлеба из цельнозерновой пшеничной муки обеспечит вас двумя граммами пищевых волокон. Если же вы съедите чашку сваренных немолотых пшеничных ядер, вы получите около девяти граммов пищевых волокон, что составляет от четверти до трети ежедневного необходимого количества.
Мы часто печем собственный хлеб. Чтобы сохранить как можно больше ДМУ, мы мелем муку из ядер пшеницы, используя небольшую ручную мельницу. В этом грубоватом продукте сохраняются отруби и зародыши. Наш хлеб, безусловно, душевнее, чем губчатый белоснежный из магазина, а отруби и зародыши придают ему несравненный вкус. В нашей семье предпочитают хлеб с собственной закваской, а не с магазинными дрожжами. Это прекрасный способ снизить гликемическую нагрузку, потому что микробы в закваске поглощают значительную часть простых углеводов в муке. Кстати, хлеб из теста на закваске уже можно купить в некоторых магазинах. Ищите батоны, сделанные из цельнозерновой муки, чтобы гарантировать высокое содержание ДМУ.
А КАК НАСЧЕТ ЭСКИМОСОВ?
Несмотря на данные, демонстрирующие преимущества диеты, богатой пищевыми волокнами, есть скептики, считающие, что рацион, богатый белками, лучше. А как насчет эскимосов? Они практически не едят пищевых волокон и могут похвастаться прекрасным здоровьем. Действительно, люди, живущие в полярных регионах, традиционно ели очень мало растений. Клетчатка была доступна только летом, когда можно было собирать ягоды, клубни и водоросли. Есть свидетельства, что употребление волокон в это время года сопровождалось дискомфортом. «Эскимосы Ангмагссалика страдают от болей в желудке, съев большое количество водорослей после длительного периода воздержания. Но после нескольких дней “тренировок” они снова способны есть их без боли», — отмечал Керстин Эйдлиц в книге «Еда и питание в чрезвычайных обстоятельствах в околополярной области» (1969)[74]. Возможно, эта боль была результатом внезапного роста ферментации, вызванной пищевыми волокнами, при которой производятся не только КЖК, но и газы.
Здесь стоит разобраться с вопросом, которым, возможно, многие из вас задаются. Не будет ли диета, богатая клетчаткой, сопровождаться активным газообразованием? Зачем поддерживать рацион, который сделает нас социальными изгоями?! Действительно, один из побочных продуктов ферментации — производство бактериями водорода и углекислого газа. Они лишены запаха, но, выходя из организма, уносят с собой различные дурно пахнущие летучие молекулы, производимые определенными представителями микрофлоры, в том числе содержащие серу (как в запахе тухлых яиц). Однако в сложной экосистеме кишечника отходы одного микроба — пища другого, и продукты газовой ферментации одних видов микробов могут поглощаться другими. Пример — Methanobrevibacter smithii. Этот микроб — не бактерия, а представитель одноклеточных организмов под названием археи. M. smithii использует водород и углекислый газ для производства метана (это тоже газ без запаха). Из-за особенностей производства метана M. smithii заглатывает больше молекул газа, чем впоследствии производит. Таким образом, M. smithii в кишечнике может сократить общее количество выделяемого газа. При наличии разнообразного набора микробов, живущих в кишечнике, более высока вероятность, что газы, производимые в результате ферментации, станут частью комплексной пищевой сети и их поглотят другие микроорганизмы. Чем больше газа поглотят микробы, тем меньше вы его выделите.
Сезонное употребление пищевых волокон эскимосами могло быть достаточным для поддержания богатства микрофлоры. Кроме того, эскимосы ели довольно много ферментированного мяса, которое пополняет микрофлору различными видами микробов. Строго говоря, исследования микрофлоры эскимосов на традиционной диете не проводились, и получить необходимые данные сегодня уже сложно, так как в результате аккультурации эскимосы во многом освоили западный рацион. И вот еще что важно. Географическая изоляция могла сохранить особенности генома и микробиома эскимосов, что позволило им оставаться здоровыми на диете, богатой жирами и мясом, но бедной пищевыми волокнами. Возможно, как и в случае с нори в Японии, микробиом эскимосов собрал гены, позволяющие ему развиваться даже при таком питании. Пока точной информации на этот счет нет, здоровье эскимосов не может служить веским аргументом против активного употребления ДМУ.
По данным многочисленных исследований, диета, основанная на мясе, плохо сказывается на здоровье. Так, участники одного эксперимента в течение четырех недель употребляли пищу, богатую белками и бедную углеводами[75]. Анализы показали кардинальный спад в производстве КЖК и антиоксидантов, извлекаемых из пищевых волокон, а также накопление опасных метаболитов в толстой кишке. Такая среда отрицательно сказывается на долгосрочном здоровье, увеличивая риск развития воспалительных заболеваний и рака толстой кишки. Микрофлора всеядных людей по сравнению с микрофлорой вегетарианцев и веганов производит больше триметиламиноксида[76]. Это соединение (продукт переработки бактериями химического вещества, в изобилии встречающегося в красном мясе) связано с развитием сердечных заболеваний.
ДИЕТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДМУ РАДИ БОГАТОЙ МИКРОФЛОРЫ
Наша семья ест рыбу, молочные продукты и немного мяса животных, выросших на подножном корму. Но в основном наши тарелки наполнены ДМУ. Мы едим много коричневого риса и вареного цельнозернового ячменя, фасоли, жареных овощей. Наш обычный десерт — фрукты или темный шоколад. Мы ограничиваем употребление простых углеводов, не покупаем полуфабрикаты, почти не используем в выпечке белую муку высшего сорта. Бывает непросто получить достаточное количество пищевых волокон. Мы увеличиваем их потребление, хотя бы пару раз в неделю готовя блюда с чечевицей или фасолью (это лучше, чем покупать уже готовые бобы в консервных банках). В выходные мы варим большую кастрюлю нута, черной, обычной или любой другой фасоли. Во время медленного кипячения в течение нескольких часов нам нужно только следить, чтобы вода не переливалась через край и полностью не испарилась. Мы храним вареную фасоль в стеклянных банках в холодильнике в течение недели или в морозилке более длительное время. Кроме того, мы постоянно добавляем орехи и семена во все, что едим, в том числе в салаты и главные блюда.
Если вам кажется, что вы не сможете справиться с подобной диетой, начните с малого. Например, возьмите за правило оценивать содержание клетчатки в продуктах, прежде чем есть. Если вы не видите ничего, что могло бы накормить вашу микрофлору, подумайте, что можно изменить, чтобы повысить содержание ДМУ, — и внесите коррективы в приготовление или заказ блюда. Если с увеличением ДМУ в рационе вас беспокоит вздутие живота или другой дискомфорт, помните, что медленное (на протяжении нескольких недель или месяцев) обогащение диеты волокнами снизит остроту этих реакций. Вы можете постепенно заменять привычные продукты, чтобы улучшить питание кишечных микробов и принести пользу здоровью. В конце книги мы приводим рецепты блюд, богатых ДМУ.
Глава 6
Нутром чую
ОСЬ «КИШЕЧНИК — МОЗГ»
Мозг и кишечник связаны изначально. Иногда, оценивая что-то в отсутствие объективных данных, мы подтверждаем свое суждение так: «Нутром чую». Связь мозга и кишечника не только метафорическая. Они соединены разветвленной сетью нейронов и «трассой» химических веществ и гормонов, которые постоянно предоставляют информацию о том, насколько мы голодны, испытываем ли стресс, присутствуют ли в кишечнике болезнетворные микробы и пр. Эта информационная магистраль называется осью «кишечник — мозг», и ее задача — обмен данными между конечными пунктами оси. Тревожное чувство внизу живота, когда вы видите счет за проживание в отеле, — яркий пример контакта мозга с кишечником. Вы испытываете стресс, и кишечник об этом сразу же узнает.
Энтеральную нервную систему иногда называют вторым мозгом организма. Эта часть нервной системы соединяется с мозгом при помощи сотен миллионов нейронов. Ее задача — контролировать желудочно-кишечный тракт. Разветвленная сеть соединений «мониторит» все органы пищеварения от пищевода до ануса. Энтеральная нервная система может функционировать и без помощи центральной нервной системы, но они поддерживают регулярную связь. Наш «второй мозг» нельзя использовать, чтобы сочинить симфонию или нарисовать шедевр, но он играет очень важную роль в управлении механизмами внутренней «трубки». Сеть нейронов в кишечнике так же развита и сложна, как сеть нейронов в спинном мозге, что может показаться избыточным для контроля пищеварения. Зачем кишечнику свой собственный «мозг»? Только ли для управления процессом пищеварения? Или, может быть, одна из задач нашего второго мозга — следить за триллионами микробов, обитающих в кишечнике?
Работа энтеральной нервной системы контролируется мозгом и центральной нервной системой. Центральная нервная система общается с кишечником при помощи симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Это ответвление нервной системы контролирует «непроизвольную» деятельность: сердцебиение, дыхание и пищеварение. Задача вегетативной нервной системы — регулировать скорость, с которой пища проходит по кишечнику, выработку кислоты в желудке и производство слизи на стенках кишечника. Еще один механизм, позволяющий мозгу взаимодействовать с кишечником, чтобы помогать контролировать пищеварение при помощи гормонов, — это гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось.
Система нейронов, гормонов и химических нейромедиаторов позволяет мозгу напрямую воздействовать на среду кишечника. Скорость продвижения еды и количество слизи на стенках (характеристики, которые может контролировать центральная нервная система) непосредственно влияют на условия, в которых существует микрофлора.
Как и в любой экосистеме, населенной конкурирующими видами, условия внутри кишечника определяют, какие обитатели будут процветать. Животные, приспособленные к влажности тропического леса, столкнутся с проблемами в пустыне. Точно так же микробы, выживающие за счет слизи, окажутся в трудном положении в кишечнике с тонким слоем защитного барьера. Добавьте слизи, и зависимые от нее микробы могут вернуться. Нервная система способна влиять на продолжительность кишечного транзита и выделение слизи, поэтому от нее зависит, какие микробы населят кишечник.
А что насчет другой стороны оси — микробов? Когда микрофлора приспосабливается к изменениям в рационе или к уменьшению продолжительности кишечного транзита, вызванного стрессом, узнает ли мозг о переменах? Исходит ли голос, требующий перекусить, от вашего разума или от ненасытной массы в кишечнике? Последние данные свидетельствуют о том, что влияние микрофлоры простирается далеко за пределы кишечника, затрагивая разум. Мало кто мог это предвидеть.
Например, кишечная микрофлора влияет на уровень в организме мощного нейромедиатора серотонина, который регулирует чувство счастья. Наиболее распространенные антидепрессанты эффективны именно благодаря тому, что повышают уровень серотонина. При этом серотонин, скорее всего, лишь один из большого числа биохимических посланников, управляющих нашим настроением и поведением и попадающих под воздействие микрофлоры.
МЫШИ БЕЗ МИКРОФЛОРЫ: ДЕРЗКИЕ И РАССЕЯННЫЕ
Идея о влиянии микробов на поведение не так уж нова. Многие патогены воздействуют на разум. Возбудитель сифилиса Treponema pallidum, очень подвижная бактерия в форме спирали, может проникать в спинной и головной мозг пораженного человека. Завладевая нервной системой, как зомби, Treponema pallidum способна вызвать у носителя депрессию, аффективные расстройства и даже психоз. Некоторые микробы воздействуют на мозг, чтобы как можно шире распространиться. Одноклеточные Toxoplasma gondii, инфицируя грызунов, проникают в их мозг и заставляют «забыть» естественную боязнь кошек. Ясно, что такие особи чаще становятся добычей. Съев зараженного грызуна, кошка помогает T. gondii завершить жизненный цикл, и одноклеточные распространяются через кошачьи фекалии. В данном случае «манипуляция сознанием» грызуна очень выгодна T. gondii. Известны многие примеры, когда «плохие» микробы манипулируют сознанием «жертвы» и получают преимущество. Гораздо меньше изучен вопрос, могут ли «хорошие» микробы проделывать подобные трюки.
Наблюдая за мышами без микрофлоры, живущими в стерильных пузырях, ученые выяснили, что кишечная микрофлора связана с работой мозга и поведением. Исследователи заметили, что стерильные мыши смелее и более склонны к исследованию пространства вокруг[77]. В мышином эквиваленте экстремальных видов спорта эти грызуны пробегали большие расстояния по открытому полю, из-за чего в условиях дикой природы их легче мог бы заметить голодный хищник. С эволюционной точки зрения склонность к риску — не самый лучший способ гарантировать выживание. Сторонясь открытого поля, мышь защищает себя и повышает шансы передать свои гены и микрофлору грядущим поколениям.
Ученые обнаружили, что дерзкие мыши без микрофлоры после пересадки микробов становились более осторожными — как нормальные грызуны[78]. Но микробы необходимо было пересадить прежде, чем особи достигали зрелости. Как только они взрослели, добавление микробов в кишечник уже не могло изменить излишнюю склонность к риску. Похоже, что роль кишечных микробов в настройке чувства самосохранения мышей ограничивается периодом детства. У человека детство — это время невероятно быстрого роста и развития мозга. Если микробы играют роль в развитии личности и поведения людей, логично, что сильнее всего их воздействие проявляется в детстве.
Кроме того, у мышей без микрофлоры обнаружились проблемы с памятью. Ученые устроили двум группам мышей (с микрофлорой и без нее) тест на запоминание[79]. Мышам дали пять минут на исследование двух новых предметов: небольшого гладкого кольца для салфетки и большого кольца в клеточку. Затем предметы убрали. Через 20 минут большое кольцо в клеточку вернули вместе с формочкой для печенья в виде звезды (ее мыши еще не видели). Если мышь запомнила кольцо, она уделяла ему меньше внимания и больше времени тратила на изучение незнакомой формочки для печенья. Особи с нормальной микрофлорой именно так и поступали. Грызуны без микрофлоры тратили на исследование «старого» кольца столько же времени, сколько и на «новую» формочку. Они забыли предмет, который видели 20 минут назад.
Важно помнить (и, может быть, микрофлора вам в этом поможет), что с людьми невозможно повторить главное условие этих экспериментов — отсутствие микрофлоры. Мы все «колонизированы». Однако использование крайностей (никаких микробов против множества микробов) в этих исследованиях убедительно демонстрирует, что микрофлора может ощутимо воздействовать на поведение и память.
Мы можем предположить, что микрофлора повышает шансы на выживание своего носителя, делая его более осторожным или улучшая его память. Возможно, современные люди — результат многих поколений микрофлоры, помогавших нашим предкам принимать решения, продлевающие жизнь. Роль, которую кишечные бактерии играют в становлении нашей личности и интеллекта, по-прежнему не очень ясна, но несомненно, что микрофлора не только переваривает еду. Вы не сможете свалить вину за забытую годовщину свадьбы на недавний курс антибиотиков, однако, внимательно прислушиваясь к своему нутру, возможно, различите биохимический шепот микробов. Микрофлора может быть заключена в стенках пищеварительного тракта, но очевидно, что ее влияние простирается за его пределы. Химические вещества, производимые бактериями, могут проникать в стенки кишечника, просачиваться в систему кровообращения и достигать мозга. Исследователи активно стараются определить состав этих химических веществ, чтобы понять, каким образом они могут влиять на наше психическое состояние.
ПЕРЕСАДКА ЛИЧНОСТИ
Пересадка микрофлоры может передать физиологические характеристики донора реципиенту. Стройная мышь наберет вес, если пересадить ей «тучную» микрофлору. Соответственно, пересадка «стройной» микрофлоры защищает особь от ожирения. Но если микрофлора влияет на работу мозга, изменят ли пересаженные микробы настроение или личность человека? Можно ли использовать «счастливую» микрофлору для борьбы с депрессией?
В 2011 году на эти вопросы попытались ответить исследователи в канадском университете Макмастера в Онтарио[80]. Ученые работали с двумя группами лабораторных мышей: беспокойных мышей (Balb/c) и общительных особей (NIH Swiss). Для оценки нервозности или общительности исследователи помещали мышей на приподнятую платформу и записывали, сколько времени у них уходило на спуск. Долгая задержка перед спуском с платформы указывала на то, что мышь нервничала по поводу своего опасного положения. Чем увереннее в себе была мышь, тем быстрее она спрыгивала вниз. Balb/c проводили на платформе в среднем по четыре с половиной минуты, осторожно пытаясь спуститься. NIH Swiss спрыгивали за считаные секунды.
Затем ученые поменяли микрофлору особей двух групп и повторили эксперимент с платформой. Когда микрофлора от Balb/c была пересажена в NIH Swiss, последним, ранее таким самонадеянным, потребовалось больше минуты, чтобы спуститься с платформы. Пересадка микрофлоры от уверенных в себе NIH Swiss в прежде беспокойных Balb/c сократила время их спуска более чем на минуту. Так, изменив микрофлору, исследователи значительно изменили уровень тревожности и связанное с ним поведение грызунов.
Ученые обнаружили, что пересадка микрофлоры воздействовала на уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) в гиппокампе. BDNF — это белок, нарушение функционирования которого связано с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство. Низкий уровень BDNF в гиппокампе ассоциируется с тревожным расстройством и депрессивным типом поведения. Получив микрофлору беспокойных грызунов, ранее общительные мыши стали более робкими. Кроме того, у них наблюдались значительные изменения биохимических процессов мозга.
С научной точки зрения механизм изменения поведения пока непонятен. Каким-то образом микрофлора влияет на уровни BDNF (и других химических передатчиков) в мозге. Химические изменения сопровождаются переменами в настроении и поведении организма-хозяина, в данном случае мыши. Каким образом бактерии в конце пищеварительного тракта могут поменять уровень белка в черепе наверху? Мы уже давно знаем, что мозг физически и химически привязан к кишечнику. Благодаря этой связи мозг получает информацию, когда мы начинаем испытывать голод. Учитывая, что питание жизненно важно для выживания, логично, что организм соединяет кишечник и мозг. Однако очевидно, что «Покорми меня!» — далеко не единственное сообщение от кишечника мозгу.
БЕЗНАДЗОРНАЯ ФАБРИКА ЛЕКАРСТВ
Поглощая ДМУ, бактерии микрофлоры производят не только КЖК, но и огромное множество разных молекул. Некоторые оказываются у нас в крови и разносятся по организму. Многие из них токсичны. Они очищаются почками и выделяются с мочой. (Пациенты с почечной недостаточностью вынуждены регулярно проходить процесс диализа, чтобы избавиться от химических веществ, производимых микрофлорой.) Некоторые химические продукты микрофлоры напоминают лекарства и копируют структуру химических передатчиков нашего организма. Многие эти молекулы усваиваются в кишечнике и взаимодействуют с кишечными нейронами и иммунными клетками кишечной ткани. В некоторых случаях они попадают в систему кровообращения и добираются до мозга. Эти биологически активные химические вещества, производимые кишечными бактериями, омывают наши собственные клетки, передают сигналы нейронам и потенциально воздействуют на разум. Наша микрофлора — это фабрика лекарств, выпускающая фармацевтические препараты из кишечника — с прямым доступом к мозгу.
Неизвестно, зачем микрофлора производит химические вещества, похожие на лекарства. Возможно, действие некоторых из них повышает наш аппетит — и кишечные бактерии получают больше пищи. Возможно, химические вещества поддерживают другие функции. Они пока не исследованы, но, безусловно, полезны для бактерий, которые производят эти вещества. Это может быть, например, изменение моторики кишечника или влияние на иммунитет. Необходимо больше исследований, чтобы узнать действие этих «лекарств» и лучше понять триллионы производящих их «фармацевтов».
Бактерии не обладают разумом и не разрабатывают молекулы специально, чтобы манипулировать нами. Но гипотетическая ситуация, приведенная ниже, иллюстрирует, как изменение нашего поведения, вызванное бактериями, может быть подкреплено и укорениться в нашей физиологии.
Представьте себе бактерии, которые специализируются на усвоении пектина — полисахарида, в изобилии встречающегося во многих видах фруктов, таких как цитрусовые. ДНК бактерии, поглотившей ДМУ из съеденного вами цитруса, может мутировать. Подобные биологические ошибки при копировании ДНК у бактерий происходят довольно часто и обычно приводят к смерти бактерии. В редких случаях, однако, результатом мутаций может стать производство новой интересной молекулы. Если одна из миллиардов бактерий, питающихся пектином, случайно производит новую молекулу, которая стимулирует ваше желание есть цитрусовые, значит, эта бактерия нашла способ изменить ваше поведение на более выгодное для нее и ее потомства.
Подобное стечение обстоятельств крайне маловероятно. Очень невелики шансы, что бактерия просто создаст вещество, которое повлияет на ваше желание есть цитрусы, и что она же «с удовольствием» употребит пектин — извлечет пользу, когда фрукт будет съеден. С другой стороны, мы эволюционировали вместе с микробами миллиарды лет. Внутри каждого из нас — триллионы микробных клеток, которые копируют свою ДНК каждые 30–40 минут. Землю населяют миллиарды людей. Учитывая все это, очень может быть, что иногда какой-нибудь микроб «срывает джекпот». Наткнувшись (даже совершенно случайно) на что-то, что дает ему конкурентное преимущество, микроб быстро размножается. Эти умные (или удачливые) микробы будут передаваться от родителей детям, и микробная манипуляция человеческим поведением со временем закрепится. Подобные сценарии разыгрываются прямо сейчас в вашем организме.
ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ МИКРОФЛОРЫ
Значительная часть химических веществ, циркулирующих в вашем организме, — метаболические отходы кишечных микробов.
Одна из многочисленных функций печени — детоксикация химических отходов, произведенных микробами. При нарушении работы печени эти токсичные вещества могут вызвать огромные когнитивные проблемы (это называется печеночная энцефалопатия)[81]. Скапливаясь в крови, молекулы проникают в мозг и наносят ущерб нормальному неврологическому функционированию. Традиционное лечение печеночной энцефалопатии берет на прицел микрофлору, чтобы сократить количество микробов в кишечнике и таким образом уменьшить объем производимых ими химических веществ. Одно из лекарств, используемых в этом случае, — лактулоза. Она ускоряет кишечный транзит, чтобы быстрее вымывать микробов и их метаболиты. Другое лекарство — рифаксимин, антибиотик, истребляющий кишечных микробов. До лактулозы и рифаксимина для эффективного лечения психической дисфункции, вызванной микрофлорой и связанной с нарушением работы печени, применялось хирургическое удаление толстой кишки пациента (вместе с микрофлорой, разумеется)[82].
Почки тоже призваны удалять значительную часть метаболитов микрофлоры, выводя их с мочой[83]. Анализируя мочу, исследователи могут оценить работу микрофлоры. При отказе почек кровь может наполниться отходами микрофлоры, за чем последует когнитивная дисфункция. Диализ «отсеивает» эти молекулы из крови и поддерживает их количество на низком уровне. В будущем, возможно, мы найдем способ перепрограммировать микрофлору или установить над нею контроль при помощи диеты, чтобы свести к минимуму производство токсичных отходов и необходимость диализа.
Один из наиболее изученных токсичных отходов микрофлоры — триметиламиноксид (ТМАО). Исследователи Кливлендской клиники открыли эту молекулу, когда искали переносимые кровью вещества, которые могут предсказать развитие сердечно-сосудистых заболеваний[84]. Молекулярные маркеры сердечного приступа (и других надвигающихся проблем со здоровьем) ценны как «система оповещения» и помогают понять происхождение болезни. Ученые Кливлендской клиники сравнили химические вещества, найденные в крови людей, наблюдающихся у кардиологов. Они обнаружили, что изобилие TMAO в крови могло служить предвестником инфаркта или приступа стенокардии, а также содействовать опасным для жизни засорениям сосудов. Откуда берется ТМАО и что можно сделать, чтобы поддержать его на низком уровне?
Как вы могли догадаться, микрофлора играет решающую роль в производстве ТМАО. Но, учитывая все, что мы знаем о факторах риска развития сердечных заболеваний, диета также очень важна. Красное мясо и жирная пища предоставляют микрофлоре ресурсы, необходимые для синтеза ТМАО, особенно жир фосфатидилхолин, более известный как лецитин, и карнитин, компонент мяса.
Дальнейшие исследования показали, что микрофлора некоторых участников экспериментов не производила большого количества триметиламина (ТМА), предшественника ТМАО[85]. У этих людей был низкий уровень циркуляции ТМАО и ниже шансы развития сердечных заболеваний. Привычки питания служили важным фактором, определяющим, сколько ТМАО вырабатывалось после поедания красного мяса. Вегетарианцы и веганы производили намного меньше ТМАО, чем мясоеды. Ученые даже нашли вегана с пятилетним стажем, который согласился съесть стейк ради науки. Этот участник, долго воздерживавшийся от мяса, обнаружил очень низкий уровень ТМАО после ужина со стейком, то есть его бактерии были почти не способны производить ТМА. Исследователи не смогли убедить вегана продолжить есть мясо (или не стали этого делать), но провели эксперименты с мышами, чтобы выяснить, может ли регулярное употребление мяса изменить микрофлору таким образом, чтобы она производила большое количество ТМА. Мышей, чья микрофлора вырабатывала мало ТМА, посадили на диету, содержащую карнитин, и количество ТМА существенно выросло. Повышение уровня ТМА сопровождалось изменением состава микрофлоры: в ней появилось больше видов, производящих ТМА.
Это исследование помогло установить, как злоупотребление красным мясом может привести к сердечным заболеваниям. Производя ТМА из карнитина, микрофлора серьезно влияет на здоровье своего «хозяина». Это исследование подкрепляет данные о том, насколько глубокое воздействие диета оказывает на два аспекта микрофлоры: виды бактерий в составе сообщества и производимые ими химические реакции. Например, два человека едят стейк: один из них в основном питается растительной пищей, а другой часто употребляет мясо. Вы можете подумать, что, раз они едят одно и то же блюдо, химические реакции в их кишечниках будут идентичны. Но микрофлора, которая редко сталкивается с мясом, скорее будет похожа на микрофлору того самого вегана из исследования Кливлендской клиники и произведет совсем немного ТМА. У всеядного человека употребление стейка, скорее всего, приведет к выработке большого количества ТМА. Одно и то же блюдо — и разные химические последствия. Если же человек откажется от растительной диеты и решит есть больше мяса, его микрофлора отреагирует. Через два месяца организм вегана может утратить свое преимущество, выработка ТМА возрастет.
С другой стороны, диета важна с точки зрения предоставления материала, на основе которого действует микрофлора. Если вы станете есть меньше мяса (то есть вводить меньше соответствующих молекул в кишечник), то микрофлора выработает меньше ТМА, даже если раньше эффективно их производила. Если вы надолго сократите потребление мяса, микрофлора, скорее всего, существенно «снизит выпуск» ТМА. В этом случае, даже если вы отведаете стейк, уровень ТМАО в вашей крови, вероятно, будет минимальным.
Микрофлора каждого человека уникальна и способна производить разные виды и объемы биологически активных молекул. При этом и диета воздействует на их производство. Эти факты подтверждают необходимость разработки новой технологии, позволяющей каждому из нас наблюдать за аспектами функционирования микрофлоры, важными для нашего здоровья.
Через несколько десятков лет ТМАО может оказаться одним из наиболее важных и регулярно проверяемых показателей функционирования микрофлоры. Или, что еще более вероятно, это будет лишь один из сотен параметров, учитываемых в функциональном профиле микрофлоры каждого человека. Судя по тому, что нам сейчас известно, ТМАО, похоже, не делает с нашим организмом ничего, что повышало бы успехи на выживание представителей микрофлоры, участвующих в его производстве. Но это прекрасный пример того, как в результате микробного метаболизма вырабатываются необычные новые соединения, действительно влияющие на здоровье.
ДВУСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ МОЗГА С ТРИЛЛИОНАМИ
Общение между мозгом и микробами кишечника — это диалог. Микрофлора влияет, например, на настроение и память, а мозг может решать, каким микробам жить в кишечнике. Если вы вызовете у лабораторного животного стресс или депрессию, состав его микрофлоры поменяется[86]. Как именно это происходит, никто точно не знает. Возможно, срабатывает механизм, аналогичный реакции «бей или беги». Когда животное ощущает угрозу, исходящую от потенциального агрессора, его организм выделяет гормоны и нейромедиаторы, которые готовят к атаке или бегству. При этом повышается сердцебиение, высвобождаются запасы энергии для подпитки мышц, ускоряется циркуляция крови, происходят изменения в моторике желудочно-кишечного тракта. Когда пищеварение замедляется или останавливается в ответ на угрозу, кишечные микробы тут же это замечают. В результате появится больше микробов, которые лучше приспособлены к новому, медленному проходу пищи, а число микробов, процветающих при быстром кишечном транзите, уменьшится.
Стресс, микрофлора и иммунная система постоянно взаимодействуют. У лабораторных животных стресс, вызванный отлучением от матери, может привести к долгосрочным изменениям в микрофлоре, которые сохранятся при взрослении[87]. Возможно, результатом долгосрочного воздействия стресса на иммунную систему становятся непрерывные перемены в микрофлоре даже после того, как «инцидент исчерпан». Или, может быть, нарушения микрофлоры из-за стресса вызывают перманентные изменения иммунной системы, которые затем могут привести к циклическим изменениям микрофлоры. После отлучения от матери у детеныша макаки-резуса меняется состав микрофлоры[88]. Кроме того, он становится более восприимчивым к оппортунистическим инфекциям. Если реакция иммунной системы не отрегулирована должным образом, она может вызвать дальнейшие нарушения микрофлоры, запустив нисходящую спираль.
Мыши, зараженные кишечными патогенами, проявляют больше тревожности, чем незараженные особи[89]. (Еще один случай влияния микробов на поведение.) Тревожность может спровоцировать изменения в микрофлоре, которые создают условия для развития серьезных и длительных патогенных инфекций. Воспаление в кишечнике отрицательно влияет на состав микрофлоры, и это еще один пример отрицательной спирали. Кроме того, если тревожная реакция сопровождается такими изменениями кишечной моторики, как диарея или запор, равновесие в кишечнике может сдвинуться в пользу патогенов. Возможно, жертвы этого дисбаланса страдают от таких функциональных расстройств кишечника, как синдром раздраженного кишечника (СРК), нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). Этот сценарий служит примером отрицательных последствий нарушений работы оси «кишечник — мозг». Химические вещества, вырабатываемые микрофлорой, могут влиять на настроение, а настроение может влиять на микрофлору, поэтому сложно определить, что именно запускает череду событий. Для СРК и ВЗК характерны не только желудочно-кишечные симптомы (хроническая диарея, запор, вздутие живота), но и перепады настроения: депрессия, тревожные расстройства и обостренное восприятие боли.
Так что же все-таки служит изначальной причиной? Было ли пагубное изменение микрофлоры вызвано стрессовым эпизодом? Или сбои в работе микрофлоры привели к гнетущему чувству тревоги или депрессии? Изучать и лечить такие заболевания очень непросто, потому что нарушены связи между наиболее сложной экосистемой (микрофлорой) и наиболее сложным органом — мозгом.
Некоторые видят в полезных бактериях возможный выход для восстановления нормальной работы оси «кишечник — мозг». Особый класс пробиотических бактерий — психобиотики призваны облегчать психиатрические симптомы, поставляя психоактивные вещества от кишечника к мозгу. Добавление в кишечник бактерий, которые синтезируют вещества, нормализующие поведение, возможно, поможет восстановить здоровую связь между мозгом и кишечником. Появляется все больше данных, свидетельствующих, что добавление пробиотических бактерий в кишечник животных, находящихся в состоянии стресса и депрессии, улучшает их поведение. Предварительные исследования на людях также показывают перспективность такого подхода, в частности для облегчения симптомов при синдроме хронической усталости и СРК[90]. Даже здоровые волонтеры, употреблявшие ежедневно в течение месяца коктейль из двух видов пробиотиков, утверждали, что чувствовали меньше тревоги и депрессии[91]. Основания для оптимизма есть, но важно отметить, что это предварительные исследования. Необходимо больше плацебоконтролируемых испытаний, чтобы определить, как лучше всего использовать пробиотические бактерии для лечения таких болезней, как СРК и ВЗК, а также расстройств настроения, таких как депрессия и тяжелые тревожные состояния. Возможно, потребуется персонализированная терапия.
УТЕЧКА ХИМИКАТОВ ИЗ КИШЕЧНИКА
Число случаев расстройств аутистического спектра (РАС) достигает масштабов эпидемии. В США один из 68 детей поражен РАС, и этот уровень постепенно рос на протяжении последних десяти лет. Основные факторы риска в развитии РАС — генетические. Кроме того, важную роль играют возраст и профессия родителей. Постоянно растущий список возможных причин РАС (некоторые еще изучаются, некоторые полностью опровергнуты) демонстрирует сложность определения загадочной этиологии этого недуга. Кишечная микрофлора попала в список возможных факторов риска, так как врачи заметили, что многие дети с РАС страдали от проблем с пищеварением (хроническая диарея, запоры, спазмы кишечника, вздутие живота, ВЗК)[92].
Проведено множество исследований, описывающих разницу между составом микрофлоры детей с РАС и без них. Но все попытки составить список «плохих» бактерий, в изобилии присутствовавших у детей с РАС, и «хороших» бактерий, которые у них отсутствовали, оказались столь же обескураживающими, как и задача составить список причин возникновения болезни. Большинство исследований дали противоречивые результаты. Наверное, отсутствие точных характеристик микрофлоры при РАС не должно слишком удивлять, ведь микрофлора каждого человека индивидуальна. Кроме того, нужно учитывать, что описано большое количество подвидов РАС и эти расстройства характеризуются различной степенью тяжести. Таким образом, вполне можно себе представить, что нарушения микрофлоры у пациентов с РАС могут проявляться по-разному. Исследования не смогли определить воспроизводимую аномалию в микрофлоре детей с РАС, однако они показали, что микрофлора таких детей обычно отличается от того, что признано нормой. Но влияют ли эти отличия на этиологию и развитие РАС, или это всего лишь несвязанные побочные эффекты расстройства? Можно ли вылечить или предотвратить расстройство, перепрограммировав микрофлору?
В 2013 году группа ученых из Калифорнийского технологического института под руководством Саркиса Мазманяна добилась больших успехов на пути к пониманию взаимоотношений между кишечными микробами и РАС[93]. Изучалась группа мышей, родившихся у матерей, чья иммунная система была активирована таким образом, будто они подверглись заражению инфекцией. Похоже, в некоторых случаях экстремальная иммунная реакция матери на инфекцию во время беременности содействует развитию РАС. Мышата, рожденные у матерей с химически вызванной иммунной реакцией, демонстрируют многие пищеварительные и поведенческие признаки людей, страдающих РАС. У них намного выше проницаемость кишечника, то есть «цемент», который соединяет «плитки» кишечных клеток, не до конца сформирован. Это увеличивает утечку небольших химических молекул, производимых микрофлорой. Такие мыши более нервные, для них характерно повторяющееся поведение, они не общаются и не социализируются, как нормальные особи. Как и в случае со многими людьми, страдающими от РАС, микрофлора мышей с РАС также выглядит аномальной.
Исследовательская группа Калтеха задалась вопросом, можно ли повлиять на обнаруженные симптомы, введя полезные бактерии. Мышам с РАС дали очень распространенную в человеческом кишечнике бактерию Bacteroides fragilis (она исправляет кишечные утечки, побуждая клетки эпителия в толстой кишке выделять собственную «шпаклевку» — молекулы, которые заделывают прохудившийся «цемент» кишечной оболочки). Ученые полагали, что после исправления утечки за пределы кишечника проникнет меньше химикатов, и это облегчит тяжесть симптомов РАС. Они не ошиблись. Введение B. fragilis в кишечник мышей с РАС исправило кишечную проницаемость и даже сделало состав микрофлоры более похожим на микрофлору нормальных мышей. Что еще более удивительно, лечение при помощи B. fragilis решило многие поведенческие проблемы. Подвергшиеся лечению мыши стали менее нервными, у них сократилось повторяющееся поведение, они продемонстрировали улучшения в общении. Проблема с социализацией осталась, но прогресс, вызванный B. fragilis, был поразительным.
Но, прежде чем вы броситесь закупаться добавками с содержанием B. fragilis, вам нужно знать две вещи. Во-первых, B. fragilis нельзя приобрести в аптеке, потому что, как и в случае со многими другими распространенными бактериями кишечника, перед тем как выставить такую добавку на продажу, она должна пройти клинические исследования. Во-вторых, исследователи обнаружили аналогичные улучшения и после употребления других похожих кишечных бактерий: Bacteroides thetaiotaomicron также облегчала симптомы РАС. Возможно, несколько видов бактерий способны привести к схожим результатам. Может быть, наиболее действенный микроб или микробы будут определяться типом РАС, микрофлорой пациента или его генетикой. Клинические исследования, которые сейчас проводятся, должны определить безопасные и эффективные штаммы. Если микробы могут помочь людям, страдающим от РАС, вполне вероятно, что такой подход к лечению (своеобразная терапия микрофлоры) станет применяться шире. Для различных заболеваний и состояний будут использоваться дружественные штаммы бактерий.
Исследователи идентифицировали особые химические вещества, производимые микрофлорой и присутствующие у мышей с подобием РАС. Одна из таких молекул, названная аббревиатурой EPS, встречалась в 40 раз чаще в крови мышей с РАС по сравнению с нормальными мышами. Лечение B. fragilis, исправившее утечку из кишечника, также восстановило нормальный уровень EPS в крови. Так может ли EPS самостоятельно вызывать поведение, похожее на тревожность? Исследователи ввели EPS здоровым мышам и обнаружили, что это вещество действительно вызывало изменения поведения, схожие с симптомами РАС. Но это не значит, что EPS — единственное или наиболее важное вещество, связанное с аутизмом. Помните: исследования проводились на мышах. Но очевидно, что микрофлора способна синтезировать особые химические вещества в кишечнике, которые могут воздействовать на поведение. Если кишечник более пористый, чем нужно, слишком многие химические вещества, производимые микрофлорой, могут попасть в кровь.
Безнадзорная фабрика лекарств в нашем кишечнике производит ряд малоизученных пока химических веществ. Утечка некоторых веществ в систему кровообращения может вызвать аномальное поведение или настроение. Введение полезных бактерий (в данном случае B. fragilis) исправило утечку у мышей с РАС. Концентрация более ста различных бактериальных химических веществ в крови мышей изменилась после лечения при помощи B. fragilis. При этом содержание некоторых из них упало до уровня нормальных мышей. По-прежнему исследуется вопрос, достаточно ли нарушения микрофлоры для развития определенных видов РАС. Однако идея влияния микрофлоры на развитие РАС кажется многообещающей.
Микрофлора определяет риск развития не только РАС, но и других расстройств психики. В их числе шизофрения, обсессивно-компульсивные расстройства и депрессия. Благодаря способности синтезировать «неврологически активные» молекулы микробы в кишечнике воздействуют на аспекты нашей физиологии, которые кажутся никак не связанными с пищеварением. Возможно, когда мы что-то «чуем нутром», мы реагируем на химический сигнал, который микробы отправили мозгу. Вероятность проявления того или иного расстройства поведения зависит и от вида бактерий, живущих в кишечнике, и от генетической предрасположенности человека. Исследования роли, которую микрофлора играет в оси «кишечник — мозг», дают надежду, что со временем поведенческие отклонения можно будет корректировать, целенаправленно манипулируя микрофлорой. Лекарства, существующие сегодня, не способны предсказуемо менять микрофлору. Но мы знаем, что существуют эффективные рычаги для изменения состава обитателей кишечника, в том числе диета и контакт с микробами окружающей среды. Используя их, можно определенным образом воздействовать на мозг через его связь с кишечником.
И ТУТ ВСТУПАЮТ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Исследования оси «кишечник — мозг» проводились в основном на лабораторных животных, поэтому нужно с осторожностью подходить к интерпретации результатов. Эксперименты с животными однозначно демонстрируют наличие связи между бактериями кишечника и мозгом. Почти наверняка такая связь характерна и для человека. Однако не следует напрямую переносить на людей специфическое поведение, зафиксированное у мышей в связи с манипуляциями кишечной микрофлорой. Человеческий мозг и микрофлора отличаются от мышиных. Необходимо провести исследования на людях, прежде чем с уверенностью судить о том, как микрофлора человека влияет на РАС, депрессию, тревожные расстройства, а также на личность и настроение.
В 2013 году группа ученых Калифорнийского университета задалась целью выяснить, могут ли кишечные бактерии повлиять на человеческий мозг[94]. Двенадцать женщин без каких-либо пищеварительных или психиатрических симптомов дважды в день на протяжении четырех недель ели йогурт, содержащий четыре разных вида бактерий. Для сравнения две другие группы женщин дважды в день употребляли плацебо (йогурт без бактерий) или же вообще никак не изменили свой привычный рацион. Эксперимент проводился двойным слепым методом, то есть до конца исследования ни участницы, ни ученые не знали, кто употреблял бактерии, а кто нет. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию, ученые просканировали мозг каждой участницы до начала эксперимента и по прошествии четырех недель. Сканирование проводилось в состоянии покоя, а также во время выполнения упражнения, в котором нужно было рассмотреть изображения лиц, выражающих страх или гнев. Это задание было выбрано, так как люди, страдающие от некоторых видов тревожных расстройств, при его выполнении демонстрируют изменение мозговой активности.
Ученые отметили разницу между мозговой активностью женщин, употреблявших и не употреблявших бактерии, и в состоянии покоя, и при рассматривании изображений лиц, выражавших негативные эмоции. Изменения произошли в нескольких областях мозга, задействованных в обработке вводимой сенсорной информации и эмоций, включая фронтальную, префронтальную и височную кору, а также область околоводопроводного серого вещества. Эти области играют важную роль при тревожных расстройствах, болевом восприятии и синдроме раздраженного кишечника. Очень сложно поверить, что всего четыре вида ферментирующих молоко бактерий, обитающих в кишечнике наряду с сотнями других видов, способны оказать такое масштабное влияние, затронув сразу несколько областей мозга. Однако, как показало исследование, двух йогуртов в день в течение месяца достаточно, чтобы заметно изменить модель активности мозга. Продемонстрировав связь между кишечными бактериями и мозгом, это научное открытие поставило множество новых вопросов. Что именно результаты сканирования мозга говорят о психическом здоровье потребителя пробиотиков? Каким образом четыре вида пробиотических бактерий влияют на деятельность мозга: при помощи выделяемых ими химических веществ или более опосредованно? Воздействуют ли на работу мозга другие бактерии? Можно ли использовать микробы для лечения психических заболеваний, не беспокоясь о побочных эффектах, которыми обладает значительная часть используемых сегодня лекарств? Эти и другие вопросы окажутся в центре изучения в ближайшем будущем.
Очевидно, что предстоит еще много работы, прежде чем мы поймем, как бактерии в кишечнике воздействуют на мозг и как мы можем гарантировать, что это взаимодействие идет на пользу психическому здоровью. Расшифровка сложной структуры мозга — это громадный научный вызов. Добавьте к этому триллионы бактерий — и становится ясно, что изучение связи между мозгом и кишечником требует времени.
СОЮЗ МОЗГА И МИКРОФЛОРЫ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Ткани младенцев очень плохо развиты, для полного формирования нужны годы. Кишечник новорожденного подвержен утечкам, его иммунная система «наивна», а мозгу требуется время для создания необходимых связей. Дети рождаются без микрофлоры, и ее развитие происходит в тот же период, что и построение оси «кишечник — мозг». Мы знаем, что в первый год жизни формирование микрофлоры кажется хаотичным. Насколько значима специфика раннего формирования микрофлоры? Влияет ли она на развитие оси «кишечник — мозг» и может ли определить долгосрочное (и тем более пожизненное) функционирование этой оси? Если формирование микрофлоры сталкивается с трудностями, можно ли исправить ситуацию и установить здоровую связь между мозгом и кишечником? Влияет ли окончательный, стабильный состав микрофлоры человека на работу его мозга во взрослой жизни?
Человеческий мозг развивается на протяжении всей жизни, но первые годы особенно важны. Детские переживания оказывают большое влияние на физическую структуру мозга и психическое здоровье, включая риски развития депрессии и тревожных расстройств. Начало жизни представляет собой важный период для развития и мозга, и микрофлоры. Мозг ребенка, скорее всего, более подвержен воздействию молекул, которые производятся микробами и циркулируют в крови, чем мозг взрослого человека. По мере того как питание ребенка меняется (переход от грудного молока к твердой пище, первое употребление мяса и ферментированных продуктов), изменения в составе микрофлоры приводят к изменениям видов производимых микробами химических веществ. Такие значительные события, как первая кишечная инфекция и первый курс антибиотиков, могут принципиально изменить отношения микрофлоры с хозяином. Безнадзорная фабрика лекарств начинает работу при рождении и меняет виды и объемы выпускаемых веществ по мере развития мозга.
Нынешнее понимание механизмов влияния кишечных микроорганизмов на развитие детского мозга так же неразвито, как и микрофлора младенца. Мыши без микрофлоры обнаруживают нарушения в восприятии боли и уровне тревоги, которые можно исправить введением кишечных микробов. Однако такое внедрение микрофлоры должно произойти довольно рано, иначе нарушения перейдут во взрослую жизнь. Чтобы понять, как контакт с микробами в начале жизни влияет на функционирование мозга ребенка, нужны официальные исследования на людях. Реакция на стресс, способность учиться и запоминать и другие, более тонкие, черты взрослой личности могут быть результатом состава микрофлоры в детстве.
Возможно, люди, подверженные парализующему страху или иррациональным фобиям, или те, кто практикует рискованное поведение (например, занятие экстремальными видами спорта), могут частично переложить ответственность за это на кишечных микробов. Симптомы некоторых заболеваний центральной нервной системы определенно зависят от состава микрофлоры. Это, в частности, РАС, печеночная энцефалопатия и рассеянный склероз. Если мы пересмотрим диету, повысим употребление пробиотических бактерий, ограничим использование антибиотиков, антибактериального мыла и чистящих средств, возможно, мы исправим урон, нанесенный микрофлоре, и улучшим свое психическое здоровье. Но на сегодняшний момент это все очень большие «если».
Пока рано давать научно обоснованные советы, как улучшить здоровье оси «кишечник — мозг». Это направление исследований только открывается, но его потенциал огромен. Даже в отсутствие данных плацебоконтролируемых клинических исследований кажется вполне логичным предположить, что улучшение здоровья микрофлоры в целом положительно скажется на психическом благополучии. Диета, богатая доступными микрофлоре углеводами (ДМУ), умеренное использования антибиотиков, грудное вскармливание и безопасное увеличение контакта с микробами окружающей среды — все это потенциально способно улучшить состояние микрофлоры и, возможно, состояние мозга. Именно так смотрит на проблему доктор Томас Инсел, директор Национального института психического здоровья: «Изучение вопроса, каким образом особенности микробного мира воздействуют на развитие мозга и поведения, станет одной из величайших областей клинической неврологии в грядущем десятилетии»[95].
Очевидно, что нужно отказаться от упрощенного восприятия наших органов и связанных с ними болезней. Всего несколько лет назад было трудно представить, что причины нарушения работы мозга могут крыться в кишечнике. Однако давно известен факт, что наше тело — сложная экосистема и все ее части взаимосвязаны. Дисбаланс микрофлоры каскадом распространится на весь организм. Или, если мыслить позитивно, усиливая одну часть экосистемы, мы поддерживаем здоровье в целом.
Глава 7
Есть, какать и жить
ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕЙ МИКРОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
Ваш геном определяет в вас очень многое, при этом вы едва ли можете изменить ДНК. Некоторым людям суждено заболеть только из-за унаследованных генов. Даже в случаях, когда генетический дефект известен, изменение материала в геноме человека ради лечения или предотвращения заболевания (то есть генная терапия) — очень сложная задача.
В отличие от «неуступчивого» генома, кишечная микрофлора демонстрирует гибкость и открывает путь к сохранению здоровья и лечению. Микробы связаны с различными факторами нашего самочувствия и в некоторых случаях вызывают болезни, но они намного более податливы, чем геном человека. Если патоген в кишечнике выделяет токсин, вызывая развитие заболевания, существует надежда изгнать этого скверного типа из экосистемы вместе со всем его воздействием. И наоборот, если вы (или ваш врач) вдруг обнаружите, что в микрофлоре не хватает важной функции или ключевого вида бактерий, введение нового микробного представителя исправит недостаток. У «перепрограммирования» микрофлоры очень многообещающее будущее, и уже есть первые впечатляющие результаты.
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Гастроэнтерит, также известный как желудочный грипп, пищевое отравление, диарея путешественника — это то, с чем многие из нас сталкивались хотя бы раз в жизни. Инфекционная диарея — одно из наиболее распространенных в мире детских заболеваний и основная причина смерти детей до пяти лет в развивающихся странах. В западных странах уровень смертности от гастроэнтерита очень низкий, но мы также подвержены его действию. В Соединенных Штатах инфекционная диарея приводит к госпитализации более миллиона человек в год, еще несколько миллионов проходят амбулаторное лечение. В общей сложности среди американцев количество эпизодов острой диареи достигает 200 миллионов в год. (Более высокие показатели по числу случаев заболевания только у простуды.)[96] Виновники — микробы. В их числе норовирус; бактерия Salmonella, которая может притаиться где угодно, от плохо сваренных яиц до банок с арахисовым маслом; Giardia — паразиты, которые часто распространяются через зараженную воду. Так как эти инфекционные микробы обитают в нашей среде, встретиться с ними не так уж сложно. Дети, старики и люди с ослабленным иммунитетом особенно склонны к развитию инфекционной диареи. Кроме того, эти категории населения проводят больше времени в детских садах, школах, домах престарелых и больницах, где заразные микробы очень быстро распространяются.
Заболеете ли вы, проглотив болезнетворный микроб, зависит от ряда факторов. Многие бактериальные патогены путешествуют через пищеварительный тракт в толстую кишку, где сталкиваются с микрофлорой. Полезные микробы составляют конкуренцию патогенным захватчикам, таким как Salmonella, Clostridium difficile. Эти патогены — как незваные гости на вечеринке, пришедшие без приглашения и неугодные.
Для описания защиты, которую микрофлора выставляет против патогенов-захватчиков, ученые используют термин «колонизационная резистентность». Этот защитный эффект проявляется как прямо, так и косвенно. Во-первых, микрофлора может занимать физическое пространство и использовать ценные ресурсы. В этом случае патогенам сложно найти место для размножения и питание для роста. Во-вторых, некоторые кишечные микробы могут применить химическое оружие. Они убивают патогены бактерицидными химическими веществами. И наконец, косвенным образом микрофлора может побудить иммунную систему усилить защиту, чтобы помочь бороться с инфекцией. Учитывая, как эффективно микрофлора сопротивляется болезнетворным микроорганизмам, неудивительно, что истребляющие ее антибиотики предоставляют патогенам уникальную возможность закрепиться в кишечнике.
БОРЬБА ОГНЕМ С ПОЖАРОМ
Употребление антибиотиков — один из главных факторов риска развития инфекции, вызванной Clostridium difficile (эти патогенные бактерии бывают причиной тяжелой диареи и кишечного воспаления). Прием курса антибиотиков — это «пожар» в нашей микробной экосистеме. Как и после лесного пожара, здесь найдутся выжившие «растения». После пожара могут прижиться новые саженцы, для которых раньше не хватало места или ресурсов. Одни из этих растений могут быть продуктивными и здоровыми представителями восстанавливающейся экосистемы, например бактерии-мутуалисты. Другие — инвазивными и пагубными, такими как патогенные бактерии. Со временем лес растет, и в оптимальном варианте стабильность возвращается, хорошие растения гармонично сосуществуют. Однако иногда назойливый сорняк приживается и на неопределенное время меняет пейзаж. В качестве примера можно привести C. difficile-ассоциированную болезнь (CDAD).
CDAD приводит к смерти примерно 14 тысяч американцев в год; в настоящий момент в десять раз больше человек борются с инфекциями, вызванными C. difficile[97]. У некоторых пациентов патогенные штаммы демонстрируют особую устойчивость к многократным курсам антибиотиков, и в этом случае шансы выжить — примерно пятьдесят на пятьдесят. Чаще всего C. difficile встречается в больницах, но она может притаиться также в бассейне, сырых овощах и на животных. Если вам кажется, что, вылив литры хлорки в бассейн, помыв овощи антибактериальным мылом и зарядив домашних животных антибиотиками, вы избежите контакта с C. difficile, вы очень ошибаетесь. По некоторым оценкам, от 2 до 5% людей — носители C. difficile и даже не знают об этом. В больнице число носителей возрастает до 20%, а в лечебных учреждениях для хронически больных — до 50%[98]. Если вы никогда не страдали от CDAD, это не значит, что в вашем кишечнике нет C. difficile. Для большинства носителей C. difficile — благовоспитанный член микрофлоры и никогда не спровоцирует развитие болезни. Но если что-то нарушает работу микрофлоры — например, курс антибиотиков, — ранее добропорядочная C. difficile может воспользоваться ситуацией, размножиться и создать угрозу для здоровья.
Устроив беспорядок в кишечнике, C. difficile вызывает опасную для жизни диарею, а также воспаление кишечника, и от нее очень сложно избавиться. До недавнего времени рецидивную инфекцию, вызванную C. difficile, лечили дополнительной дозой антибиотиков (то есть повторным лесным пожаром) в надежде, что полезные бактерии восстановят популяцию. Проблема с этой стратегией заключается в том, что C. difficile способна переждать пожар в состоянии анабиоза в виде споры, высокоустойчивой к антибиотикам. Бактерии, образующие споры, особенно сложно уничтожить, потому что споры могут выжить в условиях, которые обычно не подходят для жизни (кипящая вода, обезвоживание, минусовая температура и даже вакуум космоса).
После атаки антибиотиков споры могут возродиться. В очищенном кишечнике, полном свободного пространства и неиспользованных ресурсов, прорастающие споры распространятся еще шире. У некоторых пациентов, страдающих от CDAD, микрофлора состоит по большей части из C. difficile: патоген вызвал массовое вымирание сотен видов бактерий и полностью захватил кишечник. У C. difficile есть множество генов, обеспечивающих производство токсинов. Когда C. difficile в составе микрофлоры совсем немного, она воздерживается от причинения вреда кишечнику. Однако, распространившись, C. difficile выпускает токсины, нанося урон стенкам кишечника и вызывая болезненную диарею.
До недавнего времени было не так много вариантов лечения CDAD. За одним неудачным курсом антибиотиков следовали повторные и другие антибиотики. Это были отчаянные попытки подкосить C. difficile и дать полезным бактериям возможность восстановиться. Если продолжительное лечение антибиотиками не работало, у врачей не оставалось выбора, кроме как хирургическим путем удалить инфицированную кишечную ткань. Такой подход может обернуться удачным избавлением от CDAD, но это крайнее средство с пожизненными последствиями даже в случае наилучшего исхода. Но что, если отказаться от тотального сжигания микробов в кишечнике или хирургического их удаления, а вместо этого сознательно ввести пациенту полезных микробов? Может ли восстановление сообщества хороших кишечных микробов эффективно ограничить ресурсы C. difficile и задушить инфекцию?
ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ОЙ, ЧТО-О-О?!
В 2013 году группа ученых и врачей из Академического медицинского центра в Амстердаме выясняла, может ли внедрение полезных бактерий остановить порочный цикл рецидивирующих инфекций, вызванных C. difficile[99]. Они провели рандомизированное контролируемое исследование, в котором пациентов с повторно развивающимся CDAD лечили либо только антибиотиками, либо антибиотиками, за которыми следовала трансплантация фекальной микрофлоры (ТФМ), также известная как «бактериотерапия» или «пересадка кала». Название говорит само за себя. Стул донора вводится в кишечник реципиента. ТФМ можно проводить сверху вниз, при помощи трубки, спускающейся через нос в кишечник, или снизу вверх, ректальным введением в толстую кишку клизмой или колоноскопом. Для обеих процедур фекальные массы разжижают (часто в блендере), а затем процеживают. Прежде чем вы брезгливо отбросите такой подход, вспомните, что люди с CDAD борются за жизнь. При подобных обстоятельствах многие из нас смирились бы с неприятными ощущениями, чтобы восстановить здоровье.
До начала исследования все участники безрезультатно пролечились антибиотиками. После одной-единственной процедуры ТФМ успешность излечения рецидивирующих инфекций оказалась невероятной: 81%. (В группе, которая лечилась исключительно дополнительным курсом антибиотиков, — 31%.) Ученые продолжили эксперимент с теми пациентами из первой группы (19%), которым бактериотерапия не помогла. Им повторно провели ТФМ — и успешность излечения возросла до 94%. Наблюдая столь высокие показатели, исследователи сочли неэтичным скрывать их от участников, повторно принимавших антибиотики: всем предложили ТФМ. Ошеломляющий успех сделал ТФМ гораздо более привлекательным вариантом.
Документальное подтверждение успеха ТФМ в рандомизированном испытании стало важным шагом на пути широкого признания данной процедуры. На самом деле ТФМ использовали в Соединенных Штатах задолго до голландских экспериментов. В 1958 году доктор Бен Эйзмен, заведующий хирургическим отделением Денверской больницы, опубликовал первый отчет о том, что «фекальная клизма» может вылечить псевдомембранозный колит[100]. Лишь 20 лет спустя было установлено, что возбудитель псевдомембранозного колита — C. difficile. Доктор Эйзмен и его коллеги в Денвере не очень хорошо понимали корни этой изнурительной болезни. Но они предположили, что каким-то образом нарушен «природный баланс» в кишечнике пациентов и восстановить его может пересадка микробного сообщества. Ветеринары лечат животных при помощи ТФМ более ста лет, иногда даже пересаживая фекалии от одного вида животного другому. Использование фекалий в качестве лекарства уходит еще дальше в прошлое. Существуют письменные свидетельства из Китая IV века о лечении тяжелой диареи при помощи тонизирующего средства из фекальных масс под названием «желтый чай»[101].
После публикации исследования ТФМ 2013 года наука загудела от восторга. Пересадка микрофлоры открыла множество заманчивых возможностей в терапии, связанной с микрофлорой. ТФМ — прекрасный пример того, как можно улучшить состояние пациента, просто восстановив работу микрофлоры. Медицинское сообщество оценивает масштабы возможных успехов. Запущено более 40 клинических исследований для оценки эффективности фекальных трансплантаций при лечении воспалительных заболеваний кишечника и ожирения. Следует ли ожидать, что ТФМ будет успешен не только в случае CDAD, но и при других заболеваниях? И почему ТФМ так хорошо работает при искоренении C. difficile? Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно разобраться, что происходит, когда антибиотики подрывают колонизационную резистентность и C. difficile захватывает контроль в кишечнике.
АНТИБИОТИКИ — МАССОВЫЕ УБИЙЦЫ
«Антибиотик» дословно означает «против жизни». Звучит зловеще, но эти лекарства обычно убивают злодеев — бактерии, которые вызвали болезнь. Многие из нас частенько используют антибиотики и не раздумывая дают их детям. Эти лекарства действительно спасают жизни. Однако последние исследования показывают, что антибиотики, как и следует из их названия, оказывают более широкое действие, чем нам хотелось бы. Они влияют на наше здоровье, поражая полезные микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике.
Люди употребляли антибиотики на протяжении многих тысяч лет. Древние греки использовали их антисептические свойства, нанося кашицу из заплесневелого хлеба на раны, чтобы защитить их от инфекций. Из одного вида плесени, Penicillium, был получен самый известный в мире антибиотик — пенициллин. Антибиотики можно назвать величайшим открытием медицины: с их помощью появилась возможность лечить болезни, которые раньше считались смертельно опасными. Эффективность лечения и относительно небольшое количество острых побочных эффектов побудили фармацевтические компании наращивать выпуск собственных антибактериальных средств. Но создание принципиально нового препарата стоит дорого, поэтому фармацевтические компании направляют свои силы на разработку антибиотиков широкого спектра действия, которые уничтожают самые разнообразные бактерии. Таким образом, один антибиотик можно выписать и при воспалении уха, и при инфекции мочеполовых путей. Сегодня американцы представляют собой одну из крупнейших групп потребителей антибиотиков в мире. В 2010 году врачи выписали не менее 258 миллионов курсов антибиотиков, приблизительно восемь с половиной рецептов на каждые десять жителей Соединенных Штатов. Один из документально засвидетельствованных неблагоприятных эффектов повсеместного использования антибиотиков — распространение устойчивых к ним супербактерий. Но, вероятно, еще более важно предупредить отрицательное влияние лекарств на обитающих в нас микробов.
Значительная часть антибиотиков принимается внутрь, вне зависимости от области, в которой патогенные бактерии создают проблемы. На первый взгляд, все логично: вы глотаете антибиотик, часть его попадает в кровь и в результате доходит, например, до уха, убивая микробов, вызывающих боль. Но лекарство распространяется по всему организму, и на линию огня попадают все микробы, обитающие в теле, в том числе кишечные. Большинство антибиотиков призваны убивать множество разных бактерий, поэтому каждая доза наносит существенный урон микрофлоре. Некоторым пациентам необходимо несколько месяцев для восстановления кишечных микробов, и в этот период для них резко возрастает риск развития заболеваний, сопровождающихся диареей.
Дэвид Релман и Лес Детлефсон из Стэнфордского университета заинтересовались, что произойдет с микрофлорой после нескольких курсов мощного антибиотика ципрофлоксацина[102]. Этот антибиотик широкого спектра используется для лечения ряда бактериальных инфекций. Он подавляет способность микроба копировать свою ДНК, эффективно предотвращая размножение. Это лекарство действует против большинства видов бактерий — как вызывающих инфекции, так и дружественных, бактерий-мутуалистов, живущих в кишечнике. Дэвид и Лес хотели понять, сколько вреда пятидневный курс ципрофлоксацина нанесет микрофлоре и сможет ли она полностью восстановиться.
С самого начала курса изобилие и разнообразие микробов в кишечниках участников эксперимента очень быстро снизились. После лечения количество кишечных бактерий уменьшилось в 10–100 раз, а уцелевшее сообщество было куда менее разнообразным. Виды бактерий, которые вместе составляли 25–50% общего количества микроорганизмов в кишечнике, были практически полностью истреблены. Эти результаты не стали сюрпризом, хотя масштабы урона, нанесенного микрофлоре, превосходили даже самые пессимистичные ожидания. Чрезмерное распространение антибиотиков широкого спектра действия поддерживается устойчивым убеждением, что полезная микрофлора может восстановиться. Но верно ли это предположение? Не совсем. Через несколько недель после лечения ципрофлоксацином микрофлора одного из участников полностью восстановилась. Двое других не смогли так быстро оправиться. У одного из них восстановление было почти полным, но урон, нанесенный антибиотиками, был все равно заметен. Микрофлора третьего участника не смогла восстановить свой первоначальный состав даже через два месяца после окончания курса.
Многим микрофлорам приходится сталкиваться с антибиотиками неоднократно, зачастую даже в течение одного года, поэтому Релман и Детлефсон повторили эксперимент с теми же участниками. Второй курс ципрофлоксацина нанес микрофлоре еще более страшный удар. Вновь сократились общее число и разнообразие бактерий. Но на этот раз никому из участников не удалось легко отделаться. Микрофлоре всех троих испытуемых был нанесен заметный, устойчивый урон. Даже через два месяца после окончания приема антибиотиков ситуация не улучшилась. Никто из участников исследования не сообщил о появлении желудочно-кишечных симптомов, несмотря на грандиозные трансформации, происходившие в их кишечниках. Очевидно, симптомы не могут служить надежным критерием масштаба нанесенного микрофлоре урона.
До начала испытаний ученые не могли предсказать, чья микрофлора будет более подвержена ущербу от антибиотиков. Не существует теста, который покажет, насколько сильный вред микрофлоре нанесут антибиотики, однако можно предположить, что он будет значительным. Второй курс антибиотиков, скорее всего, усугубит нарушения микрофлоры. Чаще всего кажется, что лечение антибиотиками приносит огромную выгоду — снимает инфекцию без каких-либо последствий. Но даже если вы этого не замечаете, ваша микрофлора очень пострадала. На исправление нанесенного вреда потребуется несколько недель, а некоторые виды бактерий, возможно, никогда не восстановятся полностью. При этом ослабевает способность микрофлоры защищать вас от других атакующих патогенов — и вы становитесь более уязвимыми перед опасными инфекциями. Можно, конечно, попробовать сократить ущерб, принимая после лечения пробиотики, но факт остается фактом: мы по-прежнему не знаем, как эффективно вернуть микрофлору к тому состоянию, которое было до лечения антибиотиками.
СИЛА В КОЛИЧЕСТВЕ
Патоген похож на вражеского захватчика, атакующего регулярную армию (микрофлору). Если сила вторжения невелика, он едва ли одолеет более многочисленные и сформировавшиеся местные войска. Для успешной атаки необходима усиленная группа хорошо вооруженных захватчиков. Если же местные войска ослаблены, победу одержит даже небольшой отряд вредителей. Наш организм постоянно сталкивается с Salmonella, но микрофлора оказывает сопротивление, поэтому нужно немало патогенных микробов, чтобы мы заболели. Триллионы полезных бактерий в кишечнике отражают атаку нескольких бактерий Salmonella в плохо проваренном яйце. Однако для микрофлоры с ограниченным составом, скажем в результате приема антибиотиков, риск пострадать от немногочисленной группы патогенов намного выше.
Метаболические взаимоотношения между разными видами микробов в микрофлоре создают замысловатую пищевую сеть, в которой используются все ресурсы. При идеальном функционировании этот биореактор — герметичная система распределения, допускающая огромное бактериальное разнообразие и не требующая дополнительных ресурсов. Прочная пищевая сеть, созданная микрофлорой, помогает исключить захватчиков, быстро используя все доступные средства, оставляя очень мало или не оставляя совсем ничего для питания патогенных бактерий. В таком идеальном состоянии внутренний биореактор стабилен и противодействует вторжению микробов, вызывающих болезни. Однако иногда противодействие не срабатывает, патогены вклиниваются в пищевую сеть и размножаются в кишечнике, используя украденные ресурсы.
Если обычные мыши сталкиваются с Salmonella или C. difficile, инфекция не приживается. Однако если до получения патогена грызунов лечили антибиотиками, у них развивается воспаление кишечника.
Оказавшись в кишечнике в одиночестве, без других видов микробов, Salmonella может полагаться на способности к ферментации, закодированные в ее собственном геноме. Но геном Salmonella содержит очень мало ферментов, необходимых для расщепления ДМУ и слизи, которые есть у многих полезных бактерий. По мере того как полезные кишечные микробы расщепляют пищу, из отходов их жизнедеятельности получается своеобразный «буфет». В здоровой микрофлоре, устойчивой к колонизации, конкуренция за ресурсы очень сильна, и побочные продукты одного микроба тут же поглощаются другим, не оставляя ничего для таких захватчиков, как Salmonella[103].
Кража ресурсов возможна, если их естественные потребители в кишечнике были выведены из строя. Антибиотики именно это и делают. Они нарушают связи сложной пищевой цепи, оставляя пробелы, которые могут использовать Salmonella и C. difficile. Но патогенные незваные гости должны присутствовать — лежать в засаде, условно говоря, — чтобы воспользоваться новой гостеприимной обстановкой. Поэтому если вам недавно прописали антибиотики, было бы неплохо избегать ситуаций, в которых высока вероятность контакта с Salmonella, например не заказывать яиц в ресторане, не играть в общественной песочнице. Со временем после лечения антибиотиками кишечная микрофлора может более или менее восстановиться, заново построить эффективную пищевую сеть и начать сопротивляться патогенному вторжению.
Успех многих патогенов зависит и от изощренной стратегии вторжения в экосистему кишечника, и от плана выживания. Нет смысла заявляться без приглашения, если нельзя остаться достаточно надолго, чтобы насладиться всеми преимуществами благоприятной обстановки. Salmonella, добиваясь выживания, дестабилизирует ситуацию в кишечнике таким образом, чтобы получить бесперебойный доступ к ресурсам. Дестабилизация в данном случае — это диарея и воспаление кишечника. Такая радикальная смена обстановки в кишечнике мешает полезным бактериям снова укрепить свое положение и вернуть себе ресурсы, которые забирает Salmonella. Изменяя основные правила функционирования кишечной экосистемы, «темные личности» получают преимущество перед положительными героями.
Обычно мы рассматриваем воспаление — реакцию иммунной системы на инфекционную атаку — как помощь организму в избавлении от нежелательных захватчиков. Но некоторые патогены научились провоцировать реакцию иммунной системы, которая работает в их пользу. Salmonella сначала сталкивается с трудностью размножения в рамках микрофлоры. Нарушения, вызванные антибиотиками, помогают ей преодолеть эти проблемы. Выполнив первую задачу, Salmonella переходит к следующей: вызывает воспаление, которое меняет правила жизни в кишечнике, делая их выгодными для нее. Эта бактерия, как и многие другие возбудители инфекций, мастерски обращает иммунные реакции хозяина себе на пользу.
Сила в количестве — это один из принципов защиты, которую обеспечивает микрофлора. Очевидно, что колонизационная резистентность — это не просто игра в исключение. Микрофлора поддерживает постоянный диалог с кишечником. Микробы могут помочь иммунной системе организовать ответ, чтобы справиться с угрозой, но при этом избежать аутоиммунной реакции и чрезмерного урона для микрофлоры. Некоторые микробы в кишечнике принимают прямое участие в уничтожении патогенов, выделяя собственный набор антибиотиков. У антибиотиков, производимых микрофлорой, похоже, меньше побочных эффектов. Это выгодно отличает их борьбу с патогенами от «ковровой бомбардировки» высокими дозами препаратов, разработанных фармацевтическими компаниями.
Кроме падения колонизационной резистентности существует еще одна реальная угроза, связанная с широкомасштабным применением антибактериальных средств: так называемые устойчивые к антибиотикам супербактерии. Слишком частое использование антибиотиков стало причиной появления в высшей степени защищенных бактерий, которые могут пережить атаку значительной части самых сильных препаратов. Как же это случилось? Когда группа бактерий, например живущих в кишечнике, сталкивается с антибиотиком, у одной из них может случайно оказаться генетическая особенность: невосприимчивость к лекарству. Эта бактерия, выжив, размножится даже в присутствии антибиотика и породит целую армию мутантного устойчивого бактериального вида. Бактерии умело делятся генами (этот процесс называется горизонтальным переносом генов), поэтому бактерии, находящиеся в непосредственной близости к невосприимчивому микробу, могут получить копию заветного гена — и стать устойчивыми к антибиотикам. Можно представить себе сценарий, в котором после нескольких курсов антибиотиков гены устойчивости становятся все более и более распространенными в микрофлоре. Если в это время через кишечник будет проходить патоген, он может заимствовать один или несколько генов устойчивости от микрофлоры, таким образом родится потенциальная супербактерия.
Инфекция, вызванная полирезистентной бактерией, — кошмарная ситуация, из которой нет выхода. Впервые с момента появления антибиотиков люди умирают от бактериальных инфекций, которые можно было бы излечить, если бы не крайняя устойчивость патогенов к лекарствам — результат «гонки вооружений», в которую мы вступили с патогенными бактериями. Для того чтобы действовать на опережение, необходим комплекс мер. Во-первых, нужна постоянная поставка новых видов антибиотиков, с которыми бактерии никогда не сталкивались и поэтому еще не выработали к ним устойчивость. Во-вторых, следует укрепить внутреннюю защиту, формируя и поддерживая сильную и разнообразную микрофлору. Такой подход позволит изначально свести к минимуму вероятность использования антибиотиков.
ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ
Доктор Пурна Кашьяп из клиники Мэйо принимает множество пациентов, у которых возникли проблемы с моторикой желудочно-кишечного тракта (например, хроническая диарея или запор). Подобные проблемы с моторикой появляются, например, при таких недугах, как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и синдром раздраженного кишечника (СРК). Доктор Кашьяп беспокоился, что подобные хронические проблемы нарушают работу микрофлоры и обостряют основное заболевание[104]. В 2010 году было недостаточно информации о том, как на микробов в кишечнике влияют изменения в кишечном транзите.
Кишечник, как было замечено ранее, похож на биореактор. Он наполнен едой и водой, которые проходят через трубку и перерабатываются человеческими клетками и микрофлорой. Скорость, с которой содержимое проходит через трубку, может радикально менять среду микрофлоры. Если скорость высока, у микробов очень мало времени, чтобы усвоить проходящую пищу. Кроме того, они могут быть быстро вымыты из кишечника. Кишечник, в котором содержимое двигается очень медленно, представит совсем другой набор проблем для микрофлоры. В обоих случаях крайнего отклонения от нормального времени кишечного транзита существует риск нарушения здоровья микрофлоры.
Доктор Кашьяп задался вопросом, происходит ли сбой в функционировании «биореактора» при постоянной диарее или запоре. Он обнаружил, что диарея и запор меняют условия кишечной среды. Микробы, лучше приспособленные к быстродвижущемуся содержимому, изобилуют, когда скорость потока высока. И наоборот, микробы, которые преуспевают при медленной моторике, преобладают в кишечнике, страдающем запором. В обеих ситуациях, когда поток слишком быстрый или слишком медленный, падает разнообразие микрофлоры. Это дестабилизирует обстановку, делая часть ресурсов доступными для вторгающихся патогенов. Таким образом, антибиотики — не единственный способ нарушить работу микрофлоры и снизить колонизационную резистентность.
Отклонения от нормального времени транзита, антибиотики и другие проблемы могут запустить порочный круг. Инфекция, вызванная одним патогеном, зачастую повышает кишечную моторику и еще сильнее нарушает работу микрофлоры, что делает вас более уязвимым к другим инфекционным агентам. В случае с C. difficile ТФМ предлагает грубый, но эффективный выход. Но если вам нужно было бы сделать фекальную трансплантацию, кого стоит выбрать донором? И какие существуют важные соображения относительно эффективности и безопасности метода?
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В 2013 году FDA объявило, что планирует регулировать ТФМ так же, как любое экспериментальное лекарство. Однако пациенты и медицинское сообщество высказали серьезные опасения, ведь решение FDA могло ограничить доступ к лечению, способному спасти жизнь. В результате FDA пересмотрела свою позицию и разрешила проводить ТФМ всем пациентам с хроническим заболеванием C. difficile.
Если вам кажется, что эта история — пример излишней бюрократизации, это еще не все. FDA, с одной стороны, ограничивает использование ТФМ для лечения всех инфекций, кроме C. difficile. С другой стороны, FDA не требует подвергать фекальную массу, используемую для трансплантации, стандартным испытаниям, позволяющим убедиться, что в ней нет возбудителей инфекций. Многие врачи все-таки проводят анализ безопасности донорских образцов, но характер и масштаб тестирования зависят от медицинского учреждения[105]. В настоящее время не существует согласия относительного того, какие испытания необходимо проводить для донорского стула. Конечно, материал не должен содержать заразные патогены — такие как ВИЧ, паразиты и другие виды микробов, которые могут передавать болезни. Но достаточно ли этого? Микрофлора может переносить физические и психологические свойства у лабораторных животных и, возможно, у людей. Не значит ли это, что все доноры должны быть с