Читать онлайн Самолёт Москва – Белград бесплатно
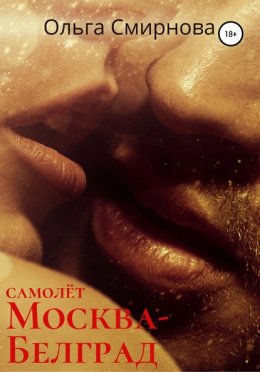
1982 год
Девочка понравилась ей сразу. Она стояла впереди, в очереди в магазине, и Полина наконец-то смогла рассмотреть её во всех подробностях.
Не дылда, но и не коротышка.
Пепельно-русые волосы, с выгоревшими до платины прядями над высоким лбом, собраны в хвост под черную резинку.
Брови и ресницы цвета кофе.
На вздернутом кончике носа то ли родинка, то ли веснушка.
Хилые руки с острым, как шило, локтем, ладони на удивление узкие и породистые.
Пальчики длинные, ровные, но неопрятные, с воспаленной махрой заусенцев вокруг криво подстриженных ногтей. Анемия.
И всё – таки красивая… Красивая, но ещё не знает об этом. Если бы знала, не стояла бы, упершись взглядом в стену.
– Уснула что ли? – гаркнула продавщица. Девочка вздрогнула и, суетливо путаясь в авоське, выудила бутылку с высоким горлышком:
– Мне масла постного, тетя Лена… Пожалуйста…
Продавщица что-то буркнула в ответ, вставила в горлышко металлическую воронку в желтых потеках, и масло ленивой золотистой струей потекло по стенкам бутылки.
Кажется, её звали Кира. Полина частенько видела эту робкую девочку в подъезде и во дворе. Семья её была… Как бы это помягче сказать? Обыкновенная такая семья провинциального городка начала 80-х: выпивающий отец, уставшая бороться с его пьянством мать, ну и, разумеется, символы здешнего понимания о достатке и благополучии – трёшка в многоэтажке да мотоцикл с коляской.
Полина Аркадьевна улыбнулась своим мыслям. Провинциальный городок! Какая прелесть в каждом слове! Вот только в их райончике ничего уютно-патриархального и близко не наблюдалось. Ничего. Абсолютно. Зато «радовали» взор бесконечные, грязно-серые ряды стылых панельных пятиэтажек в бородавках разномастных балконов и лоджий, чахлые дворы с раскуроченными, ещё во времена оны, ржавыми качелями, загаженные песочницы, в которых, отгоняя вечно голодных собак и кошек, вяло ковырялись сопливые наследники пролетарского алюминия.
Впрочем, это ей после Москвы, после родных Хамовников, всё кажется таким убогим. Будем справедливы, здесь тоже встречаются приятные глазу места. Например, неподалеку есть скверик, где можно пройтись в гордом одиночестве, вдыхая медово-свежий аромат раскидистых лип, с великодушием старых деревьев заслонивших собою торжество экономики, которая должна быть экономной. Именно в этом сквере она увидела девочку в первый раз, та сидела с книжкой в руках на утопающей в высоком бурьяне лавочке. Игра солнечных бликов и резных теней листьев дробила её черты, и в памяти Полины от той встречи с Кирой осталось не её лицо, а серебристое облако волос и острые, цыплячьи плечи. Что ж, картинка была вполне ренуаровской. Полина хотела спросить у девочки, что за книгу она так увлеченно читает, но почему-то передумала и, не обнаруживая себя, повернула назад.
Когда Полина Аркадьевна переехала сюда по воле грешной судьбы, то ещё на вокзале поняла, что умрёт в этом городке от тоски и эстетического шока. Люди, живущие здесь, не вызывали у неё ни сочувствия, ни интереса. Мужчины много пили, женщины были откровенно некрасивы, с грубыми лицами в обрамлении волос, сожжённых химией и перегидролем до состояния пакли, дети – крикливы и разболтаны, с малых лет эти сопляки учились добиваться своего матом и силой. Прожив почти месяц в этом городишке, Полина Аркадьевна так ни с кем и не сошлась близко, а все попытки соседей сунуть свой любопытный нос в её жизнь или "задружиться" семьями пресекала на корню.
Но эта девочка с 5 этажа ей нравилась, хотя… Что здесь ждёт таких задумчивых нимф? Ну, если по-честному? В лучшем случае поступит в местный педагогический, без связей, без репетиторов о большем и мечтать не стоит, потом, как водится, выйдет замуж, хорошо, если муж попадётся добрый и умеренно пьющий. Жизнь замкнёт семейный круг, не оставляя вариантов: панелька, сопливые дети, не шибко умные подружки. Если хватит мозгов, то не будет рожать одного за другим, как многие бабы в этом богом забытом месте. Полина Аркадьевна одёрнула себя: какое ей дело до чужого, забитого ребенка? Это же гетто, типичное советское гетто рядом с промзоной. Да лишь бы не было ещё хуже…
Кира, купив, кроме масла, буханку ржаного, как говорили здесь «черного», заторопилась к выходу. Полина немного задержалась у прилавка, не спеша выбирая сладости к чаю под нетерпеливые шепотки очереди. Разумеется, на неё продавщица гаркать не посмела, а только собрала рот в куриную гузку, выказывая негласную солидарность с очередью.
К тому моменту, как Полина наконец вышла из магазина, масло из разбитой бутылки уже почти впиталось в щербатую поверхность бетонного крыльца, оставив после себя, лоснящееся на солнце, темно-серое пятно. Рядом, на корточках копошилась Кира, собирая осколки и складывая их в авоську. Полина со вздохом спросила:
– Грохнула?
Девочка подняла испуганные глаза: серо-зеленые, почти прозрачные у зрачка и темнеющие к краю, как будто кто-то обвел радужку мягким, грифельным карандашом. Необычные глаза, глубокие, такие надолго запоминаются.
– Дома ругать будут? – сочувственно поинтересовалась Полина.
Кира втянула голову в плечи и тихо прошелестела:
– Не очень сильно. Совсем почти не будут…
– Вот что, зайдём ко мне, я дам тебе бутылку и авоську. Деньги на масло ещё остались?
Девочка молча кивнула. Полина помогла ей собрать осколки, которые они вместе с авоськой выкинули в единственный на все окрестности мусорный бак. Кира наотрез отказалась заходить в квартиру и осталась ждать в подъезде, у двери, пока Полина Аркадьевна искала подходящую бутылку.
Честно говоря, Кира немного побаивалась эту странную женщину, да и не женщину вовсе, а пенсионерку, впрочем, её весь дом побаивался. Была эта Полина Аркадьевна какая-то… Какая-то неприступная, что ли? Переминаясь с ноги на ногу, Кира выгребла из кармана мелочь и быстро пересчитала, переживая, что оставшихся денег может не хватить на ещё одну бутылку масла. Ну, если не хватит, то она попросит тетю Лену налить масла поменьше… Интересно, так можно? Кира сглотнула слюну. Эх, отрезать бы сейчас горбушку от буханки, что зажата подмышкой, полить её маслом с запахом жареных семечек, кинуть сверху щепоть крупной соли… Вкуснота!
Дверь наконец открылась, получив из рук Полины бутылку с авоськой и бросив торопливое «спасибо», Кира пулей вылетела из подъезда. Полина, которую развлекло «масляное» происшествие, дала себе слово присмотреться повнимательнее к этой тихоне.
***
Алёна сладко потянулась у зеркала и взбила блестящие рыжие кудряшки. Хорошая вещь – крем для волос "Рыцарь", жалко, что дефицит. Выгнувшись вперед и одновременно оттопырив зад, Алёна крутанулась у зеркала, любуясь своим отражением. Хороша! Всё при ней: и полная грудь, и тонкая талия, и глаза – ярко-зелёные, раскосые, с чертовщинкой! В кого это Кирка у них такая некрасивая и бледная, как намытая тряпка? Ничего ж у девки не растёт, кроме ног! А уж худа до чего! Зато умная, вон сколько книжек прочитала. Нет, пусть учится, образованный человек в родне никогда не помешает.
Широко и протяжно зевнув (аж челюсть хрустнула), Алёна огладила свое фигуристое тело (все подружки от зависти помирают, первая в классе стала лифчик носить), и двинула на кухню. В раковине, как обычно, кренилась Пизанская башня грязной посуды. Алёна поморщилась, решив, что даже пальцем не притронется – они ей почти никто, чтобы за ними посуду намывать. «Они» – это отчим и брат, которого мать родила после второго замужества. Алёна зажгла газ и с громким стуком поставила эмалированный чайник на плиту.
Когда утонул отец, ей было всего семь лет, а Кирке и того меньше – четыре. Три года они жили втроем в солнечном, теплом бараке, обшитом крашеной фанерой. Какая хорошая была жизнь! Была, пока к ним не стала захаживать соседка, набиваясь в подруги к матери. Придет, рожу постную состроит и вздыхает так горестно, жалко, мол, мне тебя Аня, сама одна, и девки без отца растут. Алёна эту тётку сразу невзлюбила, прям, как чувствовала.
Достав из раковины кружку с остатками чая, и, брезгливо держась двумя пальчиками за ручку, Алена сполоснула её под краном, плеснула заварки и кипятка, смастерила на скорую руку бутерброд с сахарным песком и маслом.
Так вот, ходила эта соседка к ним, ходила, а потом начала сватать своего родственника из какой-то деревни. Зачем нормальному парню нужна вдова, которая старше его на пять лет, да ещё с двумя маленькими детьми? Ясно дело, не знали куда пристроить своего урода! Но мать согласилась познакомиться, мало того, ей этот хлыщ очень даже понравился, влюбилась, можно сказать, с первого взгляда, сразу после свадьбы родила, чтобы это сокровище, Витюшенька, не убежал. А он всё равно гулял! Одна радость, что устроился работать на вахту, на севера, по две недели дома не бывало, да и зарабатывал хорошо. Зато, когда возвращался, куролесил по полной, хоть из дома беги. В такие дни Алёна злорадничала, тыкала в мать тем, что и себе, и им жизнь испортила. Самое обидное, мать у них не какая-то там деревенщина бестолковая, в свое время техникум окончила, на фабрике уважаемый человек, мастер цеха, раньше каждый месяц по обнове покупала, книжки из библиотеки носила, а теперь ходит, как этим самым убитая.
Возвращая чашку в раковину, Алёна больно ударилась коленкой о самопроизвольно открывающуюся дверцу старого буфета. Ну и рухлядь! Три месяца, как переехали, а ремонт даже не начинали. У всех нормальных людей уже кухонные гарнитуры, стенки в зале, хрусталь, паласы. В их семье деньги уходят на прихоти Витюшеньки: то ему мотоцикл подавай, да не «Яву» какую-нибудь, а чешский Чизет, то лодку надувную приспичит купить, подумаешь, рыбак какой нашёлся! Как говорила покойная бабка, не мужик, а прорва. Ну Серёжке-то, конечно, перепадало, как никак родной сыночек, не то, что они с Киркой, падчерицы, даже для матери, как обсевки в поле стали.
Какое счастье, что она уезжает учиться на бухгалтера, специально выбрала техникум в Горьком, чтоб отчалить подальше от драгоценных родственничков. Правда, сестру жалко, замудохает её эта семейка. Серёжа-то, не смотри, что шкет сопливый, над Киркой издевается, как хочет: то её тетрадки школьные исчеркает, то из учебника страницы выдерет, то чай на голову выльет, и всё ему с рук сходит, любимому дитятку. Один раз Алёнка не выдержала, оттаскала братца за чуб, мать, конечно, разоралась, только ведь и она за словом в карман не полезет, а вот Кирка молчит, как овца. Сестру Алёнка жалела, но что поделаешь, у каждого своя судьба…
Отодвинув штору в желтых подсолнухах, Алёна выглянула в окно: Кира шла к подъезду вместе с какой-то пожилой женщиной. Да это, кажется, их новая соседка, про которую говорили, что она в Москве работала хирургом и, вроде как, кого-то там зарезала. Не специально, конечно, случайно, во время операции. Странно, Кирка-то ей зачем?
Алёна, почувствовав, что опять проголодалась, сварганила на скорую руку суп из пакета, как раз и Кирка вернулась из магазина.
– Ты чего так долго? Чья это авоська? Наша-то где? – набросилась она на сестру, едва та успела переступить порог.
– Я бутылку с маслом разбила, у авоськи ручки оторвались, – виновато объяснила Кира.
– Сухоручка, – коротко резюмировала Алёна. – Ладно, айда хомячить, я суп сварила.
Сестры сели обедать, Алёна посмотрела на Киру, которая уныло водила ложкой по тарелке, и строго сказала:
– Ты давай, это… Повеселее… Уезжаю я через неделю. Помнишь?
Кира понуро кивнула, Алёна постучала ложкой по краю тарелки, требуя внимания:
– Не больно-то им поддавайся. Сережке сдачи давай, не жалей, а то совсем обнаглеет без меня. Слышь, чего говорю? Приезжать буду, проверять, как ты тут с этими, не часто, но раз в две недели точно. Кир, может тебе на будущий год, после восьмилетки, тоже в Горький податься?
Кира неуверенно пожала плечами:
– Я в девятый класс хотела…
Алёна понимающе покачала головой:
– Ну да, ты же хорошо учишься, можно попробовать в институт поступить. Доедай пошустрее, скоро эти вернуться.
***
Кира вытянула шею и с тоской посмотрела на дверь. Уже больше часа мается она в подъезде, ждёт, когда зареванная мать позовёт её домой. Холодно… Отчим сдернул её за ногу с кровати посреди ночи, она даже тапочки не успела надеть, так и выбежала в подъезд босиком, в одной ночнушке. Зябко… Кира то забивалась в угол и стояла там, как цапля, поочередно поджимая ноги, то присаживалась на краешек серого от пепла подоконника, стараясь просунуть ступни-ледышки между секциями чуть теплой батареи. Сквозняк от окна бесстыже оттопыривал ночнушку на груди и животе и, за считанные минуты продувая до костей, безжалостно сгонял с насиженного места.
За что дядя Витя ненавидит её? Уж она и так, и эдак им угодить старается! Вот Алёнку он побаивается и даже говорит заискивающе: «Наш человек», а её, Киру, такими словами поносит, что и выговорить стыдно. Мальчишки во дворе так не обзываются! Уехала сестра в Горький, и совсем житья не стало… Как назло, дядя Витя пропустил вахту и уже больше месяца жил дома, уходил с утра, возвращаясь за полночь, со всей дури пиная по двери, у них теперь квартира вообще не запирается – замок-то вырван с мясом. Если отчим падал на пол, прямо у порога, и начинал храпеть, как трактор, на всю квартиру, Кира облегченно закрывала глаза и засыпала, но по-другому бывало чаще…
Сколько же ей так стоять? Совсем ведь околела. Может поскрестись в дверь, или осторожно приоткрыть, просунуть голову, разузнать обстановку? Нет, лучше не надо, ещё получит по лбу… Подождёт немного, тем более от холода и спать-то совсем расхотелось, правда, завтра, в школе, все уроки носом клевать будет. Хорошо, что ночь, и по подъезду никто не шастает, все спят в своих теплых постельках. Кира протяжно вздохнула и вспомнила мамину свадьбу. Она тогда совсем маленькая была, из воспоминаний – только ноги в брюках, женские туфельки да плывущий над головой поднос с двумя гранёными рюмками. Её никто не замечал, она стащила с тарелки кусок рыбного пирога и ела его, забравшись под стол, а потом, пока не уснула, играла с золотистой бахромой скатерти…
***
Полина Аркадьевна с раздражением захлопнула книгу и подняла глаза к потолку: крики в квартире этажом выше не давали сосредоточиться на любимой Агате Кристи. Не выдержав, встала с кресла, полная решимости подняться к соседям и дать нагоняй за скандал, а если потребуется, то и милицию вызвать.
Когда вышла в подъезд, то услышала шорох на верхней лестничной площадке и, поднявшись на несколько ступеней, увидела Киру. Девочка тряслась крупной дрожью, стоя босыми ногами на холодном, бетонном полу, из одежды на ней была только короткая ситцевая ночнушка. Полина ошарашенно спросила:
– Что ты тут делаешь? Почему ты не дома?
Кира, ничего не ответив, ещё сильнее сжалась в углу от стыда перед соседкой. Полина всё поняла:
– Тебя отчим из дому выгнал? Ну, я ему устрою!
Кира замотала головой:
– Пожалуйста, не надо, только хуже будет… Он сейчас уснёт, и мамка меня домой позовёт, а назавтра дядя Витя и не вспомнит ничего!
Полина потерла лоб, приходя в себя от услышанного, Кира вцепилась в её руку и, умоляюще заглядывая в глаза, повторила:
– Не надо! Если вы придёте, он ещё больше озвереет, его тогда до утра не уторкаешь…
Полина с жалостью посмотрела на охваченного недетским страхом ребёнка, и внутри всё заклокотало от злости на этих извергов, способных выставить девчонку в продуваемый всеми ветрами подъезд. Каково ей тут стоять почти голой? Хорошо ещё то, что это она, женщина, вышла, а если бы мужчина? Да эта пигалица со стыда бы сгорела! Ну ладно, отчим, а мать-то о чём думает?
Она попыталась приобнять Киру, но та, вопреки ожиданию, не прильнула к ней, а, наоборот, трогательно перебирая на цыпочках «жеребячьими» ногами с острыми коленками, отступила к стене.
– Пошли ко мне, хоть чаем тебя напою… Чай будешь? С баранками или с вареньем? – Полина взяла Киру за руку и решительно потянула за собой.
***
Фарфоровая пастушка с букетиком роз и ягнёнком на руках стояла на маленьком столике у стены, Полина Аркадьевна сказала, что такой столик называется "консоль". Кира осторожно провела пальчиком по прохладному, в тончайших трещинках фарфору. Она сомневалась, стоит ли идти к соседке, тем более Аленка наговорила про неё всяких ужасов. Наверно, это неправда. Если бы это было правдой, то Полину Аркадьевну посадили бы в тюрьму.
Уютно-оранжевый свет торшера падал на альбом с фотографиями, лежащий у Киры на коленях. С пожелтевших фотографий смотрели серьёзные мужчины со смешными усиками и волоокие дамы в старинных шляпках – пирожных. Полина Аркадьевна охотно поясняла каждое фото:
– Это мой дед, он был известным на всю Москву педиатром. Это отец, закончил юридический факультет Московского университета. Когда началась революция отцу было семнадцать лет, а маме исполнилось ровно десять. Вот их свадебная фотография, 1925 год, к сожалению, родители умерли от испанки совсем молодыми, испанкой называли грипп. Меня воспитывала бабушка по материнской линии. На этой фотографии она совсем юная, гимназистка, а здесь сразу после замужества. Бабушка скончалась в конце войны, я уже училась в медицинском. Узнаешь меня на этой карточке? Это я в ординатуре, ой, какое у меня суровое выражение лица! Никогда раньше не замечала… Кира, да ты засыпаешь!
Полина Аркадьевна забрала у неё альбом и пружинисто поднялась с дивана, чтобы поставить его на полку. Она была чуть выше среднего роста, и той приятной полноты, которая свойственна идеально сложенным женщинам. Маленькие, изящные руки украшали кольца, в одном из которых густым фиолетом мерцал большой овальный камень. И кто это придумал, что Полина Аркадьевна старушка на пенсии? Разве у пенсионерок бывают такие пышные, темно-каштановые волосы и такие гладкие лица? У Полины Аркадьевны даже морщинки в уголках темно-серых глаз были тонкие-тонкие, как лучики. Кира беззастенчиво любовалась соседкой, которая в её воображение уже являлась копией одной известной артистки, но заметив улыбку Полины, смутилась и ткнула пальцем в пастушку:
– Так красиво! Почему сейчас такое не продают в магазинах?
Полина Аркадьевна мягко шлепнула по её руке:
– Во-первых, никогда не показывай пальцем, это выглядит неприятно. Во-вторых, красивые вещи делают и сейчас, человек не собака, не кошка, ему не всё равно на что смотреть, из чего есть, что носить, и слава Богу. Никогда не стесняйся желания иметь красивую добротную вещь, это не стыдно, это нормально. Почему не продают в магазинах? Запомни, всегда были, есть и будут вещи доступные немногим или вообще избранным.
Полина мысленно усмехнулась, вспомнив изумительный спальный гарнитур из карельской березы, который видела в квартире известного писателя, автора книг о комсомольцах 20-х годов. Кире этого, она, конечно, не рассказала. Слишком рано говорить с ней о таких вещах. Чтобы сгладить свою резкость, Полина приобняла девочку за плечи и мягко спросила:
– Прости, Кирочка, я тебя совсем заболтала, может ещё чаю?
Кира вежливо отказалась. Прощаясь, она с тоской посмотрела на Полину, такую добрую и красивую, всё-таки напрасно Алёнка называла соседку старой ведьмой. Домой идти не хотелось…
Отец Полины Аркадьевны работал в наркомате иностранных дел под началом Чичерина. Она родилась в 1927 году, через год родители уехали в Женеву, оставив Полину с бабушкой: после убийства красного дипкурьера Нетте отец не стал рисковать маленьким ребенком. Через два года родители решили не возвращаться в СССР и сбежали в Латинскую Америку. Лет десять назад Полина Аркадьевна узнала, что мать вскорости умерла, а отец завёл новую семью, начав жизнь с чистого листа. Бабушку чудом не посадили, но она долгие годы спала вполглаза, ожидая ареста. В 14 лет Полина сожгла все фотографии отца и матери, её ненависть к ним не знала пределов. Тогда в первый и последний раз бабушка её ударила, наотмашь, по лицу. В 70-е на блошином рынке Полина Аркадьевна купила чужие старые фото и, вставив их в альбом, говорила всем, что это её родители. На полке стоял ещё один альбом, в котором были фотографии сына, но Полина не стала показывать их Кире. Тогда бы пришлось объяснять то, чем она ни с кем не хотела делиться…
1983 год
– Ты удивительная девочка, Кира! С днем рождения! – сказала Полина, вручая шикарный альбом по искусству 18 века. Кира никогда не держала в руках такую книгу. Нет, не так! Она никогда не держала в руках такую роскошную вещь, как эта книга. Целый вечер Кира жмурилась от счастья, вдыхая запах свежей типографской краски и трогая самыми кончиками пальцев плотную, шелковистую бумагу. Ах, какие иллюстрации были в этом альбоме! Каждый мазочек видно! Она будет растягивать удовольствие, читая по одной странице в день, не больше.
Через неделю, захлёбываясь слезами, призналась Полине, что брат изрисовал альбом химическим карандашом, а некоторые листы выдрал с корнем. Полина Аркадьевна взяла её за подбородок, и, вместо ожидаемого Кирой утешения, жестко сказала:
– Запомни слово «моё». Не запомнишь – ничего не добьешься. Как ты выберешься из этой клоаки, если у тебя изо рта тащат? Прячь, чтобы не нашли, найдут, отберут – царапайся, кусайся, кричи, но своё верни. Тогда, может быть, кое-что и получишь от жизни. Кира, ты, как дом без окон и дверей, заходи и бери, что душа пожелает!
После этого разговора Полина Аркадьевна дала ей книгу «Унесенные ветром». Киру неприятно поразили слова Скарлетт:
«Я пройду через всё, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать».1
Но её-то учили совсем другому! Учили тому, что чистая совесть важнее сытого желудка, что бедность не порок.
–Порок, – безапелляционно отрезала Полина Аркадьевна. – Ещё какой порок! Но только не для гениев, чей свет искупляет все пороки и все грехи. Нам, простым смертным, должно думать о хлебе насущном. Бедненько, но чистенько? Ерунда. Бедность не бывает чистой.
Кира задумалась. В чём-то Полина была права, к примеру, ей почти никогда не покупали новой одежды, она донашивала за Аленой даже колготки. И что? Как ни стирай, как ни штопай, все равно выглядишь оборванкой! С другой стороны, её бабушка жила совсем небогато, но в избе всегда было прибрано, пахло молоком и сеном. В общем, Кира и не поняла, понравилась ей эта Скарлетт или нет…
***
Отчим дремал у телевизора, мать возилась на кухне, Кира заканчивала стирку, а вот брат вёл себя подозрительно тихо: уже битый час его было ни видно, ни слышно. Внезапная догадка заставила Киру охнуть: на её письменном столе лежала школьная стенгазета… Что если Сережка добрался до неё? Моментально забыв о стирке, Кира побежала в свою комнату.
Так и есть! Братец пыхтел от удовольствия, расстригая стенгазету на тонкую лапшу. Кира подскочила к нему и вырвала из рук ножницы, Серёжка от неожиданности втянул голову в плечи, вытаращив круглые, совиные глаза. Вспомнив назидание Полины, она схватила его за ухо и прошипела:
– Не смей больше трогать мои вещи! Никогда! Понял? Иначе я тебе все уши пооткручиваю!
Брат завизжал, как поросёнок, от страха и боли, на его крики прибежала мать. Увидев заплаканного сына и испорченную стенгазету, мать с ходу набросилась на Киру:
– Тебе кто разрешил руки распускать? Кобыла взрослая, а ума нет. Убить малого готова из-за какой-то сраной стенгазеты!
Кира чуть не заплакала от обиды, бросилась в комнату брата, схватила со стола букварь и разорвала по корешку, мстительно приговаривая:
– Будешь знать, как трогать мои вещи, будешь знать!
Серёжа, влетевший в комнату вслед за ней, заблажил на всю квартиру, призывая родителей к скорой расправе над сестрой. Отчим, разбуженный семейным ором, злой с похмелья, не сразу сообразил в чём дело. Выслушав ревущего сына и дав ему для профилактики подзатыльник, Виктор навис над падчерицей и, дыша в лицо перегаром, просипел:
– Совсем офонарела, сучка? Чтоб завтра же ноги твоей здесь не было! Усекла?
Кира, дрожа то ли от страха, то ли от ненависти к этой опухшей роже, выпалила:
– Сам уходи! Не боюсь тебя…Понял?
Широко размахнувшись, отчим ударил её по голове ладонью, Кира, как мячик, отлетела в сторону и врезалась виском в дверной косяк, в глазах сначала потемнело, но уже через секунду эта, вибрирующая болью, черная пустота вспыхнула желто-красные пятнами. Кира осторожно тряхнула головой, удивляясь тому, что «искры из глаз» не выдумка писателей, искры из глаз существуют на самом деле. Мать, закричав, вцепилась в мужа, пытаясь оттащить его от дочери, но тот уже вошёл в раж. Пудовым кулаком он толкнул девочку в спину и, когда та упала ничком на пол, с остервенением стал пинать в живот. Кира попробовала закричать, набрала в лёгкие воздуха, но тут же задохнулась от боли под ребрами. Удары по животу, голове, рукам были такими частыми, что она не успевала даже пискнуть и просто сучила ногами по полу. Анна умоляюще запричитала:
– Витя, забьёшь ведь до смерти, посадят тебя, уймись, Христом Богом прошу!
Виктор отшвырнул жену, постоял немного, раскачиваясь из стороны в сторону, и, матерясь, побрёл на кухню. Анна помогла дочери встать, отвела в комнату и уложила на кровать. У Киры уже не было сил всхлипывать, слёзы просто текли по лицу бесконечными, горячими ручейками, мать вытирая их шершавой ладонью, шептала то ли виновато, то ли с укором:
– Ты зачем язык-то высунула, горе моё? Пошумел бы, пошумел да успокоился, не знаешь его, что ли? Завтра в школу-то не ходи, дома отлежись. И это самое… Полине-то своей не рассказывай ничего, слышишь? Ей до нас дела нет, как приехала, так и уедет, а нам тут жить! Думаешь, она сильно добрая? Нет, доченька, ей здесь заняться нечем, вот она и нашла себе игрушку. Не скажешь? Не дай Бог, в милицию сообщит или в школу, опозорит на весь город.
Кира еле слышно промямлила:
– Не скажу… Мама, мне в ванную надо, я, кажется, описалась…
***
Но Полина всё равно узнала. Она слышала скандал у соседей и не находила себе места от тревоги. Кира умоляла её не вмешиваться, говорила, что отчим не распускает руки, а только кричит и пугает. Полина не очень-то ей верила, но успокаивала себя тем, что ни разу не видела на девочке ни синяков, ни ссадин.
На следующий день Кира не пришла, что было странно: она всегда забегала к ней после уроков, чтобы поделиться школьными новостями. Полина Аркадьевна решила подняться к соседям и разобраться во всём самой. Ей долго не открывали, но она упрямо жала на кнопку звонка. Наконец дверь распахнулась, и Полина охнула, увидев Киру. Девочка была белее снега, её чудесные глаза заплыли и превратились в узкие щёлочки, но больше всего пугало то, что она горбилась, прикрывая руками низ живота. Полина Аркадьевна, не спрашивая разрешения, шагнула внутрь.
– Показывай, что там у тебя!
Кира попятилась, Полина, поймав её за подол, распахнула халатик – «там» живого места не было. Кира, дыша через раз, гипнотизировала воспаленными глазами дверь туалета с пластиковым силуэтом мальчика на горшке.
– Не шугайся, дай мне осмотреть тебя. Здесь больно? А здесь? – Полина осторожно надавила на ребра, Кира ойкнула и скорчилась от боли.
– У тебя сломано ребро. Приложи заморозку из холодильника. Я вызову скорую. Расскажешь им, как всё было.
Кира запахнула халатик.
– Не расскажу. Не ваше это дело, Полина Аркадьевна!
Полину передернуло от такой, несвойственной этому нежному созданию, грубости.
– Собирай вещи и переезжай ко мне. Через два года поступишь в институт, уедешь, забудешь всё, как страшный сон, – подумав, предложила она.
– Нет, Полина Аркадьевна, я дома останусь, мне маму жалко, ей и так тяжело. Даже не уговаривайте.
– Как знаешь, – немного обиженно ответила Полина. – Скорую я всё равно вызову.
Дома Полина мысленно ругала себя на чём свет стоит. «Защищай своё, Кира!» Старая дура. Что может эта девочка против взрослого мужика, которому закон не писан? Что может Кира, если мать не хочет ничего менять?
Вызвав скорую, Полина подошла к окну, минут через десять в подъезд вбежала Кирина мать, поправляя сбившийся на бок платок, ещё через минуту подъехала скорая. Через полчаса из подъезда вывели Киру, опирающуюся на руку фельдшера скорой. Вечером соседка, чья квартира была напротив самсоновской, рассказала всему подъезду, что Кирка-то «убилась в лепешку», катаясь с братом на Варакшиной горе.
– Расскажи правду. Твоего отчима посадят, – уговаривала Полина, навещая Киру в больнице.
– Посадят и что? У Катьки Авдеевой мать отца посадила, а он вышел через год, так им теперь жизни нет, ночуют по соседям, – Кира по-старушечьи упрямо поджимала губы и отворачивалась, тыкаясь носом в подушку.
Столкнувшись в больничном коридоре с её матерью, Полина не сдержалась:
– Аня, я понимаю, что это не моё дело, но… Может я могу помочь? Я предлагала Кире переехать ко мне, временно, пока у вас всё наладится с мужем.
– Как это, переехать? При живой-то матери? Вы ерунду-то не говорите, в каждой избушке свои погремушки! И Киру с толку не сбивайте, всё книжки ей какие-то даёте. Зачем? То, что надо, ей в школе или в библиотеке выдадут! – Анна отодвинула Полину, давая понять, что разговор окончен.
– Если ещё раз её тронете, я на вас заявление напишу! Слышите? – зло крикнула вслед Полина. Анна обернулась и протянула с растяжкой, пряча за усмешкой обычный бабий страх:
– Да кто вы такая, чтобы на нас заявления писать? Сама-то, говорят, чуть на нары не присела!
– Узнаете, кто я такая. И моих старых связей вполне хватит, чтобы отправить твоего мужа подальше Мордовии, – многозначительно пообещала Полина.
Анна моргнула и, ничего не ответив, взлетела по лестнице.
Выписавшись из больницы, Кира зашла к Полине, чтобы извиниться, выпила чаю и уснула на диване с книжкой в руках.
***
Гроза застала их врасплох. Сухую летнюю жару сменила отупляющая духота, на северо-востоке, по небу разлилась густая синева с белесым мазком дальнего ливня. Поднявшийся ветер споро погнал на город, похожие на перегруженные баржи, грозовые тучи. Тучи неловко толкались сизыми, бугристыми боками, пока наконец не замерли на месте, изнемогая от собственной тяжести. Прямая, вертикальная молния ударила в горизонт, давая сигнал началу стихии, тучи облегченно выдохнули долгим раскатом грома, и «разверзлись хляби небесные», обрушивая потоки воды на пыльные улицы.
Полина беспомощно оглянулась: ещё пара минут и они вымокнут до нитки, а там и до пневмонии обоим недалеко. Кира вздрагивала от каждого раската грома и суеверно твердила:
– Это Илья-пророк бесов гоняет.
Угораздило же их именно сегодня пойти в кино! Да ещё на индийский фильм, от которого Кира, чего не скажешь о Полине, была в полном восторге.
– Вернёмся, переждём грозу там, – Полина махнула рукой в сторону кинотеатра.
Киру, у которой уже зуб на зуб не попадал, не пришлось долго уговаривать. В фойе кинотеатра было пусто, билетерша дремала на стуле, охраняя дверь в зал. Полина нацепила очки и подошла к афише: неизвестно, когда кончится гроза, можно ещё какой-нибудь фильм посмотреть. Судя по красиво выписанной тушью афише, через несколько минут должен был начаться «Гамлет», со Смоктуновским, этот старый, чёрно-белый фильм, повинуясь какой-то странной логике, втиснули между сеансами «Танцора диско». Полина вопросительно посмотрела на Киру, топтавшуюся рядом, та потешно сморщила носик. Ещё бы не сморщила: после зажигательных танцев и песен Митхуна Чакраборти смотреть «Гамлета» было совсем не комильфо.
– Это классика, Кира, не морщись, – строго сказала Полина и пошла будить билетершу.
После начальных титров Полину потянуло в сон, какое-то время она, подавляя зевки, мужественно боролась с дремотой, но потом не выдержала и уснула, как старая бабка. Ей снилась гроза с бесконечными раскатами грома, пару раз за сеанс Полина открывала глаза и понимала, что это просто музыка Шостаковича ломится ей в уши. После грозы пришел черед кривоногих шотландцев, которые долго и с удовольствием мучили её сон своими писклявыми волынками. Проснувшись к концу фильма, Полина повернулась на белеющий в темноте профиль Киры. На экране умирал белокурый Гамлет, и Кира умирала вместе с ним, сидела, подавшись вперёд и крепко сжав кулачки на подлокотниках кресла, её хорошенькое личико было исполнено такой бесконечной муки, оставаясь при этом по-детски простым и беззащитным, что Полина не знала плакать ей или смеяться.
К тому времени, как они вышли из кинотеатра, гроза уже давно закончилась, оставив после себя наэлектризованный воздух и зеркальные блюдца луж на потемневшем асфальте. Всю дорогу Кира шла молча, на вопросы отвечала невпопад, Полина замучилась хватать её за руку, когда она, не замечая ничего вокруг, так и норовила попасть ногами в лужу.
***
«Звонок в дверь в пять утра не похож на трель жаворонка. Телеграмма, что ли?», – думала Полина, открывая дверь. На пороге стояла Кира, кутаясь в свалявшийся пуховый платок и прижимая к груди какую-то книгу. Полина в который раз поразилась перламутрово-бирюзовой глубине и недетской серьёзности её глаз.
– Полина Аркадьевна! Я прочитала это. Я не могу спать. Это невыразимо прекрасно и невыразимо больно! – прошептала Кира, протягивая ей книгу.
Полина понимающе хмыкнула, прочитав название: «Гамлет», Шекспир.
– Мне так… Так давит внутри! Я не знаю… Что я чувствую?! Поговорите со мной, прямо сейчас, пожалуйста! Я умираю…
– Ну… Это же трагедия. Девять трупов, – рассмеялась Полина. Ей только литературных диспутов не хватало в такую рань!
– Вы не понимаете, – разочарованно протянула Кира на её иронию. – Вы ничего не понимаете… Я хочу туда, в Эльсинор, спасти его! Как мне попасть туда? Как?
Полина, вздохнув, втянула девочку в квартиру и, усадив в кресло, погладила по мягким, растрёпанным волосам:
– Надеюсь спасти ты хочешь Гамлета, а не Клавдия. Шучу. Милая моя, скажу честно, на меня эта пьеса не произвела особого впечатления, но был человек, который почувствовал то же, что и ты. Позже он напишет, что эта трагедия навеки ранит сердце болью очарования. Понимаешь? Боль очарования.
– Боль очарования? – оживилась Кира – Да, да… Именно! Кто был этот человек?
– Психолог Лев Выготский2, в моей московской квартире должна быть его книга о Гамлете, принце Датском. Подожди-ка… Есть одно стихотворение… «Шестое чувство», Николая Гумилева – Полина подошла к шкафу, пробежалась кончиками пальцев по корешкам, выдернула из плотного ряда книг сборник поэтов Серебряного века и, открыв на нужной странице, протянула девочке.
– Вы хотите сказать, что боль очарования и шестое чувство – одно и тоже? Кричит мой дух… У меня не болит тело, совсем не болит, а внутри всё скрутило, дышать не могу. Зачем мне это? Что мне с этим делать? – спросила Кира, прочитав стихотворение и намотала на пальчик, серебристую в утреннем свете, прядь волос.
– Здесь тебе с этим точно делать нечего. Тебе надо уезжать отсюда. После поговорим, а покамест, извини, я иду спать, – ответила Полина, подавляя зевок.
– Подождите! – воскликнула Кира, схватив её за руку. – Гамлет мог победить?
– Мог. Теоретически.
– Почему не победил?
– Этого никто не знает, Кира. Рок. Или сам не захотел.
– Не захотел победить? Такое бывает?
– Бывает.
– Из-за слабости?
– И этого никто не знает, Кира. Осознанное поражение требует, знаешь ли, большого мужества. Его поражение было, безусловно, осознанным.
– Я придумаю другой конец. Пусть он победит. Можно, я пока здесь посижу? – попросила Кира, кутаясь в платок.
Засыпая, Полина подумала с неожиданным цинизмом: «Какой прекрасный экземпляр рода человеческого, редкое сочетание ума, красоты, чувственности. Она может много добиться, а добившись, поставить всё на карту, ни о чём не жалея. Ума ей не занимать, а вот рассудочности не хватает».
1984 год
На шестнадцатилетие Кира получила в подарок от Полины Аркадьевны тюбик перламутровой помады, комплект импортного белья и флакончик духов в белом флаконе. Белье было похоже на кружевное облачко, и Кира с сомнением подумала: «Ну и куда такое носить? Под школьную форму, что ли?» Нет, она прибережёт бельё для выпускного или, вообще, для свадьбы.
– Не откладывай на завтра то, что можно надеть сегодня, – рассмеялась Полина, узнав о её планах.
– У меня же ничего не растет, Полина Аркадьевна, – горестно призналась Кира, положив ладошки на грудь. – Уж я ем капусту, ем…
Полина приподняла её волосы и уверенно заявила:
– Ты будешь очень красивой женщиной, Кира. Не из каждого гадкого утёнка получается лебедь, но из тебя получится. Я же хирург всё-таки, знаю толк в костях и мясе, верь мне, девочка!
Кира, честно говоря, не особо в это верила. Как-то раз она подслушала разговор отчима с собутыльником. Мерзкий, грязный разговор…
– Старшая-то, ух, какая девка… Сиськи, как бидоны, задницей так вертит, любо посмотреть! Веришь, руки чешутся шлёпнуть со всей дури… А Кирка? Смотреть не на что, одно слово, доска, два соска.
У Киры противно засосало под ложечкой, раньше она и не догадывалась, что дядя Витя может так думать о них, причём, за сестру ей было обиднее, чем за себя. Она едва успела добежать до туалета, где её сразу же вырвало от отвращения к этим пьяным рожам.
***
Алёна хотела дублёнку, дублёнку, дублёнку! Это же ни в какие ворота не лезет! Она, студентка техникума, ходит в клетчатом пальто с кроличьим воротником. Из дома присылали копейки. Обидно было до слёз. Мать, как мастер и передовик производства, получала не меньше двухсот рубликов, отчим привозил с северов около трёхсот, а ей, как кость, кидали рублей двадцать да мешком картошки по осени отоваривали. Алёна все лето гнула спину в местном леспромхозе. А толку? К Новому году накопилось грош да маленько, остальные деньги, как будто в воздухе растаяли. Только импортные сапожки обошлись за сотню! Капроновые колготки, помады, тени, французская тушь в круглом тюбике и прочие девичьи радости тоже, промежду прочим, мани-мани стоили, да и поесть Алёна любила. Сапоги она не носила, берегла к дублёнке, которая тянула минимум на пятьсот рублей. И где взять такие деньжищи?
Для поднятия настроения Алена ходила на рынок. Почти каждый день. Конечно, на рынке на стипендию не разгуляешься, покупала иногда то квашеной капусты, то стакан семечек, лишь бы не с пустыми руками уйти, но особую слабость питала к мясному павильону, прямо слюной исходила на пахучее, копченое сало и румяную, домашнюю колбасу. Н-да, рынок – это рынок, это вам не магазин…
Сладкий аромат свежей свинины так назойливо щекотал ноздри, что она, не удержавшись, громко чихнула на весь павильон и смутилась, заметив пристальный взгляд высокого, широкоплечего парня, стоящего за прилавком. «Заманал пялиться», – подумала Алёна, доставая из кармана платок. Похоже её приняли за воровку. Парень, неожиданно робко для его комплекции, окликнул:
– Простите… Извините, можно вас на минуту?
Алена удивлённо переспросила:
– Меня? Вообще-то, я спешу, молодой человек!
– Вы забыли, заплатили и забыли. Здесь говяжья вырезка, – парень, который, судя по испачканному кровью фартуку, работал на рынке рубщиком, небрежно бросил на прилавок какой-то свёрток
Алёна ничего не понимала. Какая, к лешему, вырезка? У неё и на свиной хвостик-то денег нет! Молодой человек смущённо улыбался, моргая честными, молочно-голубыми глазами. Она пожала плечами и зашагала к выходу, но парень и не думал сдаваться, догнав её в два прыжка, попытался сунуть в руки тот самый свёрток. Алена процедила сквозь зубы:
– Да не покупала я это мясо! Откуда у меня деньги на вырезку? Студентка я, понятно?
Парень расплылся в довольной улыбке:
– Я так и понял, что ты голодная. Уж который раз замечаю, ходишь здесь, ходишь, а ничего не покупаешь. Держи, говорю! Меня, кстати, Гена зовут, я тут рубщиком работаю.
Алёна, сощурив травяные глаза, протянула:
– А-а… Ясно… Познакомиться хочешь? Думаешь, я так и растаяла из-за куска говядины? Да? Ты меня за кого принимаешь, Гена?
– Да ни за кого я тебя не принимаю! Познакомиться хочу, правда. Пойдём в кино сегодня? Фильм новый вышел, «Мы из джаза». Не хочешь? Как хочешь… Но вырезку всё равно возьми, я, если что, от всей души, – сказал Гена с обидой.
Алёна покосилась на свёрток. Ничего так, на килограмм потянет, не меньше.
– Ладно, Гена, пойдем в киношку. Только учти, не на последний сеанс и не на последний ряд! Меня Алёна зовут. Алёна Самсонова, – ответила она, забирая у парня вырезку.
Гена жил в частном доме вместе с матерью. Алена ей понравилась: здоровая, простая, опять же в техникуме учится на бухгалтера, не пэтэушница, а то, что из многодетной семьи, и в кармане вошь на аркане, это ничего, сговорчивей будет. Заметила мать и нежно-голубую дублёночку на плечах Алёны, ясно-понятно, Генка подарил. У него и деньги на рынке, и блат. Девка красивая, пусть все видят, какую кралю сына отхватил. Но уж больно бойка эта краля, с одной стороны с такой женой в жизни не пропадёшь, с другой – глаз да глаз нужен. Алена же почти влюбилась в Гену, даже спокойнее и добрее стала, когда к своим на побывку приезжала. А вот у Киры похоже зубки прорезались…
***
Алена схватила со стола сестры флакончик с лаком для ногтей:
– Ничего себе, сестрёнка, откуда такой лачок? Диор, что ли? Ты, смотрю, маникюр делаешь, не рано ли? Так, лак я у тебя конфискую до лучших времен.
Кира нахмурилась:
– Отдай. Это подарок Полины Аркадьевны, маникюр в моем возрасте делать не просто можно, а нужно. Пожалуйста, не бери без спросу мои вещи. Никогда. Я надеюсь, ты меня услышала.
Алена даже присвистнула от удивления и, не выпуская из рук флакончика, подразнила сестру:
– А что будет, если не услышала?
– Я просто выцарапаю тебе глаза, моя милая систер, окей? – спокойно ответила Кира.
Алена чуть в осадок не выпала: ничего себе, ляля выросла, в тихом омуте, как говориться…
– Ты, видимо, большого ума набралась у соседушки. Ничего, я с матерью поговорю, не фиг шастать по чужим квартирам. Дома дел полно. В Москву собралась на каникулах? Отчим на вахту отчалит, мать на сменах на заводе, кто с малым сидеть будет? – Алёна поставила лак на стол и, задрав нос, вышла из комнаты.
После разговора с сестрой Кира задумалась: мама и так с неохотой отпустила в Москву, ей пришлось самой договариваться с тёткой, чтобы та приглядела за братом. Мать, узнав об этом, недовольно фыркнула, потому что не терпеть не могла одалживаться у золовки, да и Полину Аркадьевну на дух не переносила после того случая. Если ещё и Алёнка постарается, то не видать Кире Москвы, как своих ушей. Что же делать?
На следующее утро завтракали втроём: Кира, Алёна и мать, брат и отчим отсыпались в выходной. Алёна бросала на Киру многозначительные взгляды и ехидно улыбалась. «Ну, всё, – подумала Кира, – сейчас будет бенефис актрисы погорелого театра Алёны Самсоновой». Что ж, посмотрим, чья возьмёт.
– Алён, извини, ты бы оделась уже, сидишь здесь в халатике, скоро дядя Витя и малой встанут, – потупив взгляд, кротко проговорила Кира.
Старшая сестра чуть не поперхнулась от возмущения: ах, ты ж…
– Ты что несёшь, курица! – Алёна замахнулась на сестру ложкой, её ситцевый халатик распахнулся, обнажив полную, белую грудь.
Анна, бросив на старшую дочь злобный взгляд, крикнула:
– А ну сядь! Стол перевернёшь, кобыла! Кира правильно говорит, совсем стыд потеряла, думаешь, не знаю, как ты там учишься! За просто так тебе дублёнки дарят и вырезкой кормят!
Алёна заплакала, у них с Генкой ничего не было, он не такой, чтобы… Мать совсем на своем Витеньке помешалась, родную дочь поносит! Покидав вещи в сумку, она в тот же день уехала Горький. Пусть живут как хотят, она знать их больше не желает, особенно эту Кирку!
Ночью Кира лежала, уставившись в потолок, и думала: "Я чудовище? Обидела сестру, расстроила маму… Но как же все просто, господи! Дергай людей за ниточки и получай, что хочешь. Без унижений, без страха. Я подумаю об этом завтра…"
Утром сбегала на почту и отбила сестре телеграмму: "Люблю тчк Прости тчк". Алёна, получив телеграмму, фыркнула. Вот и дура же, эта Кирка. Хорошо, хоть Генка телеграмму не видел, устроил бы сцену ревности. «Люблю. Прости». Но ответную телеграмму всё-таки отправила, с одним словом (деньги, вообще-то, надо экономить) – "Прощаю".
***
Москва ошеломила Киру суетой и шумом. Она со страхом смотрела на давку в метро, казалось, что стоит сделать только один шаг, и её тело без следа растворится в этом человеческом водовороте. Куда же так спешат москвичи в выходной? По каким таким неотложным делам? Кира крепко держалась за Полину Аркадьевну, но кто-то грубо толкнул в спину, она разжала пальцы, и людской поток за доли секунды унес её в сторону. Потеряв Полину Аркадьевну из виду, Кира в ужасе вертела головой, пока не сообразила прибиться к одной из мраморных колон. Жить здесь? Каждый день спускаться в эти катакомбы? Да ни за что! Когда перед ней, как из воздуха, возникло озабоченно лицо Полины, Кира чуть не запрыгала от радости.
Но была и другая Москва. Эта другая Москва поднималась в синее мартовское небо бисквитными шпилями высоток, проносилась автомобилями, пахла дорогими духами модно одетых женщин, сияла витринами магазинов, зазывала в театры и на выставки, источала аромат свежей сдобы и натурального кофе, сваренного в чудном ковшике, называемом «туркой».
Дом, в котором жила Полина Аркадьевна, так поразил воображение Киры своей сказочной красотой и трапециевидными выступами на фасаде, что она поначалу приняла его за музей.
В квартире пахло мужчиной, кофе и табаком. Кира растерянно посмотрела на мужскую одежду и обувь в прихожей.
– Здесь живет мой сын, – объяснила Полина, снимая сапоги. – Чего так испугалась? Он тебя не съест, даю слово.
На вешалке Кира пристроила свое пальтишко, как можно дальше от кожаной мужской куртки. Вот придёт этот Братислав домой и увидит её вещички, и поморщится, и скажет недовольно: «Кого это принесла нелёгкая? Понаехали тут всякие…»
Пока Полина разбирала вещи, Кира с робким любопытством рассматривала квартиру. Она такую обстановку раньше только в кино видела про старинную жизнь: резные книжные шкафы под самый потолок; на стенах, вместо ковров, картины; пол не из линолеума, а из настоящего, гладкого как каток, паркета. Больше всего ей понравилась настольная лампа с витражным абажуром, на латунной ножке в виде стебля с длинными, узкими листьями. Полина, заметив её интерес к лампе, пояснила:
– Это модерн, Кирочка. Необычно, правда? Милая, ты ложись, поспи с дороги, я пока займусь обедом, хорошо? После сходишь за хлебом, булочная на первом этаже, не заблудишься, не бойся.
Кира уснула, как только её голова коснулась подушки. В дороге выяснилось, что она совершенно не может спать в поезде, тем более на верхней полке, откуда всё время боялась грохнуться, а здесь, в тишине, так сладко спалось, да ещё этот, тягучий, тёплый запах… Проснувшись часа через два, Кира, растирая кончиками пальцев припухшие после сна веки, выразила полную боевую готовность отправиться за хлебом. Полина Аркадьевна написала на бумажке, что нужно купить в булочной: бородинский, батон московский и рогалики.
Выйдя из магазина, Кира достала из авоськи буханку бородинского и недоверчиво потянула носом: странный запах, вроде приятный, но странный.
Во двор въехала длинная, как сосиска, и блестящая, как начищенный башмак, машина, из которой вышел высокий пожилой мужчина. Кира ахнула. Да, это же её любимый артист! Евгений Яновский! Актёр обошёл автомобиль, открыл пассажирскую дверцу и подал руку яркой блондинке в песцовой шубке. «Ага, внучка!» – решила Кира. Девушка слегка коснулась губами щеки мужчины, что-то сказала, смеясь, и, цокая каблучкам, поспешила к тому же подъезду, что и Кира, и чуть не прищемила той нос массивной дверью. Хлопнув глазами от неожиданности, Кира неуверенно потянула на себя дверь и бочком прошмыгнула в подъезд. Она, вообще-то, здесь в гостях, а не просто так, вон, даже за хлебом сходила…
Когда Кира рассказала Полине Аркадьевне, что видела во дворе Евгения Яновского с внучкой, та удивлённо вскинула брови, а потом расхохоталась.
– Внучка? Катя – его жена, не помню какая по счёту, да он и сам не сразу вспомнит, – Полина посмотрела на часы и озабоченно сказала: —Кира, скоро вернётся мой сын, не удивляйся, пожалуйста, ничему. Братислав с четырёх лет живёт в Югославии, с отцом и его семьей. Сейчас ему двадцать семь лет, он переводчик, работает в Москве по контракту. Его походка покажется тебе немного странной, у него ампутирована ступня, во всем остальном мой сын самый обычный человек Ты деликатная девочка, и всё-таки прошу тебя не задавать лишних вопросов.
Кира молча кивнула, подумав про себя: «Надо же… Такой молодой, а уже калека! Бедный…» В их городе инвалиды работали в обувной мастерской при КБО и, она, забирая обувь из ремонта, всегда смущенно отводила взгляд от их увечий.
***
Любовь. Для Полины не было слова горше этого. Оно было пропитано не сладостью, а кровью её ребенка.
В молодости Полина была безусловной красавицей. Высокая, длинноногая, с осиной талией и копной каштановых волос, она напоминала зарубежных кинодив, а высокие скулы и чуть раскосые глаза так и вовсе делали её славянской копией Софи Лорен. Полина свою красоту понимала, но никогда не считала нужным излишне подчёркивать и умела напустить на себя строгости, отшивая назойливых кавалеров. Хирург не кокетка. Хотя, что скрывать, ей нравилось, что, благодаря своей красоте, она легко располагала к себе людей, причём не только мужчин, но и женщин.
Когда югославский врач Горан Тодич делал доклад на международном медицинском съезде, его взгляд был прикован к ней, и только к ней. Полина не особо сопротивлялась напору красивого и обходительного иностранца, к тому же Горан хорошо говорил по-русски, с приятным южным акцентом. Через год югослав сделал ей предложение. Полину волновали два вопроса: могут ли ей отказать в выезде в СФРЮ из-за родителей, и будет ли у неё возможность вернуться обратно в СССР в случае развода. Бывшая однокурсница, Таня Григорьева, посоветовала:
– Позвони Игорю Маркелову, учился на параллельном курсе, потом перевёлся в Новосибирск.
Полина пожала плечами, давая понять, что не помнит о ком идёт речь. Таня замахала руками:
– Да, вспомнишь! Он сейчас в Минздраве подвизается, врач из него никакой получился, путал пневмонию с пневмотораксом. Так вот, его отец – генерал с Лубянки, с горячим сердцем и холодной головой, поговори с Игорем, лишним не будет, он, кстати, нормальный, компанейский парень. Телефон я тебе дам.
Игорь легко согласился помочь, при встрече преподнес букет крупных бело-розовых хризантем, а когда узнал в чём дело, стал шутливо её отчитывать:
– Нет, нет, и ещё раз нет. Полина даже не проси, чтобы я хоть как-то, пусть даже косвенно, посодействовал отъезду такой красавицы из СССР? Да ни за что! Мы в Минздраве такую характеристику напишем, тебя за Уральский хребет не выпустят, я лично возьму это дело на контроль! Я же в тебя был влюблён, так сказать, на заре туманной юности! Не веришь? Честное слово!
Полина смеялась, думая, что этот Игорь и правда отличный парень, пожалуй, вокруг неё слишком много серьезных людей. Слишком много. Слишком серьёзных. Потом была ещё одна встреча, уже в театре, потом ещё одна, и ещё, и ещё…
Она влюбилась. В Игоря Маркелова. Не просто влюбилась, потеряла рассудок, сбрендила, сошла с ума… Удивлялась, как же она сразу не разглядела такое сокровище, ещё на первом курсе. Горан? Замечательный, добрый, внимательный, но он человек долга, слишком похож на неё саму, а Полине так хотелось лёгкости!
Через месяц отношений с Игорем, Полина поняла, что беременна, но, судя по сроку, это был ребенок Горана. Игорь, узнав, легкомысленно отмахнулся, мол, нашла проблему, родишь, запишешь на меня. Но Полина не могла так поступить с Гораном, позвонила ему и всё рассказала, просила прощения, плакала, умоляла забыть её.
Горан молчал. Полина, закусив губу, царапала ногтем эбонитовую телефонную трубку. Ей казалось, что все, кто был на Почтамте, затаили дыхание в ожидании его ответа: и молоденькая девушка в модных белых босоножках с крупными пряжками, и военный, читающий газету, и веселая парочка, украдкой целующаяся в дальнем углу. Все ждали, какой приговор получит Полина. Наконец Горан заговорил:
– Значит, не судьба, но у ребенка должна быть моя фамилия. Мы, сербы, детей не бросаем, я приеду, как смогу.
Когда кураж прошёл, Игорь понял, что натворил. Полина дурнела на глазах, разбухая, как тесто в кадушке. Муж брезгливо тыкал пальцем в её живот:
–Долго ещё ждать, я тоже не железный. Я мужчина, мне надо.
Полина его жалела. Его! Не себя! Не ребёнка! Закрывала глаза на его ночные загулы, плакала, ревновала, но по-бабьи глупо надеялась: вот рожу и будет всё по-прежнему. Отец и мать Игоря, её, конечно, не приняли, свекровь в глаза говорила, что Полина – подлая, охомутала Игоря, испортила ему жизнь.
Вопреки ожиданиям Полины, после рождения Славы стало совсем невыносимо. Игорь почти не появлялся дома, а когда приходил, то грубил, мог ударить. Почему она не развелась? На что надеялась? Впрочем, через год муж немного успокоился. В конце концов, ему было не так уж и плохо: ребёнка он почти не видел, Полина вышла на работу, денег не просила, обслуживала по первому требованию. Хорошо иметь под боком виноватую, красивую бабу, которая лишний раз рот боится открыть.
Когда приезжал Горан, они разыгрывали перед ним счастливую семью, но он не особо верил этому спектаклю. Полина выглядела забитой, сутулилась, её прекрасное точёное лицо стекло вниз и стало напоминать картины Сальвадора Дали. Больше всего Горан переживал за сына и, как оказалось, не зря.
Тот Новый год Полина встречала на дежурстве, Слава остался с Игорем, в 10 вечера должна была прийти няня. Ближе к одиннадцати привезли женщину с внематочной беременностью. Пациентка дотянула до последнего, всю предпраздничную неделю у неё ныл низ живота, но она не захотела портить Новый год мужу и детям и терпела боль, пока не грохнулась в обморок прямо на кухне. Когда Полина вышла из операционной, на часах было уже 2 часа ночи, она набрала домашний номер и услышала короткие гудки. Наверное, няня, уложив Славу, висит на телефоне, поздравляя с Новым годом многочисленную родню, а Игорь, разумеется, где-то гуляет. Надо что-то решать с её, так называемой семейной жизнью. Неужели у неё совсем не осталось гордости? Стыдно. Морок какой-то…
Недавно всплыла правда о том, почему Игорь исчез из института в 1947 году. История оказалась грязнее некуда: Игорь оказался причастен к организации подпольного абортария3, сам рук не пачкал, оперировал его одногруппник, Саша Громов, и, возомнив себя опытным хирургом, а не студентом, дооперировался до тюрьмы. Клиентками абортария были студентки и старшеклассницы, да не абы какие, а девицы из лучших московских семей. Все предприятие накрылось медным тазом, когда одна из девиц чуть не умерла на руках у родителей от кровопотери вследствие прободения стенки матки хирургическим инструментом. Громова посадили, а Игорь от греха подальше умотал доучиваться в Сибирь. Правда, подельника своего Игорь не забыл, посылки на зону отправлялись регулярно, после отсидки Громов был встречен, как родной, и тут же пристроен на должность завхоза в одну из клиник. Собственно, именно Громов и рассказал Полине эту историю, когда явился вдрызг пьяный просить денег в долг.
***
Няня, зараза такая, не пришла, а его ждали на даче друзья, шашлыки, шампанское, ёлка во дворе, ну и девочки, конечно. Куда ж без них? Славик сидел за столиком, калякая в альбоме карандашами. Игорь решился:
– Чувак, заканчивай свои каляки-маляки, поедем встречать Новый год в лес! Волков не испугаешься?
Слава важно заверил, что волки страшные только в сказках, и стал торопливо запихивать карандаши в коробку, боясь, что дядя Игорь передумает брать его с собой.
Вернувшись утром 1 января домой, Полина удивленно посмотрела на пустую вешалку. Где нянино пальто с рыжим воротником? Где шубка Славы? В квартире было подозрительно тихо. Телефонная трубка валялась на полу. Полина бросилась к пустой кроватке сына, неизвестно зачем откинула одеяло, простынку, матрас, заглянула под кровать, распрямилась и позвала сына по имени:
– Слава! Слава! Сыночек, я вернулась домой. Ты прячешься? Не бойся, выходи.
Сзади что-то зашуршало, Полина резко обернулась – никого.
Она несколько раз подряд от и до обыскала квартиру. Когда поняла, что уже по третьему разу, как заведенная, распахивает створки шкафа, заплакала, вцепившись, в похожую на разоренное гнездышко, детскую кроватку. Если с сыном что-то случилось, она… она выбросится в окно.
Свекор! Как же она сразу не сообразила! Вот кто может ей помочь! К счастью, свекор взял трубку после первого гудка, Полина, забыв поздороваться, выпалила:
– Александр Семенович, Игорь у вас? Нет? У меня сын пропал, вернулась после дежурства, а его нет. Игоря тоже нет. Няни нет. В квартире пусто. Помогите, пожалуйста…
– Я всё понял. Жди.
Но Полина не могла просто так сидеть и ждать, схватила с тумбочки записную книжку и стала обзванивать общих знакомых, но знакомые или не брали трубку, или отвечали недовольными, сонными голосами:
– Не знаем. Не видели. Не слышали.
Генерал перезвонил через час.
– Я тебе что сказал? Жди. Уже полчаса дозвониться не могу.
– Александр Семенович, прошу Вас… Что со Славой? Где он? Вы его нашли?
– Нашёл. Поля, крепись. Я сам отец…
– Что со Славой?!
– Он жив. В больнице. В Склифе. Его нашли в дачном поселке, в сугробе. Как он туда попал – непонятно. Ты эту няню давно знаешь?
– Вы же понимаете, Александр Семенович, что няня здесь не при чём! Вы же всё понимаете!
– Да не ори, ты так, – устало отмахнулся генерал, – знала, дура, за кого шла. Этот засранец у меня уже в печёнках сидит, иной раз, не поверишь, зашибить хочется. Сколько крови он нам с матерью попортил, сколько нервов помо…
– Александр Семенович, я не могу больше говорить! Мне к сыну надо!
– Не суетись. Я машину за тобой послал, дождись. Поля, ты давай это… Держись.
Она держалась. Слава остался жив, но из-за начавшейся гангрены, ему ампутировали ступню левой ноги.
Следователь кричал на Полину:
– Да тебя надо лишить родительских прав! Какая ты мать! Вспоминай, как ребенок оказался на этих дачах! Ты ещё за клевету ответишь, Игорь Александрович всю ночь был у родителей и никуда не отлучался, вот их показания!
Горан, подключив все связи, сразу же, как смог, вылетел в Москву, из аэропорта прямиком отправился в больницу. Увидев, Полину, сидящую в больничном коридоре, сжал кулаки, сдерживая себя из последних сил, чтобы не обрушиться на неё сотнями, тысячами упреков. Полина вздрогнула, когда он молча положил руку на её плечо, его поразила неестественная краснота её, опухшего, как подушка, лица. «Да, плохи дела», – подумал Горан, но на этот раз всё будет так, как он решил, и никак иначе.
– Полина, я забираю сына, ты должна дать своё согласие на смену гражданства Братислава. Теперь его будут звать так. Я лично поговорю с отцом этого ублюдка, чтобы всё устроилось, как можно быстрее. Не сопротивляйся. Не заставляй меня уговаривать тебя. У меня мало времени. Твои желания уже ничего не значат. Братислав будет жить со мной и моей женой в Сплите, у моря, на Адриатике, – Горан опустил голову. – Я не знаю, что еще сказать… Где сын?
– На перевязке, – отозвалась Полина «ватным» голосом.
Потом, когда сын уже стал взрослым, она всё-таки нашла в себе силы спросить его о той ночи, он рассказал всё, что мог вспомнить:
– Сначала мы долго ехали на дачу по лесной дороге, там елки по обочинам стояли, в шапках снега, как на новогодних открытках. Помню, как меня кормили конфетами на даче. Я проснулся в каком-то чулане от возни и стонов в углу, испугался, выбежал сначала в коридор, потом на улицу. Да, бурки свои не нашёл, сунул ноги в чьи-то тапки. На крыльце услышал за спиной рычание, обернулся, мама дорогая, волк! Знаешь, пасть такая огромная и зубы жёлтые. Смешно. Какие волки в дачном посёлке? Но я же тогда этого не знал, струхнул, кубарем с крыльца слетел – и к воротам. В тапках бежать было неудобно, я в них по снегу шаркал, как на лыжах. Заблудился. Плакал. Потом уже только больницу помню. Всё. Знаешь, что самое обидное? Мне на даче какая-то девушка подарила игрушечного зайца с барабаном и деревянными палочками, а я его потерял. Жаль. Красивый был барабан. Красный, блестящий, да и заяц тоже ничего.
Горан и Слава улетели в Югославию в начале апреля 1964 года. Полина вернулась из аэропорта в опустевшую квартиру, подошла к зеркалу и, усмехнувшись, спросила свое отражение: «Весело веселье, тяжело похмелье?». Зеркало потемнело, черты лица, теряя друг друга, поплыли, как в комнате смеха, Полина показала отражению язык.
Она не любила сына. Она была плохой матерью. В год отдала в ясли, отдала бы и раньше, если бы он коклюшем не заболел. Потом спихнула на пятидневку. Когда ей было заниматься сыном? У неё же был Игорь, клиника, докторская диссертация. Только Горан и любил его по-настоящему.
Полина почувствовала резкую, пульсирующую боль в сердце, как будто невидимая рука раз за разом вонзала нож под ребра. Когда приехала скорая, от боли уже сводило челюсть. Через месяц, оправившись от инфаркта, хирург-гинеколог Виноградова вернулась к работе.
Горан мог бы вычеркнуть её из своей жизни и жизни сына, но не сделал этого, потому что был в высшей степени порядочным человеком. Полина жила звонками из Сплита, она была в курсе всего, что происходило с сыном, а он всё чаще и чаще вставлял в свою речь сербские слова. Однажды Братислав назвал её Полиной, она попросила передать трубку отцу.
– Что происходит, Горан? Знаю, я плохая, недостойная уважения мать, но…. Пожалуйста, не учи его называть мамой другую женщину, какой бы замечательной она ни была.
– Поля, это не специально, клянусь. Братислав тяжело привыкал к протезу, Мира от него ни на шаг не отходила, на руках носила. Он сам стал называть её мамой, – оправдывался Горан, но Полина без труда уловила в его голосе легкое злорадство.
Сына она увидела через два года. В аэропорту Братислав протянул ладошку и вежливо поздоровался:
– Добрый день, Полина.
Она метнула в Горана испепеляющий взгляд, тот виновато развёл руками, мол, что я могу сделать. В тот раз Братислав пробыл в Москве две недели, и все эти две недели она злилась и одёргивала его, когда он называл её Полиной. Однажды сын не выдержал и расплакался прямо посреди улицы, Полина, поняв, что перегнула палку, закрыла эту тему раз и навсегда.
***
– Прекрасно! Я забыла своё лекарством, – с досадой воскликнула Полина и захлопнула ридикюль. – Кира, будь добра, порежь хлеб, я отлучусь ненадолго к соседке, она такая же сердечница, как и я, надеюсь выручит таблеточкой.
Кира почти закончила с хлебом, когда услышала, как хлопнула входная дверь, и, решив, что это вернулась Полина, спокойно продолжила накрывать на стол.
– Добрый вечер.
Кира, вздрогнув от звука мужского голоса, резко обернулась, крепко сжимая в руке нож. В дверном проеме кухни стоял высокий мужчина в черной водолазке и смотрел на неё с дружелюбным интересом. Нож, выскользнув из рук, упал острием вниз на её ногу, но Кира этого даже не заметила.
Она никогда не видела таких лиц. Никогда. Такие лица не разглядывают с придирчивым интересом, такими лицами любуются, удивленно радуясь их гармонии. Твёрдый подбородок с ямочкой. Безупречные грани щёк. Четко прорисованные крылья носа. Прямые, низкие брови. Эта геометрическая правильность углов и линий могла бы показаться скучной, если бы не крупный, чувственный рот, темно-янтарные, уплывающие к вискам, глаза со смешинкой, смуглая кожа южанина и копна густых, чуть вьющихся на концах волосы. Небесный скульптор создал идеальную основу этого лица, а земной художник, окунув кисть в солнечный свет, наполнил его теплом и силой.
– Вы не поранились? – участливо спросил мужчина и наклонился, чтобы поднять с пола нож.
Кира от волнения не расслышала его вопрос и опомнилась лишь после того, как он снова заговорил с ней своим необыкновенным голосом:
– Меня зовут Братислав, я сын Полины Аркадьевны, а вы, вероятно, Кира?
Она смутилась под его вопросительным взглядом и сбивчиво представилась:
– Д-добрый вечер. Да, я Кира. Вот…
Окончательно запутавшись в слова, неловко подала руку для пожатия, мужчина, склонив голову, коснулся губами тыльной стороны её ладони. Кира покраснела, как рак, и одернула руку, от волнения слишком громко шмыгнув носом. Братислав сжал губы, чтобы не прыснуть со смеху. Забавная…
Он привык, что многие женщины в Советском Союзе, даже в Москве, дикие и зажатые. Хочешь сделать им приятно, а они косятся, как на маньяка. Другое дело итальянки! Например, его Бьянка, его горячая Бьянка…
За ужином Братислав рассказывал о жизни в Европе, искренне сокрушался о том, что Кира почти нигде не бывала, кроме родного города, внимательно, не перебивая, слушал её наивные школьные истории, хотя она позорно запиналась, теряясь от смущения. Перед сном Полина, поправляя её одеяло, сказала:
– Братислав… Он очень обаятельный мужчина, но он не принц. Никто из мужчин не принц. Теперь о деле, послезавтра у нас важная встреча. Мой одноклассник преподает в пединституте, он доктор исторических наук, был доцентом, но сейчас, наверное, уже профессор. В столичном пединституте, тем более на истфаке, без протекции и подготовки делать нечего.
***
На следующий день Полина спозаранку постучала в комнату сына, он ответил ей сонным голосом:
– Входите, открыто!
Толкнув дверь, Полина вошла в комнату, Братислав широко зевнул и спросил, не скрывая недовольства:
– Полина, тебе чего не спится? Суббота же…
Она ласково взъерошила, и без того растрёпанную после сна, шевелюру сына:
– Я собираюсь на кладбище, к Эмме, после зайду в церковь. У меня к тебе просьба: не оставляй Киру одну, прокати её по Москве, она ни разу здесь не была. Ну, сам понимаешь. Красная площадь, парк Горького, ВДНХ…
Братислав досадливо поморщился:
– Вообще-то, у меня были другие планы. Я хотел поработать. Честное слово. Не понимаю, почему ты так опекаешь эту девочку?
– Ну, не капризничай! Кира… Как бы тебе объяснить? У неё не самая весёлая жизнь, отец умер, а отчим – пьянь и скот. Как-то раз он избил её, повалил на пол и пинал ногами в живот. Представляешь?
Братислав приподнялся на локте и недоверчиво переспросил:
– Ты шутишь? Этого ребёнка били ногами в живот?
– Там, где я сейчас живу, и не такое бывает. Прошу, не говори ей ничего о нашем разговоре.
Полина пристально посмотрела на сына, тот согласно кивнул головой:
– Поезжай на кладбище со спокойной душой, я всё сделаю, как надо, не переживай.
Когда мать вышла из комнаты, Братислав откинулся на подушку и закрыл глаза.
Отец никогда не поднимал на него руку, вернее, поднимал и тут же опускал в бессилии, не тронув и пальцем.
…Когда Братиславу исполнилось шестнадцать лет, он принял важное и абсолютно осознанное решение: отрастить волосы до плеч. Как Фредди. Или как Джаггер. Отец заподозрил неладное месяца через два, к тому времени голова сына напоминала гнездо не самой старательной вороны.
– Что у тебя на голове? В Сплите закрылись все парикмахерские? Если так, давай съездим в Дубровник! Или в Загреб, – недовольно спросил отец за завтраком.
Братислав неопределенно поводил растопыренной пятернёй вокруг своей копны волос и объяснил:
– Просто у меня теперь новая причёска. Сейчас так модно.
Отец съязвил:
– Учителя-то, наверно, не радуются такой моде, – и заметив, как тяжко он вздохнул в ответ, улыбнулся в кулак. Впрочем, съев ещё одну булочку, Братислав повеселел и весьма легкомысленно заявил:
– Хорошо, что мне недолго осталось мучиться в гимназии, как-нибудь переживу эти гонения на прогресс, а там… Москва! Свобода!
– Так, понятно, – отец хлопнул ладонью по скатерти, с грохотом отодвинув стул, встал из-за стола и молча вышел из кухни.
Братислав, щедро намазывая масло на хлеб, не сразу понял, что это щёлкнуло у него над ухом, повернувшись, с ужасом увидел отца с ножницами в руках. Отец зловеще усмехнулся и ещё раз выразительно клацнул большими портновскими ножницами, позаимствованные ради такого случая у Миры. Братислав вскочил со стула и бросился в свою комнату,где долго крутил головой перед зеркалом, оценивая ущерб своей шевелюре от отцовского демарша с ножницами.
Через неплотно закрытую дверь был отчётливо слышен разговор отца с Мирой, которая по своему обыкновению отважно заступалась за горячо любимого пасынка:
– Горан, не кипятись, времена меняются, наши дети другие, не знают ни войны, ни лишений. И слава Богу, что не знают! Вот ты всё ругаешься на заграничную музыку, а Братислав, благодаря этой самой музыке, лучший в классе по английскому, да и по остальным предметам не отстает. Клянусь, он закончит гимназию с отличием!
Отец не сдавался:
– Ох, Мира… Избаловали вы его, ты и Поля. Братислав то, Братислав сё… Думаете, я сына меньше вашего люблю? Ему мужская рука нужна, а не бабьи нюни. Ты только посмотри, что он вытворяет! Дерзит. Я ему слово, он мне десять! Всю комнату заклеил длинноволосыми рожами, ночью приснятся – поседеешь со страху. Тьфу… Глаза бы мои этого не видели! А музыка? Да разве же это музыка? Воют, как на похоронах, да патлами трясут! В Москву он, видите ли, собрался… Я с Полиной поговорю, чтоб воли ему там не давала, чтобы в восемь вечера дома был, чтоб никаких гулянок. Только учёба, и больше ничего!
Да уж, отец ещё тот любитель нагнать на всех страху… Братислав с хрустом потянулся, вставать не хотелось, тем более, зная, что целый день придётся возиться с этой провинциальной пигалицей.
Он изменился за последние десять лет: стрижку делает у лучшего парикмахера Москвы, любит дорогой парфюм и французский коньяк, с удовольствием и шиком носит элегантные пальто и костюмы, даже трость у него не простая, а из красного дерева с серебряным набалдашником – купил по случаю в комиссионке. В общем, московский плейбой, хотя это и звучит, как оксюморон. Какие в СССР могут быть плейбои? Братислав и не заметил, как снова уснул.
***
Кира сидела на кухне и читала Выготского, Полина, как и обещала, нашла его книгу «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира». Конечно, не всё ей было понятно, вернее, почти ничего не понятно! Зачем эта пьеса так мучает людей? Гамлет унес в могилу свою тайну, но она-то его тайну знала! Он тоже страдал из-за отчима, из-за этого мерзкого Клавдия. Просто Шекспир описал это так, что дух захватывает, что глаза сами плачут, что внутри с каждым словом всё больнее и больнее…
Кира утонула в книге и даже не шелохнулась, когда Братислав, подавляя зевоту, заявился на кухню, лишь после его «доброго утра», очнулась и уставилась невидящими глазами. Кто это? Ах, да… Сын Полины Аркадьевны, Братислав. Почему он улыбается? Она такая смешная?
Братислав улыбался, потому что… Потому что он всё-таки выспался и уже чувствовал на языке вкус крепкого кофе. Потому что мартовское солнце, позолотив раму, вальяжно разлеглось на паркете веселыми желтыми квадратами. Потому что эта робкая девочка похоже не доставит ему особых хлопот.
Он поднял крышку с белой эмалированной кастрюльки и слегка поморщился:
– Манная каша! Бр-р… Полина в своем репертуаре. Ты, кстати, завтракала?
– Да, спасибо.
Кира взяла книгу и встала из-за стола, но Братислав её остановил:
– Оставайся, ты мне не помешаешь, вдвоём даже веселее. Так, кашу я точно не буду…
Он подошёл к холодильнику, стоящему у окна, позади Киры. Её спина, ниже лопаток, была не шире его ладони, плечики острые, над тонкой шеей – пушистое кружево волос. Он представил эту девочку, скорчившейся на полу, прикрывающей своими руками – прутиками живот, грудь, голову от ударов ногами и его передернуло от отвращения к её отчиму. Бывают же ублюдки…
В холодильнике нашлись яйца, салями и приличный кусок костромского сыра. Что же она так увлечённо читает? Братислав заглянул через её плечо, пробежал глазами несколько строк. Да уж… Неслабо для подростка.
Дыхание мужчины было таким близким, что у нее порозовели уши. Ну чего он подглядывает? Кира зябко повела плечами. Братислав выпрямился, сообразив, что ей неловко.
– Пора не завтракать, а обедать, я сделаю бутерброды и поджарю яичницу, поешь вместе со мной, потом прокатимся по Москве. Идёт? Только не говори, что не будешь есть, взрослых надо слушаться, – он достал продукты из холодильника и принялся за готовку.
Когда яичница уже шкворчала на сковороде, Братислав, сделав страшные глаза, спросил трагическим шепотом:
– Кира, а ты знаешь, что у меня деревянная нога?
– Да, знаю, – прошептала Кира со всей серьезностью.
Братислав расхохотался, его темные глаза вспыхнули на солнце медовыми искрами:
– Не верь, на самом деле, это металл и пластик!
Кира растянула губы в неуверенной улыбке. Он шутит? Она не понимает. Как она должна реагировать на такое? Тоже рассмеяться?
– Ладно, согласен, не самая удачная шутка, – виновато сказал Братислав, раскладывая яичницу по тарелкам.
***
Кира стояла посреди двора и ждала, пока Братислав прогреет машину. Солнце после обеда скрылось за низкими, пепельно–серыми тучами, с неба лениво валил рассыпчатый мартовский снег, а на фасадах домов, один за одним, вспыхивали желтые, оранжевые, светло-голубые прямоугольники окон. Это было похоже на Новый год, на сказки и мультики, которые показывали по телевизору в зимние каникулы. Кира попробовала представить, что живёт здесь с самого рождения: открывает по утрам тугую дверь подъезда, держась за отполированную до блеска латунную ручку; размахивая портфелем, бежит вприпрыжку по заросшему старыми липами двору, мимо домов с этими, каких там… эркерами, касается кончиками пальцев узорчатой ограды парка, а после уроков возвращается домой, к Полине Аркадьевне, к шкафам, доверху заставленным книгами, в тишину и покой.
Братислав счищал снег с крыши автомобиля, ругая себя за лень, а погоду за непостоянство. Надо было всё-таки встать пораньше, успели бы тогда прокатиться до снегопада. Закончив с машиной, посмотрел на Киру, та стояла с приоткрытым ртом, уставившись куда-то вверх. Ворон считает, что ли? Так все вороны попрятались от метели. Странная она всё-таки… Он слепил снежок и запустил им в девушку, но тут же пожалел об этом: снежок угодил точно за шиворот её неказистого пальтишка. Кира съёжилась, втянув голову в плечи, и, не мигая, уставилась на него, словно спрашивая: за что?! Стянув зубами замшевые перчатки, Братислав быстро подошёл к ней и стал выгребать из-за ворота, тающий на её ключицах, снег. Девчонка не сопротивлялась, стояла тихо, как пришибленная, и только таращилась на него своими зелено-серыми глазами. Он поймал себя на том, что ему до смерти хочется щелкнуть её по носу, но, мысленно отчитав себя за этот мальчишеский порыв, вслух весело сказал:
– Кира, извини, сегодня день моих неудачных шуток. Если хочешь, то тоже можешь забабахать в меня снежком, я не против.
Кира ничего не ответила, ей хотелось отстраниться от Братислава, но она боялась его обидеть, поэтому и замерла на месте, чуть вздрагивая от прикосновения мужских рук. До этого ни один мужчина, кроме физрука, не дотрагивался до неё. Но физрук был совсем стареньким, лет сорока, наверно, так что не считается…
– Ну что? Начнем знакомство с Москвой с Красной площади? – спросил Братислав, просияв белозубой улыбкой. Кира и не думала с ним спорить.
***
Когда они вернулись в прогулки, Полина уже была дома, и ей совсем не понравилось то, с каким щенячьим восторгом Кира пялилась на Братислава. Совсем не понравилось.
Она вспомнила давний телефонный разговор с Гораном, сын тогда только-только окончил гимназию, кстати, с отличием, как они и надеялись.
– Ну всё, Поля, дожили мы до светлых дней, поздравляю, – с места в карьер начал Горан.
Полина, зная его взрывной характер, спросила, как можно спокойнее:
– Что случилось? Объясни толком!
– Вот ей Богу, стыдно рассказывать… В общем, у Братислава появилась женщина. Заметь, я не говорю девочка или девушка, нет, наш ненаглядный сыночек крутит любовь со взрослой бабой! Полина, ты понимаешь, что это значит? Спит он с ней, спит без стыда и без совести!
Полина недоверчиво протянула:
– Да ладно… Может ты преувеличиваешь? Где он её нашёл-то?
– Где нашёл? Да уж он найдёт, не сомневайся! Знаешь, что вчера выдал? Я, говорит, мужчина, мне, говорит, с девчонками неинтересно. Каково?
– Горан, у меня нет слов! Вырос мальчик, называется! Послушай, может ты, как отец, как врач, хотя бы объяснишь ему, как… Ну, как надо вести себя, чтобы эти похождения не имели последствий.
– Что-о?! Ой, Поля… Не ожидал я от тебя такого спокойствия, не ожидал, – Горан шумно засопел в трубку. – Ладно, может ты и права, под замок этого стервеца уже не посадишь. Хотя, подозреваю, он не меньше моего знает про все последствия.
Когда Братислав прилетел летом, чтобы поступать в МГУ, Полина, встречая его в аэропорту, чуть не расплакалась от облегчения: сын выглядел совсем мальчиком, высоким, красивым, улыбчивым мальчиком, не более того. Она подумала, что Горан, как обычно, все драматизируют, нагнетает, преувеличивает… Правда, её уверенность пошатнулась, когда вечером на чашку чая забежала Эмма и, улучив момент, прошептала:
– Ну и кадр! Полина, эти тигриные глазки уложат на спину любую. Тебе с ним не справиться. Держись, подруга.
Через несколько месяцев Полина, вернувшись утром с дежурства, обнаружила в ванной женские трусики. Импортные. С кружевами и кокетливым бантиком.
– Что это? – спросила она сына, держа трусы на кончике пальца вытянутой руки.
– Трусы, – ответил сын, одарив её усталой улыбкой отличника.
– Я вижу. Чьи?
– Женские.
– Я вижу. И?
– Может Юлины. Может Надины. Может Марьи Ивановны…
– Издеваешшься? – зловеще прошипела Полина.
Братислав, сделав, на всякий случай, шаг назад, извинительно выставил перед собой ладони.
– Нет. Правда не помню. Честное слово. Можешь выбросить в мусорное ведро. Я не против, – сын сделал небрежный жест рукой, чем окончательно вывел её из себя.
Полина брезгливо стряхнула трусы на бело-красный туркменский ковер.
– Знаешь что, дорогой сынок? Опыт, которого ты так… так взыскуешь, на самом деле окажется морально убыточным. Ты же не животное! Считаешь нормальным не помнить имени девицы, забывшей белье в нашей ванной?
Братислав, откинув назад голову, смотрел на неё сверху вниз, и до неё вдруг дошло, что под пологом его ресниц скрывается не раскаяние, а насмешка. Слова сына подтвердили её догадку:
– Я считаю это нормальным. Я могу вспомнить имя, но не хочу. Зачем? Я же не обязан на ней жениться. Полина, мне надо заниматься, завтра три зачёта. Я свободен? Допрос окончен?
Ей было так плохо после разговора с сыном, что она не выдержала и заказала разговор со Сплитом. Полина ждала совета от Горана, в конце концов, именно он воспитывал Братислава все эти годы. И Горан дал совет, мстительно напомнив её же слова.
– Поля, ты же врач, объясни ему, как вести себя, чтобы эти похождения не имели последствий.
После Нового года, сын отчалил в общежитие, объяснив, что ему нужна свобода, и что она, Полина, ничего не понимает в современной молодежи…
Полина усмехнулась: мальчик – это мальчик, с девочками всё не так просто… Откомандировав Киру на кухню, чтобы та начала накрывать стол к ужину, Полина отправилась в комнату сына.
***
– Хочу поставить для Киры «Богемскую рапсодию», – сказал Братислав, перебирая свои пластинки.
– Не надо очаровывать эту девочку, – попросила Полина, дотронувшись до его плеча. – Ты даже не представляешь, как легко ей в тебя влюбиться. Я надеюсь, ты не позволил себе ничего такого, что можно расценить, как…
– Мама, за кого ты меня принимаешь? – раздраженно оборвал её Братислав, возвращая пластинку на место. – Кира не моя чашка чая, можешь не переживать за свою подопечную ни сейчас, ни впредь.
– Что значит не твоя чашка чая? Она тебе совсем не понравилась? Почему? Да, сейчас она нескладный подросток, но года через два станет очень красивой девушкой! – возразила Полина, обидевшись за Киру.
Братислав расхохотался:
– Я тебе поражаюсь, Полина, то ты боишься, как бы я твою Киру не совратил, то чуть ли не сватаешь. Так вот, расставим все точки над i, между таким мужчиной, как я, и такой девушкой, как она, не может быть ничего общего. Никогда. Ничего. Извини, я не буду ужинать, мне надо работать.
У него остался неприятный осадок после разговора с матерью. Кому нужна эта зашуганная, чудаковатая Кира! Честно говоря, ему было немного не по себе разгуливать по Москве с девушкой, одетой в клетчатое пальто с кроличьим воротником, доставшимся ей после сестры. Кира сама об этом рассказала, поразив его до глубины души своим провинциальным простодушием. О, боже, когда это он успел стать таким снобом?!
***
Пока Полина Аркадьевна и Николай Иванович разговаривали в кабинете, Кира угощалась тортом на профессорской кухне в компании его дочери Ирины. Ирина была уже студенткой, но общалась запросто, как и любая другая, хорошо воспитанная девочка из интеллигентной, московской семьи.
– Поля, ты хоть представляешь какой у нас конкурс? Какие детоньки к нам поступают? Да я тебе уже сейчас могу сказать, кто из них точно станет студентом, извини, фамилии называть не буду,– сказал Николай, прихлебывая кофе из крохотной чашки тонкого фарфора.
– Послушай, но нельзя же так! – раздраженно ответила Полина. – Вы в своем институте пишете учебники, составляете методички, где чёрным по белому написано, как прекрасно стало в России после революции! Кто был ничем, тот стал всем! Молодым везде у нас дорога! Что там ещё? В СССР все равны, каждый может стать космонавтом, ученым, дипломатом! А на деле что?
Николай примиряюще поднял руки:
– Не горячись, Полина. Простые ребята у нас тоже учатся, но они все отработали в школах по нескольку лет, активно вели комсомольскую работу. Почитала бы ты их характеристики! Боюсь, мне такую не напишут. Пойми, истфак – это политика, кого попало на идеологический фронт не берут. Наши студенты – будущая номенклатура. Что касается твоих упрёков… Да, революция широко открывает двери на лестницу, ведущую на самый-самый верх. Идеи – крылья человечества, чем моложе идея, тем она сильнее, тем выше взмывают те, кто ей служит. Мой прадед был бурлаком, дед гнул спину в Сормове, на заводе, отец стал инженером, ну, а я, как ты помнишь, профессор. Так неужели я отправлю своих детей в кузнецы, токари или клёпальщики? Дверь прикрыта, осталась щёлочка. Но и эта щёлочка дорого стоит в стране с тысячелетней историей рабства. Поля, милая, не забывай, пока мой прадед тягал баржи по Волге, твои предки были рабовладельцами. Да, самыми натуральными рабовладельцами, и не одну сотню лет. А теперь ты встаешь в третью позицию и заявляешь, как плоха Советская власть: не обеспечила за полвека всем равных возможностей!
Полина Аркадьевна махнула рукой: что толку спорить с историком? Николай Иванович продолжил:
– Чем твоей Кире не нравится местный ВУЗ? И потом, она сама-то хочет стать историком или педагогом?
– Николай, я просто хочу дать девочке шанс на другую жизнь. Она любит историю, литературу, но что из этого может получиться, пока не понятно, как и у всех гуманитариев. Так ты сможешь помочь? – с нажимом спросила Полина. Николай задумчиво потёр подбородок:
– Значит так, ничего обещать не буду, всё зависит от того, как она будет готова. Я дам тебе телефон своей аспирантки, конечно, полноценного репетиторства не получится, но чем сможет – поможет, и возьмёт по-божески. Дерзайте!
Полина подошла к Николаю, обняла за плечи и, нагнувшись к уху, шепнула:
– Спасибо, ты настоящий друг!
Николай похлопал по её руке своей мягкой и гладкой, не знающей физической работы, ладонью. Полине не нравились мягкие мужские руки, распрямившись, она посмотрела в окно, за которым, на другом берегу Москвы-реки, виднелись башни Кремля. Мартовские сумерки с каплей кобальта в хрустальном воздухе тушевали ясные московские цвета, придавая пейзажу таинственную торжественность. Подумав, что такой открыточный вид из окна дорогого стоит, Полина сказала:
– Иссушили вы идею, Коля. Иссушили до самого донышка. Впрочем, свято место пусто не бывает. Как думаешь, скоро всё рухнет?
Профессор ответил, не отрывая взгляда от кофейной гущи на дне чашки:
– Скоро. В трюме уже вода. Ты злорадствуешь? Зачем, Поля? Я не узнаю тебя. Куда подевалась простая девчонка из коммуналки на Преображенке?
Его слова задели Полину за живое, и она довольно резко парировала:
– Твои предки с рабочих окраин тебя за своего тоже бы не признали.
***
Ей опять не спалось, вся извертелась на верхней полке купе, думая о будущем…
Кира всегда считала себя безвольным человеком, из таких, которые плывут по течению, подчиняясь чужим правилам. Разве можно сравнить её с молодогвардейцами, Зоей Космодемьянской или Гулей Королёвой? Нет, конечно, нет…
Она всегда делала то, что требовали от неё другие: мама, сестра, учителя. Нянчилась с братом. Писала сочинения на заданную тему. Послушно ходила на хор для массовости, хотя не имела ни слуха, ни голоса. Она всегда была тихой и скромной девочкой, и только сейчас начинала понимать – её будущее зависит от неё самой, и только от неё. Кира сравнила себя с человеком, который долгие годы был прикован к инвалидному креслу и вдруг снова почувствовал мускульную силу своего тела. Это было в новинку: осознавать свои желания, ставить цели и двигаться к ним.
Братислав… Кира протяжно вздохнула и тут же испуганно зажала рот ладонью. Хорошо бы её вздох, без следа, растворился в гулком перестуке вагонных колёс. Если Полина услышит, то сразу догадается, кому предназначены эти, полуночные, вздохи.
Когда гуляли по Красной площади, Кира, видевшая иностранцев только в кино или по телевизору, остановилась, как вкопанная возле группы шумных иностранных туристов. От группы отделилась девушка, видимо гид, и направилась в их сторону. Девушка оказалась знакомой Братислава и, не стесняясь, бросала на неё ревнивые взгляды, впрочем, и Кира в долгу не оставалась, с недружелюбной хмуростью разглядывая её лягушачий рот, тяжелые бедра в тесных джинсах и крупную, низкую грудь под пушистым белым свитером. Кира так толком и не поняла, о чем говорил Братислав с этой модной девицей, в речи обоих то и дело проскальзывали незнакомые ей слова: квартирник, сейшн, пласты. Потом она спросила Полину, что такое квартирник, но та лишь буркнула:
– Не знаю. Разврат какой-нибудь.
Кире стало не по себе, между шелудиво-грязным словом «разврат» и умными, добрыми глаза Братислава лежала пропасть.
Интересно, она ему понравилась хоть чуточку? Кира провела рукой по телу, сверху вниз. Кожа да кости, такое не может нравится мужчине, правильно про неё отчим сказал – стиральная доска. Вот Алёнка бы ему понравилась, Алёнка всем нравится.
***
Полина проснулась от резкого толчка поезда, затормозившего на одной из станций. Поправив кольцо на руке, закрыла глаза, надеясь на продолжение какого-то чудного, но лёгкого сна. Увы, объятия Морфея была безвозвратно утеряны. Поворочавшись с боку на бок, Полина мысленно продолжила спор с Николаем Ивановичем.
«Вспомнил, Коля, девчонку с Преображенки… И ничего я не изменилась, – уверяла она скорее себя, чем своего невидимого визави, – Просто глаза открылись, а вот ты очень изменился! Лет этак через двадцать твои потомки и руки не подадут, таким, как Кира… Побрезгуют…»
Поезд тронулся, обрывая её ночной монолог, камень на кольце прощально мигнул фиолетом станционном огням. Многие удивлялись её кольцу: то ли изумруд, то ли аметист, сразу и не разберешь. Двадцать с лишним лет носит она кольцо и всё никак не налюбуется на этот переменчивый камень. Как вовремя появилось это кольцо в её жизни, ровно через полгода после трагедии с Братиславом.
…Тогда ей казалось, что за её спиной все только и делают, что шепчутся: «Не уберегла… Единственного сына не уберегла… Не уберегла…» Она стала сторониться соседей, коллег, подруг, перестала следить за собой, забыв о помадах, духах и пудрах. Волосы мыла детским мылом и мокрыми скручивала на затылке в тугой узел, виски поседели, но её это мало волновало, ещё меньше переживала об одежде и даже колготки приноровилась штопать хирургическим швом.
Как-то раз сидела в ординаторской, засунув под подмышки перекрещенные на груди руки, и пыталась уговорить себя встать с дивана, чтобы выпить горячего, крепкого чая. Как только выдавалась свободная минута, её организм начинал работать на малых оборотах, экономя жизненную энергию, и только высокий и громкий голос Вали Махоткиной не давал окончательно провалиться в сон.
– Вот, продаю, фамильное, с александритом и брюликами, жалко, конечно, но деньги нужны до зарезу, на кооператив.Три тысячи. Новыми.
Кто-то присвистнул.
– Так уж и с александритом? – скептически заметила Неля Туманова, один из лучших анестезиологов клиники и по совместительству первая модница их коллектива. Полина, по-прежнему не открывая глаз, улыбнулась, представив, как Неля царственным жестом поправляет свою «бабетту».
– Именно! Любой ювелир подтвердит, да сама посмотри, – Полина услышала протяжное дребезжание колец шторы на гардине и сухой щелчок тумблера настольной лампы. – Видишь? Он под лампой фиолетовый, а на свету почти зеленый.
– Нелегко тебе будет продать это кольцо, Валентина, – предупредила Неля.
– Почему? Если тебе дорого, Неличка, скажи прямо! – съязвила Валя, безошибочно запеленговав фальшь во вкрадчивом голосе коллеги.
– Тут дело даже не в цене, просто александрит – «вдовий камень», – продолжала гнуть свою линию Туманова, надеясь сбить цену, но и Валя была не лыком шитом.
– С руками оторвут, не беспокойся! Не все, как ты, в бабкины сказки верят!
– Мне вот только интересно, Махоткина, откуда у тебя фамильные драгоценности? Насколько я помню, твоя девичья фамилия – Пузырькова. У тебя, что ли, дед был графин Пузырьков? А что? Звучит!
– Знаешь что, Туманова?! Сама ты графин!!!
Полина, не выдержав, одёрнула обоих:
– Стыдитесь, дамы! Вы же врачи! Устроили тут базар!
В ординаторской наконец-то воцарилась тишина, изредка нарушаемая недовольным скрипом стула, шуршанием фантиков и душераздирающим хрустом леденца – так лихо грызть карамельки и кусковой сахар могла только Махоткина, крепости и белизне зубов которой не завидовал только слепоглухонемой.
– Валя-я… Валюшка…– раздался сладкий до приторности Нелин голос.
– Шего вам, Нелли Штанишлавовна? – прошепелявила Валя, гоняя во рту обломки несчастного леденца.
– Можно я хотя бы примерю колечко?
– Не… Я обиделашь.
– Пожалуйста-а…
– Ой, какие мы штали вежливые! Ладно уж, примерь. Но ушти, я ни рубля не уштуплю.
– Полина Аркадьевна! Как вам?
Она нехотя открыла глаза, Нелли стояла напротив, и, играя пальцами, показывала ей кольцо. Полина узнала его сразу.
… 15 октября 1941 года она вернулась в Москву и сразу же, не раздеваясь, рухнула на кровать лицом в подушку, очнулась лишь к вечеру от прикосновений теплых, как оладушки, бабушкиных рук.
– Вернулась домой, касатка моя, вернулась… Ты лежи, Полюшка, я тебя сама раздену. Ох грехи наши тяжкие, барышня в пятнадцать лет окопы роет, я-то в твои годы у окошка вышивала, приданое готовила, – шептала бабушка, целуя её голову.
Полина недовольно просипела простуженным баском:
– Во-первых, я не барышня, а комсомолка, во-вторых не окопы, а противотанковые рвы.
– Ну рвы, так рвы… Я разве спорю? Полина, не дрыгай ногами, дай я ботики твои сниму. Ой, как же ты их уходила, совсем раскисли. Руку подними, пальто сниму. Бог мой, все нитки сопрели! Это что? Заплатки? Кто ж тебя надоумил на пальто заплатки из кофты поставить?
– Сама надоумилась, бабушка. Из чего ещё мне было заплатки ставить?
– Ладно, ладно, не сердись… Я сама сутки в очереди отстояла, на месяц вперёд карточки отоваривали. Что делается? Люди из Москвы разбегаются, как тараканы. В очереди слышала, что один директор, уважаемый человек, своего кассира зарезал бритвой, да и был таков с деньгами. Вчера сосед во дворе рассказывал, что Сталин сбежал, нас на немцев бросил, Будённый ранен, Ворошилов десять генералов к стенке поставил, а одиннадцатый его самого застрелил. Ещё Илья Степанович говорил, что русский Ванька опять без штанов, что немец уже в Калинине, что Гитлер Москву к 1 ноября возьмёт. А у тебя, Поля, нет ни пальто, ни ботиков!
Полина, мгновенно забыв про усталость, резко села на кровати и со всей силы двинула по ни в чём неповинной подушке.
– Ну и гад, этот Илья Степанович! Гад и паникёр! Не слушай ты его, баба Сима! Это всё немецкая пропаганда. На нас, знаешь, сколько листовок фашисты сбрасывали? «Московские дамы, не ройте ямы, придут наши танки, раздавят ваши ямки», – брезгливо скривив личико, процитировала Полина. – Некоторые дураки читали и верили, даже за пазуху прятали. Противно смотреть на таких было.
– Боятся люди, Поля, многие и Гражданскую помнят, и тиф, и голод, и разруху. Ну вот ты, как сама думаешь, отобьёмся от немца? – спросила бабушка, заглядывая Полине в глаза, словно та была вернувшимся с передовой генералом.
– Обязательно отобьёмся, бабуля, даже не сомневайся! Честное комсомольское! Ух и покажем мы этому Гитлеру! – Полина погрозила окну кулачками. Бабушка тихо заплакала, глядя на её обветренные, в незаживающих от холода и грязи язвочках, руки; на болтающуюся на тонкой шее стриженую голову; на, казавшийся непомерно большим, по сравнению с впалыми щеками и острым подбородком, лоб. Полина терпеть не могла, когда бабушка плакала и слизывала языком, не успевшие спрятаться в морщинках, мелкие, как бисер слёзы. Уж лучше бы ворчала, как обычно, или ругалась вслух, или причитала, качая седой головой.
– Бабушка, ты чего? Кос моих жалко? Мне вот нисколечко не жалко. Мы с девчонками в первый же день себя обкорнали, уж лучше так, чем вши, – Полина обхватила бабушку за талию и по-телячьи ткнулась губами в её мокрый подбородок. – Если школу не откроют, я в госпиталь работать пойду, на зиму у меня шубка есть, пусть старенькая и молью траченая, зато теплая. И валенки есть. И с голоду не умрём. Ты только не плачь, ладно?
Когда речь заходила о еде или одежде, бабушка сразу внутренне собиралась, соображая, как ловчее решить проблему. Вот и в тот раз, достав из видавшего виды ридикюля носовой платок, высморкалась и деловито сказала:
– Хватит сырость разводить, я воды согрею, помоешься в тазике, поешь, и спать!
Утром следующего дня Полина, не обращая внимания на протесты бабушки, отправилась в школу, чтобы разузнать о занятиях. До площади пошла пешком, сообразив, что ждать трамвая не имеет смысла. На углу Преображенской и Электрозаводской, или, как до сих пор говорила бабушка, Лаврентьевской, кто-то дернул её за рукав, и она услышала за спиной веселый, девичий голос:
– Далеко ли собралась, подруга дней моих суровых?
Полина радостно обернулась, узнав по голосу соседку по коммунальной квартире, Алю Скворцову. Аля щегольским жестом поправила синий берет с никелированной эмблемой паровоза на фоне эмалевой красной звезды, выудила из кармана черной шинели носовой платок и сунула ей в руку:
– Держи, а то нос от соплей блестит на всю Преображенку. Забыла, как в прошлом году с пневмонией валялась? Сейчас и без тебя врачам работы хватает. Когда домой вернулась? Вчера?
Полина взяла платок и, скрывая смущение перед чернобровой красавицей Алей, быстро затараторила:
– Спасибо, Алечка! Да, я вчера вернулась, а ты со смены?
– Со смены. У нас на железке такое творится, гоним в тыл эшелон за эшелоном, люди поезда штурмом берут. Представляешь, кто-то даже пытался рояль в вагон впихнуть! Меня саму еле-еле отпустили на полсуток, и то потому, что брат на фронт уходит.
– Митя уходит на фронт? – испуганно хлопая глазами, переспросила Полина.
– Да. Добровольцем.
– А дядя Ваня?
– Так отец с матерью ещё вчера с заводом на Урал эвакуировались. Тебе разве бабушка не рассказывала? Мне бронь дали, мужиков на фронт позабирали, опытные движенцы на вес золота. Заворачивай-ка оглобли домой, нечего по городу шастать в такое время.
Поля с готовностью кивнула: действительно, нечего шастать, школа, скорее всего, закрыта, тем более так славно, так спокойно было идти рядом с Алей и украдкой любоваться на тугие колечки её темных волос, прилипшие к румяно-яблочной щеке, на сияющие на октябрьском солнце пуговицы шинели и бляху ремня, на красивые, полные ноги, обутые в хромовые сапожки. Мимо пронеслась полуторка, груженая домашним скарбом, на самом верху, зажатый между двумя матрасами, как колбаса в бутерброде, лоснился полированный шкаф.
Аля громко фыркнула:
– Видала? Илья Степанович со всем барахлом драпает. Помнишь, как больную жену держал в черном теле, а как померла, так через неделю новую привёл? Эх, Полька, если человек сволочь, то он до самого дна сволочь.
– Что же, Аля, все кто эвакуировался сволочи? – с сомнением спросила Полина.
– Не все, по-разному бывает, – уклончиво ответила Аля. – Но этот точно сволочь. Да и потом, если все побегут, кто в Москве-то останется?
– Говорят, Сталин тоже сбежал.
– Говорят, кур доят! – отрезала Аля. – Ори громче, чтобы вся Москва слышала! Вы к нам с бабушкой сегодня приходите, проводим Митьку, как полагается.
У Полины предательски защипало глаза – уже год Митя Скворцов был предметом её тайных девичьих грёз, сей факт она скрывала даже от верной Туси, не говоря уже о самом Мите. И чего он ей так нравился? Внешне Митя был полной противоположностью сестры: невысокого роста, тонкий и гибкий, как лоза (чемпион школы по гимнастике!), его светлые и пушистые, как птичьи перышки, волосы и застенчивая улыбка смягчали острые черты худощавого лица и, по-мальчишески упрямый, взгляд карих глаз.
Вернувшись вечером от Скворцовых, Полина бросилась на кровать и разрыдалась, чем напугала бабушку до полусмерти. Проснувшись на рассвете, долго и пристально разглядывала карту СССР, пришпиленную над кроватью. Эта карта с бледно-голубыми лентами рек, желтыми проплешинами пустынь, изумрудными пятнами лесов и шоколадными складками гор была главным украшением их скромного жилища. За несколько лет она изучила карту до малейших деталей и теперь с закрытыми глазами могла найти любой город или реку. Вспомнив какой-то фильм о Гражданской войне, Полина вскочила с кровати, под подозрительные взгляды бабушки, выгребла из её запасов швейные булавки с лоскутами тканей и на скорую руку смастерила два десятка флажков – черных и красных. Через несколько минут черные флажки, как споры черной оспы, покрыли всю западную часть карты. Полине впервые с начала войны стало по-настоящему страшно.
Брест, Минск, Львов, Рига, Кишинев, Смоленск. Новгород, Днепропетровск, Таллин, Выборг, Брянск, Киев, Орел, Одесса, Калуга, Калинин, Курск, Елец…
Бабушка, молча наблюдающая за Полиной, протянула два красных флажка. Для Москвы и Ленинграда.
Колька Астахов, забежавший на минуту, но, как обычно, оставшийся до самого вечера, одобрил её затею с картой и хвастливо заявил:
– Если что, уйду в подпольщики, уже думаю о названии организации. Жаль, что повоевать толком не получиться, к тому времени, как мне восемнадцать стукнет, война давно закончится.
Эх, Колька, Колька, Николай Иванович Астахов, успеешь ты повоевать и вернешься домой лишь в октябре сорок пятого, после разгрома Квантунской армии.
Три года, три долгих-долгих года, красные флажки теснили к западной границе черные.
После нескольких дней паники октября 1941 года, появился приказ применять к трусам и мародёрам любые меры, вплоть до расстрела. Москва, всколыхнувшаяся в страхе перед, казавшейся неминуемой, оккупацией, постепенно успокаивалась, привыкая к жизни по законам осажденного города.
Полина устроилась в эвакогоспиталь, где не брезговала никакой работой: отстирывала бинты и белье от грязи и гноя, мыла полы, помогала на перевязках. Её хвалили за безотказность, за то, что «котелок варит» и «рука лёгкая», именно в те дни Полина решила поступать в медицинский. Особенно близко сдружилась она с Наташей Сазоновой, которая до войны работала медсестрой в роддоме на Красной Пресне:
– Не могу я здесь, Полька, – страдальчески шептала Наташа, – смерти на десять лет вперёд нанюхалась. Мне наш роддом каждую ночь сниться, такой чистенький, такой беленький, аж до синевы! Вот вроде и тут орут, и там орут, тут кровь, и там кровь, а все равно… Человек родился – это совсем не то, что помер. Скорее бы война проклятая закончилась, да я ж свою первую послевоенную роженицу, как родную, расцелую.
1941-1942 год.
Освобождены Елец. Калинин. Калуга. Немецкая армия отброшена от Москвы на сотни километров к западу.
Занятия в школе так и не начались, но раз в неделю Полина вместе с другими ребятами ходила на консультации. Почти все одноклассники работали, кто-то на заводах и фабриках, кто-то, как она, в эвакогоспиталях. Учителя с жалостью смотрели на их, осунувшиеся от недосыпа и голода, лица, но спуску в учёбе не давали. Бабушка почти сутками сидела за швейной машинкой, выстрачивая солдатское исподнее.
– Как бы там ни было, а без кальсон не повоюешь, – с гордостью говорила она о своей работе.
1943 год.
Освобождены Сталинград. Курск. Орел. Брянск. Смоленск. Днепропетровск. Киев.
Полина успешно сдала выпускные экзамены и поступила в медицинский, как только выдавалась свободная минута, бежала в госпиталь – мыть, стирать, писать письма… Летом в отпуск после ранения приехал Митя Скворцов. Полина, встретившись с ним на общей кухне, не сразу его узнала в военной форме с золотыми погонами, а бабушка всплеснула руками и воскликнула:
– Дмитрий Иванович! Да вы просто Печорин! Русский офицер!
Митя смущенно покрутил кончик светло-русого уса и решительно возразил:
– Вы ещё скажите «господин подпоручик»! Я – советский офицер, Серафима Матвеевна. Советский.
Полина подарила Мите две пары шерстяных носков, а он ей – банку американской тушенки и плитку шоколада.
Зимой, одно за одним, случились два несчастья: бабушка потеряла продуктовые карточки, а ведь даже дети знали, что на каждой карточке написано «при утере не возобновляется». Не прошло и недели, как в раздевалке казенной бани у Полины украли шубку и валенки. Аля отсыпала им полмешка картошки и отдала буханку хлеба, строго-настрого наказав:
– Ешьте и даже не думайте отказываться, у меня карточка первой категории, на 800 грамм, я столько не съедаю, как-то раз на рынке за буханку отрез крепдешина выменяла. Завтра сахара принесу, до конца месяца всего ничего осталось, с голоду не помрем, Матвеевна!
Бабушка, по-детски хлюпая носом-пуговкой, прижала к груди кулачки:
– Алевтина Ивановна, Алечка, как же нам с тобой расплатиться за всё?
– Вот ещё, расплатиться! – рассердилась Аля. – Мы люди или кто? Живы будем, война закончится, пошьёте мне платье из крепдешина, и на том спасибо.
Накануне Нового года бабушка разбудила Полину, когда за окнами было ещё темно, и велела достать кольцо. Полина всё поняла, подбежала к окну, сунула руку под подоконник, нащупала в глубине расщелины твёрдый сверток из фланелевой ткани, сжала пальцы и медленно, сантиметр за сантиметром, вытащила свёрток наружу. Перед тем, как развернуть фланельку, спросила бабушку:
– Тебе правда не жалко?
– А тебе? Кольцо твоё, досталось от бабки по отцовской линии. Баронессы фон Адлерберг, упокой Господи её душу.
– Бабушка! Сколько раз тебя просила, не напоминай мне о немецкой крови! Нашла время!
– Ну, не нами сказано, кровь не вода.
– Бабушка!!!
– Полина, умоляю, не кричи! Ты же воспитанная девушка. Разворачивай, полюбуемся напоследок.
Полина осторожно развязала узелок: на испачканной древесной трухой тряпице победно засиял фиалковый сгусток александрита в окружении крохотных бриллиантов. Это бабушка придумала прятать кольцо в щели под подоконником, щель была такой узкой, что просунуть в нее руку могла только Полина. Однажды она без спросу достала кольцо и долго лизала камень, воображая его монпансье, которым угощалась у подружки Туси. Когда бабушка застала ее за этим занятием, то оттаскала за косы будь здоров, а потом купила монпансье и каждый вечер выдавала по леденцу, лишь бы внучка больше не брала кольцо.
С рынка они вернулись с новой солдатской шинелью, ботинками из крепкой свиной кожи, и кринкой сметаны, по тем временам эта была удачная мена за несколько граммов золота с блескучими камушками. Когда Аля узнала про их поход на рынок, то отругала обоих на чём свет стоит:
– Не зря говорят, старый, что малый. Серафима Матвеевна, не ожидала я от вас такой прыти!
Бабушке же не терпелось рассказать обо всем во всех подробностях:
– Алечка, вы просто не представляете, как нам повезло, покупатель оказался порядочным и знающим человеком, правда несколько простоват внешне, но сразу оценил камень. Я ему говорю, камень чистый, работа старинная, девятнадцатый век, сейчас такого не делают, а он мне: вижу, гражданочка, не слепой.
– Свернул бы вам этот знающий человек шею в подворотне, и поминай как звали, – буркнула Аля.
– Теперь уж поздно бояться, дело сделано, и сделано хорошо! Вы, Аля, не стесняйтесь, кладите ложкой сметану на хлеб, кладите, – хлопотала бабушка около соседки. – Я шинель распорю и пошью Полинке пальто в талию, сукно добротное, десять лет сносу не будет.
1944 год.
В январе – долгожданный прорыв блокады Ленинграда. Полина от радости прыгала, как первоклашка: ура, скоро вернётся Туська!
Елец. Калинин. Калуга. Сталинград. Курск. Орел. Брянск. Смоленск. Днепропетровск. Киев. Новгород. Одесса. Севастополь. Выборг. Минск. Львов. Брест. Кишинев. Таллин. Рига…
Полина, злорадно усмехаясь, всё чаще и чаще выбрасывала в помойное ведро черные флажки.
Когда 7 ноября 1944 года по радио объявили, что территория СССР освобождена от немецко-фашистских захватчиков, бабушка, довольно потирая руки, поинтересовалась: нельзя ли по такому случаю раздобыть карту Европы? Но она не успела ничего раздобыть – бабушка умерла через неделю, сидя за швейной машинкой, только охнула на прощание. Полина сначала подумала, что бабушка укололась, даже крикнула из своего закутка, где штудировала конспекты перед экзаменом: «Бабуля, осторожнее!» Не услышав ответа, одернула штору: бабушка сидела на стуле, уткнувшись лбом в швейную машинку. Полина подошла на цыпочках, не дыша, взяла в руки её запястье. Кончики пальцев дрожали, и ей показалось, что есть пульс, даже губы успели дрогнуть в облегченной улыбке, но бабушка вдруг стала заваливаться на бок, ножки стула поехали в сторону, собирая в гармошку половик. Оглушительный звук падения вывел Полину из прострации, и она закричала так, что через минуту сбежались соседи. После похорон Полина долго не могла привыкнуть к тишине в комнате, включала радио, вслушивалась к разговорам соседей за стенкой и в коридоре. Ей сказали, что у бабушки оторвался тромб. Через месяц пришла похоронка на Митю. Война исправно несла свою вахту на службе у смерти, не пропуская ни одного дома, ни одного сердца.
Зимой 1945 года Полина ушла на фронт, правда, боев так и не увидела, прослужив до конца войны в прифронтовом госпитале. Аля писала, что из эвакуации вернулся Илья Степанович и устроил скандал, узнав, что его комнаты заняты, попытался явочным порядком въехать в комнату Полины, но все остальные жители встали стеной против такого произвола. Илья Степанович накатал донос на Полину «куда надо», называя её «чужеродным элементом» и «белогвардейским выкормышем», но они, соседи, перехватили донос и пообещали написать другой, уже на него лично, потому что Полина «настоящая фронтовичка», а он «крыса облезлая». Полина себя фронтовичкой не считала: их госпиталь почти не бомбили. Демобилизовавшись в августе сорок пятого, той же осенью она вернулась к учебе в медицинском институте…
– Полина Аркадьевна, ну так как? Мне идёт? Стоит брать? – не отставала Неля.
– Три тысячи? – переспросила Полина Махоткину.
– Да. Новыми, – помявшись, подтвердила Валя.
«Три тысячи! Интересно, сколько сейчас на эти деньги можно купить пальто? Тридцать? Сорок? Кому война, кому мать родна. А шинелька-то та совсем новая была, со склада», – усмехнулась про себя Полина.
– Полина Аркадьевна, извините, но уступить не могу. У нас с мужем всё до копеечки рассчитано,– повторила Валя, не забывая заискивающе улыбаться.
– Я согласна, – отрезала Полина.
Неля со вздохом сожаления сняла кольцо. У Полины не было таких денег, но было у кого занять. В конце концов, как говорил товарищ Сталин, хороший врач себя всегда прокормит.
По дороге домой, Полина несколько раз останавливалась и любовалась кольцом на безымянном палец.
«Сколько тебе лет, монпансье? Сколько пролежал ты в темноте? Не бойся, я не буду прятать тебя по щелям и комодам! – александрит счастливо щурился на солнце, отвечая на её слова золотисто-зелеными всполохами. Полина опустила глаза: растоптанные, серые от пыли туфли сливались с асфальтом, штопаные чулки неопрятно морщились на щиколотках. В кого она превратилась за эти полгода! Распустёха! Баронесса фон Адлерберг погрозила с небес пальцем. Полина посмотрела на часы: если поторопиться, то ещё можно успеть в универмаг.
Через десять лет, в начале семидесятых, она увидела объявление в «Известиях»:
Инюрколлегия СССР
По наследственному делу разыскиваются родственники
Кудашева Аркадия Николаевича, умершего в г. Сан-Паулу, Бразилия.
Всех лиц, знающих о судьбе его родственников просим сообщить по адресу:
Инюрколлегия, Тверская, 13
Полина знала о судьбе родственников Кудашева Аркадия Николаевича, ведь она сама была его родственницей. Дочерью. Сразу же после бегства родителей бабушка поменяла ей фамилию, выхолащивая из биографии внучки все, что напоминало об отце, изменнике Родины.
Несколько дней Полина раздумывала, как поступить, потом решила: почему бы и нет? Вызвала такси и назвала адрес Инюрколлегии. Ей пришлось приложить усилия, чтобы доказать родство, но оно того стоило: даже за вычетом всех сборов и принудительно-добровольного взноса в Фонд мира, наследство, выданное чеками Внешпосылторга, оказалось весьма внушительным. Через Эмму она свела знакомство с одним из лучших «черных» маклеров Москвы, и уже через год переехала из однушки в Крылатском в роскошную двухкомнатной квартиру в сталинке на Фрунзенской набережной. По утрам, надев шелковый халат с вышитыми по подолу китайскими драконами, Полина пила чай из чашки со знаменитым темно-синим узором-сеткой и любовалась этюдом Сомова. Жизнь научила ее доверять не деньгам, а вещам, чья стоимость растёт год от года, век от века. Вещи, вообще, приобретали всё большее и большее значение в жизни людей. Минимализм шестидесятых с его тонконогой невесомостью остался в прошлом, проиграв конкуренцию моде на добротное ретро. Полина носилась по Москве, скупая за копейки антикварную мебель, по знакомству находила лучших московских реставраторов, чтобы привести антик в божеский вид. Карьера её складывалась самым удачным образом, она без труда защитила докторскую и, по возможности, не брезговала частными консультациями, что приносило неплохие деньги. Личная жизнь, в отличие от профессиональной, складывалась ни шатко, ни валко. Конечно, у неё были любовники, которых она выбирала, сообразуясь с их положением, но эти связи быстро сходили на нет, не выдерживая проверки темпом её жизни. В сущности, в её сердце не было места ни для кого, кроме сына, всё делалось для его будущего, ему должны были достаться и квартира, и мебель, и картины, и фарфор… Пусть Горан и эта Мира не думают, что на них свет клином сошёлся. Баронесса фон Адлерберг определенно была бы довольна правнучкой. Определенно.
Вместе с наследством Полина получила предсмертное письмо отца. Овдовев, отец удачно женился на наследнице кофейных плантаций, наследство это не промотал, а, напротив, преумножил и стал одним из богатейших людей Сан-Паулу. В письме была фотография, на которой отец в окружении жены и двух сыновей сидел за круглым столом на фоне особняка в колониальном стиле. «Красиво. Как в кино», – подумала Полина и ещё раз перечитала письмо.
«Дорогая Полина, надеюсь ты жива и счастлива настолько, насколько можно быть счастливой в нашей несчастной стране. Не хочу тревожить твою душу словами раскаяния того, кто стоит на пороге смерти и страшится уйти в мир иной непрощенным за свое предательство. Да, Полина, я признаю, что мой поступок был предательством по отношению к тебе, моей дочери, однако также признаю, что никогда не сожалел о сделанном выборе. Я принял революцию легко, как и многие, был захвачен идеей построения новой России, но постепенно юношеский энтузиазм угас, уступив место трезвому взгляду на происходящее. Я всё отчетливей понимал, что на смену революционной романтике приходит заурядная борьба за власть, и такие, как я, в силу своего происхождения, станут первыми жертвенными агнцами в этой борьбе. Я малодушно уверял себя в том, что после нашего бегства большевики не тронут ни тебя, ни Серафиму Матвеевну. Оказался ли я прав? Увы, но мне не суждено это узнать. Тебя, наверное, интересует судьба твоей матери? Она умерла родами через два года, климат Бразилии плохо сказывался на её здоровье. Прости нас, Поля…»
Дочитав письмо, Полина, положила его на стол и несколько часов кружила около: брала в руки хрусткий, голубоватый лист, касалась каллиграфических строк кончиками пальцев и снова возвращала послание отца в конверт. Написанное отцом входило в странное противоречие с её душой, и это противоречие она, как ни силилась, не могла облечь словами.
Вот он писал:
«Не думай, что я остался в стороне во время войны, через третьих лиц я смог передать значительную сумму для Советского Союза, этих денег с лихвой хватало на самолет или танк…»
Танк или самолёт… Бабушка шила кальсоны, она стирала бинты… О, их вклад в победу был гораздо скромнее!
Полина принесла из кухни банку с растворимым кофе и поставила её рядом с письмом. Они неплохо смотрелись вместе. Бразильское письмо и бразильский кофе.
Он не раскаялся в своем бегстве. Полина его не осуждала. Она просто… Она просто ничего не чувствовала, и это было самым мучительным!
История вершит свои дела без оглядки на гуманизм. Так было, есть и будет всегда. Подвластная воле истории, Россия вздыбилась над миром новорожденным красным материком. Высыхали до дна океаны, но тут же наполнялись новые. Падали горы, превращаясь в пустыни, но тут же возносились новые. Вырывались с корнем вековые леса, но тут же прорастали новые. Она была тому свидетель и, чудом уцелев, стала частью этого красного материка. Хотела она этого или нет. Рана не может кровоточить вечно, дальше – либо жизнь, либо смерть. В её случае, самая крепкая (крепче конской жилы) связь ребенка и родителей лопнула, не выдержав натяжения над историческим разломом, а время запаяло концы, не оставив шансов на живое притяжение.
Полина ещё раз перечитала письмо, сложила его по сгибам и отправила на самое дно янтарной шкатулки.
У него были кофейные плантации, а у неё – бабушка, замирающая до самой смерти, как истукан, от каждого стука в дверь, подружка Туська, уехавшая в начале июня 1941 года в Ленинград в гости к старшей сестре и оставшаяся там навсегда, на Пискаревском кладбище, Митя Скворцов, заживо сгоревший в танке и миллионы, миллионы, миллионы тех, кто так и не дожил до Победы, защищая свою «несчастливую» родину…
***
Алёна вышла замуж. Ну как замуж? Гена сказал:
– Все равно мы поженимся скоро, переезжай к нам, мать не против. Присмотримся к друг к другу, притрёмся, а потом заявление в загс подадим.
Вообще, Алёна понимала, что значит "притрёмся", в конце концов, она была уже взрослой девушкой! В общежитии сказала, что временно поживёт у дальней и очень больной родственницы, матери же решила пока ничего не сообщать.
Первой узнала тётка Вера, которая любила Алёну за сходство с отцом, за острый язычок, за то, что та умела давать отпор и отчиму, и матери. Тетка частенько звонила в общагу, чтобы узнать, как дела у племяшки, но в этот раз ей ответили, что Алёна Самсонова из общежития съехала в неизвестном направлении. Не откладывая дело в долгий ящик, тетка побежала к Анне для выяснения подробностей, но оказалось, что бывшая невестка ни сном ни духом не ведала, куда запропастилась дочь. Женщины, поохав, единогласно постановили ехать в Горький на следующий же день.
В электричке тётя Вера солидно рассуждала вполголоса:
– Вот чует мое сердце, живёт она с этим Генкой без росписи! Да ладно бы она у нас кривая или косая была! Такую девку, как Алёнка, любой парень с руками и ногами оторвет. Ой, дуреха, куда спешить-то? Успеет еще бабьей жизнью нажиться…
Анна недовольно зашикала, потише, мол, люди кругом, тетя Вера неприязненно посмотрела на невестку и обиженно поджала губы. Следить надо за девчонками, вот что! Был бы жив брат, такое бы не допустил!
В техникуме Алёнки не обнаружилось, сказали, что она уже неделю на больничном. На их счастье, одна из студенток проговорилась:
– Так Алёнка у Палкиных живет, их дом на той же улице, что и наш.
***
Анна решительно толкнула калитку и шагнула во двор, тётка двинулась следом. Из будки нехотя вылез толстый, как сибирский валенок, пес, зевнул и лениво гавкнул: ходят тут всякие, спать мешают. На всякий случай женщины бросили ему остаток пирога, который брали в дорогу, пес понюхал его и, оставив лежать на земле, залез обратно в будку.
– Зажрался, – постановила Анна и, навострив уши, спросила Веру, – Слышь? Чего это?
– Слышу, вроде, – полушепотом ответила тетка, прислушиваясь к глухим ритмичным ударам неизвестного происхождения. Оказалось, что это Алёна выбивала на заднем дворе, развешанные по забору, цветастые подушки.
– К Паске готовятся, – определила тётка. Увидев мать с тётей Верой, Алёна присела от неожиданности.
– Ну, здравствуй, доченька! Не утомились ли рученьки чужое добро перебирать? – подбоченилась Анна, довольная растерянностью дочери. Алёна повела плечами и нервно спросила:
– Вы как меня нашли? Кто проболтался? Ладно, проходите в дом, скоро Гена и тётя Тамара с работы придут.
Мать ткнула пальцем в подушку:
– Нет уж, доча, пока ты в этом доме законной женой не будешь, я его порога не переступлю, так и знай. Собирай-ка вещи и айда домой!
Алёна собралась за десять минут. Честно говоря, мать-то права, нажилась она здесь на птичьих правах, а недавно свекровь выдала, мол, как забеременеешь, так сразу в загс, чего раньше времени торопиться? Ну уж нет, чего захотели! Когда Ленка Журавлева с пузом замуж выходила, ей весь район косточки перемывал. Замкнув замок, Алёна сунула в дверную щель записку: "Прости, Гена, но я так больше не могу", и уже через час, в общежитии, под одобрительные взгляды матери и тётки, уплетала за обе щеки сдобные бублики с черничным вареньем. Эх, хорошо… Не то что у Генки в доме, где тётя Тамара каждую ложку сахара, каждый кусок мяса глазами провожала. Вставали Палкины рано, скотины-то полный двор – кормить, поить, доить надо. К животине Алёну не подпускали, зато по дому загрузили по полной. Она даже обрадовалась, когда приболела, думала полежит в кроватке, книжку почитает или телик посмотрит. Но не тут-то было, только температура спала, как свекровь начала Алену с постели поднимать без зазрения совести.
Тётка, слушая злоключения племянницы, возмущалась:
– Где у тебя мозги-то были, милая ты моя? Нет сейчас такой безнадёги в жизни, чтобы молодая девка пошла в батрачки к свекрови! Да и какая она тебе свекровь? Жили без росписи, если б ребёнок случился, что тогда? Замучилась бы алименты по судам выбивать да позориться. Ни одна путная баба, хоть разведёнка, хоть мать-одиночка, без свадьбы жить не будет, больно много чести мужикам. Вот что твоему Гене мешает в загсе обжениться? Сама говоришь, зарабатывает хорошо, возьмёте ссуду, отстроитесь, ты скоро с образованием будешь, живи не хочу!
Алёна не успела ответить тетке, потому что в комнату заглянула вахтёрша:
– Самсонова, к тебе пришли!
Медленно, очень медленно шла Алёна по коридору, прямо по курсу, у вахты, маячила долговязая фигура Генки.
Гена мял в руках шапку и виновато бубнил:
– Алён, ну ты чего, ну хорошо же все было. Возвращайся, я люблю тебя, правда. Хочешь завтра в загс пойдем?
Алёна держала паузу, разглядывая светильники на потолке. Очень интересные светильники, гораздо интересней Гены, между прочим. Гена же, понурив нос, молча ждал решения своей участи. Налюбовавшись на лампы до желтых кругов в глазах, Алёна вынесла безжалостный вердикт.
– Я еще подумаю выходить за тебя или нет! Обрадовался, что ночёвщицу себе нашел? Я тебе кто? Невеста или сожительница? Очень ты меня, Гена, разочаровал. Думаешь, другого не найду?
Тут Гена совсем раскис. Вот дурак-то, послушал мать на свою голову. Алёне надоело его сопение (буквально всё приходилось брать в свои руки):
– Значит так, я к вам не вернусь, до свадьбы ни-ни, понятно? Посмотрим на твое поведение, очень пристально посмотрим. Ты на машине? Отвезёшь мою маму и тётю на вокзал, заодно и познакомишься, жених. Жди пока на улице, мы сейчас.
1985 год
– Это тебе, от Братислава,– сказала Полина, подавая ей яркую открытку с изображением моря и белоснежного города на побережье.
Кира, затаив дыхание, двумя пальчиками взяла, похожую на райскую птичку, открытку. На обороте – надпись, тонким, летящим почерком: «Кира, поздравляю тебя с окончанием школы! Желаю успешного поступления в институт, надеюсь, мы ещё увидимся в Москве!» Полина, заметив, какой чистой радостью засветились её глаза, небрежно бросила, чтобы притушить этот свет:
– Кира, мой сын просто хорошо воспитан, не более того.
– Да, я понимаю, – послушно отозвалась Кира, пряча открытку в аттестат.
Уже дома перечитала её сто тысяч раз, рассмотрев до последней закорючки каждое слово этого нехитрого послания. И даже поцеловала
– Что ещё за Братислав? – грозно спросила мать, вырвав открытку из её рук.
– Это сын Полины Аркадьевны, он уже взрослый, – начала испуганно оправдываться Кира.
– Взрослый, говоришь? – мать с размаху хлестнула открыткой по её лицу. – Не рано со взрослыми-то мужиками шашни крутить начала, зараза? Потаскухой хочешь вырасти?
Кира сжала зубы, сейчас ей было лучше молчать. Последнее время мать ходила злая, как фурия, потому что отчим уже две недели был в загуле, не появляясь дома. Накричавшись мать, швырнула в неё открыткой со словами:
– Совсем тебе твоя Полина голову задурила, уедешь, так и не вспомнишь обо мне…
***
Она поступила! Поступила! Все уже разошлись, а Кира все стояла и стояла у стенда, где выл вывешен список поступивших. Буква «о» в её фамилии была так плохо пропечатана, что почти сливалась с серой бумагой, зато буква «с» получилась жирной, как клякса. Да какое это имеет значение! Она – студентка! Студентка московского вуза!
Вернувшись в квартиру Полины, повисла у той на шее, благодарно шепча на ухо:
– Спасибо, спасибо за всё, я так вас люблю, если бы не вы…
– Пусти, задушишь, – рассмеялась Полина.
На шум, в прихожую, выглянул Братислав, узнав новости, обрадовался и предложил:
– Кира, поскольку ты стала самой настоящей студенткой, приглашаю тебя в "Космос", если ты поторопишься, то успеем до того, как туда выстроиться очередь в пол-Москвы. Извини, Полина, но тебе придётся остаться дома, предложение действует для дам моложе двадцати, ты опоздала ровно на год.
В кафе Братислав заказал для Киры фирменное мороженое с шоколадом и орехами, сам же потягивал какой-то коктейль розового цвета.
– Это вкусно? Можно мне попробовать? – попросила Кира.
Братислав шутливо погрозил пальцем:
– Еще чего, шампань-коблер для взрослых девочек, в нем есть коньяк и шампанское. Вообще, я предпочитаю вино, а это так, дань воспоминаниям о шальной студенческой жизни. Я ведь учился в Москве.
– Вы так любите Москву? Учились здесь, часто бываете по работе…
– Терпеть ненавижу. Уродливая и холодная, как старая дева. Учился здесь, потому что этого хотел отец. Часто бываю, потому что я переводчик, работаю по контракту. Если бы ты видела Сплит… Знаешь, ребёнком я думал, что тот, кто живёт не в Сплите, наказан за страшные преступления. Представь себе: набережная, белые, кремовые, розовые дома под красными крышами, улочки узкие, как тоннели, на них всегда тихо, даже если на побережье ветер сбивает с ног. Но самое главное – море. Лазурное море. Я раньше даже цвета такого не видел, а когда подчерпнул в ладошки морской воды, чуть не расплакался от обиды, вода оказалась обычной – прозрачной и очень солёной. Я-то думал, что море сладкое. Смешно, да? Знаешь, какое варенье варит моя мама из персиков, жижулы, яблок! Скорее бы домой… Ладно, будешь хорошо учиться, приглашу тебя на свою свадьбу!
Кира поморщилась, очень ей нужна его свадьба!
– Мой отец – серб, а мама Мира – хорватка. Значит, я – югослав, – продолжил Братислав, не замечая её недовольной гримаски. – Отец партизанил в войну, дед был коммунистом, его убили хорватские усташи4. Вот видишь, как бывает…
– А как же Полина Аркадьевна? Я думала, она ваша мама, – растерянно спросила Кира, забыв о своей мимолетной обиде. Братислав ответил с явной неохотой:
– Ну, у меня просто две мамы, так получилось… Я очень люблю Полину, уважаю, но мамой называю Миру.
Кире стало грустно за Полину Аркадьевну, которая всегда с такой нежностью смотрела на Братислава и старалась угодить ему в любой мелочи.
Мимо их столика прошла высокая рыжеволосая девушка в модных "бананах". Кира прикусила губу, заметив, каким долгим взглядом проводил Братислав эту рыжую. Разве можно так себя вести, когда приглашаешь девушку в кафе? Наверное, она для него просто желторотый цыпленок, а не взрослая, то есть почти взрослая, интересная женщина. Ну и пусть. Конечно, если бы у нее были такие "бананы", такие кроссовки… Не надо было слушать Полину и надевать это платье…
На самом деле, Кира и вообразить не могла, как была хороша в своем скромном, светло-сером платье с тонким кожаным ремешком, а невесомый пушок у висков придавал её строгому личику трогательный, полудетский вид. «Сама юность. Поцеловать, что ли? В ушко. По-братски, конечно», – подумал Братислав, когда она, переодевшись для кафе, вышла к нему, в прихожую, и тут же отогнал от себя эту крамольную мысль. На поцелуях, даже самых братских, он обычно не останавливался.
Мороженое совсем растаяло, Братислав заказал пирожные, посыпанные ореховой крошкой, и кофе, но у Киры от чего-то совсем пропал аппетит.
Как же он изменился в лице, когда увидел эту рыжую! Каким недвусмысленным интересом вспыхнули эти янтарные глаза, в какой тонкой, едва различимой, полуулыбке изогнулся яркий, смешливый рот. Казалось, что ещё секунда и его верхняя губа вздрогнет, обнажая в хищном оскале крепкие, белые зубы. Она так живо себе это представила, что невольно закашлялась, поперхнувшись пирожным. Братислав озабоченно спросил:
– Ты в порядке?
Кира поспешно кивнула. Ей было неприятно его вежливое внимание, но и не смотреть на него она не могла. Пожалуй, в какой-нибудь книжке написали бы так: «юная дева залюбовалась прекрасным, но порочным лицом завзятого сердцееда». Да, именно так, порочным. Как бы он не пытался это скрыть, как бы не притворялся… Киру бросило в жар от щекочущего холодка внизу живота. Да что это с ней творится? Она вспомнила совет писателя О'Генри юным девушкам, которых одолевают низменные мысли: нужно выпрямить спину и произнести какое-нибудь заумное словцо, тем самым напомнив себе о высоком. Например, гипотенуза.
Гипотенуза, дирекция, девальвация, прострация… Она начитанная, она знает много таких слов…
По дороге домой, Кира, сидя на заднем сиденье автомобиля, сверлила взглядом затылок Братислава, а холодок внизу живота сменился тягучим, как малиновое варенье, зудом, между ног стало мокро. Эти дни у неё закончились неделю назад. Нет, это что-то другое… Такого никогда не было… Ей казалось, что она истекает этой влагой и пахнет на весь салон. Может она заболела? Боясь испачкать обивку сиденья, Кира плотно сжала бедра.
Гипотенуза, декларация, обструкция, абстракция…
Братислав, увидев в зеркале её красное лицо, не на шутку забеспокоился:
– Кира, ты точно в порядке?
– Да, всё хорошо, я просто переволновалась за последнюю неделю, – выдавила Кира и отвернулась к окну. Лучше бы он ничего не спрашивал, а просто остановил машину и пересел на заднее сиденье.
Да, сел бы рядом, совсем-совсем близко и, касаясь горячими губами её виска, спросил бы ещё раз, так же заботливо: «Кира, ты в порядке?»
Положил бы ладонь на её колено, обжигая тем самым, «кафешным», взглядом: «Так ты в порядке, Кира?», а затем… Пусть бы скользнул рукой вверх по бедру, не торопясь, но и не спрашивая разрешения: «Кира, с тобой точно всё хорошо? Я беспокоюсь, кажется, у тебя температура. Ты не будешь против, если я проведу языком по твоим губам? Тебе сразу станет легче».
Биссектриса, словно крыса…. Революция, резолюция…
Кира уже едва сдерживала себя в желании запустить пальцы в его густые, упругие волосы. На её счастье автомобиль резко затормозил. Всё, приехали. Не дожидаясь, пока Братислав откроет дверь и подаст ей руку, Кира выскочила наружу, громко хлопнув дверью. Прохладный, вечерний ветер обвил её голые ноги. Братислав подбросил ключи и, сдвинув брови, спросил с прежней тревогой:
– Ты не заболела? Мне, кажется, у тебя температура, попроси у Полины градусник, хорошо?
– Я в порядке, – неожиданно резко ответила Кира.
Братислав пожал плечами:
– Как знаешь. Ты иди, пожалуй, не жди меня. Передай Полине, что мне надо съездить кое-куда, по делу.
"Побежит, наверное, искать эту рыжую," – подумала Кира с мучительной ревностью. Братислав часто уходил по вечерам, в такие дни Полина Аркадьевна и Кира, не сговариваясь, подолгу не ложились спать, но он редко возвращался до полуночи, чаще приходил под утро.
Он любил женщин, и они любили его. Как там в старой песне поется? " В Дрине вода холодная, у сербов кровь горячая…" Инвалидность никогда не была ему помехой в любви, женщины всех возрастов таяли от его белозубой улыбки на загорелом лице, от широких, развёрнутых плаванием, плеч, от легкого, весёлого нрава и от, обволакивающего теплом, голоса. Он не понимал, почему отец делает из этого такую проблему. Как и многие мужчины, Братислав надеялся: "Нагуляюсь, потом женюсь на скромной девочке из хорошей семьи, чтобы родила здоровых детей. Что ещё для счастья надо?"