Читать онлайн Иностранная литература №04/2011 бесплатно
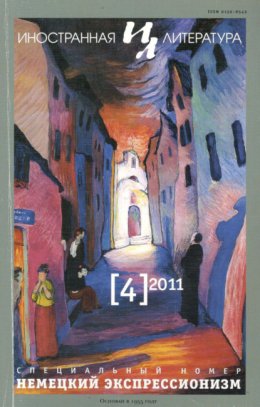
Ежемесячный литературно-художественный журнал
До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.
Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”
© “Иностранная литература”, 2011
От составителя
Принято считать, что литературная ветвь экспрессионизма оформилась в Германии к 1911 году – когда было напечатано стихотворение Якоба ван Ходдиса[1] “Weltende” (“Конец света”), воспринятое как манифест нового движения, и впервые был употреблен (сперва применительно к художникам-участникам выставки берлинского Сецессиона, открывшейся в апреле 1911 года, а чуть позже – и применительно к поэтам) сам термин “экспрессионизм”. Говорят еще об “экспрессионистском десятилетии” (1911–1922). Так что можно считать, что этой публикацией мы празднуем столетие экспрессионизма – течения, в своем литературном аспекте очень плохо известного в современной России[2], хотя тогда, в 10—30-е годы, были и русские экспрессионисты (необязательно так называвшиеся: Михаил Кузмин, например, братски приветствовал немецких экспрессионистов от имени русских эмоционалистов), и интерес к немецкоязычной экспрессионистской литературе, и первые попытки ее перевода. Как это все закончилось, видно на примере экспрессионистского романа Альфреда Дёблина “Горы моря и гиганты”, русский перевод которого был издан и бесследно исчез в 1937 году (неизвестно даже имя переводчика).
Экспрессионизм был одним из крупнейших сдвигов сразу во многих сферах культуры – изобразительном искусстве, литературе, архитектуре, музыке, кино. Проявившись наиболее полно в Германии и Австрии, это течение перекинулось потом и на другие страны Европы, Америку, Японию – отчасти благодаря конкретным людям, которым пришлось эмигрировать из Германии.
Если попытаться кратко выразить суть этого явления, я бы сказала, что художники-экспрессионисты последовательно воспринимали искусство как независимую реальность, способную влиять на жизнь или вступать с ней в равноправный диалог. Русская художница Марианна Верёвкина, чьи произведения украшают обложки этого номера, писала, например, в “Письмах к неизвестному”: “Искусство – это интеллектуальная функция, здоровая, сильная и искренняя, только другая форма мыслительной деятельности. Оно не бред, а философия. <…> Художник должен обладать видением внутренним и не принимать во внимание логику видения физического, привычного. <…> Творчество уподобляет человека Богу”. Неслучайно поэтому от экспрессионизма берут начало абстракционистские направления в искусстве. Задача сотворения иной реальности требовала каких-то новых, неслыханных изобразительных средств, и эпоха расцвета экспрессионизма в самом деле была временем многочисленных и очень смелых экспериментов с формой. Экспрессионизм оказал огромное влияние на развитие мирового искусства. Его история вовсе не закончилась с концом “экспрессионистского десятилетия”. Художники-экспрессионисты, которым выпала долгая жизнь, как правило, и дальше сохраняли, органично развивая и модифицируя, идеалы и интересы своей молодости, свои стилистические предпочтения. Это можно сказать о таких крупных немецких писателях, как Альфред Дёблин, Готфрид Бенн, Ханс Хенни Янн. Серьезные писатели следующих поколений не могли обойти вниманием их творчество, учились у них. После Второй мировой войны экспрессионизм не умер, а просто оказался на обочине литературы более скептичного послевоенного поколения и массового литературного потока. Еще позже в моду вошло “скромное” искусство, творцы которого ни на что особо не претендуют, не пытаются переделать или осмыслить мир, а предлагают читателю “простые истории”, более или менее увлекательные или забавные, либо интеллектуальные игры постмодернистского толка. По мнению современного немецкого прозаика Ханса Плешински, перелом в этом культурном процессе начался после спада волны студенческого движения 1968 года. Я бы хотела сослаться здесь на точку зрения, высказанную в одном из диалогов персонажей романа Плешински “Портрет Невидимого” (2004):
– Твой дневник свидетельствует и о другом. Сегодня почти невозможно поверить, насколько важное, решающее значение для жизни имели когда-то…
– В 1970 году!
– …искусство, литература, философия.
– Мы хотели найти для себя идейную опору. Конечно, мы и развлекались. Но даже вообразить не могли, что развлечения и культура, слившись в понятии “развлекательная культура”, станут губительной силой, втаптывающей человека в грязь.
Интересно, что в нынешней Германии традицию экспрессионизма продолжают именно те авторы, для которых одной из главных проблем является разрушающее воздействие “развлекательной культуры” на личность – Райнхард Ииргль, Уве Телькамп.
Люди, плохо знающие экспрессионизм, возможно, опасаются, что, открыв книгу автора-экспрессиониста, обнаружат в ней оторванный от жизни пафос, скуку, отсутствие юмора. Все это, конечно, встречается – у плохих экспрессионистов, как и у всех плохих художников. Мы попытались представить в этом номере ярких, своеобразных авторов – и писателей первой величины, и авторов менее значительных, которые рано ушли из жизни или по другим причинам написали мало, но оставили в литературе свой неповторимый след.
Я желаю удовольствия читателям этого номера и хочу поблагодарить всех переводчиков, с любовью отнесшихся к своей работе, и оказывавших им всяческую поддержку сотрудников Гёте-института. А также с благодарностью вспомнить уже умершего немецкого литературоведа, профессора Марбургского университета Дитера Бэнша, в go-е годы приложившего много сил для подготовки так и не опубликованной тогда в России антологии немецкого экспрессионизма, часть которой вошла в этот номер.
Татьяна Баскакова
Карл Шмидт-Ротлуф. Деревья зимой, 1905
Курт Пинтус
Справки об авторах подготовлены Т. Баскаковой и Е. Воропаевым.
Курт Пинтус [Kurt Pinthus] (псевдоним Паулюс Поттер, 1886–1975) – немецкий писатель и журналист, в тузу-тубу годах жил в США, потом вернулся в Германию. Изданная им в 1920 году в Берлине поэтическая антология “Сумерки человечества. Симфония новейшей поэзии” [“Menschheitsdammerung. Symphonic jungster Dichtung”] стала первым – теперь уже классическим – собранием немецкой экспрессионистской лирики. Пинтус внимательно следил за современной ему поэзией, поддерживал дружеские связи со многими экспрессионистами (например, с Готфридом Бенном, Альбертом Эренштейном, Францем Кафкой[3]). Переиздание его антологии, осуществленное в 1959 году, было дополнено собранными им биографическими данными о представленных в ней поэтах. Мы публикуем те части из его предисловий к антологии, где идет речь об истории экспрессионисткого движения и где Пинтус, человек очень близкий к экспрессионистам, обращается к другому поколению – молодым литераторам Германии, начавшим писать уже после Второй мировой войны.
Предисловие “Начать с того…” [“Zuvor”] (с сокращением) переведено по изданию: Menschheitsdammerung. Ein Dokument des Expressionismus. Hg. Kurt Pinthus. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1955.
Курт Пинтус
Начать с того…
Перевод Татьяны Баскаковой
© 1955 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
Молодым людям нашего поколения довелось жить в эпоху, когда всякие нравственные ориентиры исчезли. Считалось, что в любой ситуации нужно сохранять лишь внешние формы приличия; что должно быть как можно больше разнообразных вещей, доставляющих удовольствие; искусство оценивалось исключительно по эстетическим меркам, жизнь – по статистически-материальным; человек же и его духовная деятельность, казалось, существуют лишь для того, чтобы анализировать их и прилагать к ним психологические либо исторические дефиниции. Когда какой-нибудь молодой поэт пытался проникнуть глубже поверхности явлений, в себя самого, он ломался под давлением окружающего мира (Вальтер Кале[4]). Правда, кто-то уже испытывал потребность отказаться от реалистического изображения мира, как и от погони за мимолетными впечатлениями-импрессиями, – но достигал опять-таки лишь крайней дифференцированности восприятия и сублимации разложенного на составные части удовольствия, отчего само удовольствие разрушалось (Хардекопф, Лаутензак[5]).
Однако все отчетливее ощущалась невозможность такой ситуации, когда человечество целиком и полностью зависимо от своих же творений: от науки, техники, статистики, торговли и промышленности, от окостеневшего общественного порядка, от буржуазных и общепринятых норм поведения. Осознание этой невозможности стало началом борьбы против эпохи и ее реалий. Люди теперь бежали от окружающей действительности в недействительность, они хотели проникнуть сквозь поверхность явлений к их сущности, обнять или уничтожить врага, поддавшись духовному порыву; но прежде всего они попытались – с иронией, не лишенной высокомерия, – защититься от окружающего мира, смешав в одну гротескную кучу все явления, легко воспарив над этим вязко-текучим лабиринтом (Лихтенштейн, Бласс[6]); или же с цинизмом кабаретиста они находили прибежище в визионерских картинах (ван Ходдис).
Но эти поэты с их возбужденными, сверхвосприимчивыми нервами и душами уже ясно чувствовали, с одной стороны, глухой ропот приближающихся пролетарских масс, насильственно лишенных любви и радости, а с другой – надвигающийся крах человечества, ставшего слишком надменным и равнодушным. В пышном цветении цивилизации они улавливали запах гнили, и их провидческим глазам культура, бессмысленно раздувшаяся, как и башня общественного порядка, воздвигнутая на фундаменте бездушных условностей, уже заранее представлялась руинами. Что причиняло чудовищную боль – и ее раньше, острее других, почувствовали поэты, которые умерли в то время, поранившись о то время. Гейм (следуя строгим образцам Рембо и Бодлера) заключал свои видения смерти, ужаса, распада в сокрушительной силы строфы; Тракль, игнорируя реальный мир, по-гёльдерлиновски ускользал в нескончаемые синие потоки медленного умирания, которые не могла удержать в берегах никакая коричневая осень; Штадлер[7] спорил и боролся с Богом и миром – измученный тоской, упорный, как Иаков, сражающийся с ангелом; Лихтенштейн в состоянии какой-то странной невеселой веселости смешивал образы и настроения города, чтобы получился горько-забавный коктейль, но его уже осенило блаженное знание: “И небеса от свечки своей зажглись сей миг. /…И там пылает, ходит мой человечий лик…” [8]; а Лоц[9] – под пасмурным небом, в тесноте буржуазного быта – призывал людей совершить прорыв к свету. Все более фанатично и страстно гремели душераздирающие жалобы и упреки. Отчаяние Эренштейна и Бехера[10], как молния, разорвало темный мир надвое; Бенн глумился над разлагающимися останками человека-трупа и восхвалял здоровые первобытные инстинкты; Штрамм разжижал свою разочарованность обманчивыми явлениями и ассоциациями: из чистого чувства он умел вылепить громоподобное Однослово, грозовые одноудары. Подлинная борьба против реальности началась с этих страшных выплесков ярости, которые одновременно разрушали существующий мир и должны были сотворить – из людей – мир новый.
Поэты пытались распознать, пробудить и спасти в человеке человечное. Восхвалялись теперь простейшие побуждения сердца, радость от свершения добра. И это чувство изливалось на всех земных тварей, на всю поверхность Земли; дух вырвался из-под обломков и свободно парил в космосе – или проникал глубоко под поверхность явлений, чтобы и там обнаружить божественную суть. (Так юность Газенклевера, Штадлера, Верфеля, Шикеле, Клемма, Голля, Хайнике[11] соединилась с искусством поэтов старшего поколения – Уитмена, Рильке, Момберта, Хилле[12].) Становилось все очевиднее: человека может спасти только человек, а не то, что его окружает. Не учреждения, не изобретения, не принятые законы являются главным и определяющим в жизни, а сам человек! И поскольку спасение не может прийти извне (оттуда задолго до начала мировой войны ждали только войны и уничтожения), а лишь от внутренних сил самого человека, свершился наконец великий поворот к этике.
Когда началась война и давно предчувствуемый крах стал реальностью, поэты опять оказались впереди своего времени: помимо проклятий, раздавались теперь громкие призывы к протесту, к принятию какого-то решения, к осмыслению случившегося, к обновлению (Бехер, Рубинер, Газенклевер, Цех, Леонгард, Хайнике, Оттен, Верфель, Голль, Вольфенштейн [13]) – и не потому, что поэтам нравился бунт как таковой; просто они хотели, чтобы всеобщее возмущение разрушило до конца и разрушающее, и уже разрушенное, чтобы могли наконец развернуться целительные силы. Звучали призывы к объединению молодежи, к созданию фаланги поборников духовности: прославлялось уже не индивидуальное, а то, что свойственно всем людям; не разделяющее, а объединяющее; не реальность, а дух; не борьба каждого против всех, а всеобщее братство. <…>
Кажется, что всегда, когда поэзию оценивают задним числом, преувеличивают ее непосредственное влияние на события времени, на жизнь народа. Искусство ни в одну из эпох не было причиной событий (как это утверждают, например, в отношении революционной лирики), но оно – ранний симптом общественного недуга, духовный цветок, расцветший на той же почве, что и позднейшее реальное событие; искусство и само по себе есть событие эпохи. Слом, революция, новое начало не были вызваны поэзией экспрессионистского поколения; но оно, это поколение, предчувствовало, чему суждено свершиться, и требовало таких свершений. Хаотичность, присущая тому времени, разрушение старых общественных форм, отчаяние и стремление к лучшему, фанатичные поиски новых вариантов устройства человеческой жизни – все это раскрывается в поэзии экспрессионистского поколения с не меньшей яростью, чем раскрывалось в реальной жизни. Но заметьте: в поэзии эти новые тенденции появились не вследствие мировой войны, а еще до ее начала, и на протяжении войны они лишь заявляли о себе все отчетливее. <…>
Нигде еще чистый эстетизм и принцип искусство для искусства ио презирались так сильно, как в этой поэзии (которую принято называть новейшей или экспрессионистской): потому что она вся была извержением, взрывом, сгустком энергии – иначе не могла бы взорвать враждебную корку повседневности. Экспрессионистская поэзия избегает натуралистического отображения реальности, хотя правдоподобно описать прогнившую реальность было бы нетрудно; и с неукротимой, с покоряющей энергией сама творит для себя изобразительные средства из подвижной силы духа (нисколько не боясь этим злоупотребить)… <…>
Изобразительное искусство тех лет обнаруживает такие же, что и в поэзии, мотивы и тенденции, такое же разрушение всех форм и использование всех формальных возможностей, вплоть до полного растворения реальности, такой же прорыв к человечности и такую же веру в освобождающую, связующую силу человеческого духа, идеи. Уже в то время случалось, что некоторые извращенные эксперименты неумелых подражателей приводили к появлению выхолощенных форм и формул, ориентированных только на личную выгоду. Даже подлинный пафос, экстаз, жесты, исполненные решимости, иногда не достигают цели, а превращаются в судорожные пародии – потому что не умеют воплотить себя в подобающей форме. Но вновь и вновь сквозь бурные эмоции веет, очищая и просветляя их, Дух; вновь и вновь – в ситуации всеобщего распада – раздается призыв к человеческой общности и над бессмысленным хаосом звучит песнь любви.
Наконец, нелишне еще раз напомнить, что высокое качество экспрессионистской лирики обусловлено и ее интенсивностью. Никогда прежде в мировой поэзии крики, возгласы изумления и тоски, выражающие дух эпохи, не звучали так громко (раздирая и потрясая души), как в неистовых стихах этих провозвестников и мучеников, чьи сердца были ранены не романтическими стрелами Амура, или Эрота, но бедствиями обреченной юности и ненавистным обществом, которое навязало своим сынам многолетнюю кровавую бойню. <…>
Берлин, осень 1919
Карл Шмидт-Ротлуф. Деревянный мост. 1905
Альфред Лихтенштейн
Альфред Лихтенштейн [Alfred Lichtenstein] (1889–1914) – поэт и прозаик. Изучал юриспруденцию в Берлине и Эрлангене, защитил диссертацию по театральному праву (1913). Осенью того же года был призван в армию, в августе 1914-го попал на фронт, 23 сентября 1914 года погиб в возрасте двадцати пяти лет. Его стихи и поэтические зарисовки печатались в журналах “Штурм” и “Акцион”.
Ранние публикации Лихтенштейна: “Истории дядюшки Краузе. Книга для детей” [Die Geschichten des Onkel Krause. Ein Kinder-buch, 1910], “Стихотворения и истории” [Gedichte und Geschichten, 2 Bde, 1919].
По мнению Готфрида Бенна, начало экспрессионистской поэзии положила публикация двух стихотворений: “Конца света” (1911) Якоба ван Ходдиса и “Сумерек” (1913) Альфреда Лихтенштейна.
Стихи и прозаические тексты Альфреда Лихтенштейна переведены по изданию: Dichtungen. Gesamtausgabe. Hg. von Klaus Kanzog und Hartmut Vollmer. Zurich: Arche, 1989.
Альфред Лихтенштейн
А ну-ка я надену канотье…
Стихотворения
Перевод Алёши Прокопьева
© Алёша Прокопьев. Перевод, 2011
Прогулка
- В мир тесный входит вечер и раздвигает тень
- Тьмой шелковой, луною. Дорожки клонит в лень.
- И опиумный ветер – уже в полях, но тих.
- Крылами серебрится вдруг пара глаз моих.
- Я словно стал планетой, и города – внутри.
- Вокруг горят, клубятся и реют фонари.
- И небеса от свечки своей зажглись сей миг.
- …И там пылает, ходит мой человечий лик…
Пасмурный вечер
- В размытом плачем мокром месте тучи —
- В гнилых разрывах – промокаем ватой
- Зеленый лучик. Дьявольски текучи
- Дома, их облик – злой, одутловатый.
- Зажглись желтушные огни-посланцы.
- Жена здесь, чада, тучный спит папаша.
- Накрашенные девки учат танцы.
- В театре лицедеи, сволочь наша.
- Визжат сатирики, душ инженеры:
- День умер. Весь… Осталось только имя!
- В зрачках девицы – блеск, легионеры…
- Стремится дама всей душой к любимой.
Страх
- Лес и поле – всё в осколках, в щепках.
- Город газом туч заволокло.
- Все умрем. Всё так некрепко.
- Счастье хрупко, как стекло.
- Черной жижей – время по паркету,
- Аромат духов – болото зла.
- Выстрелы – из пистолета —
- Слышишь? Голова цела?
Атлет
- В тапочках растрепанных ходил он
- По каморке, взад-вперед-обратно,
- В крохотном своем жилище.
- Размышлял о сказанном в газетах,
- О событиях – в вечерней прессе.
- И зевал печальною зевотой,
- Так зевать мог только прочитавший
- Нечто странное, настигнут мыслью,
- Что гусиной кожей – трус отпетый,
- Что отрыжкой – записной обжора,
- Схватками – беременная тетя…
- Может быть, была зевота знаком,
- Что пора уже и спать ложиться.
- Только мысль его не отпускала.
- И тогда он начал раздеваться…
- А раздевшись, взялся за гантели.
Песни Берлину
1
- Мой скотский брат, Берлин, ты самоцвет.
- Фонарный свет твой острый, как колючки.
- Когда лечу во тьме сквозь яркий бред
- За каждой юбкой, каждой толстой злючкой.
- Пьянею вмиг: подмигиванья, шашни.
- И обсосавши месяц-леденец —
- Луч дней, – обрушился закат на башни,
- Пылает лампочкой лицо в багрец.
2
- Берлин, нескоро я вернусь сюда.
- Безрадостны другие города.
- Буду сидеть на горочке один.
- И на березе вырезать: БЕРЛИН.
- Прощай Берлин, твой наглый свет химеры.
- Прощайте улицы, мои аферы.
- Ну кто другой здесь вынес столько мук?
- Прощайте кабаки. Ваш вечный друг.
3
- Пусть ветром благостным несомы, люди,
- Блаженные, парят, и мир на лицах.
- Но мы, гнилы, отравлены, не будем
- Лгать о жильцах небес или жилицах.
- По улицам шатаюсь незнакомым.
- Дни, полые внутри, крошатся мелом.
- Ты, мой Берлин, ты опиум с содомом.
- Как больно! Я с тобой – душой и телом.
Capriccio
- Так хочу умереть я:
- Пусть будет темно и дождливо.
- Лишь бы не чувствовать тяжести облаков,
- Которые все еще окутывают небо
- В мягкий бархат.
- Черными лениво зеркалами
- Обтекают улицы дома, и фонари
- Повисли бисером над асфальтом.
- Серебристой мошкарой летучей
- Звезды роятся вокруг месяца.
- И я где-то там. Посреди. Серьезно
- И немного глупо, но со знаньем дела
- Изучаю изысканные небесно-голубые ножки
- Дамы, в тот самый момент, когда из-под машины
- Красным мячиком вылетает
- Моя отрезанная голова,
- И катится прямо к ней…
- Дама еле слышно ругается. Кончиком
- Высокого каблука
- Брезгливо сталкивает голову
- В сточную канаву.
Carrifre
- Две малые пташки скачут у ручья.
- Коль ты крылат – зачем ходить учиться?
- Вот господин мечтает об авто,
- А хочет среди звездочек лучиться.
- Лифт часто не работает у нас.
- Пыхтя, по лестнице шагают строем.
- Поэт – тот падает в подвал подчас.
- Лишь тот, кто трудится, вершин достоин.
Сумерки
- С прудом играет мальчик у воды.
- И ветер весь запутался в осине.
- Пропитой бабой небо – жди беды, —
- С потекшим гримом, мертво-бледно-сине.
- Согнувшись, опираясь на клюки,
- Калеки в поле разболтались сладко.
- Поэт-блондин рехнется все-таки.
- О даму спотыкается лошадка.
- К окну прилип дородный господин.
- Идет подросток к пухленькой ломаке.
- Обулся клоун и сидит один.
- Кричит коляска. Лаются собаки.
Возвращение в родную деревню
- Когда я был мальцом, весь мир был – пруд,
- Бабуля, крыша красная, волов
- Из хлева рев, и заросли лесные.
- И всюду зелень радостных лужаек.
- Там сладко было так мечтать о далях.
- И быть ничем, лишь только светлым ветром,
- И птичьим щебетом, и книгой сказок.
- Свистела вдалеке змея-чугунка…
Смерть мира
- Комочек ветра – трупной губкой по
- Зеленой коже мира. Вставших рек —
- Грохочущей железки – полотно
- Еще скрепляет мир, осевший в снег.
- В дождливом кроме, в крохотной стране,
- Последний город – гордый, жесткий, злой.
- И череп криво – помолись-ка мне! —
- На труп возлег, на черный аналой.
Моя смерть
- Полугорсть моей жизни.
- Где она выпадет из ладони?..
- Я, как женщина, шагаю мелко-мелко.
- Вечер разогнал мои сны.
- Спать не приходит на ум.
А нука я надену канотье…
- А ну-ка я надену канотье!
- Дождь в синеву отмыл закат от скуки.
- Как мир горит! Забывши о нытье,
- Иду хороший, смирный – руки в брюки.
- Пусть утро на меня с камнями – в крик —
- Набросится, полуживого муча.
- Я ринусь в ночь! Я счастлив в этот миг!
- А фонари! А девочки – мяуча!
Граната
- Сначала – скупо – барабанный бой
- Приносит взрыв, гром, треск в день голубой.
- Потом шипение, как взмыла вверх ракета.
- Свист рельс. И страх. И тишина. И где-то
- Вдруг вдалеке дым, туповатый стук,
- И эха странный жесткий темный звук.
Поездка в сумасшедший дом
- Как жирно рельсы в линии сплошные
- Слились – мимо домов, мимо гробов.
- Бананы на углу, углы смешные.
- Пусть тешатся, не расшибали б лбов.
- Растерянные человекозвери
- По резкой, мерзкой улице скользят.
- Летят трудяги с фабрик, ржавы двери.
- Как в лабиринт, устало входишь в сад.
- И, запряженный вороными, зябко
- Змей-катафалк расслабленно трусит.
- И небо по-над городом – как тряпка…
- Геройски и бессмысленно висит.
Пейзаж
- Как из кастрюли кости – страх берет, —
- Лоснятся мерзко улицы в обед.
- Тебя не видел я сто тысяч лет.
- Девчонку мальчик за косы дерет.
- Собаки спят в грязи, им все равно.
- Пойти б с тобой под ручку вечерком.
- Оберточной бумагой – неба ком,
- Где солнце – масла жирное пятно.
Операция
- Врачи рвут женщину, в лучах блестит резец.
- Разрыв открыт, зияет красным. Кровь, густа,
- Вином льет темным в белый таз. Видна киста,
- На солнце – розовая. Серо, как свинец,
- Свисает голова. Рот впал. Подобно псу,
- Хрип издает. Желт подбородок, остр.
- Сиделка в холодке, как дружелюбный монстр,
- Сосредоточенно вкушает колбасу.
Пейзаж
(по мотивам одной картины)
- Ветвями тьму рассыпал узкий ствол —
- Сияет мрак вкруг нищенских крестов.
- Земля чернее вытянулась в ров.
- Как месяц мал, медлителен и гол!
- А рядом с ним качает парой крыл
- Аэроплан повадки щегольской.
- И грешники глядят на них с тоской,
- Повылезав из сумрачных могил.
Пейзаж с луной
- Желтый глаз вверху как мама, с лаской.
- Синей скатертью ночь, легкий шелк.
- Ясно только, что дышу, хоть сказкой
- Стал теперь я, книжка-малышок.
- Зданья ловят в окна сны-подарки,
- Спящие – карандаши иль кто?
- Божьими коровками по ярким
- Улицам ползут авто.
Ночь
- Мечтательно жандармы стоят под фонарями.
- Прохожего завидев, заводит нищий песню.
- Могучие трамваи стоят, а ты хоть тресни,
- Авто упали к звездам и там парят над нами.
- Вокруг домов суровых гуляют проститутки,
- Меланхолично задом вертя, как по науке.
- Лежат осколки неба на жизни жалкой скуке…
- Котов ночные звуки и жалобны, и жутки.
Туман
- Мир мягко расплывается в туман.
- Деревья обескровленные – в дым.
- Лишь тени там, где крикнул аноним.
- Сверкающие чудища – обман.
- И фонари в такой вот вечер мирный
- Жужжат, как в банке пойманная муха.
- И месяц, где-то с краю тлея сухо,
- Сидит, паук, на удивленье жирный.
- А мы, лишь к смерти годные, пустыню —
- Шагая вхруст – решили превозмочь.
- Печально белые глаза разиня —
- Как шпики – в набухающую ночь.
Точка
- Сквозь голову померкшую – шары
- Блистающие улиц. Больно, жуть.
- Мне скоро умереть, уйти, уснуть.
- Колючки плоти, как же вы остры!
- Ночь плесневеет, луч – фонарный яд —
- Зеленой грязью скоро все зальет.
- В кулечек сжалось сердце. Кровь как лед.
- Мир рушится. Глаза в куски летят.
Пророчество
- Вдруг придет – я верю знакам —
- С севера дыханье смерти.
- Пахнет трупами, бараком.
- Всем погибель, всем, поверьте.
- Потемнеет неба сгусток,
- Когти там чумы-злодейки.
- Разорвутся с громким хрустом
- Лицедеи, лицедейки.
- На конюшне взрывы алы.
- Мухи – даже те вспотели.
- В воздух гомосексуалы
- Полетели из постели.
- Треснут стены. Тухнет зверско
- Рыба в речке, стоероса.
- Все погибнут богомерзко.
- Омнибус летит с откоса.
Летний вечер
- Все разгладилось, забылось,
- Стало легким, зыбким – спит.
- Свято небо город с облак
- Тихим дождичком кропит.
- В обувном все так стеклянно.
- Пусто в булочной. И тут.
- За фантомом удивленно
- Люди улицей бредут.
- …Меднорожий кобольд скачет
- Крышей, всё скорей, скорей.
- Девочки чуть слышно плачут,
- Отделясь от фонарей.
Альфред Лихтенштейн
Стихи Альфреда Лихтенштейна
Эссе
Перевод Татьяны Баскаковой
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
I. Поскольку я думаю, что многие не понимают стихов Лихтенштейна, или понимают их неправильно, не вполне…
II. Первые восемьдесят стихотворений – лирические. В обычном для нашего отечества смысле. Они мало чем отличаются от поэзии садовых беседок. Тема – потребность в любви, в смерти, в томлении вообще. Поскольку они “циничны” (в духе кабаре), стимулом для их написания могло быть, например, желание ощутить свое превосходство. Из этих восьмидесяти стихов большинство никакого значения не имеет. Они и не публиковались. За исключением одного. (Одного из последних.) А именно:
- В ночи хочу укрыться,
- Несмелый, голый.
- Укутать тело темнотой
- И тёплым блеском.
- Уйти за всхолмия земные далеко.
- Глубоко под скользящее море.
- Миновав поющие ветры.
- Там встречу я тихие звезды.
- Что несут пространство сквозь время.
- И живут возле смерти сущего.
- А меж них только серые камни,
- Одинокие космотела.
- Вялым подобьем движенья
- Миров, что давно истлели.
- Потерянный звук.
- Никому чтобы не было дела.
- И не спал чтоб ослепший мой сон
- вдалеке от желаний Земли[14].
III. Последующие стихотворения можно разделить на три группы. Первая включает стихи с фантастическими, почти игровыми образами: “Опечаленный”, “Калоши”, “Capriccio”, “Лаковая туфелька”, “Бессвязная ругань ресторатора”. (Они сперва печатались в “Акционе”, “Симплициссимусе”, “Марте”, “Пане” и других журналах.) Тут несомненно присутствует удовольствие от чистого артистизма.
Примеры. “Атлет”: задним планом – демонстрация мировоззрения. Атлет… означает: отвратительно, что человек и в духовном плане вынужден справлять малую нужду. “Калоши”: ты в калошах и ты без калош – разные люди.
IV. Самое раннее стихотворение второй группы, это: “Сумерки”[15].
Цель здесь – устранить временные и пространственные различия в угоду идее стихотворения. Стихотворение хочет изобразить воздействие сумерек на ландшафт. В этом случае сохранение единства времени в определенной мере необходимо. Единство же пространства необязательно, поэтому оно и не соблюдается. В двенадцати строчках образно представлено воздействие сумерек на пруд, на дерево, на поле, на окно… показано, как сумерки влияют на внешний вид одного мальчика, одного ветра, одного неба, двух калек, одного поэта, одной лошадки, одной дамы, одного господина, одного подростка, одной девки, одного клоуна, одной детской коляски и нескольких собак. (“Образно представлено” – нехорошее выражение, но лучшего я подобрать не могу.)
Автор стихотворения не намеревался представить ландшафт, который можно помыслить как реальный. Преимущество поэзии перед живописью в том и состоит, что первая способна создавать “идеальные” образы. Применительно к “Сумеркам” это означает: толстый мальчик, использующий большой пруд как игрушку (“С прудом играет мальчик у воды”, “Ein dicker Junge spielt mit einem Teich”), и двое калек, бредущих на костылях через поле, и дама на городской улице, которую в полутьме сбивает запряженная в коляску лошадь, и поэт, который в мучительной тоске размышляет, глядя на вечерний пейзаж (возможно, из окна мансарды), и цирковой клоун, в сером флигеле со вздохом натягивающий сапоги, чтобы успеть на представление, где он должен смешить людей, – все перечисленное в совокупности может дать поэтический “образ”, хотя на живописном полотне столько мотивов скомпоновать нельзя. Большинство людей этого не понимают и в “Сумерках”, например, а также в похожих стихотворениях не видят ничего, кроме бессмысленного смешения комических впечатлений. Другие даже полагают – ошибочно, – что и в живописи возможны такие “идеальные” образы. (Но вспомните о мазне футуристов!)
Еще одна цель автора – схватывать видимость вещей непосредственно, без излишней рефлексии. Лихтенштейн знает, что человек не “прилипает” к окну (“К окну прилип дородный господин”, ‘An einem Fenster klebt ein fetter Mann”), а стоит за ним. Что кричит не коляска, а ребенок в коляске. Но поскольку видит-то он только коляску, он и пишет: “Кричит коляска”. С лирической точки зрения было бы неправдой, если бы он написал: “Человек стоит за окном”.
Случайно получилось так, что и на уровне понятий можно сказать, и это не будет неправдой: Мальчик играет с прудом. О даму спотыкается лошадка. Лаются собаки. Но человек, который захочет научиться видеть, посмеется: тому, что мальчик действительно обращается с прудом, как с игрушкой. Тому, что и лошадям свойственно беспомощное движение спотыкания… Тому, как по-человечески собаки дают выход своей ярости…
Иногда и изображение рефлексии бывает нелишним. Фраза “Поэт-блондин рехнется все-таки” (“…wird vielleicht verruckt”) производит большее впечатление, чем если бы было сказано: “Поэт неподвижно смотрит перед собой”…
В стихотворении “Страх” и некоторых других, похожих, рефлексия вводится по другим соображениям и выражается в сентенциях типа “Все умрем”… или: “сказкой ⁄ стал теперь я, книжка-малышок” (буквально: “Я – только маленькая книжка с картинками”, “Ich bin nur ein kleines Bilderbuch”. – Т. Б.)[16]… Но я не буду здесь на этом останавливаться.
V. То обстоятельство, что в “Сумерках” и других стихотворениях явления представлены комически (но само комическое здесь воспринимается трагично: изображение “гротескно”), что внимание привлекается к несбалансированности, несвязанности этих явлений, к случайности их смешения… никак нельзя считать характерной чертой “стиля”. Подтверждение тому: в стихах Лихтенштейна “гротескное” не выпячивается, а прячется за “не-гротескным”.
Между более старыми стихотворениями (например, “Сумерки”) и стихотворениями того же стиля, которые возникли позже (например, “Страх”), прослеживаются и другие различия. Можно заметить, что сквозь ландшафт все чаще как бы проламывается особого рода рефлексия. Вероятно, дело тут не обходится без определенного художественного намерения.
VI. Третью группу составляют стихотворения Куно Коэна[17].
Вильмерсдорф
Альфонс Вёльфле. Пейзаж.
Рисунок из журнала “Симплициссимус” (1913), описанный в стихотворении А. Лихтенштейна ‘Пейзаж”
Альфред Лихтенштейн
Разговор о ногах
Перевод Татьяны Баскаковой
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
I
КОГДА я сидел в купе, господин напротив сказал: “Вам невозможно наступить на ногу”.
Я сказал: “Как это?”
Господин сказал: “У вас нет ног”.
Я сказал: “Разве это заметно?”
Господин сказал: “Конечно”.
Я вынул из рюкзака свои ноги. Дома я их завернул в папиросную бумагу. И взял с собой на память.
Господин сказал: “Что это?”
Я сказал: “Мои ноги”.
Господин сказал: “Взять эти ноги в руки, вы, конечно, можете, но все равно вам далеко не уйти”.
Я сказал: “Увы”.
Выдержав паузу, господин сказал: “Чем, собственно, вы намереваетесь заняться – без ног?”
Я сказал: “Над этим я еще не ломал себе голову”.
Господин сказал: “Без ног вам даже трудно будет покончить с собой”.
Я сказал: “Вы скверно шутите”.
Господин сказал: “Ничуть. Захоти вы повеситься, кто-то должен поднять вас на подоконник. А кто отвернет кран, если вы решите отравиться газом? Револьвер вы сможете раздобыть только нелегально, через какого-нибудь посредника. А ну как пуля разминется с вашей головой? Чтобы утонуть, придется заказать авто и двух санитаров: они дотащат вас до реки, которая потом сама вам поможет выбраться на потусторонний берег”.
Я сказал: “Вас это все не касается”.
Господин сказал: “Вы ошибаетесь; с тех пор как вы сидите в купе, я только и думаю, как бы поскорее убрать вас из этого мира. Или, вы думаете, безногий – такое приятное зрелище? И полагаете, его существование оправданно? Все обстоит прямо противоположным образом: вы наносите ощутимый ущерб эстетическому чувству своих сограждан”.
Я сказал: “Я ординарный профессор этики и эстетики, в университете. Вы позволите, я вам представлюсь?”
Господин сказал: “Ну и как же вы это сделаете? Вы ведь, само собой, не можете представить себя – представить, насколько вы невозможны”.
Я меланхолично воззрился на свои культи.
II
Тотчас дама напротив сказала:
“Не иметь ног – наверное, забавное ощущение”.
Я сказал: “Пожалуй”.
Дама сказала: “Я бы не хотела дотронуться до мужчины, у которого нет ног”.
Я сказал: “Я очень чистоплотный”.
Дама сказала: “Я должна преодолеть сильнейшее эротическое отвращение, чтобы даже говорить с вами, не то что на вас смотреть”.
Я сказал: “Что ж”.
Дама сказала: “Не думаю, что вы преступник. Вы, вероятно, человек умный и по своей натуре достойный любви. Но из-за отсутствия у вас ног я при всем желании не могла бы с вами общаться”.
Я сказал: “Человек ко всему привыкает”.
Дама сказала: “То, что у кого-то нет ног, у женщины со здоровым восприятием вызывает неизъяснимое чувство страха. Как если бы вы совершили отвратительный грех”.
Я сказал: “Но я ни в чем не повинен. Одна нога сошла у меня с рук, когда я впервые взобрался на профессорскую кафедру; вторую я потерял, когда, погрузившись в себя, нашел тот важный эстетический закон, что привел к фундаментальным изменениям в нашей научной дисциплине”.
Дама сказала: “И что ж это за закон?”
Я сказал: “Закон гласит: важна только структура души и духа. Если душа и дух человека благородны, все будут находить, что и тело его прекрасно, пусть даже внешне он горбат и уродлив”.
Дама демонстративно приподняла юбку, и я увидел – до самых бедер – дивной красоты ножки, облаченные во всяческие шелка и торчащие, словно две цветущие ветки, из аппетитного тулова.
В то же мгновенье дама решительно подвела итог: “Может быть, вы правы, но с тем же успехом можно утверждать и противоположное. В любом случае, человек с ногами есть нечто совсем иное, чем человек без ног”.
С тем и оставила меня, а сама гордо удалилась.
Журнал “Акцион”, 1915
В публикуемых ниже текстах Лихтенштейн под вымышленными именами изобразил людей своего круга, участников экспрессионистского движения. Кафе “Клёцка” ["СаГё KLoRchen"] – это “Кафе дес Вестене” в Берлине (Курфюрстендамм, 18/19), где собиралась художественная богема; место рождения двух важнейших экспрессионистских журналов, “Штурма” (1910–1932) и “Акциона” (1911–1932), который у Лихтенштейна назван “Другое А”. Куно Коэн (Kuno Kohn) – двойник самого Лихтенштейна; Карл Комарус (Lutz Laus) – Карл Краус, “Дятел” ["Dackel"] – издаваемый им журнал “Факел”. Готшалк Занудов (Gottschalk Schulz) – поэт Георг Гейм; доктор Бертольд Бациллер (Berthold Bryller) – писатель и публицист Курт Хиллер (1885–1972), первым назвавший своих друзей-поэтов “экспрессионистами” (1911). Спиноза Пляс (Spinosa Spafi) – поэт и эссеист Эрнст Бласс (1890–1939). Доктор Бруно Бухбильдер (Bruno Bibelbauer) – Готфрид Бенн. Роланд Руфус Мюллер (Roland Rufus Muller) – Альфред Рихард Майер, или Мункепунке (1882–1956), немецкий прозаик, поэт и издатель, переводчик “Футуристических стихов” Маринетти и “Зоны” Аполлинера; человек, которому обязаны своими первыми публикациями Готфрид Бенн, Эльза Ласкер-Шюлер, Альфред Лихтенштейн, Иван Голль и ряд других поэтов-экспрессионистов; в 1937-м вступил в НСДАП и позже был руководителем “Писательской группы” в Имперской палате письменности.
Впрочем, как видно из последнего публикуемого нами рассказа, Куно Коэн был лишь тенью Альфреда Лихтенштейна, а потому и мир завсегдатаев кафе “Клёцка” – тоже, быть может, теневой, искаженный мир.
Из набросков к новелле “Кафе ‘Клёцка’”
Перевод Татьяны Баскаковой
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
I. В кафе “Клёцка”
Недалеко от Коэна разговаривали за столиком малоизвестные критики, живописцы, поэты и еще какие-то господа. В основном – сотрудники нового журнала “Другое А” и ежемесячника “Дятел” (нерегулярно выпекаемого энтузиастом Карлом Комарусом ради повышения общественной безнравственности). В той же компании сидела красивая барышня, уплетавшая что-то за обе щеки.
Предметом беседы была литературная неполноценность господина Коэна. Поэт Готшалк Занудов, юрист, заявил, что ему вообще непонятно, как это уважаемый доктор Бацилл ер может хвалить Коэна. Коэн, дескать, все выворачивает наизнанку. Коэн – лгун. Коэн – сплошной гротеск. Даровитый доктор Бертольд Бациллер возразил: “Быть гротескным – не недостаток. Гротеск – это в любом случае мост, это некий путь”. А один редактор юмористического журнала, которому в этой компании, собственно, нечего было делать, застенчиво пискнул: “Я тоже ценю все, что гротескно, оригинально, а потому торчит над поверхностью тупоумно-немецкой чернильной топи”. Но Карл Комарус крикнул: “А вот я Коэна не ценю! Я причисляю его к тем бездарям, которые пишут, поскольку им больше нечем заняться, – к пачкунам в силу душевной предрасположенности”. Гимназист Спиноза Пляс, по-дамски развалившись на стуле, тихо радовался. И злорадно поглядывал на одинокого Коэна. Потом сказал, стараясь скрыть берлинским произношением овладевший им приступ икоты: “А вы и воспринимайте его иккротескно, оно вам на пользу пойдет”. Все засмеялись.
Коэн некоторое время задушевно понаблюдал за барышней, всех прочих удостаивая разве что презрительным взглядом. Вскоре он поднялся и вышел.
II. Дятел-Комарус
Однажды в особенно размягчающий вечер, наполненный зеленовато-желтыми фонарями, зонтиками и уличной грязью, Дятел-Комарус произвел в кафе “Клёцка” подлинную сенсацию. Он раздал всем присутствующим листки, пропагандирующие изобретенную им “безбожную религию на неоюридической основе”. Далее там говорилось, что завтра в ближайшем кинтоппе[18]состоится учредительное собрание.
На собрание явились все завсегдатаи “Клёцки”. Даже Куно Коэн, собственно, не принадлежащий к Клёцковой Клике и враждующий с большинством ее членов, все-таки в кинтопп пришел. Готшалк Занудов тихо вознегодовал: “Опять этот мерзавец! Гротескный Коэн, видите ли…” Лизхен Лизель спросила: “Ты о ком?” Занудов сказал: “Да о горбуне-коротышке, вон он идет”. Она взглянула в ту сторону. И вздохнула: “Ах…” Роланд Руфус Мюллер, сидевший с ней рядом, доверительно зашептал ей в ухо: “Этот Коэн опасен”. Она сказала: “Не понимаю…”
Тут одна дама запела. Когда она кончила петь, Готшалк Занудов схватил барышню Лизель за руку. У других после пения тоже стало празднично на душе. Кое у кого на глазах выступили слезы.
Теперь Карл Комарус взгромоздился на стул. Одет он был во все черное, только лицо пурпурно пылало, да на руках ядовито зеленели перчатки. Зрачки его сверкали, как желтые осколки стекла. Воцарилась несказанная тишина. И он провозгласил свою религию. Сказал, что это религия возвышенно мыслящих пессимистов. У этой религии нет Бога, зато есть Папа. Папа, мол, – он сам. Далее оратор сообщил, что, следуя примеру католической церкви, просит присутствующих принять догмат Комарусовой непогрешимости. И поделился своим намерением составить в самые кратчайшие сроки Гражданско-молитвенный кодекс (ГМК), где в 2385 афоризмах изложит основополагающие принципы новой религии…
Когда собрание закончилось, присутствующие в полном составе отправились в кафе “Клёцка”.
Кафе “Клёцка”
Перевод Татьяны Баскаковой
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
I
ЛИЗХЕН Лизель приехала из провинции в этот город, чтобы стать актрисой. Дома все ей казалось мещанским, тесным, отупляющим. Мужчины там были глупыми. Небо, поцелуи, подружки, воскресные вечера – несносными. Больше всего ей нравилось плакать. Быть актрисой в ее представлении значило: быть умной, свободной, счастливой. А в чем это должно выражаться, она не знала. И не пыталась проверить, есть ли у нее талант.
Она восторгалась кузеном Готшалком, потому что он жил в этом городе и сочинял стихи. Однажды, когда кузен написал, что по горло сыт юридической наукой и отныне будет жить в соответствии со своими склонностями, как свободный литератор, она сообщила испуганным родителям, что от их полукре-стьянской жизни ее тошнит; она, мол, станет актрисой – в подражание своему идеалу. Ее всячески пытались отговорить. Но ничего не вышло. Она настаивала все решительнее, пускала в ход угрозы. Родители, хоть и с неохотой, в конце концов уступили: съездили с ней в город, сняли ей комнатку в большом пансионе, записали ее в дешевую театральную школу. Попросили кузена Готшалка за ней присматривать.
Готшалк Занудов не забывал о кузине Лизхен. Он водил девушку в кабаре; читал ей стихи в своей богемной берлоге; приглашал и в литературное кафе “Клёцка”; часами, рука об руку, гулял с ней по ночным улицам; тискал ее; целовал. Фройляйн Лизхен была приятно одурманена новыми впечатлениями; но вскоре стала замечать, что все-таки дома представляла себе многие вещи более привлекательными, чем они оказались на самом деле. Ее раздражало, что директор театральной школы, коллеги, литераторы из кафе “Клёцка” – все мужчины, с которыми она часто встречалась, находили удовольствие в том, чтобы лапать ее, гладить ей руки, прижиматься коленями к ее коленкам, беспардонно ее разглядывать. Даже приставания Занудова ее тяготили.
Чтобы не обижать кузена и не казаться провинциалкой, она редко проявляла недовольство. Но однажды все же ударила его по лицу. Они сидели у него в комнате, он объяснял ей последние строчки своего стихотворения “Усталость”. А именно:
- Перед окном встал вечер, серый тать!
- Пожалуй, нам пора ложиться спать…
После чего сразу вознамерился расстегнуть ей блузку…
Занудова пощечина ошеломила. Он, чуть не плача, сказал Лизхен, что, как она наверно заметила, он ее любит. Больше того, он ей двоюродный брат. Она возразила: блузка-де здесь ни при чем. И, между прочим, он оторвал ей пуговицу… Он сказал, что такого больше не вынесет. Если девушка любит, она должна уступить. А теперь, мол, ему придется искать забвения у кокоток. Она не нашлась, что ответить. Он думал-стонал: “О, о…” Она печально сидела с ним рядом.
Несколько дней Занудов не показывался ей на глаза. Когда же наведался снова, был бледным, даже посеревшим. Под красными глазами, заплаканно-затененными, остались грязные разводы. Голос, однообразно-распевный, звучал манерно, меланхолично. Занудов жалостно рассказывал о своем отчаянье, распутстве, раздерганности. О том, что все радости жизни ему опостылели. Что скоро он призовет смерть. Вольностей кузен себе больше не позволял, зато часто испускал горькие вздохи. Театрально кокетничал влечением к смерти. Стал водить подругу на трупообильные трагедии и сумрачные кино драмы, на концерты классической музыки в затемненных залах.
Так прошла, может быть, неделя. Они отправились на концерт. По завершении выступления певицы, пока слушатели громко и долго аплодировали, Готшалк Занудов схватил пальчики Лизхен Лизель, покровительственно притянул ее к себе, прошептал: “Не странно ли, что пение Дамы так сильно хватает за душу!” А потом опять в просительно-плаксивом тоне заговорил о своей любви и о том, что долг женщины – отдаваться. Лизхен Лизель ответила, что такая роль ей скучна, противна. Уже стоя у подъезда, она, пожалев кузена (и еще потому, что вспомнила о своей карьере), сказала, что готова терпеть его любовь, если он не будет требовать большего. Занудов в восторге прижал ее к груди. Он еще долго стоял на тротуаре, погруженный в мечты. Пел: “О слезы. О добро. О Бог! О красота. О любовь. О любовь! О любовь…” Потом, как сумасшедший, понесся по улицам. И исчез в недрах кафе “Клёцка”.
Лизхен же сидела в своей маленькой комнатке, беспомощно улыбаясь в красноватом свете свечи. Она не понимала мужчин из большого города, они казались ей странными и опасными животными. Она чувствовала себя здесь еще более одинокой. И с тоской вспоминала безобидный родной городок: высокое небо, смешных молодых господ, теннисные турниры, даже скучные воскресные вечера… Расстегнула подвязки, положила чулки и лифчик на стул. Она была безутешна…
II
Сквозь прозрачный летний вечер просвечивало кафе “Клёцка”. Упакованное в темно-синий шелк городского неба, с белой луной и россыпью мелких звезд.
В глубине кафе долго сидел, пока внезапно не умер, одиноко дымя сигаретой за крошечным столиком, на котором что-то стояло, горбатый поэт Куно Коэн. За другими столами тоже сидели люди. По проходам сновали мужчины с желтыми или красными затылками; женщины; литераторы; актеры. Повсюду тенями мелькали кельнеры.
Куно Коэн ни о чем особо не думал. Он напевал про себя: “Мир мягко расплывается в туман…”[19]. Тут-то его и поприветствовал поэт Готшалк Занудов – юрист, с большими усилиями проваливавшийся сквозь все экзамены, которым себя подвергал. С ним пришла красивая барышня. Оба подсели к Коэну. Занудов и Коэн были сотрудниками ежемесячного журнала “Дятел”, собственноручно выпекаемого энтузиастом Карлом Комарусом ради повышения общественной безнравственности. Занудов стал рассказывать Коэну, что Дятел-Комарус вскоре учредит новую безбожную религию на неоюридической основе и, чтобы оформить это организационно, приглашает всех на учредительное собрание в ближайший кинтопп. Коэн слушал, с сомнением покачивая головой. Красивая барышня кушала пирожное. Наконец Коэн печально сказал:
– Комарус – великий и трогательный человек. Но верующими нас уже не сделает даже новый Христос. Мы с каждым днем все глубже умираем в бесплодную вечную смерть. Мы безнадежно разрушены. Наша жизнь так и останется бессмысленной театральной игрой.
Барышня с радостно-ясным лицом, оторвавшись от пирожного, непонимающе глянула на него через стол краснокоричневыми глазами. Занудов погрузился в какие-то мрачные мысли. Барышня сказала, что и у нее вся жизнь – сплошной спектакль. Но ей он не кажется совсем уж бессмысленным. В той театральной школе, где она сейчас готовится к будущей сценической карьере, надеясь стать примой, добиваются очень неплохих результатов. Господин Коэн может как-нибудь туда заглянуть, чтобы лично в этом убедиться.
Куно Коэн по-доброму наблюдал за барышней. И думал: “Какая глупенькая малышка…” Но из кафе он скоро ушел.
На улице его внезапно ухватил за руку поэт Роланд Руфус Мюллер, крикнув:
– Вы уже читали в медицинском журнале статью небезызвестного Бруно Бухбильдера, где он утверждает, будто моя паранойя выражается в том, что я вообразил себя паралитиком! Теперь все кругом поглядывают на меня с любопытством, я в одночасье стал знаменит. Издатель даже выплатил мне повышенный аванс. Но… Не знаю, признаться ли вам… Боюсь, болезнь моя неизлечима.
И он во всю прыть помчался к лучшему винному ресторанчику.
Лошадь, словно хромой старик, ковыляла перед коляской. Горбатый Коэн, удобно прислонившись к стене католической церкви, размышлял о жизни. Он сказал себе: “Как забавно все-таки устроена жизнь. В ней можно только прислониться: к чему-нибудь, как-нибудь; никакой связи при этом не возникает; это ни к чему не обязывает; с тем же успехом ты мог бы двинуться дальше, куда-нибудь. Поскольку я это понимаю, я не могу быть счастливым”.
Перед ним остановилась маленькая безголосая сучка: скромно прислушивалась, глаза у нее сверкали.
Огнисто-стеклянный свадебный экипаж, подпрыгивая, прогрохотал мимо. Внутри, в углу, Коэн разглядел бледное лицо замкнувшегося в себе жениха. Из-за угла вынырнули пустые дрожки, Коэн пошел за ними. Он бормотал: “Исследователь без цели… Лишенный опоры… Не знающий ничего… И при этом – такое безудержное стремление. Понять бы только к чему”.
Улицы уже серебристо поблескивали, когда он открыл дверь дома, в котором жил. У себя в комнате он молча и с грустной торжественностью смотрел на прикрепленные к одной стене картины – все сплошь написанные давно умершими людьми. Потом начал стаскивать со своего горба одежду. Оставшись в трусах, носках и рубашке, он со вздохом сказал себе: “Мало-помалу каждый сходит с ума…”
В постели поток мыслей пошел на убыль. Уже на самом пороге сна ему вспомнились красно-коричневые девичьи глаза из кафе “Клёцка”…
Эти глаза и в последующие дни на удивление часто вспыхивали в его сознании. Что казалось странным. Больше того, пугающим. К женщинам у него было особое отношение. В принципе они его не привлекали, его тянуло к мальчикам. Но в жаркие летние месяцы, когда он чувствовал себя душевно сломленным и несчастным, он нередко влюблялся в какую-нибудь похожую на ребенка молоденькую женщину. Поскольку же из-за горба его, как правило, отвергали, а часто даже высмеивали, воспоминания об этих женщинах или девушках были для него мучительными. Поэтому в такие месяцы он принимал превентивные меры. Почувствовав надвигающуюся опасность, сразу шел к проститутке.
Лизхен Лизель захватила его врасплох, хотя сама о том не догадывалась. Напрасно воображал он, какие мучения доставит ему неудача. Напрасно говорил себе, что Лизхен Лизель – одно из тех многих созданий, хорошеньких, но запутавшихся в своем удивительном невежестве и в тоске по счастью, которых на этой земле можно встретить повсюду и которые почти неотличимы друг от друга… Дело кончилось тем, что в один особенно размягчающий вечер, наполненный зеленовато-желтыми фонарями, зонтиками и уличной грязью, маленький горбун оказался под вывеской театральной школы: он стоял там и со страхом ждал свою Даму.
III
Порой налетал ветер, разгоряченный кусачий пес. Солнечный свет, словно вязкое раскаленное масло, обволакивал дома, и людей, и улицы. Возле решетчатой ограды кафе “Клёцка” бессмысленно подпрыгивали кривоногие бесполые человечки. Ибо по ту сторону ограды колотили друг дружку Куно Коэн и Готшалк Занудов. Те, кому посчастливилось оказаться внутри, наблюдали – комфортно устроившись – за дракой. Посерьезневшая Лизхен сидела за угловым столиком.
Поводом для столкновения послужило вот что: господин Коэн уже много раз провожал фройляйн Лизель от театральной школы до дома. Когда Занудов прослышал об этом, в нем вспыхнула безрассудная ревность. Он начал говорить о Коэне гадости. Лизхен Лизель, видевшая своего кузена насквозь, взялась защищать горбуна. Это разозлило Занудова еще больше. Он очень убедительно заявил, что застрелит себя. Правда, саму эту процедуру кузен временно отложил, но зато стал грозить, что застрелит также и Лизхен. Услышав такое, Лизхен запретила себе с ним встречаться.
Но Лизхен Лизель нуждалась в ком-то, чтобы говорить о повседневных пустяках, казавшихся ей важными. После ссоры с Готшалком она, в силу неизъяснимого женского инстинкта, остановила свой выбор на Коэне. И однажды попросила горбуна прийти на следующий день, около полудня, в кафе “Клёцка”: хотела посоветоваться о покупке нового платья, или о трактовке предложенной ей роли, или о каком-то мелком происшествии. Коэн пришел и собирался сразу же осведомиться о желаниях барышни, но тут Готшалк Занудов, с пунцовым лицом, подлетел к нему и обозвал бессовестным совратителем. Коэн попытался снизу залепить Занудову оплеуху. Тогда тот, рассвирепев, размахнулся и, не добавив больше ни слова, нанес ответный удар. Вывеска кафе, на которой еще недавно значилось: “Мой институт теперь здесь, а вход там” (ибо владелец “Клёцки” арендовал помещение у специалиста по нелегальным абортам), – разбилась, упав на землю. Внезапно кулак Занудова весомо опустился на горб Коэна. Кулак в кровь разбился, но и горб тоже пострадал. Занудов, побледнев как труп, крикнул: “Горбун смертельно опасен!” После чего попросил кельнера сопроводить его до станции “Скорой помощи”. На Лизхен он даже не взглянул.
Коэна же пострадавший горб не особенно беспокоил. Он снова подсел за столик к фройляйн Лизель и заказал себе стакан чаю с лимоном. Лизхен видела, как сквозь ветхую ткань сюртука все отчетливей проступает кровь. Она обратила на это внимание Коэна, тот испугался. Она сказала, что могла бы перевязать ему рану…
Он с горечью ответил: дотрагиваться до горба неприятно. Она, покраснев от сочувствия, возразила: иметь горб – очень человечное качество. Она сказала, лучше всего зайти к ней домой. Горб, дескать, нужно продезинфицировать, остудить. После она сделает перевязку. Он мог бы провести у нее весь вечер…
Коэн – хоть и не без колебаний, но радостно – согласился. До самой ночи они сидели в комнатке Лизхен. Разговаривали о душе, о горбах, о любви…
Литератор же Занудов словно провалился сквозь землю. В последний раз один знакомый видел его вечером после драки перед обувным магазином: Готшалк будто бы меланхолично и подолгу рассматривал все выставленные в витрине ботинки, одну пару за другой.
Вскоре в редакцию “Пылких героев” – журнала романтического декаданса – пришло заказное письмо, в котором Занудов сообщал, что по соображениям душевного порядка вот-вот лишит себя жизни. Кое-кто истолковал это послание как способ саморекламы, причем далеко не новый. Но большинство сотрудников очень воодушевилось. Волнующее известие обсуждалось во всех газетах.
Почитатели Занудова тут же учредили фонд для поисков его трупа. Один промышленник пожертвовал добротный саркофаг.
Обыскали все леса и луга. Шуровали шестами во всех озерах. Но никаких следов не нашли. Хотели уже прекратить поиски, как вдруг обнаружили поэта, совершенно не похожего на себя, в одной гостинице средней руки, в отдаленном пригороде. Оказывается, он, гуляя в ветреную погоду у пруда, подхватил тяжелую инфлюэнцу и несколько недель провалялся в постели. Его застигли на скрипучей лестнице, где он, закутанный в одеяла, хотел еще раз прорепетировать будущее самоубийство. Друзья без особого труда отговорили Готшалка от этой мысли и с триумфом вернули в город. Саркофаг они пока что сдали в ломбард. На вырученные деньги и на остатки наличности Трупного Фонда Занудова был устроен роскошный богемный праздник…
Сам Готшалк Занудов, наряженный Фаустом, царственно восседал в углу, воплощая мировую скорбь. Даровитый доктор Бертольд Бациллер появился в образе… тучного литератора, то есть самого себя. Карл Комарус – в папском облачении. Гимназист Спиноза Пляс, известный клёцковский клоун, нацепил латы Зигфрида, а волосы уложил а-ля Гёте. Лирик Мюллер вскоре лежал под столом – зеленым упившимся трупом. Куно Коэн, формально помирившийся с Зану-довым, пришел в чем был. И с ним – Лизхен Лизель в костюме крестьянки. Остальные – китайцы, шимпанзе, античные боги, ночные дозорные, вельможи и дамы – смешались в радостно вопящее месиво. Вся “Клёцка” собралась здесь.
Лизхен Лизель всю эту пеструю, полную визга ночь протанцевала с горбатым поэтом. Многие посматривали на странную пару, однако смеяться никому не хотелось. Горб Коэна жестко и безжалостно, как угол письменного стола, вторгался в мягкую плоть ближних. Казалось, Коэну доставляет удовольствие вонзать горб в очередного танцора. Ни разу не упустил он случая, чтобы бесстыдно-вежливым фальцетом не пропеть “Пардон”, когда какая-нибудь обезумевшая мамзель громко вскрикивала или ее кавалер от всей души бормотал: “Проклятье…” Лизхен Лизель одной рукой держала Коэна за горб, как держат кувшин за ручку, а другой нежно прижимала к груди угловатую голову поэта. Так они и танцевали сквозь анфиладу безоглядных часов…
Но горб Коэна все болезненнее воспринимался другими танцорами. Кое-кто уже отваживался высказать свое возмущение. Устроители праздника обратились к Коэну с ходатайством, чтобы он – в индивидуальном порядке – танцы прекратил. Дескать, с таким горбом человек танцевать не вправе. Коэн спорить не стал. Но Лизхен заметила, что лицо его посерело.
Она отвела его в укромную нишу. И там сказала:
– Отныне я буду говорить тебе “ты”.
Куно Коэн ничего не ответил, но ее сострадательную душу принял как подарок в свои трубадурьи водянисто-голубые глаза. Она, задрожав, сказала, что сама не понимает, почему он вдруг стал ей так дорог… Она хотела бы никогда больше не отпускать его руку… Раньше, мол, она и вообразить не могла такого безмерного счастья… Куно Коэн пригласил ее к себе в гости – на завтрашний вечер. Она с готовностью согласилась.
Куно Коэн и Лизхен Лизель были, наверное, первыми, кто покинул головокружительный праздник. Они брели, перешептываясь, по небесно-светлым, залитым лунным светом улицам. Влюбленный поэт своим гигантским горбом отбрасывал на мостовую авантюрные тени.
Прощаясь, Лизхен наклонилась к Коэну. И много-много раз поцеловала в губы. Так расстались Куно Коэн и Лизхен Лизель… Коэн еще сказал: он, дескать, очень рад, что уже завтра она его навестит… Она откликнулась, совсем тихо: “И я… ах… тоже…”
Дома вдоль ухоженных улиц стояли упорядоченно, как книги на полках. Луна стряхнула на них голубовато-сизую пыль. Редкие окна еще бодрствовали; светились мирно, словно одинокие человечьи глаза; и взгляд у них всех был одинаково золотым. Куно Коэн, погруженный в свои мысли, возвращался к себе. Тело его опасно наклонилось вперед. Руки он сцепил чуть пониже спины. Голова упала на грудь. Выше всего торчал горб – авантюрный остроконечный камень. Куно Коэн в этот час уже не был человеком: он обрел форму, свойственную только ему.
Он думал: “Я буду избегать счастья. Быть счастливым означало бы: отказаться от тоски по неосуществимому, составляющей мое драгоценное содержание. Означало бы: допустить, чтобы сакральный горб, которым меня наградила благожелательная судьба и благодаря которому я ощущаю бытие гораздо, гораздо глубже, злосчастнее, многограннее, чем воспринимают его другие люди, – чтобы этот горб деградировал, став всего лишь обременительной внешней данностью. Я хочу, чтобы Лизхен Лизель доросла до еще большего совершенства. Я сделаю эту барышню неизлечимо несчастной…”
Пока поэт Коэн размышлял о подобных тонких материях, поэт Занудов окончательно заколол себя ножом, лежавшим возле тарелки с салатом. Он наблюдал за Куно Коэном и Лизхен Лизель во время их доверительного разговора в оконной нише. Видел, что они ушли с праздника вместе. Он пытался допьяна напоить свое горе, отвлечь его обжорством, но это не помогло. Накачиваясь в течение нескольких часов едой и напитками, поэт Занудов только еще больше обезумел. Дело кончилось тем, что он выкрикнул нараспев: “Смерть – это вещь серьезная… Со смертью шутить нельзя… Смерть – самая насущная потребность…” Потом – боязливо, но гневно – вонзил себе первый попавшийся нож под левый сосок. Брызнули во все стороны кровь и кровавые ошметки салата. На сей раз попытка самоубийства увенчалась успехом.
IV
Лизхен Лизель на следующий день появилась раньше, чем они договаривались. Куно Коэн открыл дверь, держа в руке цветы. Коэн заметно обрадовался, сказал: он почти не надеялся, что она придет. Она обвила руками его костлявое тело, прижала к груди, будто втягивая в себя, сказала: “Дурачок мой горбатенький… ты ведь мне нравишься…”
Они поужинали по-простому. Она его благодарно гладила – всякий раз, как попадался особенно вкусный кусок. Сказала, что останется с ним до полуночи. А потом они смогут отпраздновать ее день рождения – ей уже будет восемнадцать…
Из часов на церковной башне выпрыгнул новый день. Первые его громкие вздохи проникли, словно молитвы-стоны, в зашторенную Коэнову комнату. Там молодое духовное тело Лизхен стало храмом, где она с трогательной готовностью, несмотря на боль, приносила жертвы горбатому жрецу. Потом выдохнула: “Теперь ты доволен?..” И растаяла в засыпании, в умилении. Укрывшись тонкой кожицей век.
Внезапно по ее телу пробежала дрожь отвращения. Страх вцепился когтями ей в лицо. Распахнувшиеся в крике глаза нависли над горбуном. Лизхен сказала безо всякого выражения:
– Это, выходит… и было… счастьем…
Куно заплакал.
Она сказала:
– Куно, Куно, Куно, Куно, Куно, Куно… Что мне теперь делать с оставшейся жизнью?
Куно Коэн вздохнул. Он серьезно, по-доброму посмотрел в ее страдающие глаза. Он сказал:
– Бедная Лизхен! Чувство абсолютной беспомощности, которое захлестнуло тебя, у меня возникает часто. Единственное утешение в таких случаях – быть печальным. Когда печаль вырождается в отчаянье, человек должен стать гротескным. Должен продолжать жить просто шутки ради. Должен попытаться в самом осознании того факта, что жизнь сплошь состоит из гадких и грубых анекдотов, найти стимул для внутреннего роста.
Он смахнул пот со лба и с горба.
Лизхен Лизель сказала:
– Зачем ты тратишь так много слов. Я их все равно не пойму. А что ты отнял у меня счастье – некрасиво, Коэн.
Слова ее падали, как клочки порванной бумаги.
Она сказала, ей пора. Пусть, мол, он тоже оденется. Ей неприятно смотреть на голый горб…
Куно Коэн и Лизхен Лизель больше не обменялись ни словом, до самого их прощания – навсегда — у ворот дома, где она снимала квартиру. Там он заглянул ей в лицо, взял за руку, сказал:
– Ну, всего тебе доброго.
Она тихо отозвалась:
– И тебе…
Коэн сжался в своем горбу. Сломленный, побрел прочь. Слезы грязнили лицо. Он спиной почувствовал озабоченные взгляды прохожих. Отбежал за угол ближайшего дома. Остановился, вытер глаза платком; всхлипывая, поспешил дальше.
Как болезнь, заползал склизкий туман в постепенно слепнущий город. Фонари стали коварными болотными цветами, покачивающимися на черно-блескучих стеблях. Все вещи и живые существа превратились в дрожащие от холода тени, в размытые движущиеся пятна. Первобытным ящером скользнул мимо Коэна ночной омнибус. Поэт крикнул: “Я опять одинок!” Но тут ему повстречался большой горбун на длинных паучьих ногах, в призрачно-прозрачных одеждах. Верхняя часть туловища напоминала шар, лежащий на высокой треноге. Шар сострадательно и завлекающе посмотрел на Коэна – с влюбленной улыбкой, которую туман исказил в бессмысленную гримасу. Коэн тотчас исчез в этой серой жути. Шар охнул, потом понес себя дальше…
Приковылял хромой день. Расколошматил железным костылем остатки ночи. Наполовину уже погасшее кафе “Клёцка” торчало в беззвучном утре, как сверкающий осколок стекла. В глубине помещения сидел последний гость. Куно Коэн уткнулся головой в чужой подрагивающий горб. Костлявые пальцы накрыли ему лоб и лицо. Все его тело беззвучно вскрикнуло.
Впервые напечатано посмертно, в двухтомнике Альфреда Лихтенштейна, в 1919-м
Куно Коэн
Перевод Татьяны Баскаковой
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011
Вот уже полгода я живу в этом доме. Из жильцов никто пока ничего не заметил. Я очень осторожен.
Белый костюм принес мне удачу. Зарабатываю я достаточно. И начал откладывать деньги; ибо чувствую, что силы мои на исходе. Часто я вялый, бывают у меня и боли. Кроме того, я толстею и старею. И теперь даже неохотно пользуюсь косметикой-
Зато меня больше не проконтролируешь. Освободил меня Куно Коэн. За что я ему благодарен.
Куно Коэн уродлив, он горбун. Волосы у него оттенка латуни, лицо безбородое и как бы растрескавшееся, покрытое сетью морщин. Глаза кажутся старыми, обведены тенями. На шее начинается шрам, похожий на вырытую дождем канавку. Одна нога распухла. Куно Коэн как-то признался мне, что у него костоеда.
Удивительной была наша первая встреча. Шел дождь. Улицы – мокрые и грязные. Я встал под фонарем: хотел рассмотреть, насколько сильно забрызгался. При каждом порыве ветра меня знобило. Ноги, стертые тесными ботинками, болели.
Прохожих почти не было. Как правило, они шли по другой стороне. Под защитой деревьев. Подняв воротник плаща. Надвинув шляпу на лоб. На меня внимания не обращали, я стоял себе и грустил.
Вдруг сзади заскрипел гравий. Жестко и неожиданно, я даже вздрогнул. Подошел полицейский, руки за спиной. Шел он медленно. Окинул меня подозрительным взглядом, с гордым сознанием своих прав. Взглянул неприкрыто: он чувствовал себя хозяином положения. И важно прошествовал мимо. Я издевательски хмыкнул, он даже не оглянулся. Полицейский явно меня презирал.
Я зевнул; дело уже шло к ночи. Тут-то и появился этот, маленький уродец. Он застыл на месте, увидев меня. У него были несчастные глаза, на губах – смущенная улыбка. Часть лица он прикрыл костлявыми пальцами. И потер ими правое веко, как человек, который себя стыдится. И кашлянул… Я придвинулся вплотную, чтоб он меня почувствовал.
Он сказал:
– Ну…
Я:
– Пойдем, малыш.
Он:
– Я, собственно, гомосексуал.
И взял мою руку. И поцеловал холодными губами.
Журнал “Штурм”, 1910
Вальтер Трир. Читатели журнала “Штурм” в “Кафе дес Вестене”. 1910
Альберт Эренштейн
Альберт Эренштейн [Albert Ehrenstein) (родился в Вене 23 декабря 1886, умер в Нью-Йорке 8 апреля 1950) – австрийский писатель. Изучал историю, филологию и философию. В 1911 году переехал в Берлин и вошел в круг немецких литераторов, печатавшихся в экспрессионистских журналах “Штурм ” и “Акцион ”. Много путешествовал по Европе, Африке и Китаю. В 1932 году эмигрировал в Швейцарию, затем в 1941-м – в Нью-Йорк, где жил в бедности. Автор стихотворений (сборники “Белое время” [“Die weifie Zeit”, 1914); “Человек кричит” [“Der Mensch schreit”, 1916]; “Красное время” [“Die rote Zeit,” 1917]; “Письма к Богу” [“Briefe an Gott”, 1922)), фантастически-гротескныхрассказов (сборники “Самоубийство кота” [“Der Selbstmord eines Katers”, 1912); “Ни здесь, ни там” [“Nicht da nicht dort”, 1916); “Рыцарь смерти” [“Ritter des Todes”, 1926)) и культурно-критических эссе. Переводил китайскую поэзию. Переработал и издал легенды Африки. Его самое известное произведение – рассказ “Тубуч” [“Tubutsch”], опубликованный в 1911 году отдельным изданием с иллюстрациями Оскара Кокошки (одна из которых воспроизведена на этой странице). Карл Краус в рецензии на эту книгу (“Факел”, 1912, № 343) писал:
…появилось новое поэтическое дарование, которое первым же своим словом порывает со сферой, где искусство довольствуется тем, чтобы служить необязательным приложением к чему-то, что, хотя само по себе никакой ценности не имеет, почитается за главное и называется жизнью. Здесь же мы видим нечто нераздельное: как некий человек сам создает себе жизнь, которую он отвергает, но к которому она достаточно добра, чтобы разговаривать с ним голосом “денщика ” и как человек этот от совершеннейших пустяков открашивает себе видения, будто бы перед ним были не пустяки, а райское золотое древо жизни; такой подход – по крайней мере в той области, где болтуны и психологи привыкли обрабатывать уже готовые материалы, – есть нечто новое и волнующее. Реальная Линцерштрассе для этого Карла Тубуча вмещает в себя больше неба и земли, чем любая бескрайняя страна, которая может пригрезиться тем, кто умеет грезить.
Рассказ переведен по изданию: Albert Ehrenstein. Tubutsch. In: Ahnung und Aufbruch. Expressionistische Prosa. Hg. von Karl Otten. Darmstadt und Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1984. -S. 302–323.
Альберт Эренштейн
Тубуч
Новелла
Перевод Евгения Воропаева
© 1961 Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied
© Евгений Воропаев. Перевод, 2011
Мое имя Тубуч, Карл Тубуч. Упоминаю об этом лишь потому, что кроме своего имени владею лишь немногим имуществом…
Это не меланхолия и не горечь осени, не завершение разросшейся работы, не помраченность сознания, тупо наваливающаяся после долгой и тяжелой болезни; я вообще не понимаю, как погрузился в такое состояние. Вокруг меня, во мне царит пустота, пустыня, я выхолощен, но сам не ведаю чем. Кто или что вызвало это ужасное состояние – великий ли анонимный волшебник, отражение ли в зеркале, выпадение пера у птицы, смех ребенка, смерть пары мух: разбираться в этом, даже просто лишь захотеть разобраться – тщетно, глупо, как и всякое выискивание причины на этом свете. Я вижу только действие и результат; можно констатировать, что душа моя утратила равновесие, в ней что-то надломилось и лопнуло, что внутренние источники во мне иссякли. Основания этому, основания случившемуся со мною я никогда не умел угадать, но самое скверное: я не вижу ничего, что могло бы вызвать хотя бы незначительное изменение в безотрадном моем положении. Потому что тяготит именно внутренняя пустота – абсолютная; так сказать, планомерная – при прискорбном отсутствии каких бы то ни было хаотических элементов. Дни ускользают, недели, месяцы. Нет, нет! – только дни. Я не думаю, что недели, месяцы и годы вообще существуют; чередуются лишь дни, все снова и снова: дни, которые наползают друг на друга и которые я не в состоянии удержать каким-нибудь переживанием.
Если б меня спросили, что пережил я вчера, то ответ мой звучал бы так: “Вчера? Вчера на моем башмаке порвался шнурок”. Когда несколько лет назад на моем башмаке порвался шнурок и вдобавок отскочила пуговица, я настолько рассвирепел, что выдумал собственного черта, ответственного за такие проказы, и даже дал ему имя. Горымаац, если мне не изменяет память. Так вот, порвись у меня шнурок сегодня, я возблагодарил бы Господа. Потому как теперь-то я с полным основанием мог бы зайти в лавку, спросить обувные шнурки и на вопрос, чего-де я еще желаю, ответствовать: “Ничего!”, уплатить в кассу и удалиться. Или: я скупил бы у мальчишки, пронзительно вопящего: “Четыре штуки за пять крейцеров”, его товар и своим благодеянием привел бы в восхищение множество народу. В любом случае такие хлопоты заняли бы у меня несколько минут, а это уже кое-что…
Не скажешь, впрочем, что я особенно наловчился скучать. Это неверно. Наоборот, я с незапамятных пор владел исключительной способностью, можно даже сказать, талантом – коротать время наедине с собой, выискивая среди всех мыслимых занятий самые экзотические.
Доказательство сему: когда на днях мне нужно было пройти на Ганстерергассе, я обратился за справкой к полицейскому, хотя местоположения вышеназванной улицы не знал. Тут-то я и сделал одно важное открытие, каковое, по моему мнению, могло бы поколебать большинство всемирных законов. От полицейского несло ароматом розовых духов. Подумать только: надушенный полицейский. Что за contradictio in adj ecto[20]! В первое мгновение я не поверил своему носу. У меня даже зародилось сомнение в подлинности этого стража общественного порядка. Быть может, какой-то хитрый преступник, какой-нибудь узурпатор вырядился в полицейский мундир, дабы скрыться от розыска. Лишь данная им справка убедила меня в его неподдельности, настолько убедительно – как у дельфийского оракула— она прозвучала. Теперь оставалось выяснить, все ли стражи общественного порядка распространяют благоухание – например, вследствие какого-нибудь нового постановления, – или же только один полицейский обладает сим свойством и, так сказать, действует на свой страх и риск. Я без колебаний взвалил на себя эту титаническую задачу. Моему внутреннему взору представилась диссертация или еще лучше эссе: “Полицейские и их запахи”… Я обнюхивал одного полицейского за другим, и хотя ни на ком больше позорного пятна не обнаружил, однако же попутно установил, что ни один из них не носит усов, подстриженных на английский манер. Наблюдение, которое по своему значению для науки сопоставимо разве что с другим моим наблюдением, сделанным недавно ценой несказанных усилий. А именно: что ни одно млекопитающее не имеет зеленой окраски.
Установить, подхватил ли тот полицейский свой запах от какой-нибудь горничной или же сам в нем виноват, как-то по-иному – на это мне не хватило мужества. С научной статьей “De odoribus polyporum”[21] ничего не вышло. Я не осмелился спросить его прямо. Ибо страж общественного порядка, благоухающий розами… Столь необыкновенный страж общественного порядка наверняка читал если уж не “Раскольникова”, то, во всяком случае, “Преступление и наказание”. И зная, какой нестерпимый зуд охватывает порой преступника – желание помучить себя и сбить с толку представителей власти, – он просто-напросто задержит меня как злодея, легкомысленно кружащего вокруг арены своего лиходейства. И мне тогда придется признаться – сделать постыдное признание в собственной невиновности.
Малодушие, похожее на то, что я испытал в отношении полицейского, помешало мне полностью разрешить и другие загадки, которые я почуял и распутывание которых составляет мое единственное занятие, содержание моей жизни. Так, совершая свой ежедневный моцион, я частенько проходил мимо некоей торговки овощами – женщины средних лет с вульгарной наружностью и реалистической манерой речи. Торгует она главным образом зеленым горошком. Одну покупательницу, которая отведала сего продукта, но лишь пожала плечами и прошла дальше, ничего не купив, торговка наградила такими титулами, которые ни в смысле их оправданности, ни в смысле разнообразия не уступают титулам какого-нибудь восточного владыки. Старый же воробей каждый день безнаказанно лакомится горошком, торговка его не гонит, он знай себе хватает стручок за стручочком, выклевывает зернышки, а я так и не набрался смелости спросить зеленщицу, не вдова ли она. Ведь не исключено, что воробей этот не кто иной, как покойный супруг, который ее навещает и которого она – как подсказывает мое подсознание – неизменно подкармливает!
Из-за своей робости я никогда не внесу ясность в этот вопрос…
Так же, впрочем, обстоит дело и с вывеской одного сапожника: “У двух львов. Энгельберт Кокошнигг, городской сапожных дел мастер. 1891”. Мировые загадки разгадывать тяжело. Неделями я тщетно ломал себе голову над тем, почему сей почтенный ремесленник завел себе вывеску, которая больше бы подошла владельцу трактира. Быть может, он хотел прославить свое бракосочетание, по времени совпавшее с основанием предприятия, – и один из рыкающих львов символизирует супругу сапожника? Или в тот год Вену посетил всемирно известный укротитель животных, вовлекший в пучину своей славы также и простолюдинов?
Если, чтобы решить эту невыносимую для меня дилемму, я бы захотел безнаказанно проинтервьюировать самого мастера, мне бы непременно пришлось заказать у него пару башмаков. А это – не говоря уж, что мне хронически не хватает наличных платежных средств, – было бы черной неблагодарностью по отношению к моему персональному сапожнику, старому Петеру Кекревиши, который своими историями уже столько раз помогал мне скоротать время. Ладно, пусть он и его творения старомодны – он даже вместо приветствия говорит: “Мои комплименты!”, а если я его попрошу о чем-нибудь, отвечает: “Конечно, душа моя!” Зато он добродушен, как канарейка, которая прислушивается к нам, сидя на скорлупе кокосового ореха, прерывает наши слова своим пением и вознаграждает себя сладким лакомством, добытым ударом клюва. Речи этого сапожника тоже подобны пению, подобны тихим песням безропотного смирения. Родился он в Клаузенбурге, там же окончил прогимназию, был лучшим учеником, но потом умер его отец, а опекун, мясник, не позволил ему продолжать учебу. На каникулах мальчику пришлось помогать в мясной лавке, а когда он затем явился к директору гимназии, тот не пожелал его принять: потому-де, что его, разносившего мясо, одноклассники будут дразнить; да и вообще, учебное заведение должно соблюдать приличия… Опекун в конце концов определил его в ученики к сапожнику, так как подручные мясника не захотели терпеть в своем кругу “без пяти минут гимназиста”, да и самому мальчику ремесло их было не по душе. Нескончаемое кровопролитие! Однако в 1848 году, когда клаузенбуржцы тоже устроили у себя заварушку, он принял деятельное участие в событиях – правда, всего лишь в качестве оркестранта… Один из его однокашников, чьи отметки были похуже, чем у него, стал потом директором Венской обсерватории. В нескольких шагах от нее, в пропахшей клеем темной каморке, сидит человек, чья жена работает прислугой, а единственную дочь выдали замуж в Аграм[22]. Человек этот слишком стар, слишком мягкосердечен и беден, чтобы нанять себе помощника. Ему остается лишь извиняться и радоваться, что клиенты – из-за медлительности его работы – не разбежались вовсе… Недавно жена нашла ему небольшой приработок. Я теперь каждый день вижу, как этот немощный человек с дрожащими руками вывозит на прогулку парализованную женщину. За это он получает сущую мелочь, а в воскресный день даже не может позволить себе выпить стаканчик вина. Мало того! Он берет себе из библиотеки этой парализованной какую-нибудь книжку и из-за мелкого шрифта окончательно губит свои полуслепые глаза. В то время как директору обсерватории – надворному советнику, барону, комтуру[23] ордена Франца-Иосифа и так далее – платят лишь за то, что он стаскивает с неба на землю вечные звезды. Он разъезжает в красивом фиакре, живет ни в чем себе не отказывая – а все лишь потому, что ему не довелось иметь опекуна-мясника…
Итак, это моя единственная компания: старый сапожник и – конечно же! – еще разорившийся шляпник, в коем нет ничего примечательного, за исключением разве того, что когда-то он побывал в Мексике вместе с императором Максом[24]. Об этой стране он только и может сказать, что там было ужасно жарко. Тем не менее он остается в моих глазах человеком весомым. Среди моих знакомых нет никого, кто забирался бы дальше… Да и какой-то экзотикой веет от него, когда он произносит протяжно: “Да, в Веракрусе!”, а я почитаю своим долгом спросить, что же было достойного внимания в этом городе, и он тогда роняет неизменную свою шутку: “Н-да, в Веракрусе никто не продавал такой славной сливовицы, как туточки”… Я должен каждый раз смеяться, ибо не могу позволить себе испортить с ним отношения. Ведь он служит арменратом[25] и, быть может, когда-нибудь посодействует тому, чтобы я получил венское гражданство. Со временем я мог бы с толком использовать какое-нибудь теплое местечко…
Раньше я водил знакомство еще с кривоногим доктором философии, который, помимо прочего, читает курс для абитуриентов Академии внешней торговли и знает невероятное множество языков. Зовут его Шмеккер, он занимает большую должность в Центральном банке, работает не покладая рук и даже не мечтает об отпуске. Поэтому я однажды высказал ему свое мнение:
– Конечно, дорогой, если ты собираешься окончить дни директором банка, тебе придется столкнуться и с теневой стороной действительности.
Директором банка он, конечно, станет, однако это “окончить дни” заранее отравило ему всю радость, и теперь, издали заметив мое приближение, он отворачивается.
Когда-то был у меня и один дальний родственник, торговый агент Норберт Шигут. Однажды он неожиданно столкнулся со мной на улице и ни с того ни с сего – желая, видимо, предупредить досужие слухи – торжественным тоном сообщил мне, что хотя, мол, его жена недавно и удрала от него, однако вскоре она снова с покаянием к нему воротится. Я заметил, что подобное в самом деле частенько случается. Что, мол, и мне довелось сначала писать стальным пером, затем перейти к авторучке, а после, разочаровавшись в ней, вернуться к стальному перу, не оставляя надежды когда-нибудь стать владельцем пишущей машинки. Родственник простодушно ответил, что, вероятно, авторучка моя была скверного качества и что как раз сейчас он продает первоклассные американские авторучки. Вдруг на меня напал судорожный смех, и я уже подумывал, не законсервировать ли немного этого смеха на потом, на предстоящие мне безутешные дни, но тут смешной человек покинул меня – с таким оскорбленным видом, будто своим смехом я задел его коммерсантскую честь. С тех пор мы с ним как бы и не состоим в родстве.
В одиночестве блуждаю я по огромному городу. Никто не одаривает меня вниманием. В лучшем случае – то в одном месте, то в другом – меня облает какой-нибудь пинчер, трусливо бегающий по платформе проезжающего мимо товарного фургона. Часто мне хочется тявкнуть ему в ответ. К сожалению, приличия такого не допускают. Приличиями пренебрегать нельзя. Но получается в итоге, что я не могу завязать сколько-нибудь близкие отношения даже с пинчером.
Прежде я хоть сочинительством занимался. Но когда я последний раз заглянул в чернильницу, в ней лежали две мухи. Утопшие.
Что тут произошло, двойное ли самоубийство на почве любви… или случайное падение в стеклянную пропасть из-за пришедших в движение пылинок… установить уже не удастся. Однако понятие “слава” во мне разлетелось вдребезги: кто знает, чем эти мухи были для своего народа! Меня охватил ужас; чтобы стряхнуть его, я отправился погулять, очутился недалеко от железнодорожной станции Каленберг и увидел – рядом с неказистым домиком, принадлежащим дорожным служащим, – как на навозной куче старый и молодой петухи сражаются за мировое господство. Целиком захваченный этим событием, я возвратился домой, а на следующее утро весьма удивился, не обнаружив ни в одной газете даже малюсенькой заметочки о борьбе сих гигантов за гегемонию на куче навоза. Известие же о душераздирающей кончине двух мух, вероятно, разлетелось по свету уже после того, как был сверстан очередной номер.
Два петуха вели борьбу с напряжением всех сил – это вам не показуха на боксерском ринге, тут все происходило по-честному, но без единого слова! Вероятно, именно поэтому… Короче, на меня как бы возлагалась обязанность преподать урок газетам всего мира. Однако, если иметь в виду ту диаметральную противоположность мировоззрений, что отделяет меня от издателей иллюстрированных журналов для широкой публики, а также различия между вещами, которые они и я, в силу своей внутренней организации, считаем важными, шансов отстоять собственное мнение у меня было очень мало. Конечно, если бы сорвавшиеся в пропасть мухи были владельцами какого-нибудь повидлового рудника и носили фамилию Поллак, а петухи… если бы один из них был гордостью австрийского спорта, шахматным гроссмейстером Папабиле, а другой – претендентом на звание чемпиона мира… Тогда да, тогда невозможно было бы пройтись по улице без того, чтобы на каждом втором шагу на тебя не пялились бы, как из засады, ничем не примечательные лица этих полубогов… Нет, лучше уж мы обойдемся без их полубожественной помощи, а свои проблемы будем улаживать сами. Что же касается петухов, то тут я вряд ли мог бы что-нибудь изменить: как человек пишущий я бы не стал принимать ничью сторону, не стал бы насильственно вмешиваться в ход сражения. Точно так же далек я от мысли осквернить мирный сон двух упавших в чернильницу смерти мух посредством эксгумации тел и их последующей кремации… Я оставил погибших в том месте, куда их забросила судьба. Если вспомнить, что самые дерзкие подвиги, как правило, остаются безвестными, мое решение никого не удивит: все, что я еще буду сочинять в будущем, я намерен записывать карандашом – дабы, так сказать, сделать эти записи еще более бренными; что же касается моего благочестивого отношения к мухам, то тут, скорее всего, сказалось свойственное мне себялюбие. Ибо что может лучше соответствовать теперешнему моему настроению, нежели запах их разложения – для иных, более здоровых натур, вряд ли вообще ощутимый?
Наконец я собрался с духом и купил себе указатель улиц. Мне, вероятно, уже давно следовало это сделать. Люди вроде меня, чей центр тяжести лежит за пределами их собственного Я, где-нибудь во Вселенной… и которые, словно воск, вбирают каждое впечатление… Такие люди должны постоянно подкармливать свой сенсориум[26], пусть даже обычными вывесками, – чтобы преодолевать зияющую пустоту.
Я путешествую… в малом масштабе. Тироль – красивая земля, но бедекеры[27] там скоро будут расти на деревьях; а кроме того, подавляющее большинство людей путешествуют, захватив с собой привычные условия жизни… в виде своих родственников и друзей. Но тогда совершенно безразлично, куда отправиться: мы ведь отправляемся туда вместе. Не можем оставить друг друга дома. Меня такой способ путешествия не прельщает. Если уж путешествовать, то – во времени. Я не прочь был бы поговорить с каким-нибудь господином из XIV столетия. Мне хотелось бы также засвидетельствовать свое почтение господину Менемптару – древнеегипетскому поэту, лирику с ярким вокальным даром, всемирно известному автору цикла гимнов “Нильскому крокодилу”; но нынче я, к сожалению, нахожусь в такой скверной форме, что не смогу посредством видения или галлюцинации заставить этого замечательного мастера явиться передо мною. Инженеры! Скорее стройте железную дорогу времени! Нет, пока кондуктор… с глобусом на часовой цепочке… не выкрикнет: “Кембрий! Конечная остановка! Просьба всем выйти из вагона!”, до тех пор я в таких делах не участник. Ах! Да даже и тогда – нет; потому что, как только случится нечто подобное, там непременно окажется и господин Поллак, который оставит в Кембрийском периоде промасленную бумагу от своих бутербродов. А уж такого этот период точно не заслужил. Я уже понял: лучше мне совершить прогулку здесь, по Линцерштрассе, потому что это вторая по протяженности улица Вены… Я бы и сам с удовольствием перевоплотился во вторую по протяженности улицу Вены… Мне бы тогда стало легче.
Впрочем, что же там можно увидеть? Немного. Возле одной лавки, где выставлены на продажу зонты, торгуют с лотка книгами, бумажные полосы расхваливают последний бестселлер, а по соседству другие такие же полосы возвещают, что наконец поступила в продажу сельдь. Одни назовут это гениальной организацией городской жизни в неазиатской метрополии, другие, деревенские, наоборот, будут лезть на стенку, столкнувшись с подобным хаосом. Я же вообще не знаю, где здесь зонты, где книги и где селедки: перед моими глазами все различия расплываются, становятся слишком мелкими, чтобы в столь разных, как думают некоторые, предметах я мог бы углядеть еще что-то, кроме незначительных разновидностей одной и той же материи… Разновидностей, которые вечно повторяются, меняются же только свойственные человеку способы выражения. Поэтому, выпустив из рук книгу, я говорю: “Кажется, эту шляпу я уже где-то видел”. А съеденное жаркое из фальшивого зайца наводит меня на мысль, что и здесь дело не обошлось без модного дарования, что в основе таких произведений – что литературных, что кулинарных – лежит один и тот же понятийно-тематический комплекс, иначе они были бы невозможны. Думаете, я мыслю парадоксально? Я лишь научился этому у одного пьяного.
Был вечер, я возвращался по Линцерштрассе, чтобы по дороге домой закрепить для себя в памяти дома также и в обратной последовательности, как вдруг на меня наткнулось шатающееся нечто и вопросило:
– Кудай-то меня занесло?
Я ответил ему, что мы, мол, находимся на второй по длине – в настоящее время – улице Вены, на Линцерштрассе.
– Такой ваще нет, – возразил он.
– Вы несомненно переусердствовали с Шопенгауэром, мил человек!
– Нее, здесь вы сугубо ошибаетесь, это был рислинг “Цеблингер”, – ответствовал незнакомец, которого мог бы адекватно изобразить разве что господин Палленберг[28], и я задумался, не помог ли часом Дионис и самому Шопенгауэру прийти к его знаменитой теории. Лорд Байрон, его предшественник, будто бы тем же путем пришел к женоненавистничеству. Теория пьяного имела свои резоны, ибо действительно: отнимите у Линцерштрассе время, и от нее ничего не останется, кроме материи, которая – то там, то тут – позволяет себе пошутить, преобразившись из кембрийского ландшафта во вторую по протяженности улицу Вены…
– Ну, и где ж мы теперь? – спросил усталый голос.
– На Линцерштрассе, – разозлился я.
– Неужто опять! – последовал ответ…
Нужно было вдрызг нализаться кислым вином, чтобы заново открыть закон Вечного возвращения[29]. Мудрец и сумасшедший, сумасшедший и пьяный – в чем же тогда разница между ними? Может, мудрость великих философов не столь уж и значима, ежели та бацилла, что возбуждает мудрость, мало чем отличается от других бацилл, не таких почтенных… Или, напротив, орфические изречения этих господ обретают большую достоверность, оттого что в любое мгновение могут излиться и из ничем не заторможенного подсознания обыкновенного пьяницы, который отрешается от мирской суеты посредством вина?.. Тут великий незнакомец остановился и попытался предотвратить падение уличного фонаря… А я, глупец, двинулся дальше… Потом я, разумеется, пожалел, что не продолжил поучительного разговора с ним, не узнал – по крайней мере! – каким образом он пришел к догадке о несуществовании Линцерштрассе. Но в тот момент, преисполненный радости, оттого что был вообще удостоен разговором – радости по поводу этого великого, по моим меркам, события, – я быстрыми шагами направился к дому… Возможно, торопясь еще и из опасения, что какой-нибудь полицейский, увидев, как я стою возле пьяного, примет меня за вора и арестует.
Ни один полицейский, однако, не появился. Из предосторожности. Потому что вокруг шлялся всякий сброд, прохожие не очень деликатно задевали меня, и, поскольку вечер прямо-таки набухал авантюрами, я смирился с мыслью о возможном ночном нападении и уже решил действовать на опережение – добровольно отдать первой же подозрительной личности свой кошелек и часы, с пожеланием пользоваться ими впредь в свое удовольствие…
Впрочем, мне было бы непросто расстаться со своими часами, источником бессчетных маленьких удовольствий. Как часто в каком-нибудь парке, когда я слишком уставал, чтобы наблюдать за одним из пожилых господ, в свою очередь наблюдавших за играющими в мяч или в диаболо ребятишками… Когда время начинало свертываться, как кровь, и, казалось, замыкалось в вечность… Как часто в такие мгновения я приближался к одному из мальчишек и принимался его уговаривать:
– Не будете ли вы столь любезны спросить у меня, который час?..
Я полагаю, что в сфере вежливости заходил непревзойденно далеко – куда уж дальше. Пожилые господа, по крайней мере движениями трости, выражали неодобрение, однако меня это не заботило: они ведь были моими конкурентами по части сбыта времени… И если какой-нибудь храбрый мальчишка исполнял мою просьбу, что иной раз все же случалось… Тогда крышка моих часов отскакивала, и я с хронометрической точностью сообщал, как далеко вперед уже продвинулся день… испытывая не меньшее удовольствие, чем конфирмант, который впервые в жизни выступает в качестве вестника времени… Отсюда легко заключить, как неохотно я отдал бы другому свои часы, сей жизненно важный для функционирования моего дела предмет… Не исключено, что бродяги предпочли со мною не связываться: проезжающие мимо мусороуборочные машины и их водители, к которым я старался держаться поближе, спасли меня от опасности и избавили от необходимости выполнения моего плана…
Если уж какой день начнется богатым на происшествия, он, как правило, получает не менее животрепещущее продолжение: уборщики подземных каналов поднимали решетки люков и намеревались, подобно Геркулесу, спуститься в преисподнюю. Когда я увидел их, во мне открылась старая рана: проснулось неутолимое желание быть супругой уборщика канализационных трасс. Большинство других женщин изменяют мужу днем, эти же могут – не рискуя быть застигнутыми с поличным – предаваться подобным утехам по ночам. Я порекомендовал бы эту тему вниманию наших драматургов. Великодушно уступаю им ее. Я вообще всегда стараюсь поддерживать отечественную индустрию…
Нет, домовладелец, который заставляет меня так долго ждать, не вправе более предъявлять мне какие бы то ни было упреки. Когда в свое время на бланке моей прописки он прочитал в рубрике “религия” – “греко-парадоксальная”, а в рубрике “род занятий” – что я, дескать, добиваюсь небольшой должности в Chorus mysticus[30], его реакцией были слова: “Ну ясно, этот тип, как мы с женой полагаем, еще ни разу не жил в доме ‘У трех коней’[31]”. Ему не следовало произносить подобную реплику. С помощью топографического указателя улиц я собираюсь серьезно подготовиться к экзамену на извозчика. Или еще лучше: не вступить ли мне в сообщество изобретателей? Что же я изобрел? Да я могу запатентовать – в качестве мухоловки – свою чернильницу! Я тотчас сообщил домовладельцу об изменении моего гражданского состояния. Тот посмотрел на меня заспанно и неуверенно, после получения должной мзды за позднее возвращение даже пожелал мне “Спокойной ночи!” и, шаркая шлепанцами, поплелся к своей кровати. На челе этого мыслителя было, однако, начертано: “Да что вы о себе возомнили? Вам бы не мешало проспаться!”… Изобретатель? Сие не исключает, что, быть может, уже завтра я облачусь в наряд кучера или торгующего цветной капустой словака, дабы свести знакомство с женой какого-нибудь уборщика подземных каналов и подвергнуть испытанию ее супружескую верность… Впрочем, нет, этого я делать не стану, я больше не чувствую в себе достаточных сил. Под скептическим взглядом домовладельца вся моя энергия испарилась. И когда в свете оплывающего свечного огарка я прочитал на визитной карточке, украшающей дверь моего апартамента с отдельным входом, что-де являюсь “Господином Карлом Тубучем”, я, совершенно этим уничтоженный, только и смог тихо выдохнуть: “Неужто опять!..”
Часто ночью я внезапно вскакиваю с постели. Что такое? Ничего, ничего! Неужели никто так и не захочет ко мне вломиться? А я ведь все заранее рассчитал. О, я не хотел бы оказаться на месте этого грабителя. Не говоря уж о том, что (за исключением денщика[32] Филиппа да еще, пожалуй, указателя улиц) взять с меня совершенно нечего, я честно и откровенно признаю: хоть я и не знаком ни в малейшей степени с бедолагой, о котором идет речь, однако предполагаю, что покушение на мое жилище для него закончится смертью. Перочинный нож, обнаженный и готовый к убийству, лежит на ночном столике. Под столиком же бодрствует денщик Филипп, готовый к броску… Неужели никто так и не заберется ко мне… Я жажду встречи с убийцей.
Ах, если бы меня, по крайней мере, мучила зубная боль! Тогда я мог бы три раза подряд сказать “абракадабра”; священное слово “цып-цып”, должно быть, тоже оказывает магическое действие… Но даже если и после этого моя зубная боль не утихла бы, я ни за что не пошел бы к зубному врачу – нет, я бы стал холить и лелеять свою боль, не позволяя ей угаснуть, пробуждая ее снова и снова. Ведь это было бы хоть какое-то ощущение! Но, на беду, здоровье у меня железное.
Ну хоть бы какое горе вонзило в меня свои когти!.. Только у других, у соседей, есть это малоценимое счастье. Здесь, в доме, живет одна состоятельная супружеская пара, оба неплохо зарабатывают: она – продавщица в большом магазине модных товаров, он – старший почтовый инспектор; у них только один ребенок, и они ни в чем себе не отказывают. Недавно у инспектора умер папаша, уже двадцать лет живший с ним вместе. Дело случилось в праздничные дни, и, следовательно, время их не поджимало. Но эти нелюди назначают погребение на утро, поднимаются ни свет ни заря – только ради того, чтобы к половине восьмого успеть доехать до центрального кладбища на трамвае, за шесть крейцеров!
Если бы у меня умер кто-то и имелась бы причина о нем скорбеть, я раскошелился бы по меньшей мере на фиакр. Вот такие дела: у людей, которые не желают скорбеть, умирают родственники… У меня же… Мне не дано пережить ничего подобного; я, так сказать, – человек, опирающийся на пустоту…
Шестеро ребятишек, мирно жуя хлеб, сидят кружком вокруг дорожного рабочего, старательно укладывающего булыжники – три справа, три слева, – и с изумлением наблюдают за его работой; я бы тоже охотно присел рядом с ними, хотя бы для того, чтобы насладиться удивлением и смущением милого уличного труженика. Невозможно! При нынешнем состоянии медицинской науки моя скромная радость уж конечно бы омрачилась краткосрочным интернированием в соответствующее заведение…
Обедаю я ежедневно в ближайшей колбасной. Там всегда можно видеть одни и те же, словно вытесанные из дерева лица: загнанные приказчики с сигаретой во рту; спешащие модистки, у которых даже нет времени уронить носовой платок, когда в этом возникает нужда… бедные пожилые люди, странствующие или приезжие, – у каждого из них найдется часть тела, которую стоило бы показать врачу… Почти все посетители уже меня знают… Даже горбатый мелочный торговец, который, суетливо лавируя между столиками, предлагает направо и налево коробки спичек, карандаши, запонки, почтовую бумагу и подтяжки. Как уже сказано, здешний народ меня знает; но придет ли, наконец, хоть кому-то из этой компании в голову спросить, почему я ем в красных лайковых перчатках? А ем я в перчатках только ради того, чтобы меня об этом спросили и я мог ответить: “Я имею обыкновение в рассеянности обкусывать ногти; так вот, чтобы этого не происходило, чтобы они спокойно росли и достигли полного совершенства, я и ношу перчатки…” Напрасно купил я эти лайковые перчатки. Посетители колбасной считают меня то ли слишком сумасшедшим, то ли слишком утонченным, и на такой вопрос не отваживаются… Никто не станет выведывать мою подноготную, даже Текла – бледная, с черными кудряшками официантка, каждодневно спрашивающая, не желаю ли я к колбаскам огурцов, горчицы или хрена… Даже Текла, которой я всегда пододвигаю три крейцера, не облегчит мне душу этим напрашивающимся вопросом – хотя уж ей-то, казалось бы, сам Бог велел…
Боюсь, что для меня это плохо кончится. Я соскальзываю во все более двусмысленные сферы. Конечно, люди, благословенные даром моральной нечистоплотности, – все эти преступники, начиная с великого каннибала Наполеона и кончая маленьким мальчиком, который стащил сливу и, преследуемый сынишкой бакалейщика, кричит “Мама!”, но для верности еще и сует добычу в рот, – все эти существа по праву находятся под покровительством природы: чаще всего они защищены нехваткой совести и исключающей всякое раскаяние забывчивостью; достойные восхищения индустриальные акулы с такими качествами, которые дураки, далекие от теории Дарвина, называют материализмом нашего времени, сиречь американизмом, – они тоже морально оправданы: точно также, как оправдано поедание говядины и существование охотников покататься на верблюдах, при наличии верблюдов как таковых. А вот что никак нельзя оправдать – это когда ты крадешь у других драгоценное время и причиняешь им зло безо всякой для себя выгоды. Я же со скуки, чтобы потолкаться среди людей да познакомиться с ними, частенько поднимался к предпринимателям или домохозяевам, которые публиковали объявления о найме… Представлялся им домашним слугой, учителем средней школы, бухгалтером, гравером, корреспондентом, гофмейстером, камергером и так далее. И после тягучего невразумительного разговора, приводившего хозяина в полное замешательство, я всегда откланивался со словами, что намереваюсь, дескать, подумав еще на досуге, при случае зайти повторно. Человек снисходительный еще мог бы, пожалуй, назвать это относительно безобидной шуткой. Куда хуже, развязнее и коварнее ведет себя тот, кто преднамеренно усаживается на предназначенные для любовных парочек скамейки, сам ничего такого не делает, а только читает газету, пока еще светло, и вынуждает отчаявшихся влюбленных обратиться в бегство… При ограниченном количестве мест для сидения его ненавидят и чешские кормилицы, которые обычно позволяют обрюхатить себя только на скамейках Кайзер-Вильгельм-ринга[33]… Его боятся долговязые босняки из Вотивного парка, равно как и пехотинцы полка “Дойчмайстер” из парка Аугартен… Он же продолжает эту игру до глубокой ночи. Якобы лишь для того, чтобы собрать статистические данные о времени, отделяющем первый поцелуй от премьеры любовного объятия…
Спрашивается, почему же я не бросил эти пошлые удовольствия и не нашел для себя лучший способ времяпрепровождения? Есть ведь свои преимущества даже в том, чтобы стать владельцем собаки: вследствие многообразия соответствующих обязательств, поглощающих уйму времени; насколько же те простые и безобидные удовольствия, что дарит хозяину бедное животное, затмеваются наслаждением, которое способна дать только женщина!
Смею возразить: если уже у Гомера сказано: “Всем человек пресыщается: сном и счастливой любовью, ⁄ Пением сладостным и восхитительной пляской невинной”[34], то какие же ощущения, какую усталость должен испытывать наш современник? У меня в ушах еще звучат выкрики венских барышень в момент экстаза: “Ах!”, “Ох!”, “Господи!” и “Ты действительно меня любишь?”; а если барышня еще и поэтическая натура, то она, небось, прощебечет “Тири-ли-ли!” Даже заткнув себе уши, я слышу “Ай”, “Ой!” и “Уй!” венгерок. Берлинка же предпочтет проворковать: “Как вкусненько!”. Единственными, кто ничего не восклицал, были цыганки; однако тому, кто мечтает о любовном сближении с ними, лучше оставить наручные часы дома… И он может считать, что ему крупно повезло, если очередная Трантира или Шофранка не назовет его отцом своего ребенка, хотя на ту же честь мог бы по праву претендовать весь офицерский корпус ближайшего гарнизона… Да, еще у одной хватило благоразумия помалкивать… У Мариши, жены деревенского старосты из Попудьи-на. Она любила, словно отрезала себе краюху хлеба. Все ее движения были исполнены механической надежности. Никогда не забуду, как мы впервые нашли друг друга. Это случилось наутро после ее свадьбы, о чем я не знал: Мариша, тогда еще мне не знакомая, косила на влажном от росы лугу и, продвигаясь вперед, покачивала бедрами… Короткие, до икр, юбки непрерывно колыхались… Я праздно проходил мимо и не мог отказать себе в удовольствии наклониться, чтоб погладить цветущие щеки и подбородок красивой молодой женщины. Она залилась румянцем, однако не воспротивилась; смерть стояла за моею спиною – крестьянин с косой. А у меня хватило присутствия духа сказать:
– Сударыня, так вы позволите мне сегодня во второй половине дня пособирать шелковицу в вашем винограднике?
Крестьянин таращил глаза, как бык. Она же, склонившись еще ниже, словно хотела помочь мне найти какую-то упавшую вещь, ответила утвердительно, и уж вечером-то в винограднике меня ждали не только тутовые ягоды…
А когда ее муж и мамаша отправились паломниками в Сассин, она дала мне об этом знать. И я тайком пробирался в комнату к Пахнущей-Хлевом; а затем в темноте, лавируя между навозною кучей справа и навозною жижей слева, выбирался обратно – воспевая чреватою опасностями любовь Джахангира Мирзы и красавицы Маасумех Султан-Бегум[35]… Мое воодушевление, однако, вскоре пошло на убыль из-за удручающего несоответствия между возвышенными чувствами и копеечнозлорадной судьбой: ведь даже экономически невозможно длительное время производить амброзию, самому при этом питаясь дерьмом… Мой несчастливый дар – представлять себе даже самую любимую подругу в виде скелета (из-за чего объятия порой переходят в рыдания), а также страх перед законным супругом в конце концов вынудили меня распроститься с Маришей… Ах, оставьте меня с вашей любовью! Скорей уж я завел бы собаку. У бездетной жены моего домовладельца есть собака, которую я высоко ценю. Молодой карликовый бульдог; во дворе держится избранного круга детей: когда они приносят ему вареную свеклу, телячью печенку или жареные колбаски, он откликается на клички Шнуди, Пуффи, Буби и еще десяток других. Если же кто-то хочет просто так к нему подольститься, этот янки игнорирует все призывы. На того, кто проявляет назойливость да еще, как некоторые вдовы, пытается повязать ему на шею розовый бант, он предостерегающе рычит и может при случае укусить. Свойственное ему многообразие реакций, готовность броситься, как молодой бык, на каждого, кто взмахнет у него перед носом платком или листком бумаги, и, не в последнюю очередь, образцовая самодостаточность сделали его моим идеалом. Он может часами лежать на месте и, нисколечко не скучая, гипнотизировать одну и ту же кость; ни один учитель не бросит ему с иронией: “Вы, голубчик, далеко зайдете…”; он глубоко усвоил и больше не задумывается об этом: дальше себя самого все равно не зайдешь. Я же, когда мне надоедает быть собою, поневоле должен становиться кем-то другим. Обыкновенно я – Марий[36], сидящий на развалинах Карфагена. А иной раз я – князь Эксенклумм: я поддерживаю любовную связь с одной оперной певицей, я с готовностью даю интервью главному редактору столичной газеты Арманду Шигуту о торговом договоре с Монако, я запрещаю своему камердинеру Доминику (его роль играет денщик Филипп) допускать ко мне кого бы то ни было, за исключением баронессы фон Зубен-Боль… Но как только бесконечные “Ваша светлость…” да “Ваша светлость…” начинают действовать мне на нервы, я становлюсь прославленной актрисой, отвешиваю этому ничтожеству – директору театра – пощечину, которую он давно заслужил, или же, желая отомстить, обрушиваю на его голову кресло… Я как раз собирался, чтобы отдохнуть от непривычного напряжения, перевоплотиться в поэта Конрада Зельтенхаммера и молча выкурить папиросу в кафе “Символ”. Но течение моих мыслей прервал денщик. Ему-де осточертело все время представлять слуг, директоров театров, развалины Карфагена или пачки папирос; он мечтает тоже хоть раз побывать в шкуре князя, героини или драматурга.
– Ты сапог, – сказал я ему. – Сапог! Тщеславие – первая ступень к краху.
– Хозяин, – ответствовал он. – Хозяин! Я ведь не какой-нибудь обыкновенный денщик.
– Само собой. Денщик, состоящий у меня на службе, не может быть заурядным денщиком.
– Я не то хотел сказать.
– Может, в твоих жилах течет кровь богов? Ты что – заколдованная принцесса или тот слуга, стягивавший сапоги, прелюбодейство с которым Зевс инкриминировал Гере?
– Нет, но я все-таки происхожу из древнего рода. Знай же: я прямой потомок того знаменитого денщика, которого проглотил Митридат, дабы сделать свой желудок неуязвимым для ядов.
– Тот денщик, видно, надоедал своему господину не меньше, чем ты мне, иначе ему нашли бы лучшее применение.
Тут Филипп дал себе зарок впредь не ссылаться на судьбы своих именитых предков.
– Я категорически заявляю, что в случае невыполнения моей просьбы от службы у вас откажусь. Да и вообще, меня наметили в президенты I Международного конгресса денщиков, который в скором времени состоится в Америке. Сам Рузвельт…
– Рузвельт?
– Я имею в виду денщика Рузвельта. Мы его зовем Рузвельтом, для краткости… Так вот, это он пригласил меня председательствовать… Именно по той причине, что я являюсь потомком знаменитого… Или ты думаешь, что денщик господина Тубуча…
– Да, но как же ты попадешь в Америку, о сапогостягиватель моей души?
– Мое тело, мое бренное тело будет по-прежнему лежать здесь, дух же мой воспарит, отлетит, заползет в какой-нибудь электрический провод и в мгновение ока окажется на той стороне. Прежде-то с такими путешествиями дело обстояло хуже: молнию не всегда удавалось заполучить, а на бродягу-ветра полагаться нельзя, сколько раз он нас ссаживал там, куда мы совершенно не собирались… на озере Танганьика, например, или на островах Фиджи… где не встретишь ни одной родственной души…
Мне было лестно поддерживать контакт с существом, благодаря которому я, в известном смысле, оказался близок президенту Соединенных Штатов, и мы с Филиппом заключили соглашение, что отныне и впредь будем выступать в главных ролях по очереди. Он был, например, бакалейщиком, восклицавшим: “Сегодня у нас чудненький пармезанский сыр!”, а я – покупательницей, что, пожимая плечами, пробовала кусочек. Затем я становился слоненком… бегающим по кругу… А он – мальчишкой, кричащим: “Ах! Как здорово!” После он был упавшим деревом, со шляпой на одном суку, которое плывет по Дунаю до самого Черного моря, я же – свалившимся в воду и проклинающим это дерево лодочником, или водяной крысой, которая ютится меж корней, или речной выдрой, требующей у дрейфующего ствола проездной билет, чтобы проверить, не истек ли срок годности. Так продолжалось, пока невозможность – как бы я ни напрягал свою и их волю – сделать зримым и для других людей мое превращение в князя Эксенклумма или в водяную крысу не испортила мне удовольствие и от этой игры.
– Филипп! – сказал я тогда. – Иди-ка сюда.
Филипп подошел, не без внутреннего сопротивления, словно предчувствуя недоброе. Я тщательно завернул его в коричневую упаковочную бумагу и отправился на прогулку. Никто из прохожих, однако, не пожелал поинтересоваться: что, мол, находится в маленьком коричневом пакете. А я-то заранее подготовил небольшую речь: “Дамы и господа! Здесь вы увидите не что-нибудь заурядное! Но говорящего денщика! Он – прямой потомок сапогостягивателя Его Азиатского Величества, царя Митридата Понтийского… И в скором времени будет председательствовать на I Международном конгрессе денщиков. Сам Рузвельт…”
Никто не проявил любопытства, а навязываться мне не хотелось… Что вопроса мне так и не задали, пожалуй, еще можно было бы пережить, но, с тех пор как я столь вероломно поступил с денщиком, попытавшись осквернить его тайну, Филипп умолк… Его душа, вероятно, навсегда переселилась в Америку… Я снова был одинок…
Раньше я грезил о славе. Она обошла меня стороной. И все, что мне оставалось, это саркастические нападки на счастливчиков. В этом-то я издавна был мастак. Когда мне уже нечего было кусать в себе, я принимался кусать других. Нынче же я ослаб и сделался снисходительнее. Как говорится, пишу теперь карандашом. Моя интеллектуальная пища нежна, как пища больного. На днях, например, я целое утро посвятил наблюдению за одним генералом, который на Марияхильферштрассе замирал у каждой витрины, будь то витрина бельевого магазина или парикмахерской. Было это после маневров. Я не ощущал ни злорадства, ни сострадания; просто смотрел, пока сам не превратился в генерала и не почувствовал себя способным играть далее его роль. То, как он приподнимал саблю, чтобы не задеть тротуара – движение чисто рефлексивное, – навевало невыразимую грусть… На следующий день я так же надолго погрузился в созерцание галки, которая перед цветочным магазином на Вайбурггассе семенила туда и обратно, безостановочно – туда и обратно. Куцые крылья, сломанные, волочились по грязному булыжнику. А ведь, наверное, за несколько дней до этого птица еще кружила вокруг колокольни Святого Стефана или командовала бригадой… Я бы весьма охотно поспособствовал встрече между тем генералом и этой галкой. Но на столь великие начинания я более не отваживаюсь, с той поры как последнее кончилось для меня так печально…
Во время своих вылазок я нередко проходил мимо одного ресторанчика, хозяина которого зовут Доминик. Нынче имя Доминик среди рестораторов совсем не редкость, а почему? Это необъяснимо; но, поскольку мне так часто доводилось проходить мимо вывески этого винного ресторанчика, постепенно между мною и его владельцем завязались приятельские отношения. Не то чтобы я когда-либо встречался с этим человеком, избави бог! В столь реальных предпосылках для симпатии я не нуждаюсь… Но когда однажды я взглянул в календарь, то обнаружил, что сегодня день его именин. “Вот нынче ты мог бы к нему заглянуть”, – подумал я и надел красные лайковые перчатки. Вошел. Но ничего такого, чего я ожидал, не произошло. Меня обслужил человек в синем переднике, с полотенцем через плечо, – обычный официант. Я ждал и ждал, чтобы увидеть именинника. Он все не появлялся. Вообще ничего похожего. Я начал терять терпение и, уже собравшись уходить, напрямую спросил официанта, где сейчас хозяин. Субъект нехотя процедил в ответ, что у хозяина-де наверное платежный день в пивоварне и потому он отсутствует. Так обнаружилось: хозяин предательски укатил к вину нового урожая, уклонился от празднования своих именин, чтобы пображничать у другого хозяина, то есть фактически наедине с собой. Картина, несомненно, комичная – сюжет, достойный голландских мастеров: один ресторатор наведывается к другому. Но я в итоге, пожертвовав временем и деньгами, все-таки не осуществил того, чего с таким нетерпением ждал. Будто насмешница-судьба, которая охотно отбирает у сирых последнее, дабы имущему дать еще больше, намеренно лишила меня моей маленькой радости, неслыханного зрелища: как ресторатор празднует день своих именин. Смешно, но типично, ибо подобные партии судьба разыгрывала со мной многократно. Словно посредством утонченной позиционной игры хотела вынудить меня, нежизнеспособного, добровольно отказаться от этой самой жизни. Я уж не говорю, что раньше, когда у меня еще были знакомые, я частенько не видел их месяцами, а затем в один прекрасный день они, казалось, сговаривались между собой, чтобы усердными рукопожатиями вызвать у меня, по меньшей мере, паралич руки. Я могу привести примерчики и похлеще.
Много лет назад, когда я был более жизнерадостным, а до душераздирающей гибели двух мух Поллак дело еще не дошло (и, следовательно, эта гибель еще не могла служить мне напоминанием, что перед лицом судьбы нужно держаться спокойнее), в это-то время я после всяческих сомнений наконец собрался с духом и приобрел трость. Чтобы искать приключений. Без трости это невозможно. Ведь и рыцарь не мог бы сражаться за свою деву с великанами, карликами и драконами без легкого щита или же с седлом, которое еще не имеет имени.
Однажды воскресным днем я – в первый и последний раз – завязал галстук с той тщательностью, с какой, если мне позволят такое сравнение, пророки, должно быть, некогда препоясывали свои чресла, и на трамвае выехал в Зифринг[37]. Немалое наслаждение – мчаться мимо остановок, в то время как другие вынуждены оцепенело на них стоять. На Бильротштрассе, к сожалению, в вагон вошел один мой дальний знакомый, сноб до мозга костей, из кармана у него горделиво торчал томик Бальзака. Я в шутку сказал, что зря он таскает на лоно природы книги в тяжелых переплетах, да к тому же такие, которые вскоре будет таскать каждый кому не лень. Обратил его внимание и на то, что пропагандировать такую литературу – не самое достойное дело для модерниста. Он же, неправильно истолковав мое намерение, втянул меня в нескончаемый разговор. О конце Бальзака; о том, как Жорж Санд, по слухам, обманывала Мюссе, а Фридерика[38] – Гёте; и – ах! идиллия Зезенгейма! – как эта дочка священника, само собой, в конце концов родила от какого-то теолога – если, конечно, отцом ребенка не был Ленц или кто-то из французских погран-офицеров… Поэзия и правда![39]Мы говорили о женщинах, о том, что всякое одаренное разумом или фантазией существо, будь то мужского или женского пола, ревниво уже само по себе, а сверх того, неизбежно страдает от ревности, унаследованной от животных предков… Перескакивали с пятого на десятое, и только тогда, когда было уже слишком поздно, когда лес обступил нас, этот злополучный субъект открыл рот, дабы сообщить мне, что я-де пропустил самое важное. В трамвае, мол, к моим шуточкам прислушивалась одна элегантная барышня, все время глаз с меня не спускала, а потом, уже в лесу, за нами увязалась еще одна красивая штучка, но, так и не найдя приличного повода заговорить со мной, отстала от нас. Я рассуждал о женщинах – пока в двух шагах от меня смеющаяся, покачивающая бедрами и пританцовывающая, роскошная в своем цветении жизнь не развернулась и не побрела прочь!.. И словно этого мало: когда на узкой тропе мы хотели пропустить встречную любовную парочку, дама наступила на трость, которую я элегически волочил за собою; трость сломалась – явное предупреждение свыше, что тропу, на которую мы едва ступили, необходимо тотчас покинуть… На лугу же недалеко оттуда какая-то шестнадцатилетняя фройляйн, сопровождаемая мамашей, не придумала ничего лучше, как рвать осенний безвременник. Я последовал ее примеру…
Я постоянно живу в ожидании чего-то чудовищного, чего-то такого, что вторгнется ко мне, внезапно явится, вломится. Орангутанг, например, или глухарь с пылающими очами, или – лучше всего – свирепый бык. Потом мне приходит в голову, что уж бык-то никак не мог бы протиснуться в мою дверь, и я на время оставляю свои грандиозные надежды… Когда начинает тренькать дверной звонок, все соседи выбегают в прихожую. И я тоже немедленно выглядываю из своего апартамента с отдельным входом… На случай, если меня разыскивает кто-нибудь из старых приятелей, я готовлюсь накинуть пальто и отправиться с ним на прогулку; или же, коли он того пожелает, показать ему достопримечательности моего жилища: денщика Филиппа и – давая разъяснения голосом, окутанным траурным флером – двух покойных мух Поллак… Ожидаю я чего-то чудовищного или все же приятного, но когда открываю входную дверь, то, как правило, оказывается, что пришли к кому-то из соседей. Или – что это нищий. Таким я не подаю. Во-первых, у меня у самого ничего нет, а во-вторых, даже если им даешь что-то, они тотчас уходят и оставляют тебя в одиночестве. А это совершенно не входит в мои планы… Другие, увы, столь же бесцеремонны: позвонят в дверь и, получив нужную справку, удаляются. Вот на днях… Затрезвонили ни свет ни заря, я поспешно и кое-как одеваюсь, отворяю дверь, стою на сквозняке: посетитель спрашивает, не я ли, дескать, тот господин, который заказывал спрей для ухода за собачьей шерстью. Другой на моем месте, чертыхнувшись, захлопнул бы дверь, я же, человек вежливый, опрометчиво отвечаю: “Нет!”; не скрывая, тем не менее, намерения вступить с ним в разговор… пусть даже только из-за необычности его профессии. Агент по продаже спрея для собак… Он, однако, делает резкий разворот, показывает мне спину и начинает подниматься по лестнице… Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не рухнуть под тяжестью всех постигших меня разочарований…
Джахангир Мирза говорит: “Словно бесплотная тень, я зыблюсь; и, если стена не поддержит меня, плашмя упаду на землю”. Меня стена не поддержала. Мне кажется, что со мною тоже случится нечто подобное этому “падению плашмя”… Нет, я больше такого не вынесу! Что же удерживает меня здесь? Шнуди, карликового бульдога, уже нет в живых. Старик с колючей бородой, с узлом на плечах… вылитый Агасфер… вошел во двор, выкрикивая: “Товарец!” Приход чужака, казалось, взбесил пса, он ринулся вперед. Торговец раз-другой выкрикивает: “Пшел!” Пес будто не слышит, хватает непрошеного гостя за икры. Тот демонически плюет ему между глаз; бульдог, как сумасшедший, начинает крутиться на месте, стараясь коротким языком удалить с носа инородное тело. Это ему удается, уличный торговец уходит, но пес продолжает крутиться, его глаза ничего не видят, они ослепли от неистовой гонки. Шнуди… Шнуди с розовым бантом все крутился, крутился… пока не пришлось его застрелить… Нынче у меня никого больше не осталось. Я приглядываюсь к одной лошади, запряженной в телегу: может, она могла бы со мной говорить…
Бьюсь об заклад: она лишь не хочет быть замеченной в разговоре со мною. Думаю, что с другими, приложив некоторые усилия, она бы сумела поговорить…
Что же удерживает меня от того, чтобы разом покончить со всем, обрести вечный покой в каком-нибудь озере, сиречь чернильнице, или решить вопрос, какому сошедшему с ума богу или демону принадлежит та чернильница, в которой мы все живем и умираем, и кому, в свою очередь, принадлежит этот сумасшедший бог? Красться тайком к Марише, да кто бы она ни была, в любом случае – к какой-то девке, грязнухе или прелюбодейке, вдобавок остерегаться всякой всячины… кучи навоза справа и фекальной жижи слева… чтобы затем, вернувшись домой, воспевать горестную любовь Джахангира Мирзы и красавицы Маасумех Султан-Бегум… Да вправду ли это такое уж удовольствие – производить амброзию, когда сам ты глотаешь дерьмо? И даже если ты настоящий поэт, все равно ты не более чем прирожденный имитатор звериных голосов. Да будь ты хоть мастером слова, находящим слова полнозвучные, словно рев быка: нищим останешься ты и будешь как подражатель выпускать из себя голос князя, правящего конем, или мотылька, взлетающего из черной куколки вверх, к свету, – а то и голос какого-нибудь другого поэта; все голоса, о имитатор звериных голосов, ты будешь выпускать из себя для того только, чтобы они заглушили собственную твою пустоту, отсутствие собственного голоса… Чего же я медлю? Сгинуть! Пока я еще не уподобился скрученному подагрой сапожнику… К чему давиться этой тошниловкой – изнурительным противоречием между ничтожной судьбой и чудовищно не соответствующими ей чувствами и амбициями?
Жизнь. Какое великое слово! Я представляю себе жизнь официанткой, которая спрашивает, какой приправы я желаю к колбаскам – горчицы, хрена или огурцов… Официантку зовут Текла… Наши возможности ограничены, зато всегда находятся громкие слова… Несоответствие – удел многих. Однажды меня пригласили на синхронный сеанс известного шахматиста. Зал для выступления оказался затхлым и душным, полным табачного дыма. Внезапно раздался крик: “Приближается мастер!” И кто же, вы думаете, вошел? Лопоухий, туповатый на вид человек в поношенном костюме. Куцый синий сюртучишка выглядел, однако, не более поношенным, чем его лицо. Ха-ха! “Приближается мастер”… Что же тогда нам остается? Немногое. Когда-то у меня был один знакомый, имевший, со своей стороны, одного коллегу, с которым в свое время учился в гимназии. Потом этого коллегу моего бывшего знакомого из школы забрали – поскольку он не очень старался стать олухом, как другие, и тем снискать расположение учителей – и определили в ученики… Вы думаете, к мяснику или сапожнику? Нет, как ни странно, – в винный магазин. Спустя несколько недель человек этот встретил на набережной моего знакомого – знакомого звали Вальдемар Тибитанцель, он писал непубликуемые стихи – и похвастался, что даже после столь короткого ученичества уже умеет за несколько минут изготовить поддельное бордо якобы столетней выдержки. Достойно сожаления, что подающий надежды юноша со сновидческой быстротой соскользнул и с этой жизненной колеи. При его гениальных способностях он мог бы вскоре угостить нас вином из подвалов Вечности, не говоря уж о Кембрийском периоде. Однако он поступил иначе. Этот способный к превращениям человек внезапно вынырнул в качестве Архангела на подмостках Бургтеатра. Мой знакомый вскоре после описанной встречи снова увидел его на Грабене. Борода Вальдемара Тибитанцеля, если применить к ней художественные критерии, в то время представляла собой нечто среднее между бородою Христа и пушком на девичьем подбородке, а обычный внимательный наблюдатель, выражая близкую к истине догадку, сказал бы, что он попросту небрит. С пряжек башмаков облупился черный лак, обнажив желтую латунь, то есть даже в самых незначительных мелочах проявлялось безнадежное состояние финансов Тибитанцеля и его, если можно так выразиться, австрийства. Архангел, мнимо углубленный в свое же гладковыбритое лицо, сделал вид, будто не заметил Непубликуемого, который потом несколько дней горько мне на это жаловался. Но не прошло и недели, как Вальдемар Тибитанцель умер прямо посреди трагедии в пяти актах. И если завтра я привлеку к ответу незнакомого мне человека, фальсификатора вин и лицедея, за дела, которые давно поросли быльем, то сделаю это из солидарности; короче, речь здесь идет о принципиальных вещах… а не просто о каких-то там прихотях… Потому что и сам я, о Боже, еще когда был королем и множество людей дожидались моего приветствия, приветствовал их – со стороны своей персоны – неравномерно. Я приветствовал один раз в двойном объеме, то есть с глубоким поклоном, другой раз, скованный своего рода параличом воли, не приветствовал вовсе; и если подданные не довольствовались тем, чтобы, сложив двойную порцию с нулевой, потом разделить полученную сумму надвое, а начинали брюзжать по поводу моего неучтивого поведения, то меня чертовски мало заботило, что обо мне думают эти мухи. Так вот, если завтра я пошлю наверх к Архангелу секундантов – товарищей моих по судьбе и братьев по выбору, старого сапожника и шляпника, других и искать не надо, – то это будет совершенно иной случай. Я хочу умереть – и, воспользовавшись такой возможностью, закрутить другого человека, которого я познал в его ничтожестве… Как закручивают кран с ядовитым газом, как Агасфер закрутил карликового бульдога Шнуди… Если же я после поединка останусь в живых, на что у меня мало надежды, то мой денщик Филипп и известная чернильница когда-нибудь – по завещанию – все равно перейдут к тем, кто захочет их получить; среди множества претендентов на наследство, при прочих равных условиях, преимущество будут иметь надушенные постовые. Но прежде чем я поверну пусковую ручку автомобиля и вылечу из поворота, чтобы разбиться о придорожный столб, прежде чем я отправлюсь в ту последнюю дорогу… Прежде чем жалюзи окончательно упадут, лишив меня вида на Линцерштрассе, я хочу набраться храбрости и пролаять ответ трусливо бегающему по платформе фургона пинчеру, хочу посидеть с шестью ребятишками возле дорожного рабочего, хочу спросить сапожника Энгельберта Кокошнигга, почему он завел себе вывеску “У двух львов”, а зеленщицу – не вдова ли она, и, если нет, то почему терпит клюющего горох воробья, чьей беззаботной жизни я завидую; я также попытаюсь увидеть ресторатора Доминика, понаблюдать за самим собой в обличье галки с перебитым крылом на Вайбурггассе и, если окажусь в соответствующем настроении, собственноушно решить проблему: правда ли, что в одном специфическом случае лирически настроенные венские барышни восклицают “Тири-ли-ли!” Больших радостей жизнь мне все равно не подарит… Вы думаете, я весельчак? Конечно! Душераздирающий весельчак! Все это не что иное, как юмор висельника. И страх. Ведь если жизнь кажется мне состоящей именно из таких пустяков, какими занимаюсь я сам, то что, если и смерть захочет надо мной подшутить, сыграв соответствующую роль? И – разочарует меня? Смерть – которая прежде была деревенским косарем, грубой, но именно потому респектабельной личностью, чья правомочность подтверждена бессчетными картинами достопримечательных живописцев, – в моем воображении принимает все более комические обличья. Я вижу ее отнюдь не как черного рыцаря: она приближается как тот шахматный гроссмейстер или выбегает на арену как клоун, высовывает язык, который вытягивается до бесконечности и своим кончиком пронзает меня… Я вижу ее кондуктором, который компостирует мой билет, признает его негодным и, не желая ждать до следующей остановки, принуждает меня выпрыгнуть из трамвая на ходу… ругаясь не без чешского акцента… Я узнавал смерть и в жестоких мальчишках, гвоздями прибивающих к воротам летучих мышей, и в разбивающих уличные фонари студентах, и в министрах, которые распускают рейхстаг, а недавно – даже в машинисте подземки. “Вагоновожатому запрещено разговаривать с пассажирами”. Поразительное совпадение…
Думаю, я бы не вынес, если б еще и смерть накормила меня разочарованием…
Глубокая апатия и равнодушие овладели мною, моя душа более не способна к высоким взлетам, уже давно я уклоняюсь от чтения Гёте, ибо в глубине души чувствую, что не достоин его. И что же теперь – сияющая смерть от меня ускользнет, Друг Хайн[40], сморщившись, превратится в карикатуру на самого себя? Справедливо ли это? Как бы там ни было, мне не остается ничего иного: я уйду отсюда и землю – этот апартамент с отдельным выходом! – покину, покину… Что тут такого особенного? Жалюзи падают… с улицы больше ничего не видно… Как я радуюсь предстоящему! Стоит ли испытывать страх? Возьму разбег и перепрыгну. Или все же остаться? У всех вокруг дела идут неплохо. В витринах бакалейщиков выставлены далматинские вина. Этого прежде не было. Но я по-прежнему совершенно ничем не владею: ничем, что могло бы меня глубоко порадовать. Ничем, кроме уже упомянутого, я не владею – мое имя Тубуч, Карл Тубуч…
1911
Вальтер Райнер
Вальтер Райнер [Walter Rheiner] (1893–1923), настоящее имя Вальтер Хайнрих Шнорренберг. Изучал торговое дело в университетах Кёльна и Люттиха. Периодически жил в Париже и Лондоне. В 1914 году пристрастился к наркотикам, пытаясь симулировать наркозависимость и избежать призыва. Воевал на русском фронте. После войны жил преимущественно в Берлине и Дрездене, где стал членом Экспрессионистского рабочего союза. В Дрездене, между 1918 и 1921 годами, он публикует семь книг: новеллу “Кокаин” [“Kokain”, 1918], поэтические сборники “Звучащее сердце” [“Das tonendeHerz”, 1918], “Остров блаженных” [“Insel der Seligen”, 1918] и др., сборник стихотворений, эссе и прозаических фрагментов “Пестрый день” [“Der bunte Tag”, 1919]. В последние годы не мог писать из-за зависимости от наркотиков. Покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Его друг, художник-экспрессионист Конрад Феликсмюллер (1893–1933), прежде проиллюстрировавший книжное издание “Кокаина”, написал картину “Смерть поэта Вальтера Райнера” (1923), фрагмент которой вы видите на этой странице.