Читать онлайн Русский язык на грани нервного срыва бесплатно
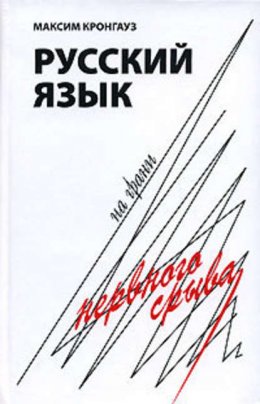
Заметки просвещенного обывателя
…ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих.
И. Б. Зингер
Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей.
А. Н. Островский
Надоело быть лингвистом
Я никак не мог понять, почему эта книга дается мне с таким трудом. Казалось, более десяти лет я регулярно пишу о современном состоянии русского языка, выступая, как бы это помягче сказать, с позиции просвещенного лингвиста.[1]
В этот же раз откровенно ничего не получалось, пока, наконец, я не понял, что просто не хочу писать, потому что не хочу снова вставать в позицию просвещенного лингвиста и объяснять, что русскому языку особые беды не грозят. Не потому, что эта позиция неправильная. Она правильная, но она не учитывает меня же самого как конкретного человека, для которого русский язык родной. А у этого конкретного человека имеются свои вкусы и свои предпочтения, а также, безусловно, свои болевые точки. Отношение к родному языку не может быть только профессиональным, просто потому, что язык это часть нас всех, и то, что происходит в нем и с ним, задевает нас лично, меня, по крайней мере.[2]
Чтобы наглядно объяснить разницу между позициями лингвиста и обычного носителя языка, достаточно привести один небольшой пример. Как лингвист я с большим интересом отношусь к русскому мату, считаю его интересным культурным явлением, которое нужно изучать и описывать. Кроме того, я уверен, что искоренить русский мат невозможно ни мягкими просветительскими мерами (то есть внедрением культуры в массы), ни жесткими законодательными. А вот как человек я почему-то очень не люблю, когда рядом ругаются матом. Я готов даже признать, что реакция эта, возможно, не самая типичная, но уж как есть. Таким образом, как просвещенный лингвист я мат не то чтобы поддерживаю, но отношусь к нему с интересом, пусть исследовательским, и с определенным почтением как к яркому языковому и культурному явлению, а вот как, чего уж там говорить, обыватель мат не люблю и, грубо говоря, не уважаю. Вот такая получается диалектика.
Следует сразу сказать, что, называя себя обывателем, я не имею в виду ничего дурного. Я называю себя так просто потому, что защищаю свои личные взгляды, вкусы, привычки и интересы. При этом у меня, безусловно, есть два положительных свойства, которыми, к сожалению, не всякий обыватель обладает. Во-первых, я не агрессивен (я – не воинствующий обыватель), что в данном конкретном случае означает следующее: я не стремлюсь запретить все, что мне не нравится, я просто хочу иметь возможность выражать свое отношение, в том числе и отрицательное, не имея в виду никаких дальнейших репрессий или даже просто законов. Во-вторых, я – образованный обыватель, или, если еще снизить пафос, грамотный, то есть владею литературным языком, его нормами и уважаю их. А если, наоборот, пафосу добавить, то получится, что я своего рода просвещенный обыватель.
Вообще, как любой обыватель, я больше всего ценю спокойствие и постоянство. А резких и быстрых изменений, наоборот, боюсь и не люблю. Но так уж выпало мне – жить в эпоху больших изменений. Прежде всего, конечно, меняется окружающий мир, но брюзжать по этому поводу как-то неприлично (тем более что есть и приятные изменения), а кроме того, все-таки темой книги является язык. Может ли язык оставаться неизменным, когда вокруг меняется все: общество, психология, техника, политика?
Мы тоже эскимосы
Как-то, роясь в интернете, на lenta.ru я нашел статью об эскимосах, часть которой я процитирую:[3]
«Глобальное потепление сделало жизнь эскимосов такой богатой, что у них не хватает слов в языке, чтобы давать названия животным, переселяющимся в полярные области земного шара. В местном языке просто нет аналогов для обозначения разновидностей, которые характерны для более южных климатических поясов.
Однако вместе с потеплением флора и фауна таежной зоны смещается к северу, тайга начинает теснить тундру и эскимосам приходится теперь ломать голову, как называть лосей, малиновок, шмелей, лосося, домовых сычей и прочую живность, осваивающую заполярные области.
Как заявила в интервью агентству Reuters председатель Эскимосской Полярной конференции Шейла УоттКлутье (Sheila WattCloutier), чья организация представляет интересы около 155 тысяч человек, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Местные охотники часто встречают незнакомых животных, но затрудняются рассказать, так как не знают их названия.
В арктической части Европы вместе с распространением березовых лесов появились олени, лоси и даже домовые сычи. «Я знаю приблизительно 1200 слов для обозначения северного оленя, которых мы различаем по возрасту, полу, окрасу, форме и размеру рогов, – цитирует Reuters скотовода саами из северной Норвегии. – Однако лося у нас называют одним словом „елг“, но я всегда думал, что это мифическое существо».[4]
Эта заметка в общем-то не нуждается ни в каком комментарии, настолько все очевидно. Все мы немного эскимосы, а может быть, даже и много. Мир вокруг нас (неважно, эскимосов или русских) изменяется. Язык, который существует в меняющемся мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию. Мы не сможем говорить на нем об этом мире просто потому, что у нас не хватит слов. И не так уж важно, идет ли речь о домовых сычах, новых технологиях или новых политических и экономических реалиях.
Итак, объективно все правильно, язык должен меняться, и он меняется. Более того, запаздывание изменений приносит обывателям значительное неудобство, так, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Но и очень быстрые изменения могут мешать и раздражать. Что же конкретно мешает мне и раздражает меня?
Случаи из жизни
Проще всего начать с реальных случаев, а потом уж, если получится, обобщить их и поднять на принципиальную высоту. Конечно, все эти ситуации вызывают у меня разные чувства – раздражение, смущение, недоумение. Я просто хочу привести примеры, вызвавшие у меня разной степени языковой шок, потому и запомнившиеся.
Случай первый
На одном из семинаров мы беседуем со студентами, и один вполне воспитанный юноша в ответ на какой-то вопрос произносит: «Ну, это же, как ее, блин, интродукция». Он, конечно, не имеет при этом в виду обидеть окружающих и вообще не имеет в виду ничего дурного, но я вздрагиваю. Просто я не люблю слово блин. Естественно, только в его новом употреблении как междометие, когда оно используется в качестве замены сходного по звучанию матерного слова. Точно так же я вздрогнул, когда его произнес актер Евгений Миронов при вручении ему какой-то премии (кажется, за роль князя Мышкина). Объяснить свою неприязненную реакцию я, вообще говоря, не могу. Точнее, могу только сказать, что считаю это слово вульгарным (замечу, более вульгарным, чем соответствующее матерное слово), но подтвердить свое мнение мне нечем, в словарях его нет, грамматики его никак не комментируют. Но когда это слово публично произносят воспитанные и интеллигентные люди, от неожиданности я все еще вздрагиваю.
Случай второй
Тут я не одинок, тут я вместе со своей страной периодически вздрагиваю от слов наших политиков.
Вообще-то мы не очень запоминаем то, что говорят политики, наши президенты в частности. Если порыться в памяти, то в ней хранятся сплошные анекдоты. От Горбачева, например, остались глагол начать с ударением на первом слоге, слово консенсус, исчезнувшее вскоре после завершения его президентства, и странное выражение процесс пошел. От Ельцина остались загогулина и неправильно сидим, связанные с конкретными ситуациями, да словцо понимаешь. А главной фразой Путина, повидимому, навсегда останется – мочить в сортире. Рекомендация сделать обрезание, данная на пресс-конференции западному журналисту, все-таки оказалась менее выразительной, хотя тоже запомнилась. Как и в случае с Ельциным, запомнились фразы в каком-то смысле неадекватные, не соответствующие даже не самой ситуации, а статусу участников коммуникации, прежде всего самого президента. Если говорить проще, президент страны не должен произносить таких фраз. В отличие от «бушизмов», которые так любят американцы, то есть нелепостей, произнесенных Бушем, Путин произносит более чем осмысленные фразы и даже соответствующий стиль выбирает, по-видимому, вполне сознательно. Впрочем, примеры с Путиным, конечно же, не уникальны. Они в значительной степени напоминают хрущевскую Кузькину мать, не только саму фразу, но и всю ситуацию, естественно.
Случай третий
После долгого отсутствия в России я бреду с дочерью по Даниловскому рынку в поисках мяса и натыкаюсь на броскую вывеску-плакат, этакую растяжку над прилавком: «Эксклюзивная баранина».
– Совсем с ума посходили, – громко и непедагогично говорю я.
– А что тебе, собственно, не нравится, папа? – удивляется моя взрослая дочь.
– Да нет, нет, – успокаиваю я то ли ее, то ли себя. – Так, померещилось.
Естественно, что позднее, увидев в объявлении о продаже машины фразу: «Машина находится в эксклюзивном виде», я уже не высказал никаких особенных эмоций. Сказался полученный языковой опыт.
Похожую эволюцию прошло и слово элитный. От элитных сортов пшеницы и элитных щенков мы пришли к следующему объявлению (из электронной рассылки): «Элитные семинары по умеренным ценам».
Если говорить совсем просто, то мне не нравится, что некоторые вполне известные мне слова так быстро меняют значения.
Случай четвертый
Не люблю, когда я не понимаю отдельных слов в тексте или в чьей-то речи. Даже если я понимаю, что это слово из английского языка и могу вспомнить, что оно там значит, меня это раздражает. Позавчера я споткнулся на стритрейсерах, вчера – на трендсеттерах, сегодня – на дауншифтерах, и я точно знаю, что завтра будет только хуже.
К заимствованиям быстро привыкаешь, и уже сейчас трудно представить себе русский язык без слова компьютер или даже без слова пиар (хотя многие его и недолюбливают). Я, например, давно привык к слову менеджер, но вот никак не могу разобраться во всех этих сейлзменеджерах, акаунтменеджерах и им подобных. Я понимаю, что без «специалиста по недвижимости» или «специалиста по порождению идей» не обойтись, но ужасно раздражает, что одновременно существуют риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер, а также криэйтор, криейтор и креатор. А лингвисты при этом либо просто не успевают советовать, либо дают взаимоисключающие рекомендации.
Когда-то я с легкой иронией относился к эмигрантам, приезжающим в Россию и не понимающим некоторых важных слов, того же пиара скажем. И вот теперь я сам, даже никуда не уезжая, обнаружил, что некоторые слова я не то чтобы совсем не понимаю, но понимаю их только потому, что знаю иностранные языки, прежде всего английский.
Мне, например, стало трудно читать спортивные газеты (почему-то спортивные журналисты особенно не любят переводить с английского на русский, а предпочитают сразу заимствовать). В репортажах о боксе появились загадочные панчеры и крузеры, в репортажах о футболе – дерби, легионеры, монегаски и манкунианцы.[5] Да что говорить, я перестал понимать, о каких видах спорта идет речь. Я не знал, что такое кёрлинг, кайтинг или банджиджампинг (теперь знаю). Окончательно добил меня хоккейный репортаж, в котором было сказано о канадском хоккеисте, забившем гол и сделавшем две ассистенции. Поняв, что речь идет о голевых пасах (или передачах), я, вопервых, поразился возможностям языка, а вовторых, разозлился на журналиста, которому то ли лень было перевести слово, то ли, как говорится, «западло». Потом я, правда, сообразил, что был не вполне прав не только по отношению к эмигрантам, но и к спортивному журналисту. Ведь глагол ассистировать (в значении «делать голевой пас»), да и слово ассистент в соответствующем значении, уже стали частью русской спортивной терминологии. Так чем хуже ассистенция? Но правды ради должен сказать, что более я этого слова не встречал.
Случай пятый
Во время сессии ко мне пришли две студентки, не получившие зачет, и сказали: «Мы же реально готовились». Тогда не поставлю, – ответил я, поддавшись эмоциям. Я люблю своих студентов, но некоторые их слова меня реально раздражают. Вот краткий список: блин (см. выше), в шоке, вау, по жизни, ну, и само реально, естественно. Дорогие студенты, будьте внимательны, не употребляйте их в сессию.
Я в принципе не против…
Пожалуй, этих примеров более чем достаточно (на самом деле таких ситуаций было намного больше). Думаю, что почти у каждого, кто обращает внимание на свой язык, найдутся претензии к сегодняшнему его состоянию, может быть, похожие, может быть, какие-то другие (вкусы ведь у нас у всех разные, в том числе и языковые).
Итак, как же все-таки сформулировать эту самую мою обывательскую позицию и суть моих претензий?
Я, в принципе, не против сленга (и других жаргонов). Я просто хочу понимать, где граница между ним и литературным языком. Ну, я-то, скажем, это понимаю, потому что раньше, когда я еще только овладевал языком, сленг и литературный язык «жили» в разных местах. А вот, как говорится, «нонешнее» поколение, то есть люди до двадцати пяти, не всегда могут их различить и, например, не понимают языковой игры, основанной на смешении стилей, которая так характерна для русской литературы.
Я, в принципе, не против брани. То есть если мне сейчас дать в руки волшебную палочку и сказать, что одним взмахом я могу ликвидировать брань в русском языке или, по крайней мере, русский мат, я этого не сделаю. Просто испугаюсь. Ведь ни один язык не обходится без так называемой обсценной лексики, значит, это кому-то нужно. Другое дело, что чем грубее и оскорбительнее брань, тем жестче ограничения на ее употребление. То, что можно (скорее, нужно) в армии, нельзя при детях, что можно в мужской компании, нельзя при дамах, ну и так далее. Поэтому, например, мат с экрана телевизора свидетельствует не о свободе, а о недостатке культуры или просто о невоспитанности.
Я, в принципе, не против заимствований, я только хочу, чтобы русский язык успевал их осваивать, я хочу знать, где в них ставить ударение и как их правильно писать.
Я, в принципе, не против языковой свободы, она способствует творчеству и делает речь более выразительной. Мне не нравится языковой хаос (который вообще-то является ее обратной стороной), когда уже не понимаешь, игра это или безграмотность, выразительность или грубость.
Кроме сказанного, у меня есть одно важное желание и одно, так сказать, нежелание.
Главное мое желание состоит в том, что я хочу понимать тексты на русском языке, то есть знать слова, которые в них используются, и понимать значения этих слов. Грубо говоря, я не хочу проснуться как-то утром и узнать, что, ну, для примера, слово стул модно теперь употреблять в совсем другом смысле. Увы, но пока я часто при чтении сегодняшних текстов использую стратегию неполного понимания, то есть стараюсь уловить главное, заранее смиряясь с тем, что что-то останется непонятным. Что же касается «нежелания», то о нем чуть дальше.
Проклятые вопросы
Ну вот, высказался, и вроде полегче стало. Другое дело, что читатель, дочитав до этого места, может спросить, кто во всем этом безобразии виноват и что именно я предлагаю. Здесь, если быть последовательным, можно ответить, что как обыватель я ведь ничего конструктивного предлагать и не должен. Не мое это дело.
Но можно поступить иначе и выпустить на свободу временно подавленного во мне лингвиста. И пусть поговорит о сегодняшнем русском языке, причем не в жанре «давайте говорить правильно» (как чаще всего бывает на радио и телевидении) или, по крайней мере, не только в нем, а, скорее, в жанре наблюдений над тем, как мы говорим на самом деле, что, как ни удивительно, интересно очень и очень многим.
В России, в любой ситуации, сразу задавая главные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», часто забывают поинтересоваться: «А что, собственно, случилось?» А случилась как раз гигантская перестройка (слово горбачевской эпохи сюда, безусловно, подходит) языка под влиянием сложнейших социальных, технологических и даже природных изменений. И выживает тот, кто успевает приспособиться. Русский язык успел, хотя для этого ему пришлось сильно измениться. Как и всем нам. К сожалению, он уже никогда не будет таким, как прежде. Но, как сказал И. Б. Зингер: «…ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих». И дай-то Бог, чтобы из наших ошибок вышла какая-нибудь грамматика. И мне, раздраженному обывателю, надо будет с этим смириться, а может, даже этим и гордиться.
В любом случае у живших в эпоху больших перемен есть одно очевидное преимущество. Им есть что вспомнить.
Ключевые слова эпохи
Появление новых слов или новых значений у старых слов означает, что мир вокруг нас изменился. В нем либо появилось что-то новое, либо что-то существующее стало важным настолько, что язык (а в действительности мы сами) создает для него имя. В последнее время в русском языке появилось столько новых слов, что лингвисты не успевают следить за ними и издавать словари, а обычные люди часто просто не понимают, о чем идет речь.
Слова появляются по отдельности, группами, а иногда очень большими группами. Последнее самое интересное, поскольку речь в этом случае идет о значительном изменении среды, о некоей волне изменений, накрывающей наше общество. Можно отметить по крайней мере несколько таких больших волн новых слов и значений, возникших на рубеже веков, а возможно, продолжающихся и дальше.
После перестройки мы пережили минимум три словесных волны: бандитскую, профессиональную и гламурную, а в действительности прожили три важнейших одноименных периода, три, если хотите, моды, разглядеть которые позволяет наш родной язык. Про эти периоды можно философствовать бесконечно, можно снимать фильмы или писать романы, а можно просто произнести те самые слова, и за ними встанет целая эпоха. Это тоже философия, но философия языка. Глупо говорить о его засоренности, глупо вообще пенять на язык, коли жизнь у нас такая. И надо быть терпимее и помнить, что слова суть отражения.
Курс молодого словца
Самое заметное из изменений, происходящих в языке, – это появление новых слов и – чуть менее яркое – появление новых значений. Новое слово попробуй не заметить! Об него, как я уже говорил, сразу спотыкается взгляд, оно просто мешает понимать текст и требует объяснений, и вместе с тем в новых словах часто скрыта какая-то особая привлекательность, обаяние чего-то тайного, чужого. А вот откуда в языке появляются новые слова и новые значения?
Как-то принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. Ну, например, в области компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Слова компьютер, монитор, принтер, процессор, сайт, блог и многие другие заимствованы из английского. Однако это – заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не совсем так или, по крайней мере, не всегда так. Это можно показать на примере своего рода IT-зверинца.[6] Названия трех животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели новые «компьютерные» значения, причем совершенно разными путями.
Ну, с мышью все понятно, это значение всем хорошо известно и уже отмечено в словарях («специальное устройство, позволяющее управлять курсором и вводить разного рода команды»). В русском языке это так называемая калька с английского, то есть новое значение появилось у соответствующего названия животного именно в английском языке, а русский просто добавил его к значениям мыши. Компьютерная мышь вначале была действительно похожа на обычную и по форме, и по хвостику-проводу, и по тому, как бегала по коврику. Сейчас компьютерные мыши довольно сильно удалились от прототипа, но значение уже прочно закрепилось в языке.
А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, придумал сам русский язык (точнее, неизвестный автор, или, как в таких случаях говорят, народ). Опять же подобрал нечто похожее, изобрел новую метафору, хотя, надо сказать, сходство с собачкой весьма сомнительно. Я сначала не мог ответить на вопрос, который часто задают иностранцы, – почему именно собака, а потом придумал будку с собакой на длинной цепи, и это почему-то помогает, создает некий образ. Иностранцы поначалу недоумевают, но потом обреченно принимают странную русскую метафору. Вообще, многие языки называют этот значок именем животного: итальянский видит здесь улитку, немецкий – обезьянку, финский – кошку, китайский – мышку, в других языках мелькают хоботы и свинячьи хвосты. А собачку заметили только мы, такой вот особый русский взгляд.
Совершенно другим, но тоже особым путем пошли французы (правда, вместе с испанцами и португальцами), который удивительным образом демонстрирует возможности сегодняшнего государственного регулирования языка. Приведу фрагмент информационной заметки в интернете по этому поводу:
«Генеральный комитет Франции по терминологии официально одобрил несколько неологизмов, связанных с интернетом, и официально включил их в состав французского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова введены вместо англоязычных заимствований и призваны сохранить чистоту французского языка. Теперь использование новых слов на французских сайтах и в прессе является предпочтительным по отношению к английским терминам или их переводам».
Наиболее интересным является новое французское название для символа @ – обязательного элемента любого адреса электронной почты. По-английски этот символ обычно читается как «at», а порусски его называют «собакой». Французы же отныне обязаны читать этот символ как arobase. Это название происходит от старинной испанской и португальской меры arrobe, которая в свое время обозначалась именно обведенной в круг буквой «a». Ее название в свою очередь происходит от арабского «арруб», что означает «четверть».
И далее:
«Интересно, что пять лет назад Генеральному комитету по терминологии не удалось добиться замены англоязычного термина email на французское слово mel».
Как показывает последнее замечание, у государственного регулирования (даже французского) есть определенные границы, но даже и то, что произошло с символом электронной почты, впечатляет. Представить себе, что, скажем, Академия наук РФ постановила называть этот значок так-то и так-то, а русский народ это покорно выполнил, довольно трудно.
Наконец, третье слово – хомяк – предлагает третий способ появления значения, правда, не в литературном языке, а, скорее, в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы заимствование иноязычного выражения (home page), а его звуковой облик, отчасти искажаясь, сближается с уже существующим русским словом. То есть берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка очевидно. Важно, что никакой связи со значением слова хомяк не существует, а есть только связь по звучанию. Фактически речь идет об особой языковой игре, похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно увлекательной, и в результате постоянно возникают все новые и новые жаргонизмы. Самые известные среди них связаны с электронной почтой: мыло (собственно электронная почта, или соответствующий адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посылать электронную почту). Появление этих слов вызвано исключительно фонетическим сходством с английским email. Особенно часто происходит, как и в случае с Емелей, сближение с личными именами: аська (англ. ICQ) или клава (от клавиатура).
Такая игра случается и за пределами компьютерной области. В речи продавцов одежды, а затем и покупателей какое-то время назад стали встречаться слова элечка (вариант – элочка) и эмочка, на звуковом уровне совпадающие с ласкательными именами собственными. Это разговорные обозначения размеров одежды «L» и «M». По-видимому, существует, хотя и встречается значительно реже, слово эсочка (для «S»). С большой вероятностью именно совпадение с существующими именами собственными способствовало появлению таких уменьшительных слов. Сравнительно недавно появилось, хотя и не стало очень употребительным, слово юрики, обозначающее новую европейскую валюту – евро – и восходящее к английскому произношению.
Распространена эта фонетическая игра и среди любителей машин. Так образуются разговорные названия как автомобильных марок, так и отдельных моделей. Мерседес уже давно называют мерином, здесь, правда, суть дела не исчерпывается только фонетическим сходством, но об этом чуть позже. На форумах автомобилистов в интернете мне встречалось слово поджарый, которое я не сразу сопоставил с моделью Pajero Mitsubishi.
Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а нормальный рабочий механизм, характерный для русского языка, точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень ярких черты русского языка, и хотя бы поэтому не стоит относиться к этим словам с пренебрежением («фу, какие нелепые словечки!»).
Во-первых, это прекрасное подтверждение творческого характера русского языка в целом, а не только отдельных его представителей – писателей, журналистов и деятелей интернета. Эта «креативность», по существу, встроена в русскую грамматику, то есть доступна всем. Как говорится, пользуйся не хочу. Справедливости ради скажем, что некоторые пуристы этим никогда не пользуются.
Вовторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского языка от потока заимствований сильно преувеличена. У него есть очень мощные защитные ресурсы. И состоят они не в отторжении заимствований, а в их скорейшем освоении. Если посмотреть на последние примеры, можно сказать даже об особом «одомашнивании» отдельных приглянувшихся иностранных слов.
Впрочем, не надо думать, что такой способ образования новых слов появился совсем недавно и что он используется только при заимствовании. Так, например, москвичи уже давно «одомашнивают» и «одушевляют» бездушные названия маршрутов общественного транспорта: отсюда знаменитая аннушка – трамвай маршрута «А» – и менее известная букашка – название троллейбуса «Б».
Разговор по понятиям
В последнее время почти любая беседа о русском языке сводится к его порче. Спор об этом ведется, как правило, скорее на эмоциональном уровне, но все же существует несколько постоянных аргументов. И в качестве одного из главных приводится появление в языке большого числа «бандитских» слов. Для солидности даже говорят о «криминализации» языка. Борцы за чистоту речи требуют чистки лексикона, запрета жаргонов, в первую очередь, конечно, бандитского, и прочих карательных мер. Очевидно, что с самим фактом частого употребления в речи таких новых (и старых в новых значениях) слов, как беспредел, отморозок, наезд, крыша, стрелка, кинуть и т. д., не поспоришь. Но вот говорить о порче языка, мне кажется, не стоит. Впрочем, без анекдотов тут не разобраться.
Удивительно (или неудивительно), но язык новых русских сразу привлек к себе внимание общества, что выразилось в большом количестве анекдотов о нем. Причем многие анекдоты имитировали тексты из грамматик и учебников, так сказать, «новорусского» языка. Вот несколько анекдотов просто для примера.[7]
Анекдот 1. Бригадир учит новичков: «Распальцовка бывает вертикальная, горизонтальная, фронтальная и чисто беспорядочная…»
Анекдот 2. Параграф из нового учебника русского языка.
Для образования существительного от глагола с ударными окончаниями – ать, – ить, – ять и – еть необходимо к глаголу в прошедшем времени единственного числа добавить окончание – ово: вязать – вязалово, кидать – кидалово, бубнить – бубнилово, ходить – ходилово, гулять – гулялово, стрелять – стрелялово, сидеть – сиделово, смотреть – смотрелово.
Исключение.
Следует запомнить глагол, от которого существительное образуется чисто в виде исключения: гнать – гониво.
Анекдот 3. Правило из учебника по новому русскому языку для пятого класса: «Слово чисто является вводным и выделяется запятыми в тех случаях, когда его можно заменить на словосочетание в натуре».
Не знаю, насколько это смешно, но с лингвистической точки зрения довольно наблюдательно. Правда, это можно было бы отнести к жанру «записок натуралиста», все-таки культурные люди так не говорят. Да нет, если подумать, то иногда и говорят.
Есть две вещи, о которых важно сказать. Первая и, на мой взгляд, очевидная: язык нужен нам, чтобы говорить об окружающей нас действительности. Конечно, и о вечном тоже, и еще стихи сочинять, и копить информацию, но все-таки… Прежде всего мы хотим говорить о том, что происходит с нами здесь и сейчас. И когда окружающая действительность (это самое «здесь и сейчас») резко меняется, нам порой не хватает слов для разговора о ней. Хорош тот язык, которому удается быстро компенсировать этот недостаток. Русскому языку разными способами, но все же удалось. Было бы лицемерием говорить о том, что бандитский период нашей жизни – 90-е годы, которым посвящены известные романы и киносаги, – не существовал. Некоторые считают, что он до сих пор не закончился, но, по крайней мере, самые яркие внешние приметы: типажи, распальцовка, красные пиджаки и подобное – ушли в прошлое. А вот слова остались. Почему? И это второе, о чем стоит сказать.
Попытаемся посмотреть на эти слова без предвзятости. Они чрезвычайно любопытны и интересны с точки зрения лингвиста. Среди них почти нет заимствований. В голову сразу приходят, пожалуй, только киллер и рэкет вместе с рэкетиром. И это несмотря на то, что «новый русский» бандитский мир очевидным образом формировался под влиянием американской гангстерской мифологии.[8] Уже давно отнесенные к классике фильмы «Крестный отец» или «Однажды в Америке» стали образцами, без которых не возникли бы русские «Бригада» или «Бумер». Среди этой лексики довольно мало слов, пришедших из классической блатной фени (таких, например, как лох или кинуть). Надо, впрочем, честно признать, что происхождение многих слов достоверно проследить не удается, хотя почти каждому из них сопутствует своя лингвистическая легенда.
В целом это достаточно новый и живой, то есть обновляющийся, употребительный и довольно привлекательный, жаргон. Новые значения появляются, в частности, благодаря ярким метафорам: та же крыша хотя бы. Для крыши главной оказывается идея защиты, обычная крыша защищает дом, а «крыша современная» защищает бизнесмена и его дело. Не менее интересно выражение фильтруй базар, где столкнулись, казалось бы, несовместимые старый и современный языковые пласты: базарить и фильтровать. Новые же слова возникают благодаря мощному и продуктивному словообразованию. Ведь в самих моделях, по которым образованы слова беспредел, отморозок (здесь задействована еще и метафора – переход от замороженного состояния к отмороженному, то есть ничем не скованному), наезд и распальцовка, нет ничего дурного. Кстати, слово наезд существовало и в древнерусском языке, а сама приставочная модель, с помощью которой возникает новое слово, прекрасно сохранилась в слове набег. Конечно, это не древнерусское слово сохранилось, пройдя через века, а просто язык по существующей модели создал это слово заново примерно с тем же смыслом, но применительно к новой действительности. Если раньше наезд осуществлялся на конях, то теперь, повидимому, на меринах. Кстати, жаргонное название мерседеса появилось, как я уже сказал раньше, прежде всего из-за звукового сходства, но не только. Это вдобавок еще и метафора, которая подчеркивает связь автомобиля и лошади, их общую «транспортную» функцию.
Пожалуй, самое интересное состоит в том, что многие из «бандитских» слов оказались востребованы языком и после того, как сама бандитская действительность если не исчезла, то хотя бы затушевалась, стала менее заметной. И часто именно это вменяется языку в вину. Вначале он с помощью этих слов описывал бандитскую действительность, а сейчас что?
Употребление этих слов отчасти можно списать на моду, причем, действительно, на моду, на мой взгляд, не слишком приятную. Многие люди (небандиты) научились разговаривать так как бы шутя и иронизируя, а отучиться никак не могут, тем более что бандитский жаргон успешно мутировал, смешавшись с «новым русским» языком чиновников и бизнесменов, в котором фигурируют такие слова и выражения, как коммерсы, откаты и пилить бюджет. Короче, жаргон соответствует социальному прогрессу – от периода начального накопления капитала к периоду государственного капитализма и государственной коррупции. В этом случае как нельзя лучше подходит совет фильтровать базар, – но только вряд ли к нему прислушаются.
Самой же любопытной оказалась судьба нескольких слов, которые из разряда бандитских перешли в общеупотребительные.
Я еще помню те времена, когда мои весьма культурные знакомые, морщась, спрашивали: «Отморозок, а что это такое? Фу, как грубо!» А сейчас милейшая интеллигентная дама, ни секунды не задумавшись, реагирует на какую-то мою безобидную фразу: «Ну, это уже наезд! Как ты смеешь!» Эти слова, поначалу воспринимаемые как нечто чуждое литературному языку (этакие кадры из бодрого боевика), расширили свое значение и стали привычны в речи образованного человека.
Часто они заполняют определенную лакуну в литературном языке, то есть выражают важную идею, для которой не было отдельного слова. Такими словами оказались, например, достать и наезд. Они стали очень популярны и постоянно встречаются в устном общении, хотя бы потому, что точнее одним словом не скажешь. Кроме всего прочего, в них есть экспрессия и особая эмоциональная сила, характерная для многих жаргонизмов. Особенно же меня впечатлил «карьерный взлет» еще одного подобного слова: в заявлении МИДа встретилось выражение акт террористического беспредела. Поразительно, как легко слово беспредел преодолело лагерные границы (ведь изначально это слово описывало особую ситуацию в лагере, когда нарушаются неписанные лагерные правила) и вошло в официальный язык.
Бороться с подобным «обогащением» русского языка абсолютно бессмысленно, тем более что оно представлено единичными явлениями. Оно, скорее, даже полезно. Большинство же «бандитских» слов уйдут, как только исчезнет потребность в них и схлынет мода. Остается дождаться…
Сделайте мне элитно!
Я хочу жить в элитной квартире со стильной мебелью, носить эксклюзивные часы и актуальную прическу, читать реальную рекламу и смотреть исключительно культовые фильмы. Вот тогда я буду правильным пацаном, тьфу на вас… продвинутым менеджером. Этим длинным высказыванием я пытаюсь перейти к гламурной волне. Гламурные слова, конечно, не такая компактная область, как слова бандитские.
Трудно провести четкую границу между, скажем, гламурным и молодежным жаргонами. Они постоянно перетекают друг в друга. Слово тусовка изначально появилось в молодежном жаргоне, потом стало гламурным и, по существу, общеупотребительным. А слово зажигать в значении «развлекаться», кажется, сначала появилось в глянцевых и прочих журналах, и только потом вошло в молодежный обиход. Впрочем, за последнее не ручаюсь. Да и приход гламурных слов растянулся надолго и, на самом деле, до сих пор продолжается.
Само слово гламур пришло к нам из английского языка – glamour – и успешно конкурирует со словом глянец, потихоньку вытесняя его из языка (по крайней мере в одном значении). Глянец было заимствовано раньше из немецкого языка, в котором соответствующее слово Glanz значило просто «блеск». Глянцевыми стали называть журналы с блестящей обложкой, а уж затем значение расширилось, и речь пошла о принадлежности к определенной массовой культуре, пропагандируемой «глянцевыми журналами», то есть журналами с той самой блестящей обложкой, но, главное, – журналами совершенно определенного содержания: о моде, о новом стиле жизни. Слово гламурный описывает вроде бы ту же самую журнальную культуру, но в большей степени раскрывает ее суть, ведь в английском оно изначально связано с чарами и волшебством (таково его первое и исходное значение). Возможно, поэтому оно сочетается с большим кругом слов. Скажем, журналы можно называть и глянцевыми, и гламурными, а вот глянцевые женщины мне что-то не попадались. Гламурные же иногда встречаются, причем не только на страницах журналов, но и в жизни.
В гламурных текстах совершенно особую роль играют оценочные слова, прежде всего прилагательные и наречия. Причем если в речи в целом, и этот факт лингвисты заметили уже давным-давно, гораздо больше слов с отрицательным значением вообще и с отрицательной оценкой в частности, то здесь используется исключительно положительная оценка. Без позитивного настроя, конечно, и в обычной речи не обойдешься, но в рекламно-гламурно-глянцевом языке эти слова просто самые главные. Понятно, что в этом дивном, волшебном мире все не просто хорошо, все очень хорошо, а язык немножко смахивает на крикливого торговца, который все нахваливает свой товар.
Что же это за язык? Полистайте глянцевые журналы, послушайте болтовню светской тусовки или щебет милейших корпоративных девушек в кафе, взгляните на рекламные тексты или просто на вывески, от которых лингвисту так трудно оторваться, – и вы поймете, о чем я. Кого-то этот язык раздражает, кого-то смешит, а кто-то без него уже не может, наконец, просто иначе не умеет.
Пожалуй, одним их самых ярких примеров модной оценки стали слова элитный и эксклюзивный. Еще лет пятнадцать назад слово элитный сочеталось с сортами пшеницы или щенками, ну, на худой конец, с войсками, и подразумевало отбор, селекцию лучших образцов. Затем оно стало понемногу вытеснять из языка слово элитарный («предназначенный для элиты»), и возникли элитное жилье и элитные клубы. А затем началось форменное безобразие. Появилось даже элитное белье и элитные кресла! Ну не бывает особого белья и особых кресел для какой бы то ни было элиты, политической ли, интеллектуальной ли! Есть просто очень дорогое белье, ну и ладно, соглашусь, качественное. Этот смысловой переход, впрочем, очень понятен и легко объясним. Элита у нас все больше понимается в экономическом смысле, исходя из принципа «Если ты такой умный, что же ты такой бедный?». Иначе говоря, элита все чаще означает просто «богатые люди». Тем самым элитные вещи – это вещи, предназначенные для богатых, а значит – дорогие. И все-таки разница между старым нормативным значением («полученный в результате селекции») и новым употреблением настолько велика, что порой вызывает улыбку.
Недавно на Садовом кольце я обратил внимание на вывеску – «Элитные американские холодильники». Если вы улыбнулись, значит, не все еще потеряно. Если нет, просто отложите книгу в сторону, мы вряд ли поймем друг друга. Кстати, рядом, на другой стороне Кольца, находятся менее смешные, но все-таки неуклюжие «Элитные вина», а стоит свернуть в переулки, и вы неизбежно наткнетесь на «Элитные двери» или «Элитные окна».
Таким образом, сейчас происходит – и, на самом деле, уже произошла – девальвация смысла этого слова, осталась только положительная оценка: дорогой и, следовательно, качественный. Впрочем, язык не стоит на месте. Недавно я получил в электронной рассылке среди прочего спама предложение: «Элитные семинары по умеренным ценам». Вот и дороговизна улетучилась. Спрашивается, что же осталось в значении этого слова?
У слова элитный есть брат-близнец – прилагательное эксклюзивный. То есть вначале они довольно сильно различались. Эксклюзивный подразумевало предназначенность для одного единственного субъекта, например, эксклюзивным можно назвать интервью, данное лишь одной газете, а эксклюзивные права предоставляются лишь одной компании.
Но вот все чаще в текстах попадаются странные сочетания: эксклюзивные видеокассеты, выпущенные огромным тиражом (зато с очень редкими кадрами), или, например, эксклюзивные часы, изготовленные в количестве 11111 штук с автографом самого Михаэля Шумахера. Короче говоря, эксклюзивный, опустошаясь семантически, приближается к новому значению элитного: редкий, дорогой и качественный. Но вот и редкость исчезает, когда я читаю растяжку над рыночным прилавком: «Эксклюзивная баранина». Казалось, что после эксклюзивной баранины это слово уже ничем не сможет меня удивить. Но нет! Как-то я включаю телевизор и наблюдаю двух милых дам (ведущую передачи и ее гостью – певицу[9]), которые разговаривают примерно так (точно записать не успел). Ведущая: «Ну, вы ведь эксклюзивная женщина!» Певица нервно хихикает. Ведущая: «Нет, нет, я в хорошем смысле». Мой – по-видимому, извращенный и, очевидно, мужской – ум еще готов понять, что такое эксклюзивная женщина в слегка неприличном смысле, но что такое «эксклюзивная женщина в хорошем смысле», он понимать отказывается. Найдется ли кто-нибудь, кто сумеет это объяснить?
Эксклюзивный и элитный фактически становятся синонимами и могут просто усиливать друг друга, как, например, в рекламе «Кожаных изделий эксклюзивных и элитных производителей». Еще пятнадцать лет назад элитным производителем мог бы называться только какой-нибудь бычок или жеребец, а вот поди ж ты, как движется прогресс, и сейчас речь идет об изготовителях дорогих изделий.
У оценочного слова в рекламном языке недолгая жизнь. Вначале его отыскивают либо в родном русском языке, либо в чужом, то есть заимствуют, причем положительной оценке в его значении, как правило, сопутствует еще какой-то интересный и нетривиальный смысл. Потом слово вбрасывают в тексты, и, если повезет, оно сразу становится модным, начинает использоваться в невообразимых контекстах, а смысл его потихоньку стирается, и остается только восторженная оценка. Наконец, оно всем надоедает, его перестают воспринимать всерьез и выбрасывают, как старую тряпку, чтобы восхищаться какимнибудь новым словечком. Увы, sic transit gloria mundi, и слов это тоже касается.
В начале перестройки необычайную силу приобрели прилагательные культовый и знаковый. Все реже используется похожая по смыслу на элитный иностранная аббревиатура VIP (Very Important Person): VIP-услуги и прочее. А ведь и с ней доходило до комического: нет-нет да и встречались VIP-персоны, то есть, если перевести английскую часть, «очень важные персоны»персоны.
Надо сказать, что и элитный, и эксклюзивный тоже миновали пик моды, и хотя встречаются еще повсеместно, судьба их незавидна. В самом начале они как бы тянули потенциального покупателя за собой. За ними обоими стояла идеология избранности. Элитный говорил: «Купишь вещь – войдешь в элиту!», а эксклюзивный: «Купишь вещь – будешь ее единственным обладателем, ни у кого такой нет!» Потом – идеология богатства, и они уже на один голос кричали: «Купи дорогую вещь! Дорогая значит хорошая!»
А теперь все чаще они используются в рекламе не очень дорогих и не очень качественных товаров и все слабее воздействуют на потенциальных покупателей. Это похоже на то, как если бы в рекламе все время вставляли словосочетание «очень хороший». Кто же на это клюнет?
Даже крупные строительные компании отказываются от слов элитное жилье, элитные квартиры и т. д. На смену им пришло жилье бизнес-класса, люкс или премиум. Впрочем, на улицах Москвы уже появилась реклама чикен премиум, то есть, говоря другими словами, «элитно-эксклюзивных цыплят». А это означает очередное снижение оценки, так что, боюсь, и премиум долго не продержится.
В моду входят другие слова, например пафосный или даже готичный. Среди оценочных прилагательных есть и более хитрые, и более непотопляемые, которые непосредственно связаны с идеологией потребления. И о них тоже стоит поговорить.
Самое правильное слово
Этого слова следует бояться. В нем слишком много идеологии, и оно не оставляет выбора. В конце концов, от чего-то элитного или эксклюзивного можно отказаться, а от этого – нет.
В интервью известного теле– и просто журналиста Леонида Парфенова, которое он дал журналу «Афиша», сказано следующее:
– Где вам в Москве весело?
– Для меня главное из развлечений – правильная жратва в правильном месте. Сейчас время ланча, тепло. Я бы на какой-нибудь террасе посидел. Съел бы салат «Рома», в смысле с зелеными листьями, и заказал Pinot Grigio под рыбку. Только вот не знаю, где сейчас можно найти террасу, наверное, в «Боско».
Кстати, а вы сами носите правильную одежду? Смотрите правильные фильмы? Слушаете правильную музыку? Ходите в правильные места? Или как? Ах, вы не знаете, что следует считать правильным? Читайте глянцевые журналы – вас научат.
Рай на Земле – это рынок плюс эксклюзивная баранина для всех
И мир предстанет совершенно иным – эксклюзивным
Холодильники от элитных американских производителей
Вот и цыпленок жареный в люди выбился… Премиум чикен для жильцов премиум класса
Оставь сомненья всяк сюда входящий
Ох, не к матери неизвестного японца отсылает это название…
Трапеза вы… С буквой «ять» всегда проблемы. Ее место занял «еръ»
Любить букву Ё сегодня признак патриотизма. В Ульяновске ей посвящен памятник, в Москве – магазин
Раньше я вздрагивал от этих непривычных словосочетаний, а потом привык, и уже с удовлетворением обнаружил в статье под названием «SUPERВУЗЫ. 10 правильных заведений» упоминание родного университета. Жаль, конечно, что я не могу последовать рекламе: «Купи правильный дом. Новорижское шоссе», но уж в магазин «Правильная обувь» я захаживаю регулярно. В общем, все хорошо, жизнь удалась.
Кстати, объяснение словосочетаний правильная жратва и правильное место в интервью с Л. Парфеновым очень характерно: салат «Рома», в смысле с зелеными листьями, Pinot Grigio под рыбку, терраса в «Боско». Все это весьма изысканно и едва ли известно непосвященному читателю. Зато читатель «Афиши» может попытаться стать посвященным. Такое употребление слова правильный близко по значению французскому выражению comme il faut, заимствованному в русский язык как комильфо. С помощью слова правильный глянцевые журналы формируют новый стиль поведения, следовать которому должен любой продвинутый (еще одно модное слово) человек. Если использовать европейские аналогии, можно сказать, что речь идет о создании нового русского дендизма, особого свода правил «как себя вести», «какую одежду носить», «что есть», «что читать», «куда ходить» и т. п. И вся эта сложная система скрывается за новым употреблением слова правильный, что и объясняет его взлет.
Это прилагательное прежде всего активно сочетается с названиями продукта в самом широком смысле этого слова: от одежды, обоев, еды – до пищи духовной: романов, фильмов, спектаклей и т. п. Также правильными могут считаться и производители или создатели соответствующей продукции. Если раньше, выделяя, мы бы назвали режиссера модным, популярным, народным, ну, в лучшем случае, культовым, то сейчас нет ничего выше звания «правильный режиссер». Иди и смотри.
И наконец, тот, кто следует всем этим гламурным указаниям, может сам считаться правильным (или, как говорили когда-то, комильфо), то есть по сути – правильным потребителем. Меня недавно поразила фраза из той же «Афиши»: «Последние лет пять правильную московскую девушку можно было отличать по колготкам. Колготки должны были быть только телесного цвета, только прозрачные и только оттенка загара». Я еще не вполне осознал, кто они – эти загадочные правильные девушки, но уже получил инструкцию, как узнавать их в толпе. Конечно же, по колготкам телесного цвета.
Совершенно очевидно, что большинство подобных сочетаний человеку семидесятых показались бы дикими, однако не все так просто. В советских текстах все-таки встречаются похожие примеры, хотя не так часто и в довольно специфических «идейных» контекстах. Вполне допустимо, например, было словосочетание правильный фильм, но, естественно, оно использовалось по отношению к фильмам совершенно другого рода, активно одобряемым советской властью, – то есть с правильной идеологией. Таким образом, неизменная часть значения у данного слова на самом деле сохраняется, просто на смену одной идеологии, политической, приходит другая – идеология потребления, что и определяет его сочетаемость.
По существу, за этим словом всегда стоит некая «идейность», но отнюдь не в том единственном политическом смысле, к которому так привыкли советские люди. Подобное употребление прилагательного вообще характерно для жаргонов, связанных с жесткими поведенческими нормами. Здесь можно вспомнить и блатной мир, только вместо правильных девушек его населяют правильные пацаны.
Что же касается идеологии потребления, то она, не будучи политической и тоталитарной, не становится от этого менее жесткой и агрессивной. Через соответствующие слова она проникает в сознание, навязывая, в частности, жесткие правила выбора. Следует ходить в правильные места, есть в них правильную еду, наконец, знакомиться и общаться с правильными девушками (тем самым последние выступают тут и как субъект, и как объект потребления). Читать нужно исключительно правильные романы, слушать правильную музыку, смотреть правильные фильмы…
Перекличка между нынешним временем и советской эпохой характерна и для некоторых других модных прилагательных: позитивный, актуальный, реальный и т. д. Например, позитивный сочетается сейчас с такими словами, как фильм, спектакль, сценарий или шоу: «Мало сыщется фильмов, вызывающих такие же умиление с просветлением. Если “Блондинка в законе” – самый позитивный фильм сезона, то этот – самый адекватный…» (Известия).
Такие употребления не описываются существующими словарями (речь идет о совсем недавней кальке с английского), однако фактически выражают идеологию социалистического реализма. Позитивные фильмы и спектакли показывают жизнь такой, какой она должна быть, а не какая она есть на самом деле. Все чаще в текстах мелькают двоюродные братья актуальный с реальным. По телевизору показывают Реальную политику,[10] а на улицах города мы видим реальную рекламу. Актуальным сегодня тоже может быть все: от искусства до автомобиля или прически. Иногда концентрация всех этих слов в тексте зашкаливает, хорошо если автору все же свойственна хотя бы легкая ирония: «Музей современного искусства, открывая ретроспективой Айдан Салаховой новую программу “Москва актуальная”, сделал выбор безукоризненный. Само понятие “актуальное”, ввиду длительного и широкого употребления, подрастеряло, как кажется, былую актуальность, вытерлось немножечко до состояния “элитного” и “эксклюзивного” – но если слово “актуальное” значит сегодня что-то еще, то именно это: пример остальным, образец для подражания; что же она еще, как не пример или образец? Умница и отличница, красавица и так далее; иногда они возвращаются, времена правильных героев» (К. Агунович, «Афиша»[11]).
По существу, все эти прилагательные выражают положительную оценку, как, скажем, и элитный, и эксклюзивный, но делают это не так крикливо и не так явно. Они отсылают к неким ценностям, к определенной системе взглядов, но при этом не фиксируют их раз и навсегда, что и позволяет им быть более устойчивыми. И в сегодняшнем гламурном мире они оказались на видном месте. Вот уж, действительно, ключевые слова эпохи.
Невыносимая недоопределенность бытия
У многих из нас есть свое собственное эмоциональное отношение к словам, и у меня в том числе. Ну, не люблю я некоторые слова, и все тут. И не важно, лингвист я или не лингвист, рациональности это моему чувству не добавляет. Я перестаю слушать человека, если он вдруг произносит не слишком грамотное слово волнительный, но точно так же меня раздражает безупречное амбивалентный. Другое дело, что как лингвист я могу свое чувство проанализировать и попытаться установить его причины. Что я сейчас и сделаю.
Мне не нравятся два модных сегодня слова – проект и продукт, точнее говоря, их новое использование. Кто теперь только не говорит: «У меня есть несколько актуальных проектов» или «Я сейчас задействован в новом проекте». Про новый роман или фильм могут запросто сказать: «Ну, это вполне достойный продукт». Актеры сегодня предпочитают участвовать в проекте, а не сниматься в фильме или играть в спектакле. А для режиссера в свою очередь престижнее в результате проекта выпустить продукт, чем просто снять фильм. Почему так? И почему мне не по себе от этих вроде бы вполне безобидных, хоть и модных слов. Я вижу здесь две разных причины.
Первая состоит в том, что с помощью этих слов мне навязывается некая бизнес-метафора, которая особенно чувствуется в слове продукт. Результат любой деятельности, в том числе и творческой, оценивается с точки зрения купли-продажи. Сама же деятельность с помощью слова проект интерпретируется как продуманная и направленная на получение того самого продукта. Распространение этой бизнес-метафоры на любое занятие как бы погружает его в деловой мир и делает более престижным.
Но есть и вторая, более глубокая, причина, объяснение которой потребует обращения к современной науке. В когнитивной психологии используется понятие базисного (или основного) уровня. Классические эксперименты американки Элеоноры Рош показали, что психологически базисными оказываются не самые фундаментальные категории, выражаемые словами с максимально абстрактным значением, а именно срединные категории. Так, в тройках млекопитающее – собака – ищейка и мебель – стул – кресло-качалка крайние члены относятся, соответственно, к высшему (млекопитающее, мебель) и подчиненному (ищейка, кресло-качалка) уровням. Базисными с психологической точки зрения следует считать срединные категории, то есть собака и стул. Именно этими понятиями и категориями мы оперируем, размышляя или рассуждая об обычных ситуациях. Переход на другой уровень маркирован. Он определяется спецификой ситуации, в которой нам необходимо что-то обобщить или, наоборот, конкретизировать. Психологическая базисность проявляется и в языке. Слова базисного уровня более частотны и нейтральны. В нормальной ситуации мы называем собаку собакой, а не терьером или животным. Впрочем, по-видимому, понятие базисного уровня не абсолютно и зависит от реальных условий. В частности, на изменении базисного уровня построен старый советский анекдот, рассказывающий о поведении покупателя в разные эпохи, характеризующиеся разной степенью изобилия в магазинах (последняя эпоха скромно именовалась коммунистической):
Заверните, пожалуйста, 200 граммов рокфора;
Заверните, пожалуйста, 200 граммов сыра;
Заверните, пожалуйста, 200 граммов еды.
Бывают, однако, времена и стили общения, в которых происходят сдвиги с базисного уровня. Так, например, в «советском» языке, то есть официальном языке советского периода, существовал очевидный сдвиг в сторону абстракции. Этот же сдвиг постоянно присутствует в речи политиков и бюрократов. Одним из возможных эффектов такого сдвига оказывается неинформативность текста: сказано много, а по сути ничего.
Увы, такова и сегодняшняя мода. Обобщение, с одной стороны, скрывает суть дела, с другой стороны, придает делу серьезность и значительность. Когда кто-то говорит: «Я участвую в проекте», это может означать все, что угодно, то есть буквально все или ничего. Точно так же за выпуском нового продукта может скрываться нечто значительное, а может – ерунда. Мы оставляем собеседнику возможность самому додумать, конкретизировать сказанное нами, заполнить пустоты, создаваемые чрезмерной абстрактностью, желательно в выгодном для нас ключе. И здесь можно снова обратиться к бизнес-метафоре. Ведь само слово бизнес устроено точно таким же образом. Совершенно естественно в ответ на вопрос Кто он? сказать У него свой бизнес. Но по сути это не значит почти ничего, это просто такое определение через отрицание: не госслужащий, не наемный работник, не богема. Разброс может быть от мультимиллиардера, владельца заводов, газет, пароходов, до чистильщика обуви или мелкого мошенника. Примерно так же абстрактно и размыто слово менеджер, о котором мы поговорим чуть позже (от продавца до руководителя крупной компании). С помощью подобных абстракций мы размываем нашу реальность, наше социальное положение, предпочитая весомую и многозначительную неопределенность или, точнее, недоопределенность. У нас ведь как бы все в порядке. Ну, или пусть по крайней мере собеседник так думает.
Интересно, что подтверждение этому легко находится в тексте. Вот примеры из речи творцов из разных и далеких сфер искусства – театра и эстрады. Казалось бы, следовало ожидать модной лихости в устах певца Сергея Минаева и аккуратной интеллигентности в устах драматурга и театрального режиссера Михаила Угарова. Однако…
– Последний вопрос: театр на «Слесаре» на аренду подвала заработает?
– Не знаю, мы хотели сделать продукт, который бы всем понравился. Такая, знаете, смесь производственной драмы и абсурдизма. А продукта, который можно было бы продавать и кормить за его счет театр, не получается (интервью с Михаилом Угаровым, «Афиша»).
– Расскажите, какие у вас сейчас проекты?
– Что это за слово такое – «проекты»? В смысле – чем я занимаюсь? Знаете, я вредный мужик, мне все эти новомодные слова непонятны. Я работаю тем же, кем и 30 лет назад, – я артист (интервью с Сергеем Минаевым, «Афиша»).
Режиссер хочет создавать продукт, чтобы продавать его, правда, у него не получается. А певец, напротив, упрямо сопротивляется бизнес-метафоре. Слова выдают потаенное.
Но, пожалуй, наибольших масштабов и наивысшего полета эти слова достигают в речи политиков (чего, впрочем, и следовало ожидать). И здесь снова приходится цитировать. Журналист Андрей Колесников в «Коммерсанте» пишет: «Господин Иванов успел сделать доклад на первом пленарном заседании форума, и в этом докладе представил Россию как один глобальный инфраструктурный проект, не очень-то, впрочем, и нуждающийся в мировых инвестициях, но и не отказывающийся от них».
Россия как один глобальный проект? Как сказал бы кто-нибудь помоложе – это круто!
О чем говорят паразиты
У одного моего знакомого электрика было два слова-паразита, которыми он владел практически виртуозно. В разговоре с мужчинами он использовал одно-единственное матерное слово,[12] но если к беседе подключалась женщина, он тут же заменял его на на фиг, то есть, как сказали бы лингвисты, владел двумя регистрами речи, которые строго распределял по гендерному принципу.
Сколько я себя помню, стилисты и языковые пуристы всегда боролись с так называемыми словами-паразитами, со всеми этими так сказать, значит (с просторечным вариантом значить), естественно, вот и прочими, которые, как принято считать, ни для чего не нужны и только засоряют нашу речь. На самом деле, не все так просто, в языке ведь вообще нет ничего лишнего. За каждым из этих слов стоит некая идея, которая вдруг оказывается востребованной и потому часто воспроизводимой, и лишь потом, когда возникает устойчивая привычка к слову, оно становится тем самым паразитом, от которого почти невозможно избавиться. Но даже и в этом случае самому говорящему оно приносит определенную пользу, а именно – дает время подумать и сообразить, что говорить дальше, а также склеивает прочие слова. Недаром одна из функций русского мата как раз такова – заполнять пустоты в речи и в мысли. Именно так и используют мат не слишком грамотные и образованные люди.
К сожалению, слушающим слова-паразиты приносят в основном неприятности. Их бесконечный повтор просто раздражает собеседников. В какой-то момент эти постоянные значить-значить-значить или таксказать-таксказать-таксказать заглушают все остальные слова и просто мешают воспринимать мысль. Хотя и для слушающего они могут оказаться полезны. Например, слово-паразит вот обозначает завершение некоторого смыслового блока, то есть дает время осмыслить сказанное и подготовиться к новой информации. Есть люди, которые даже во время монолога постоянно обращаются за поддержкой к собеседникам и делают это с помощью словечка да с вопросительной интонацией или вопросов-обращений типа понимаете, знаете. Эти вроде бы и паразиты в действительности очень нужны говорящему и выдают его особый психологический склад, потребность в постоянной коммуникативной поддержке и связи с собеседником. Это, впрочем, не означает, что перед вами обязательно мягкий, сомневающийся человек. Я слышал регулярное вопросительное «да?» в устах абсолютно уверенных в себе людей. Этим словом они как бы постоянно подхлестывают собеседника, не давая ему ни на секунду отвлечься от разговора, а точнее – от слушания того, что они говорят.
Время от времени в русском языке появляются новые слова-паразиты. Вот как это представлено в еще одном анекдоте о языке новых русских:
«Новый англо-русский словарь: неопределенный артикль a переводится на русский как типа, а определенный артикль the – конкретно или чисто».
Эти словечки распространились десять-пятнадцать лет назад вместе с распальцовкой и прочими атрибутами нового русского и, конечно, с артиклями имеют не очень много общего. Например, раньше слово типа сочеталось только с родительным падежом существительного (животное типа собаки), а в новом употреблении слово характеризует не только существительное, но и глагол, и целую фразу: Я типа сказал или Типа сказал и сделал.
У слов-паразитов в силу их частотности появляется еще одно важное свойство. Чем чаще произносится слово, тем заметнее тенденция к его сокращению, сжатию. Таким образом мы экономим свои произносительные усилия. Хороший паразит – паразит односложный, отсюда и постоянное стяжение «лишних» слогов. Поэтому мы и говорим чтото вроде тксать вместо так сказать. Это стало отражаться в особой интернет-орфографии. Так появилось слово ессно (естественно, если кто не понял). Раз уж речь зашла об интернет-орфографии, нельзя не вспомнить еще одну любопытную вещь. Именно в интернете стали различать в написании слово-паразит и обычное нормативное типа. Слово-паразит часто записывается таким образом – типо: Начинаем типо раздачу слонов.
Интересно, что слово типа стало всего лишь стилистическим (поначалу «бандитским», а потом хоть вульгарным, но общенародным) вариантом, незадолго до этого распространившегося обычного слова-паразита как бы. Как и другие паразиты, словечки типа и как бы восходят к совершенно нормальным русским словам, которые вдруг начинают употребляться чаще и в совершенно неуместных контекстах и ситуациях. В литературном языке эти два слова связаны с идеей сходства, подобия (но не совпадения). В своем «паразитическом» употреблении они от этой идеи отходят.
– Я как бы лингвист, – могу сказать я (хотя стараюсь так не говорить), при том что я действительно лингвист, а не просто похож на него. Я как бы работаю, – говорит кто-то, действительно работающий в этот момент, а не имитирующий деятельность. Есть люди, у которых это как бы встречается в речи чуть ли не перед каждым словом: «Я как бы здесь работаю как бы продавщицей». Короче, пурист немедленно ставит диагноз – слово-паразит, которое подлежит скорейшему удалению из речи. Но ведь, несмотря на все старания, слово как бы в таком употреблении не исчезает из речи, что само по себе повод задуматься о нем. Такое как бы относится не к какому-то конкретному слову (как, например, английский артикль), а характеризует речь человека в целом, его психологическое состояние и, возможно, даже социальный статус. Как это ни парадоксально прозвучит, это слово стало очень своеобразным инструментом вежливости (или «как бы вежливости»). Фактически оно означает, что говорящий отказывается делать резкие и окончательные высказывания о мире, а каждый раз заявляет о своей неуверенности, об отсутствии у него права делать такие утверждения, и в том числе о его не высоком статусе, в частности по отношению к собеседнику. Это как если бы человек говорил одну фразу и сразу добавлял: «Ну, впрочем, это мое частное и не очень важное мнение, возможно, не соответствующее действительному положению дел». Так разговаривает подчиненный с начальником, заинтересованное лицо с влиятельным и т. п. Скажем, хороший студент на экзамене не должен решительно заявлять: «Волга впадает в Каспийское море». Это слишком безапелляционное и отчасти нахальное заявление, за него можно и тройку схлопотать. Правильнее сказать: «Волга как бы впадает в (как бы) Каспийское море». Этот ответ демонстрирует уважение к экзаменатору, неуверенность и скромность (второе как бы факультативно и, возможно, уже избыточно и даже льстиво). И уже без всякого юмора должен сказать, что это действительно одно из частых слов, встречающихся в ответах на экзамене.
Тот факт, что именно как бы стало самым распространенным словом-паразитом нашего времени, на мой взгляд, свидетельствует о нашем времени. Вы спросите: «Как?» Да я типо уже написал. Дальше думайте как бы сами.
Профессиональная конкуренция
Ну вот, я и добрался до третьей лексической волны – профессиональной. Впрочем, в этом случае метафора волны едва ли уместна, это больше похоже на постоянный мощный поток, конца которому не видно. Зато видны разные составляющие: термины, жаргоны и т. д. Одной из наиболее интересных и важных частей оказываются названия профессий. Так и хочется спросить: «Зачем их столько?»
Некоторое время назад со мной произошел старый анекдот про дизайнера, но только наоборот. Как вас представить? – спросили меня по телефону, когда я позвонил в интернет-компанию. Когда я не только назвал фамилию, но и в ответ на много переспросов объяснил, что первая буква никак не Дмитрий, а скорее Константин, а в середине нет не только Б, но и М, милый женский голос произнес: «О'кей», и после некоторой паузы уточнил: «Это фамилия?» Только чудом я удержался, чтобы не ответить: «Нет, профессия», что, конечно, никого не удивило бы. Профессий так много…
Половины нынешних профессий я и сам не знаю. И неизменно радуюсь, когда узнаю новые. Например, что эйчар – это то же самое, что менеджер по персоналу, но ни в коем случае не кадровик (эйчар обидится). А ведь есть еще хедхантер, мерчандайзер, бьютиэдитор и медреп. Удивляюсь, – почему бы просто не сказать: охотник за головами, красоткаредактор? Впрочем, это, конечно, шутка, и притом не самая удачная.
В этом потоке актуальных профессий на самом деле скрыто множество разных проблем. Одна из них – чрезвычайно важная – хорошо описывается словом «конкуренция». Я имею в виду конкуренцию слов. Человека, имеющего определенную профессию, сейчас можно называть по-разному. Иногда эта конкуренция достаточно примитивна: существуют разные варианты написания или произнесения одного и того же слова. Например, человека, занимающегося недвижимостью, можно назвать по крайней мере четырьмя способами: риэлтор, риэлтер, риелтер, риелтор. Но это свидетельствует лишь о том, что слово не вполне вошло в русский язык, а точнее – не вполне прижилось, и написание еще не устоялось. О том, как же писать правильно, а главное – почему, – чуть позже. Пока же стоит обсудить содержательную сторону.
Любопытно то, что риэлтор вытеснило слово маклер, которое в советское время значило примерно то же самое.
Подобных примеров много. Почему эйчар, но не кадровик? Почему рерайтер, но не редактор? Почему нынешние парикмахеры предпочитают называться стилистами, а нынешнюю модель (особенно топ) никому не придет в голову назвать манекенщицей?
Некоторые из старых слов еще актуальны (кадровик и редактор), другие же устарели и используются только в разговоре о прошлом (манекенщица или маклер).
По поводу этих пар есть, грубо говоря, два мнения.
Первое состоит в том, что это – разные профессии. Так, стилист, в отличие от парикмахера, не просто пострижет, но и позаботится о стиле в целом. Современная модель отличается от советской манекенщицы, как небо от земли. Она ведь не просто демонстрирует одежду (судя по старым фильмам, в основном рабочую), а снимается в рекламных роликах, участвует в фотосессиях для глянцевых журналов и вообще является эталоном стиля.
Это сравнение можно продолжать долго: у эйчара, в отличие от кадровика, есть дополнительные обязанности и навыки (я их, увы, плохо знаю) – и так далее.
Однако это не вся правда. Развитие профессии далеко не всегда приводит к смене ее названия. Сегодняшний инженер сильно отличается от инженера XIX века, но инженером называться не перестает. Второй, и, помоему, более точный взгляд, оказывается более приземленным. Суть, конечно же, в престиже и деньгах.
В новых словах присутствует какая-то трудноуловимая аура, привлекательность актуальности и новизны. Естественно, что стилист вправе запросить за стрижку больше, чем парикмахер, а гонорары моделей несопоставимы с зарплатой манекенщиц. С распадом советской распределительной системы полулегальный маклер не мог не превратиться во вполне респектабельного риэлтора, и неважно, что их функции и уровень профессионализма порой никак не различаются. А в 90-х годах ХХ века проститутки «переквалифицировались» в путан.
Вытеснение менее престижных слов более престижными существовало всегда (хотя и не в таких масштабах). Ограничусь парой примеров.
В свое время именно парикмахер сменил цирюльника и брадобрея. И совсем не потому, что в дополнение к стрижке он перестал ставить пиявки, а стал делать парики. Аура немецкого профессионализма и основательности преодолела даже фонетические трудности (русским было непросто выговаривать такие громоздкие слова, как парикмахер или бухгалтер).
Не менее интересен и ряд слов купец / предприниматель / коммерсант / бизнесмен. Купец относится к истории. Из остальных трех наиболее нейтрален бизнесмен – его выберут и в качестве самохарактеристики: я – бизнесмен. С коммерсантом и предпринимателем сложнее. Оба они, как правило, оценочны и сочетаются с соответствующими определениями: крупный предприниматель или мелкий коммерсант (отсюда и приблатненное коммерс).
Многие из новых названий еще не вошли в словари и не стали фактом литературного языка. Пока они скорее относятся к профессиональным жаргонам. Об этом свидетельствует следующее.
Во-первых, они известны только специалистам в данной области. Объявление «требуется эккаунтменеджер» понятно лишь эккаунтменеджерам (или акаунтменеджерам). Употребление таких слов отпугивает непосвященных, что, впрочем, и требуется.
Во-вторых, их трудно записать. В случае риэлтора (см. выше) или криэйтора (с вариантами криейтор и креатор) путаются русские буквы, а ведь возможно еще и использование латиницы (для части или для всего названия): IT-менеджер, beauty editor и т. п.
Сегодня почти все новые названия профессий приходят к нам из английского языка (незначительные исключения связаны с модой, кухней и другими узкими областями: например, сомелье или кутюрье). Конкуренция возникает при этом не только со старыми названиями (их иногда просто нет), но и между рядом новых, которые могут восприниматься как более или менее официальные, более или менее разговорные: IT-менеджер / айтишник или компьютерщик, специалист по связям с общественностью / пиарщик. Но, прежде чем говорить об этом, попробуем решить простой на первый взгляд орфографический вопрос. Да вот хотя бы с риэлтором.
Риэлторы-шмиэлторы и вопросы языкознания
Слово Realtor пришло в русский язык вскоре после перестройки и с тех пор постоянно вызывает споры. В действительности существуют две разных проблемы: во-первых, как писать это слово по-русски и, во-вторых, корректно ли вообще, правомочно ли его употребление в качестве названия профессии.
Слова одного языка на другой язык обычно переводятся, но не всегда. Иногда они транскрибируются. Речь идет о так называемой практической транскрипции, то есть записи слов одного языка буквами другого языка с учетом прежде всего их произношения. Как правило, это касается имен собственных.
Например, английское имя John на русский язык никак не переведешь, поскольку у него нет значения, вот и приходится транскрибировать так, чтобы звучало похоже, – ДЖОН. С именем Джон проблем не возникает, а вот, например, фамилию английского писателя Galsworthy по подсчетам авторов одной книги о практической транскрипции можно передать порусски 144 различными способами: от Галсворти до Гелсуэрси, и лишь традиция выделяет один единственный – Голсуорси.
Транскрибируются не только имена собственные, но и нарицательные в том случае, если они не переводятся, а целиком заимствуются. В принципе, слово Realtor можно было бы переводить как «специалист по недвижимости», или, более подробно, «специалист по торговле недвижимостью и сдаче ее в наем», или даже «маклер, или агент, по недвижимости». Однако русский язык выбрал другой путь. Для названия этой сравнительно недавно узаконенной профессии было заимствовано слово английского языка. Все было бы хорошо, но в написании его существует разнобой. Сказать, что правильным является один единственный вариант, нельзя. Пройдет несколько лет, норма устоится, и останется одно написание. Оно и будет правильным. Язык выберет сам.
Пока же можно рекомендовать один из вариантов как наиболее лингвистически обоснованный и тем самым способствовать употреблению и сохранению в языке именно его.
Итак, что мы имеем? Колебания в написании третьей и шестой букв. Е или Э после И; О или Е после Р. В итоге – четыре реально встречающихся варианта: риэлтор, риелтор, риэлтер, риелтер. К ним можно было бы добавить еще два теоретически возможных написания: риалтор и риалтер. Они имеют разумное лингвистическое обоснование, но поскольку реально не встречаются, не будем усложнять ситуацию и сделаем вид, что их нет.
Прежде всего, надо сказать, что иноязычные слова, оканчивающиеся на – OR, в русской записи должны оканчиваться исключительно на – ОР (несмотря на то, что это сочетание букв читается как единый краткий гласный звук). Вспомните хотя бы слова кондуктор, композитор, профессор и др. Конечно, в русском языке есть заимствованные слова и на – ЕР (ЁР), например инженер, бухгалтер, актёр, но в них и в соответствующем иностранном языке присутствовало – ER или EUR. Так, в немецком есть слово Buchhalter. Оно было заимствовано русским языком и вытеснило исконное счетовод. Именно из французского языка было заимствовано слово acteur – рус. актёр, а английское actor здесь ни при чем.
Таким образом, остаются два варианта риэлтор и риелтор. Такие колебания букв Е и Э после гласных встречаются довольно часто. Так, французское имя пишется то Даниэль, то Даниель. В недавней рекламе кинофильма мне даже попалась фамилия Коен, хотя гораздо чаще пишут Коэн. С лингвистической точки зрения по этому поводу можно сказать следующее. Буква Э до сих пор воспринимается как что-то экзотическое для русского языка и, скорее всего, поэтому ее стараются избегать при транскрипции. Тем не менее именно она после гласной наиболее точно передает произношение заимствованных слов. Написание же в этом случае Е может вводить в заблуждение. Как известно, некоторые не самые образованные носители русского языка слово проект произносят не так, как надо, – ПРОЭКТ, а с «ЙЕ», просто потому, что так пишется. Так что лучше писать наше слово РИЭЛТОР. И следует признать, что чаще всего оно так и пишется.
Но с риэлтором связана еще и другая проблема, уже скорее юридическая, чем лингвистическая. Дело в том, что слово Realtor образовано от слова realty (недвижимость) и зарегистрировано как торговый знак. Называть себя так имеют право лишь члены американской Национальной ассоциации Риэлторов (National Association of Realtors) и аффилиированных с ней организаций. До National Association of Realtors этот торговый знак принадлежал ее предшественнице National Association of Real Estate Boards. Этот факт четко указывают все американские словари английского языка, в которых, как правило, это слово пишется с прописной (большой) буквы R, то есть как имя собственное. Впрочем, иногда дается также вариант написания со строчной (маленькой) буквы r: realtor, а также вариант определения: не только член ассоциации, но и просто – агент по недвижимости. Британские же словари в большинстве своем пишут это слово со строчной буквы и определяют его значение как «агент по недвижимости». При этом обязательно указывается, что realtor – это американизм, которому соответствует британское estate agent. Итак, англичане (по крайней мере, часть из них), кажется, считают, что это просто такое специфически американское слово, которое обозначает распространенную профессию. Американцы же знают, что этим словом называют себя члены Национальной ассоциации, занимающиеся недвижимостью и действующие в соответствии с определенным кодексом поведения. Например, за нарушение этого кодекса человека можно исключить из ассоциации, и тогда он потеряет право называть себя гордым словом Realtor. Впрочем, и американцы могут по аналогии назвать агента по недвижимости realtor, не вдаваясь в подробности членства его в разных ассоциациях. Занимается недвижимостью – значит, realtor.
Что же касается русского языка, то, конечно, это слово уже вошло в него как название профессии, а не как особый торговый знак. Русское слово риэлтор обозначает специалиста по сделкам с недвижимостью независимо от его членства в американской или российской ассоциации. Подтвердить это можно множеством употреблений в прессе, специальной литературе и даже словарях русского языка.
А как же быть с защитой торгового знака? Здесь мнение лингвиста не может быть решающим, поскольку мы имеем дело прежде всего с юридической проблемой. Лингвистическим выходом было бы, например, писать торговый знак с прописной буквы: Риэлтор. Тогда утверждать «Я – риэлтор!» могли бы все агенты по недвижимости, а «Я – Риэлтор» – только члены соответствующих ассоциаций. Замена риэлтора на риэлтера, чтобы не связываться с чужым торговым знаком (вроде похоже, а не то!), не кажется удачным выходом. Вроде как косить под Риэлтора – не называясь этим словом. Тогда уж лучше сразу назваться шмиэлтором – юридически безупречно, а как звучит: риэлторы-шмиэлторы. Ясно, что по сути одно и то же.
Впрочем, если говорить серьезно, проблема, конечно же, существует. Вспомним хотя бы про ксероксы. Ведь слово ксерокс давно вошло в русский язык в значении просто «копировальный аппарат». Однако фирма «Ксерокс» с этим не согласилась и встала на защиту своего товарного знака. В результате сейчас рекламные объявления пестрят какими-то страшными КОПИРАМИ, что русский человек и выговорить-то не может – в отличие от приятного языку и уху ксссерокссса. Права ли фирма «Ксерокс»? С лингвистической точки зрения, нет. Ведь в русском языке уже есть глаголы ксерокопировать и даже ксерить. Что же, и их запретить? Раз, говоря ксерокопировать и ксерить, мы не имеем в виду – «пользоваться копировальным аппаратом фирмы “Ксерокс”»? Нет, брат, шалишь, русские глаголы никакой суд запретить не сможет, а вот существительное взял и запретил. И хотя поступил лингвистически безграмотно, но решение суда надо выполнять.
Так что и в проблеме риэлтора оставим юридическую составляющую непроясненной. Суд решит. А мы будем надеяться на его лингвистическое благоразумие.
Не кочегары мы, не плотники
Вернемся теперь снова к содержательной стороне вопроса. О конкуренции старых и новых профессий мы поговорили. А как быть, если появляется совсем новая профессия? Впрочем, профессии не появляются сами по себе – как правило, они откуда-то приходят. И в этом случае русский язык поступает просто: он заимствует соответствующее название. У этого способа есть, однако, недостатки. Можно говорить о своего рода непрозрачности заимствованных слов: они не встроены в систему русского языка, как правило, не имеют связей с другими словами и потому непонятны. Конечно, прожив долгую жизнь в русском языке, слово становится для нас родным. И едва ли кто сейчас захочет изгнать из русского языка юристов, биологов, физиков или агрономов. Но у сегодняшней ситуации есть принципиальные особенности. Во-первых, заимствований этих настолько много, что языку их сразу переварить трудно, – и отсюда возникает ощущение погружения в чужой язык. Во-вторых, многие из этих названий не стали общеупотребительными. Обычному человеку не так уж важна разница между акаунтменеджером и сейлзменеджером. В результате для случайного человека большинство объявлений о работе оказываются филькиной грамотой, написанной на иностранном языке. Это впечатление усиливается еще и тем, что в некоторых названиях профессий используются латинские буквы: PR-менеджер, web-дизайнер, HTML-кодер, shareware-разработчик. Совсем уж непонятны чистые аббревиатуры: CEO (chief executive officer), CIO (chief information officer), MedRep (medical representative).
Естественно, возникает желание назвать эти специальности как-то попонятней, и вместо заимствований используются перевод или объяснения (как правило, с помощью нескольких русских слов). Рядом с сейлз-менеджером появляется менеджер по продажам, рядом с beauty editor – редактор отдела красоты, рядом с IT-менеджером – специалист по информационным технологиям. Увы, и у таких названий есть недостатки. Они существенно длиннее, а важные профессии желательно – и даже необходимо – обозначать одним словом. Кроме того, такие многословные сочетания воспринимаются как слишком официальные и чуть ли не бюрократические. Они часто используются в министерской номенклатуре профессий, пишутся на визитных карточках, но практически не употребляются в обыденной речи.
Зато в речи очень часто встречаются слегка адаптированные и как бы обрусевшие заимствования. Эта адаптация происходит разными способами: прибавлением русских суффиксов, сокращением, языковой игрой, наконец, просто склонением и т. д. Таковы, например, айтишники, сисадмины, сейлзы и прочие эйчары. В случаях типа шароварщика (от английского shareware) мы видим игру на сближение с похоже звучащим, но необычайно далеким по смыслу русским словом (шаровары) – такую же, как в популярных в интернете словах хомяк, мыло и аська, но об этом я уже писал. Такой подход не делает слова понятнее, зато одомашнивает их, делает своими. Они встраиваются в систему русского языка с помощью родной грамматики.
Таким образом возникают пары, тройки, а иногда и более длинные ряды названий для одной и той же профессии. Раньше такое встречалось достаточно редко и, в основном, в медицине (стоматолог – дантист – зубной врач; офтальмолог – окулист – глазник), сейчас же – на каждом шагу.
Как уже сказано, эти названия распределены по разным сферам и стилям речи. Официальные – назовем их «номенклатурные» – названия типа специалист в области…, менеджер по… встречаются исключительно в письменной или официальной чиновной речи. Именно они фигурируют в списках зарегистрированных профессий и в других документах. Пойти учиться можно только на специалиста в области… или специалиста по…, а в штатном расписании предусмотрен лишь менеджер по…
В речи же самих специалистов и менеджеров, особенно в разговорах друг с другом, используются «обрусевшие заимствования», те, которые можно отнести к сниженной или жаргонной лексике. Едва ли можно услышать фразу: «Кирюха, программа полетела. Не знаешь, куда подевался наш специалист по информационным технологиям?» В этой ситуации предпочтителен айтишник, а специалист по информационным технологиям выражает здесь с трудом сдерживаемый сарказм.
Интересное распределение вариантов названий профессий можно наблюдать по визитным карточкам. Там исключены варианты типа айтишник, а вот специалист по информационным технологиям и IT-менеджер равновероятны и зависят от самоощущения компании или конкретного человека. Если говорить о каком-то распределении, то государственные компании тяготеют к первому, второе же характерно для частного бизнеса и особенно для крупных иностранных компаний.
Несмотря на все недостатки, наиболее нейтральны обычные заимствования. Именно у них наилучшие шансы войти в состав литературного языка. Сложнее придется аббревиатурам, особенно на графическом уровне. Латинские буквы все-таки еще воспринимаются как чужеродные, и подобные слова не принято включать в словари. А передача их английского произношения кириллицей (айти, эйчар) – своего рода прием освоения, автоматически переводящий их в категорию сниженной лексики. Тем не менее, слова, устроенные таким образом, стали уже общеупотребительными (например, пиар и эсэмэс). Хотя для письменной речи большинство из них остаются, пожалуй, экзотикой.
Но и в использовании таких заимствований желательно все же знать меру. Брокер и дилер в русском языке чувствуют себя уже достаточно комфортно. И по своему статусу приближаются к старожилам – адвокату, метеорологу или геодезисту. А вот бьютиконсультанта мне бы пускать в литературный язык не хотелось. Это ведь не профессия, а достаточно специфическая должность. В узкопрофессиональном кругу такое название может существовать, а для широкого употребления вполне достаточно консультанта по красоте.
Все рассмотренные процессы сошлись в русском языке в одной точке – в одном слове. История появления этого слова заслуживает если не романа, то хотя бы отдельной главы. Вот и перейдем к нему, тем более что оно уже несколько раз проскакивало в тексте.
Задать пиару!
С этим словом все не так. Мягко говоря, его недолюбливают. Например, когда ругают заимствования, в пример приводят именно его. К компьютеру, говорят, или там президенту мы уже привыкли, а вот это – бррр. Эмигранты от него в ужасе шарахаются. Да что эмигранты, – англичане и американцы его не узнают. Это, спрашивают, что у вас за такое важное новое слово, и что оно значит, и откуда взялось. С ним борются, его запрещают, а оно живет, обрастает родственниками и все комфортнее обустраивается в русском языке. Вы знаете это слово. Но начнем с самого начала.
Вначале это было название профессии или, точнее, области профессиональной деятельности где-то в рыночной экономике развитых стран, а потом и у нас. Оно восходит к английской аббревиатуре PR, раскрываемой как public relations. Удивительное началось почти сразу, поскольку возникло несколько конкурирующих названий этой профессии, прежде всего написаний. Во-первых, эти слова перевели на русский язык: связи с общественностью. Во-вторых и в-третьих, просто используют английские написания (латинскими буквами): словосочетание public relations и, соответственно, аббревиатура PR. В-четвертых, заимствовали целиком английское название, которое стали записывать русскими буквами как паблик рилейшнз (с вариантами рилейшнс, релейшнз, релейшнс, рилейшенз, рилейшенс, релейшенз, релейшенс). И, наконец, в-пятых, заимствовали аббревиатуру, а точнее говоря, ее английское произношение: пиар. Самое смешное, что для названия профессии и этих вариантов оказалось мало, и сегодня частью профессионального сообщества продвигается еще один, более сложный, вариант – развитие общественных связей, и его русская аббревиатура – РОС, что является переводом английского public relations development.
Эти варианты отчасти распределились по разным сферам употребления и стилям. Перевод связи с общественностью оказался самым официальным и используется в государственных документах, например в перечне студенческих специальностей, а также в названиях многих отечественных учебников. Словосочетание паблик рилейшнз может считаться более профессиональным. Оно используется в специальных текстах, например в специальных журналах или в тех же учебниках, но прежде всего иностранных авторов. Примерно так же употребляются и английские слова (PR и public relations), в особенности аббревиатура, которая часто встречается и в названиях соответствующих компаний, сотрудников и видов деятельности: PR-агентство, PR-консалтинг, PR-менеджер. А вот для всех остальных сфер осталось слово пиар, то есть для устной речи и для неофициальных текстов, в том числе для газет и журналов. Оно уже не воспринимается как аббревиатура и активно вступает в отношения с другими словами, приставками и суффиксами. Достаточно назвать ряд образованных от него слов: пиарщик, пиарить, отпиарить, пиар-кампания ит. д.
Важно и другое. Это слово сильно расширило свое значение и из узко профессионального стало поистине национальным. Теперь смысл, да и употребление слова, столь сильно отличаются от английского прототипа, что его, как я уже сказал, не узнают англичане и американцы. Фактически слово пиар может относиться к любому факту навязывания своего мнения, к любой манипуляции чьим-то сознанием с целью создания мнения, более того, к любому случаю просто распространения мнения о чем-либо или о ком-либо. «Хватит его пиарить!» – прерывают меня, когда я лестно аттестую моего коллегу в разговоре с третьими лицами. Как страна жила без пиара, точнее, без этого слова, раньше, уму непостижимо, ведь пиар в таком общем значении («навязывания определенного мнения») существовал всегда. Популярность данного слова, по-видимому, означает осознание всеобщности манипулирования всех всеми, что, впрочем, было характерно для нашего общества и в далекие «допиаровские» (то есть советские) времена.
Кроме разговорности, или «сниженности» стиля, и расширительности, еще один фактор мешает пиару стать нейтральным названием профессии. С этим словом связаны очевидные отрицательные ассоциации, позволяющие ему легко погружаться в соответствующие контексты. Словосочетание черный пиар по существу уже стало устойчивым. Глагол пиарить явно выражает неодобрение к осуществляемому действию, которое иногда еще усиливается приставкой. Мне, например, попадалось несколько газетных статей с заголовком «Отпиарили!», построенным по аналогии с глагольным рядом отдубасить, отметелить и т. д., обозначающим крайне неприятное для объекта действие.
Таким образом, пиар в обывательском сознании, воплощенном в языке, обозначает нечто слегка неприличное и вместе с тем привлекательное. Его частотность в текстах во многом следствие моды, но мода эта не случайна. Она вызвана не только тем, что это слово обозначает престижную и отчасти загадочную профессию, но и тем, что за ним стоит важное понятие или явление, возможно, ключевое для нашего сегодняшнего восприятия мира. Можно сказать, что наша эпоха в определенной степени характеризуется словом пиар.
В заключение рискну сделать прогноз. Думаю, что именно это слово через какое-то время станет наиболее нейтральным и, возможно, единственным названием данной сферы деятельности. Нужно только подождать, пока пройдет мода, дождаться, когда исчезнет эта особая смысловая аура. В любом случае, оно уже встроено в русский язык, и из всех нынешних своих конкурентов наиболее употребительно. И, следовательно, давно заслужило, чтобы его включали в словари и не подчеркивали спелчекеры.[13]
Просто я работаю волшебником
Раньше в детстве все хотели стать космонавтами или пожарниками, а становились инженерами. Теперь кем хотят, тем и становятся. То есть менеджерами. Слово менеджер появилось недавно, в словарях 80х годов ХХ века его еще нет, и кажется для русского языка избыточным. Ведь вроде бы уже есть слова с похожим значением, например управляющий или разговорное управленец. Существуют также слова служащий, клерк и другие. В словаре Ушакова присутствует даже совсем смешное менажёр, которое было заимствовано из французского и относилось только к миру спорта.
Однако, если подумать, слово менеджер совершенно уникально, и ничем заменить его нельзя. В новых словарях оно толкуется как нанимаемый руководитель предприятия. Но это не так (в этом значении, скорее, скажут топменеджер), и по существу слово менеджер означает почти любую наемную профессию. Вы приходите в турфирму, и вам говорят: «Сейчас к вам подойдет наш менеджер», то есть попросту наш сотрудник. Сын моей родственницы устроился, по ее словам, на престижную работу – менеджером торгового зала. Ну что же, неплохо, подумал я, пока не перевел эту профессию на более привычный язык. Говорят, что существует даже менеджер по клинингу.[14] Слово менеджер звучит солидно, но без объяснения практически ничего не значит. Это как просто сказать, что человек работает. Появилось две самых частых объяснительных конструкции. В одном случае пояснение присоединяется с помощью предлога по: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами и т. п. В другом случае заимствуется английская конструкция с предшествующим существительным в качестве определения, причем чаще всего это существительное тоже просто заимствуется: сейлзменеджер, акаунтменеджер, брендменеджер и подобные. Порой эта английская добавка пишется через дефис, но строгих правил на этот счет пока не существует. Порой первая часть так и пишется по-английски, скажем, eventменеджер встречается не реже, чем ивентменеджер или эвентменеджер (или эвентменеджер). Поскольку русское написание еще не устоялось, проще написать латиницей, тем более что степень понятности одинакова, – все равно надо знать английский язык. В этой конструкции менеджер означает: «тот, кто занимается», соответственно, продажами, продвижением бренда, организацией мероприятий…
Зачем же русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно-пустоватое слово? Дело в том, что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной, или «культурой белых воротничков». Менеджер – это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, наконец, просто стабильная жизнь. Менеджер читает солидные СМИ, ест бизнес-ланч, вечером ходит в клубы, а летом отдыхает за границей. В конце концов, это что-то вроде среднего класса минус богема и представители свободных профессий. Стать менеджером означает чего-то добиться в жизни, завоевать свое место под солнцем. Менеджер оказывается основным адресатом рекламы. Слово менеджер используется в качестве приманки и включается в название десятков книг типа «Как стать менеджером», «Как быть менеджером», «Как подцепить менеджера».
Это действительно чем-то похоже на инженера в советское время. Мальчик мог играть на скрипочке или сочинять стихи, но все равно должен был стать инженером, потому что это профессия. По крайней мере, так считали мамы, забывая о том, что есть громадная разница между главным инженером завода или чего угодно и обычным инженером, проводящим большую часть рабочего времени в курилках или на овощных базах. В слове инженер таился определенный статус, некая планка, ниже которой уже не опуститься.
Общественный статус и престиж характеризуют и слово менеджер, и делают его столь популярным. А дальше его границы начинают расплываться, как и у инженера, и разница между топ-менеджером крупной компании и, скажем, офис-менеджером тоже огромна. С помощью расширения употреблений этого слова можно избежать названий непрестижных профессий, например продавец или уборщица (см. выше), и сделать их престижными. Менеджер по клинингу звучит куда более загадочно и многообещающе, в конце концов можно сказать коротко: «Я – менеджер», и тем самым приобщиться к культуре, к статусу, к целому солидному классу солидных людей. Таким образом, слово менеджер оказалось своего рода волшебной палочкой, с помощью которой тыква превращается в карету, а Золушка – в принцессу, и, конечно, стало чрезвычайно востребованным именно сейчас, в период складывания новых социальных групп. Оно полезно и ядру этой группы, задающему основные параметры корпоративной культуры, и маргиналам, использующим его как пропуск в клуб для избранных.
Но русский язык не был бы русским, если бы не сумел сыронизировать над собой и в этой ситуации. И породил слово-близнец – манагер. Это транслитерация английского слова, которая воспринимается как особый русский способ прочтения manager и в буквальном, и в переносном смысле. И вот уже появляются спектакли и романы, посвященные манагерам, а кто-то философствует, определяя различия между менеджером и манагером (например, манагер – это плохо работающий, непрофессиональный менеджер). А различие на самом деле одно, и заключается оно в ироническом отношении к соответствующей культуре, статусу и привычкам, и к себе, менеджеру, в том числе. И понятно, что никто не захочет зваться манагером торгового зала, поскольку приходится выбирать – либо погоня за престижем, либо ирония…
Недетские игры
– Кто у вас работает нативным пруфридером?
– Нативный американец.
Кто понял, о чем этот взятый из интернета диалог, тот молодец, а кто не понял – тот уж, наверно, догадался, что речь снова пойдет о профессиях.
Почему я никак не могу оставить в покое эту тему? Не только потому, что мне полюбились эти загадочные и бесконечно красивые слова: мерчандайзер, фандрайзер, медиапланнер, коучер, хедхантер, – в конце концов, когда появились дизайнер, дилер и брокер, о них тоже слагали анекдоты, а потом ничего, привыкли. Скорее, дело в другом. Во-первых, про некоторые из них я даже после длинных объяснений не могу понять, в чем состоит та или иная профессия, что собственно эти люди делают, а во-вторых, я вообще перестал отличать профессии от непрофессий, например от должности, хобби и т. п.
Начнем с «во-первых». Возьмем хотя бы коучера. Читаю статью из рубрики «профориентация»: «Коучеры – не советники, не психологи, не тренеры. Они не навязывают своих вкусов, взглядов или выбора. И не пытаются анализировать психологическое прошлое (как это делают психоаналитики). Они просто помогают человеку максимально успешно идти к той цели, которую он сам себе поставил. Человек для них не пациент, а клиент». Не понимаю. Почему не советники или, скажем, не помощники и наставники? Ведь, вроде бы, и советуют, и помогают, и наставляют. Почему это вообще профессия? Ну, то есть это как раз понятно: раз человек для них – клиент (и это в тексте звучит как-то особенно гордо), то профессиональный подход к делу налицо. И тут мы плавно переходим к «во-вторых».
Проще всего считать профессией любую деятельность, за которую платят деньги. Но тогда скажите: блоггер и трендсеттер – это профессии? Кому-то из них, наверно, уже платят. Но пока все это, скорее, что-то другое – хобби там, или стиль жизни.
Попробуем зайти с содержательной стороны.
Мне кажется, произошли принципиальные, сущностные изменения в понимании профессии как таковой. С одной стороны, имеет место тенденция определения профессии не через предметную область или конкретное дело, а через довольно абстрактную функцию. Пояснить это можно следующим образом. Старые названия профессий во многом дают представление о месте работы, о цели и объекте труда и даже о конкретных действиях. А вот большинство новых – едва ли.
Своей кульминации эта тенденция достигла в слове менеджер, о котором сказано выше. Про «вообще менеджера» практически невозможно сказать, ни где он работает, ни что именно делает, ни даже зачем. Ну, управляет людьми, – но это как-то слишком абстрактно, голая функция. Почти так же обстоит дело с коучером, пиарщиком, супервайзером, креатором и т. д.
Конечно, такое бывало и раньше, достаточно вспомнить рабочего, предпринимателя и политика. Но если в советское время сатирики издевались над тем, как чиновника перебрасывали с сельского хозяйства на культуру, а потом – на промышленность, то сейчас это уже не смешно. Это нормально: настоящий менеджер может руководить чем угодно.
Существует и противоположная тенденция – к максимальной детализации профессий, так что профессия уже не всегда отличима от конкретной должности. И вот, с одной стороны, имеется райтер (или копирайтер) – крайне абстрактная функция чеготоделания с текстом, а с другой стороны, сверхконкретное ее уточнение: спичрайтер – специалист по написанию статей, речей, докладов. Ни райтер, ни спичрайтер в старые добрые времена не потянули бы на самостоятельную профессию, одно слово в силу недостаточной, а другое – в силу избыточной конкретности.
Можно сказать, что кардинально изменился принцип выделения профессий. Есть как бы три уровня абстракции. В стабильном мире существовал список профессий, относящихся, в основном, к среднему уровню. Их названия информировали не только о выполняемой функции, но и о материальной стороне: условиях труда, инструментах, объекте, порой даже об одежде. Вспомним, у врача с продавцом всегда был белый халат, у пожарника – красный комбинезон и красная каска, у почтальона – толстая сумка на ремне. А уж трубочиста с кем-либо еще спутать было просто невозможно. Наш современный нестабильный мир требует другого подхода. Есть профессии – абстрактные функции, практически не зависящие от социальных или технологических изменений и, таким образом, почти не связанные с объектом, инструментом и местом работы. И есть множество чрезвычайно конкретных занятий.
Налицо два способа членения человеческой деятельности – старый и новый. Проводником нового способа стал в нашей культуре английский язык. Во-первых, потому что сам способ пришел с Запада, во-вторых, потому что английский язык дает регулярную возможность называть новые мелкие профессии-занятия одним словом, что удобно. Однословные сейлзменеджер или спичрайтер к тому же сохраняют также связь с абстрактной функцией – менеджер или райтер.
Это яркий пример того, как от языка зависит наш взгляд на мир. Есть две разных понятийных сетки, плохо совместимых друг с другом, сквозь которые мы и видим общество. С одной точки зрения – что-то является профессией, а вот с другой – нет. Самое же интересное, что новая сетка профессий не вытеснила старую, а сосуществует с ней. Даже всякие номенклатурные списки представляют собой смешение старых и новых названий, а уж о наших головах и говорить нечего.
Хуже всех приходится детям. Психологи отмечают, что современные дети реже играют в ролевые игры, связанные с профессиональной деятельностью. Легко нам с вами было когда-то играть во врача и пациента, продавца и покупателя или там пожарников, или космонавтов, а вот поди поиграй в менеджеров, коучеров, фандрайзеров и креаторов…
Врачу полагается халат и шапочка, термометр и лекарства. Место действия – больница или поликлиника, где он и осматривает больного. Космонавту необходим скафандр и космический корабль, в котором он полетит в космос. А вот как выглядит коучер, где он работает и что он, черт возьми, делает?
Бедные наши дети, наши будущие манимейкеры и затем маниспендеры!
P. S. Предваряя возмущение корректора и читателей, замечу, что написание некоторых слов в этой главе представляет собой важную орфографическую проблему. Поговорим об этом! Но позже.
Украли слово!
Как мы расстраиваемся, когда в языке появляется что-то новое! Например, новое значение у старого слова. Неправильно, – говорим мы детям, – у слова тормоз есть только одно значение, человека так называть нельзя! Но дети на то и дети, чтобы не слушаться старших и играть в свои языковые игры. Когда языковые игры затевают взрослые, все может кончиться гораздо хуже.
Слово лингвистика появилось в русском языке как название науки о языке, синоним языкознания и языковедения. Как всегда бывает в языке, с одной стороны, синонимы конкурировали между собой, с другой – слегка расходились их значения. Слово языковедение тихо уходило из языка, название языкознание закреплялось за уже давно существующими и давно известными научными областями, а лингвистика – за научными направлениями более новыми и современными. Поэтому, скажем, со словом традиционный лучше сочетается языкознание, а традиционная лингвистика как-то менее привычно. Наоборот, структурной лингвистикой называют одно из главных направлений этой науки в двадцатом веке, а вот словосочетание структурное языкознание совсем не звучит. Просто, так не говорят. Так же странно будет звучать и компьютерное языкознание, генеративное языкознание и прочие словосочетания, где прилагательное связано с чем-то современным и актуальным. Раньше в названиях кафедр все больше использовалось слово языкознание: кафедра общего языкознания, кафедра сравнительно-исторического языкознания, кафедра германского языкознания. И только позднее появились кафедры структурной и прикладной лингвистики, кафедры компьютерной лингвистики, кафедры теоретической лингвистики. Короче говоря, слово лингвистика стало потихоньку побеждать и вытеснять слово языкознание. Но любая победа временна, и удар был нанесен со стороны, с которой его никто не ждал.
Лингвистика – наука маленькая, но гордая. Весьма гордая, но в общем-то не слишком большая. В советские времена структурная лингвистика вместе с семиотикой были чем-то вроде научного гуманитарного островка, в минимальной степени подвергшегося коммунистической идеологизации. Стремление к точности, к использованию математических методов было не только и не просто велением времени. Подумаешь, веление времени, этим-то как раз в советское время научились пренебрегать, ведь чуть раньше более чем актуальные генетика и кибернетика были объявлены лженауками, и не случайно, что именно с кибернетикой связывала себя новая лингвистика. Связь с точными науками была еще и способом защиты от идеологии, обязательной в гуманитарной области. Лингвистика шестидесятых годов стала самой точной из гуманитарных наук, и самой гуманитарной из точных. Отсюда возникла и чрезвычайная околонаучная популярность лингвистических штудий, докладов и семинаров, на которых обсуждались пусть малопонятные широкому кругу, но зато независимые от марксизма-ленинизма проблемы. Короче, говоря современным языком, лингвистика – это что-то знаковое, отчасти культовое, и, пожалуй что, элитарное. Ну, так, чтоб всем было понятно.
Перестройка, всеобщий расцвет, а затем всеобщий упадок наук сказался и на лингвистике, но сказался как-то странно. Сначала лингвистика расцвела пышным цветом, а затем… лингвистика продолжала цвести столь же пышным цветом. Появилось множество лингвистических гимназий, факультетов и даже университетов. Для абитуриентов слово лингвистика оказалось столь же привлекательно, как и слово психология и другие менее научные слова типа журналистика и даже менеджмент. Тут что-то не так, подумали лингвисты, и они не были бы лингвистами, если бы не решили эту проблему.
Вместе со словом лингвистика в русском языке появились и слова лингвист, название специалиста в данной научной области (раньше был языковед), и лингвистический, прилагательное, обозначающее нечто, связанное с данной наукой (раньше было языковедческий).
Первым столкнулось с проблемами имя прилагательное. Большинство из возникших ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ гимназий и университетов к науке лингвистике прямого отношения не имели. Просто-напросто в них изучались (больше и лучше) иностранные языки. Позвольте, – подумали лингвисты, – но лингвистический означает «связанный с наукой лингвистикой», а не с языком, даже и с иностранным. Нет, это вы позвольте, – подумали в ответ специалисты по иностранным языкам и открыли иностранные словари.
Вот, например, в английском языке слово linguistic значит, во-первых, «of linguistics» (то есть «связанный с наукой лингвистикой», по-русски – «лингвистический»), а во-вторых, «of language» (то есть «связанный с языком», по-русски – «языковой»). Так почему бы языковым школам и вузам (то есть школам с усиленным изучением иностранного языка) не называться лингвистическими?
Но ведь это в английском языке (могли бы возразить лингвисты), а в русском это слово относится только к науке.
А нам все равно, нам слово нравится. Раз в английском так, то почему в русском иначе?
Это наше слово! (могли бы закричать лингвисты).
Было ваше, стало общим (могли бы тактично ответить специалисты по иностранным языкам).
Конечно, если бы лингвистика была чем-то вроде фирмы «Ксерокс», она бы запретила использовать свой бренд расширительно, и инязы остались бы инязами, как это приключилось с копировальными аппаратами. Но лингвистика – это не фирма «Ксерокс», ни запретить, ни подать в суд она не может, пришлось смириться с новым значением слова. Но дело одним словом не закончилось, и чтобы в этом убедиться, достаточно открыть английский словарь. В нем написано, что linguist, во-первых, specialist in linguistics, во-вторых, polyglot. Смотрим словарь Гальперина, где написано, что linguist: 1. Человек, знающий иностранные языки. 2. Лингвист, языковед. Теоретический вывод состоял бы в том, что английский язык опять же устроен иначе, чем русский. А практический вывод, который, как это ни смешно, был сделан, состоял в том, что русский теперь будет, как английский. И лингвистические школы, и лингвистические университеты стали лингвистическими, не только потому, что в них преподают иностранные языки, но и потому, что в них готовят ЛИНГВИСТОВ. То есть, как нетрудно догадаться, людей, знающих иностранные языки.
В чем горе лингвистов в старом (еще, впрочем, не исчезнувшем) значении слова? Ну, утратили монополию на слово. Ну, перестали быть элитарными, зато стали популярными, поскольку отблеск популярности иностранных языков падает и на лингвистику. Конкурсы в лингвистические вузы велики, независимо от того, в каком значении используется это слово. И дело даже не в том, что лингвистам нужны их студенты, то есть те, которые хотят заниматься наукой, а не просто выучить один или несколько иностранных языков. Путаница в общественном сознании лингвистов и полиглотов раздражала лингвистов всегда, а сейчас стала как бы законной.
Беда в том, что эта путаница произошла все-таки в номенклатурном сознании, и последствия оказались административными, а не какими-то там ментальными. Я пока еще ни разу не слышал, чтобы лингвистом в речи называли человека, знающего один или пару иностранных языков. Однако в перечне вузовских специальностей «лингвист» и даже «лингвистика» в этом смысле уже используются. Есть такое образовательное направление «лингвистика и межкультурные коммуникации», по которому готовят переводчиков и преподавателей иностранного языка, то есть, так и хочется сказать, нелингвистов. Те «старые лингвисты» как-то сумели выкрутиться, назвав свою специальность «теоретической и прикладной лингвистикой». Нетрудно догадаться, что в нормальной ситуации теоретическая и прикладная области в совокупности и составляют науку. Так, теоретическая и прикладная физика – это просто физика, теоретическая и прикладная химия – это просто химия и так далее. Для лингвистов – эти «лишние» слова нужны, чтобы размежеваться с «новой лингвистикой», в прошлом – изучением иностранных языков. Другое дело, что и такое размежевание проходит недостаточно строго, потому что преподавание иностранных языков вполне может быть отнесено к прикладной лингвистике. На самом деле, это одно из направлений прикладной лингвистики.
Интересно, что государственный стандарт (документ, являющийся основой для введения и осуществления образовательной программы) для бакалавра по лингвистике вообще отсутствует. То есть он существует и даже называется «Бакалавр. Лингвист». Только это лингвист в единственном и уже совсем не научном смысле. Из науки лингвистики, науки о Языке вообще, в него входят всего несколько курсов: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «История языкознания». Они не случайно названы словом языкознание, потому что слово лингвистика в государственном стандарте используется уже для совсем другого. Пока лингвистике (в смысле, науке) учат так называемых специалистов, то есть студентов, которые учатся пять лет. Однако, когда наше государство перейдет на систему «бакалавр – магистр», окажется, что лингвистики на первой ступени (бакалавр) уже не существует, то есть, конечно же, существует, но это совсем не та лингвистика, это лингвистика в новом номенклатурном (и даже не английском) смысле, то есть красиво и научно названное изучение иностранного языка.
И наступит лингвистический рай, и станут все люди лингвистами, потому что, кто же теперь не знает хотя бы одного иностранного языка. А если знает, то он и есть самый настоящий лингвист. Жаль, что гордая, но маленькая наука и ее представители не доживут, потому что новых готовить не будут, а старые долго ли тогда протянут.
Монегаски любят зорбинг
Давайте расслабимся и поговорим о спорте. Я люблю спорт. За мужество, за волю к победе, за рост и вес Николая Валуева. Но больше всего за слова. За те слова, которые произносят спортивные комментаторы и пишут спортивные журналисты.
В какой-то статье об экстремальных видах спорта я наталкиваюсь на кайтинг, банджиджампинг, зорбинг, фрисби, вейкбординг и только на дайвинге облегченно вздыхаю, потому что уже слышал про него. Впрочем, такие разновидности дайвинга, как фридайвинг и акватлон, все равно остаются для меня загадкой. Знание английского помогает, но далеко не всегда. Похоже, что журналисту нравится быть умнее читателя, и обилие незнакомых слов укрепляет его превосходство. Любопытно, что его не слишком волнует проблема понимания его собственного текста.
Впрочем, названия видов спорта – особая статья (большинство из них заимствованы), но даже в хоккейном репортаже я спотыкаюсь на фразе: «Этот канадский форвард забил три гола и сделал две ассистенции». Ну, напиши: «два голевых паса» (и здесь сплошные заимствования, но хотя бы устоявшиеся), а еще лучше – «две передачи». Потом я вспоминаю, что глагол ассистировать в этом значении уже вошел в спортивную терминологию, и чем я тогда собственно возмущаюсь? В статьях о боксе мелькают крузеры (тяжеловесы, буквально – боксеры крейсерского веса), проспекты (перспективные боксеры), челленджеры и контендеры (претенденты на титул чемпиона) и подобные, хочется сказать – уроды. Особенно мне понравилась фраза: «У челленджера была довольно легкая оппозиция» (имеются в виду – предыдущие противники). Сначала я думал, что спортивные журналисты в принципе не умеют переводить иностранные тексты на русский, но потом догадался, что в этом есть особый профессиональный шик – употребить словечко, незнакомое большинству читателей и как бы подчеркивающее «посвященность» автора. Надо сказать, что болельщики с легкостью подхватывают эти слова и тем самым создают особый спортивный жаргон. Свой собственный жаргон есть у всех более или менее популярных видов спорта: тенниса, горных лыж и т. д. Более того, это было и раньше. Достаточно вспомнить старую моду на футбольных (гол)киперов, беков, хавбеков (хавов)… Сегодня из них употребителен, пожалуй, только форвард. Среди других терминов: корнер, например, окончательно вытеснен угловым, пенальти остался, а офсайд конкурирует с вне игры. Разница между прошлым и настоящим состоит в том, что сегодня терминология сплошь заимствованная, и никакой угловой в принципе невозможен.
«Спортивный профессионализм» имеет и более широкие последствия. Именно в статьях о футболе появились загадочные манкунианцы и монегаски. Я помню, как яростно мы спорили с моим знакомым, утверждавшим, что манкунианцы – это болельщики футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Действительно, это слово встречалось только в репортажах о матчах этого клуба и вполне могло бы быть аббревиатурой (Manc + Un). На самом же деле манкунианцы и монегаски – это самоназвания (на английском и, соответственно, французском языках) жителей Манчестера и Монако. По-русски они называются – манчестерцы и жители Монако (монакцы звучит плохо), но спортивные журналисты с непередаваемым шиком используют новые слова и, по существу, вводят их в обиход. В спортивной статье написать жители Монако уже просто неприлично.
Конечно, легко обличать спортивных журналистов. В действительности эти тенденции проявляются не только в спортивных статьях, просто здесь они чаще и заметнее. Сами по себе они довольно безобидны, ведь русский язык быстро осваивает некоторые из этих слов и помещает их в систему, а часть просто отбрасывает (честно говоря, с ассистенцией я встретился только однажды). Но вот последствия у них довольно неприятные.
Во-первых, заимствование становится почти единственным способом называния явлений, возникших за границей. Сегодня мы бы не стали переводить какой-нибудь корнер как угловой, а прямо заимствовали бы английское слово. Как вам, например, нравится термин из кёрлинга – свиповать (подметать лед перед скользящим по нему камнем)? Появись прыжки в высоту сейчас, мы бы назвали их хайджампингом и никак иначе. Лень или самоуверенность журналистов становятся фактически «ленью языка», который почти утрачивает внутренние механизмы перевода.
Во-вторых, из-за употребления новых и незнакомы слов возникают проблемы с пониманием текста в целом. Ведь эти слова, будучи по существу жаргонизмами, используются не только на каком-нибудь интернет-форуме любителей бокса или тенниса (где они вполне уместны). Они проникают в тексты, предназначенные, как говорится, для массового читателя. Но именно «массовый читатель» совершенно не обязан их знать. И получается, что любой из нас регулярно попадает в довольно неприятную ситуацию. Читая тексты (а также слушая речи), вроде бы предназначенные для нас («массовых»), мы почти неизбежно спотыкаемся на незнакомых словах. Казалось бы, хорошим тоном для авторов статей было бы такие слова либо не использовать, либо объяснять. Но оказывается, что «хорошим тоном» (все-таки использую кавычки) стало, напротив, употребление как можно большего количества незнакомых слов без каких-либо комментариев, что должно свидетельствовать о профессионализме (или особой посвященности) автора.
Читатель, конечно, выкручивается, как может. О том, что он все-таки может, я расскажу немного позднее.
Кто в доме хозяин
Судьба слов далеко не так безоблачна, как кажется на первый взгляд. Среди множества новых слов, появляющихся в последнее время в русских текстах, лишь некоторым удается закрепиться в языке надолго или даже остаться в нем. Другие же напоминают незваных гостей, которые, потоптавшись в передней, вскоре незаметно покидают отвергнувший их дом.
Причины тому, что слово не прижилось, бывают очень разные. Например, проиграло в конкурентной борьбе более удачливому сопернику с таким же значением. Или просто понятие, обозначаемое данным словом, оказывается несущественным, и экономный язык предпочитает передавать его описательно. Наличие слова само по себе очень сильное свидетельство важности действия, всего того, что им названо, для говорящих на этом языке.
Приведу несколько примеров таких недолгих пребываний в русском языке. Еще лет десять-пятнадцать назад было заимствовано слово консенсус. Популярность его объясняется тем, что его полюбил Михаил Сергеевич Горбачев, старавшийся всегда и во всем достигать консенсуса. Речь первого лица государства в СССР и в России всегда была предметом подражания. Особенности речи генсеков, в том числе и их ошибки, воспроизводились сначала их ближайшим кругом, а затем распространялись и дальше. Так, вслед за Хрущевым партийные деятели стали смягчать согласный звук «з» в суффиксе «изм»: марксизьм, коммунизьм. После ухода Горбачева с политической сцены быстро прошла мода и на консенсус, тем более что достигать с тем же успехом можно и согласия. Слово консенсус сейчас используется разве что пародистами, то есть фактически в языке не существует.
Не менее интересная история произошла с рядом слов, связанных с интернетом. В этой области действительно появилось много новых слов, без которых сегодня трудно обойтись, например сам интернет, а также сайт, виртуальный, портал, вебмастер, вебдизайнер и т. д.
Некоторое время назад интернет-сообщество активно изобретало новые слова не для особых интернетных явлений, а для чего-то вполне привычного, но помещенного в сеть. В этом была явно видна попытка сообщества отгородиться от обыденной жизни, переназвать по возможности все, потому что нечто в интернете – это совсем не то, что нечто в старой реальности. Отсюда такие игровые монстры, как уже более или менее привычная сетература (вместо сетевая литература) или более редкое – сетикет (вместо сетевой этикет).[15] Уже тогда можно было предположить, что они не приживутся в языке, если только интернетное сообщество не отделится окончательно от реального мира. Потому что сетература уж слишком плавно перетекает в литературу, чтобы обыденный язык позволил себе иметь целых два слова для на самом деле одного понятия. А отдельного сетикета, как я писал как-то раньше, тоже не существует. Если же надо подчеркнуть идею «сети», то можно использовать и словосочетание. В конце концов так и случилось. Наиболее талантливые писатели из интернета перекочевали на бумагу и из сетераторов сделались обычными литераторами, а соответствующие слова потеряли актуальность.
Но самым-то увлекательным был поиск слова для самоназвания. Разнообразие вариантов здесь необычайно велико (среди них, так сказать, и народные, и авторские): сетяне, сетевые, сетенавты, сетевики, сетеголовые, новые нетские (от английского net – сеть). Большая часть из них образована с помощью игрового приема и основана на довольно прозрачной и опять же игровой аналогии. Аналогия в языке вообще играет чрезвычайно важную роль. Сетяне устроены так же, как земляне или марсиане. Метафора понятна: интернет сравнивается с отдельной (от Земли) планетой, его пользователи – с ее обитателями. Звучит только чересчур пафосно. Примерно так же, как и сетенавты. Здесь, правда, метафора не планеты, но вселенной, а слово по аналогии с космонавтами и астронавтами называет мужественных путешественников в неведомое. Сетевики, наоборот, слишком жаргонно и подчеркнуто приземленно, да и закреплено, кажется, за конкретной специальностью. В новых нетских опять же слишком очевидна игра (новые русские), да и русско-английская гибридность помешала слову прижиться. Слово сетеголовые по своему устройству, пожалуй, самое сложное и отсылает к фантастической литературе: аналог – яйцеголовые. Наиболее нейтрально использование прилагательного сетевой в качестве существительного, но оно встречается достаточно редко.
Сегодня можно констатировать, что все эти слова уже забыты и вышли из употребления. Интернет-сообщество растворяется в человечестве или, точнее, наоборот, человечество (в том числе, говорящее по-русски) плавно вливается в интернет, и никакого особого интернетного общества не будет, а все будут существовать то в простой реальности, то в виртуальной. А в этом случае специального слова не нужно. Так думал я еще несколько лет назад, однако не мог предположить неожиданного поворота, который произошел в сетевом жаргоне совсем недавно. Сетеголовым не удалось отделить себя от остального человечества, и тогда с помощью специальных слов они отделили это «несетевое» человечество и «несетевую» жизнь от себя, то есть сделали именно всемирную паутину исходной, а реальный мир вторичным. Собственно, его так и называют реалом: «Давай встретимся в реале!» Появились также глаголы, обозначающие переход именно из настоящего, то есть сетевого, в ненастоящий, то есть реальный мир. Не пора ли нам развиртуализоваться, – говорит обитатель сети другому (варианты – развиртуализироваться, девиртуализ(ир)оваться). Что означает – познакомиться в том другом мире – мире № 2. Впрочем, есть пара слов, сохраняющих определенное равенство между этими мирами, – оффлайн и онлайн.
Так что еще не до конца ясно, кто в доме хозяин.
Улучшайзинг под контроллингом
Улучшайзинг – смешное слово, этакое слово-пародия на то, что происходит в русском языке. В нем не только английский суффикс «инг», который пока к русским глаголам все-таки не присоединяется, но и абсолютно бессмысленное «айз», своего рода мимикрия под английский глагол. Увидев его, я сначала просто смеялся, а потом еще громко и долго смеялся, когда узнал, что это слово вполне употребительно (в интернете около двух тысяч упоминаний). Впрочем, суффикс «инг» становится настолько привычным, что скоро шутки по его поводу перестанут смешить.
В подобном заимствовании, вообще говоря, ничего исключительного нет. Трудно и просто невозможно представить себе русский язык без иноязычных суффиксов «ер», «ор» или, например, «изм» и многих других (пенсионер, редактор, коммунизм). В русских словарях уже лет двадцать-тридцать назад можно было найти несколько десятков слов с «инг», ну а сейчас в текстах их просто огромное количество. Как всегда, смешон не сам суффикс, не его заимствование, смешна мода на него. В результате моды появляется много лишнего и нелепого. Когда я впервые увидел слово контроллинг, я подумал, что это тоже шутка, как и улучшайзинг. Особенно остроумным казалось сочетание учет и контроллинг (впрочем, этот юмор понятен только тем, кто еще помнит советские клише). А потом я обратил внимание на то, что так называются вполне серьезные книги и конференции, что это слово включено в словари по экономике и его значение несколько отличается от смысла более привычного слова контроль. Ну ладно, раз слово заимствуют, значит, это кому-то нужно.
Однако уже на этом примере стала заметна совершенно побочная проблема, возникшая при массовом заимствовании слов с «инг». И относится она к области орфографии. Проблема эта одновременно и проста, и сложна. Сложность состоит в том, что ни одно из решений не является безупречным. Оба решения (а их всего два) просты, но нехороши.
Пора переходить к примерам.
Как правильно писать: шопинг или шоппинг, контролинг или контроллинг, джогинг или джоггинг? Поанглийски эти слова пишутся с удвоенной согласной, а вот глагол, от которого они образованы только с одной (shop – shopping, jog – jogging). Удвоение в «инговых» формах происходит только для глаголов с кратким гласным звуком в корне, оканчивающихся на письме на одну единственную согласную букву, то есть букву, обозначающую согласный звук. Это правило связано с особенностями английского произношения и никакого отношения к русскому языку вроде бы не имеет. Кстати, это же правило действует и перед другими суффиксами, начинающимися с гласной буквы, например перед «er» (вспомним dig – digger или актуальное blog – blogger). При заимствовании удвоенные согласные между гласными сохраняются, о чем свидетельствуют, в частности, такие давно привычные слова, как спиннинг или спарринг. Однако не все так просто, и в старых словарях можно встретить слова фитинг или стопинг (специальные термины), несмотря на то что в оригинале две согласных – fitting и stopping. А в самых новых словарях появляется слово шопинг, причем именно в таком виде, то есть с одной буквой «п».
Итак, как это ни странно, есть два способа написания подобных слов. Рассмотрим их плюсы и минусы.
Преимущество написания с удвоенной согласной очевидно. Это просто – пиши, как в английском, и не ошибешься: там две буквы и в русском – две.
Чем же плохо такое написание? Тем, что, делая все по правилам, мы иногда получаем в русском языке очень странные пары явно однокоренных слов, пишущихся поразному: блог и блоггер, контроль и контроллинг (контроль, правда, заимствовано значительно раньше и из французского языка, но смысловая связь двух этих слов очевидна). При таком решении в русском языке появляется ранее ему не свойственное чередование в корне.
Второе решение состоит в том, чтобы писать в этих случаях одну согласную букву. Однако для того, чтобы отличать подобные случаи от других, надо знать английский язык. Скажем, прессинг или толлинг[16] следует писать с удвоенной согласной (в английском так уже пишутся корни: press и toll). А вот все вышеупомянутые слова – писать с одной: шопинг, джогинг, стопинг и так далее. Так же в соответствии с этим правилом нужно писать и дигер, и трендсетер, и даже просто сетер, ведь и порода людей, и порода собак связаны с глаголом set.
В действительности же происходит смешение этих подходов по следующему принципу. Если в русский язык заимствуется только слово с суффиксом, то оно пишется с удвоенной согласной, например давние заимствования спиннинг или спарринг, ведь однокоренных слов спин или спар в русском нет (первое, правда, есть, но в физике, очень далекой от рыболовства области, так что со спиннингом его ничего не связывает). Стопинг же очевидным образом связан со словом стоп. Еще любопытнее ситуация с шопингом. Я не уверен, что в русском языке есть слово шоп, но уж очень часто соответствующее английское слово мелькало на вывесках, и про одну согласную на конце многие запомнили. Некоторые на всякий случай пишут даже банер вместо правильного баннер, повидимому, из-за интернет-жаргонизма банить, хотя на самом деле между ними никакой связи нет.
Получается, что написание русского слова, во многом зависит от того, сколько слов заимствуется из английского. А это, пожалуй, еще хуже, чем предыдущие способы, – хотя бы потому, что заимствование двух слов может разделять значительное время, а, следовательно, после заимствования второго придется менять ставшее привычным написание первого.
Короче говоря, авторы словарей и законодатели орфографических норм находятся в легкой растерянности. А что же в это время делать пишущим? Попробую дать совет (в неофициальном, так сказать, порядке). Лучше писать, как в английском, с удвоенной согласной, просто потому, что это правило проще и порождает меньше ошибок. Итак, блог, но блоггер, трендсеттер и шоппинг. Пощадим только старые слова и термины, давно вошедшие в словари, просто из уважения к традиции.
Да еще, забыл сказать. Никогда не следует писать треннинг. В английском ведь и в помине нет удвоенной согласной. Так что, как говорится, тренинг, тренинг и еще раз тренинг.
Семейные ценности
После многих глав, посвященных названиям профессий и разным профессиональным жаргонам, хочется забыть о работе и подумать о семье. Слава Богу, нам есть чем гордиться. В области терминов родства русский язык – один из самых богатых. Ну действительно, что, к примеру, в английском: motherinlaw, fatherinlaw, daughterinlaw?.. Сплошная юриспруденция, а не семья. Попробуйте перевести, скажем, motherinlaw на русский язык. Пока не станет ясно, о чьей матери – мужа или жены – идет речь, ничего не получится. И так почти с каждым словом. Наша же семейная лексика – повод для патриотизма. И для пессимизма тоже.
Дело в том, что она постоянно сокращается. Давно ушли и забыты такие славные – и когда-то, казалось, столь необходимые – слова, как вуй, стрый, ятровь. Вместо вуя и стрыя, например, мы теперь просто говорим дядя, пренебрегая важнейшим в добрые старые времена различием. Для нас теперь совершенно все равно, по какой – материнской или отцовской – линии это дядя.
Из остального лексического богатства часть слов, увы, прочно перебралась в так называемую пассивную лексику. Конечно, все слышали слова золовка, деверь, шурин, свояченица, свояк, сват и сватья, – но уже почти никто не помнит, что каждое из них значит. Да и тот, кто еще помнит, скорее скажет сестра мужа вместо золовка или брат жены вместо шурина. А уж то, что свояки – это мужчины, женатые на сестрах, сейчас уже почти никому не известно. О пушкинской сватье бабе Бабарихе современного городского человека лучше не спрашивать. Сватью путают со свахой (которая к родству вообще отношения не имеет), а сноху – с невесткой, и лишь тёща с зятем благоденствуют – благодаря их вечному архетипическому конфликту, а главное – городскому фольклору на эту тему.
Итак, печальный итог. Сегодня мы активно используем лишь слова, связанные с ближайшим кровным родством: мать/отец, сын/дочь, брат/сестра, дядя/тетя, племянник/племянница, внук/внучка, бабушка/дедушка. Из того, что прежде называлось свойством[17] (еще одно постепенно забываемое слово, означающее родство не кровное, а через брак), кроме мужа и жены, используются лишь уже упомянутые тёща да зять и реже свекровь да невестка.
О чем это говорит? Прежде всего, об изменениях, происходящих в нашей жизни и культуре. Огромная русская семья со сложной иерархией отношений и фиксированными ролями скукожилась до скромной ячейки общества, состоящей из родителей и их детей и (как правило, чаще уже приходящих) бабушек и дедушек. И где-то на периферии – родительские братья и сестры с их детьми. Большая же употребимость слов тёща и свекровь по сравнению с тестем и свёкром (кстати, не всякий напишет его правильно в именительном падеже!) свидетельствует о более активной роли женщин в семейных делах, неважно – положительной или отрицательной.
Консервативность языка проявляется в том, что он отражает все эти социальные изменения, – но с некоторым опозданием. Например, не отбрасывает окончательно устаревшую лексику, а сохраняет ее в пассивном словарном запасе как слегка размытое воспоминание о сравнительно недавнем прошлом – своего рода коллективное подсознание. А вдруг всплывет! Ведь вернулись же слова, связывающее людей посредством крещения: крёстный и крестник (и конечно крёстная c крестницей), и даже более редкие кум да кума.
Запаздывает язык и в отражении некоторых новых ролей. В России, как и во всем мире, хотя и несколько позднее, распространилась новая форма брака – без регистрации, то есть постоянное совместное проживание, что порой сопровождается рождением и воспитанием детей. Как называть таких «сожителей»? Кавычки здесь поставлены неслучайно, потому что вроде бы подходящее по смыслу слово в этой ситуации не используется, наверное, из-за отчетливой отрицательной оценки, явно не уместной по отношению ко все более входящему в норму явлению. Не подходит здесь и слово любовники, отмечающее лишь наличие физической связи и скорее отрицающее совместное проживание, и уж тем более – платоническое возлюбленные. Русский язык заимствовал английское слово бойфренд (кстати, герлфренд почти не употребляется, наверное, потому, что женщинам важнее зафиксировать статус мужчины), однако использует его довольно избирательно. Применимо оно только по отношению к молодым людям и не обязательно означает совместное житье-бытье.
Остаются относительно новые и слегка расплывчатые значения слов друг и подруга (более редкое): «Это ее друг». Насчет совместного проживания в этом случае тоже не вполне ясно, но по крайней мере постоянные отношения эти слова подразумевают. И все-таки подумайте сами. Прожив с человеком лет пять-семь и, например, родив от него ребенка, удобно ли сказать: «Это мой друг». Боюсь, что язык не повернется. Кто же этот человек? Муж? А как же законный брак? И оказывается, что тут у русского языка, а вместе с ним и у нас, нет подходящего слова. Язык как бы замер в ожидании, чем разрешится эта ситуация. Получит ли она особый юридический и, главное, культурный статус, как во многих странах, что, безусловно, потребует специального слова? Или просто понятие брака расшатается так, что слова муж и жена станут применяться значительно шире, чем сейчас?
Отсутствие слов для нового и вроде бы важного явления оказывается не менее значимым, чем появление таковых. Оно подчеркивает неустойчивость, незакрепленность в культуре и тем самым неокончательность нынешней ситуации с браком и семьей. Что будет? Как говорится, поживем-увидим.
Шароварщики, уберсексуалы, трендсеттеры и другие породы людей
Появление новых слов в языке показывает, что важного появилось в мире. И в этом смысле, пожалуй, самое интересное то, как мы называем самих себя, то есть какие новые названия людей появились в последнее время. По этим словам можно судить о том, какие человеческие типы оказываются в фокусе нашего внимания. Они также задают и некий новый взгляд на себя или, точнее, новый ракурс. Вообще названия людей помогают нам составить наш собственный обобщенный портрет, новые же названия добавляют в него новые черты. А ведь самое интересное для нас – это мы сами. Если подумать, как было бы интересно из этого океана новых названий выбрать самое новое, самое модное, ну вообще, самое-самое… Попробуем!
Про профессии было сказано и так много, так что просто напомню: хедхантер, фандрейзер, коучер, пруфридер, копирайтер… И ведь это все не какие-то диковинные существа, а мы сами – обычные современные люди. Новые профессии заползают в наш мир в таком количестве, что мы уже радуемся, как старым друзьям, дилеру и брокеру, дизайнеру и креатору (хотя недавно рассказывали про них анекдоты), не говоря уж о главной профессии грядущего века – менеджере. Еще раз вспомню и его самоироничного двойника – манагера. Источник тот же – английский, а оценка – наша русская, и только в русском языке существующая. Новые профессии в подавляющем большинстве – из английского, исключения редки и относятся к областям кулинарии, моды, ну и спорта (например, сомелье, кутюрье, сумоист). Даже когда вдруг встречаешь в интернете что-то очень знакомое, например шароварщика, выясняется, что он тоже пришел из английского. К шароварам эта профессия отношения не имеет, а обозначает программиста, создателя особых пробных программ, предлагаемых бесплатно, но, как правило, с ограничением времени действия или каким-то другим «недостатком» (от англ. shareware).
Кроме профессий есть еще много нового и интересного. На звание самого-самого претендуют, на мой взгляд, два очень модных словца – блоггер и трендсеттер. C блоггером (англ. blogger) понятнее – это человек, ведущий блог, то есть дневник в интернете. Мало кто помнит, что сначалато был weblog, но потом, как говорится, «w» упало, «e» пропало, а «b» накрепко прилипло к «log». Результат налицо. Кстати, пример другого игрового слова в интернете – лжеюзер, где «лже» означает вовсе не ложный, а LJ (LiveJournal), то есть опять же интернет-дневник.
Только входящее в нашу жизнь слово трендсеттер поначалу вводит в заблуждение, однако это не порода собак. Оно – воплощенная мода, модно само и к тому же называет модного человека, точнее, законодателя этой самой моды, стиля жизни и, не побоюсь нового слова, тренда.
В последнее время меня, пожалуй, больше всего поразил приход дауншифтера. Что это, кто это? Ах, да, это тот, кто занимается дауншифтингом. Всем понятно? Вопросов нет? Ладно уж, объясню. Дауншифтер – это тот, кто сознательно спускается вниз по социальной лестнице, выпадает из социальной иерархии. Журнал «Русский Newsweek» опубликовал большую статью о дауншифтерах, наших соотечественниках, которые бросают престижную работу, оставляют высокие посты и на заработанные тяжелым трудом деньги живут где-нибудь в Таиланде или Малайзии. Ведь и вправду иначе, чем как дауншифтерами, их и не назовешь.
Обзор не будет полон, если мы не обратимся к области взаимоотношений полов. Здесь, как это ни странно, все самое интересное связано с мужчинами. Рядом с недавними властителями дум – метросексуалами – теперь часто упоминаются образованные по аналогии ретросексуалы (обычные мужики, но красиво названные) и техносексуалы (они же, но помешанные на технике). Однако за их спинами уже виден будущий чемпион – уберсексуал, причудливая смесь английского с немецким (вспомните уберменша). Только не надо спрашивать, что это такое, все равно не скажу. Разве что в качестве намека назову пару-тройку этих сверхмужчин: Билл Клинтон, Джордж Клуни, Пирс Броснан (любят политику, вино, сигары)… Замечу лишь, что тенденция удручающая, большинство из этих «неосексуалов» как-то слишком самодостаточны и практически не нуждаются в женском обществе. А жаль.
Наблюдательный читатель уже обратил внимание, что и эти новые слова русским языком заимствованы, прежде всего из английского. Это, пожалуй, самый яркий и, наверное, грустный пример того, что мы сейчас не создаем общественные, профессиональные и культурные отношения, а, скорее, заимствуем их вместе с соответствующими словами, то есть живем в условиях трансляции чужой культуры.
Не знаю, послужит ли читателю утешением, что в языке сохранилась по крайней мере одна патриотичная область. Это зона партстроительства. Рядом с единороссами плечом к плечу выстраиваются свободороссы. Не будем забывать о родинцах и жизненцах. Правда, только к ним привыкли, как они, объединившись, вроде и перестали быть актуальными. Кто они теперь? Справедливороссы? Мне лично милее были бы справедливцы, но едва ли члены партии со мной согласятся. Впрочем, теперь, кажется, их называют еще и эсерами (по аббревиатуре СР). Не правда ли, все новое – это хорошо забытое старое?
Почти все слова, о которых я писал в этой главе, подчеркнул красной волнистой чертой спелчекер (проверка орфографии). Значит, они еще не вполне вошли в русский язык (даже продвинутый спелчекер их не признал), и есть робкая надежда, что войдут по крайней мере не все. Так что не надо отчаиваться!
Глупые числа – 1234…
В названии должно быть число. Это правильно. Это мейнстрим. Ну вот, например, за весь прошлый век я помню только одно название, целиком состоящее из года. Это знаменитый роман Оруэлла «1984». А в нашем только начавшемся веке уже появилось по крайней мере три романа русских авторов: «2008» С. Доренко, «2017» О. Славниковой и «2048» Мерси Шелли.[18] Да еще фильм Вонг Карвая «2046», да еще телепередача А. Гордона «2030»… Если отвлечься от дат, то можно вспомнить наши новые фильмы «4» (режиссер И. Хржановский) и «977» (режиссер Н. Хомерики) и американский сериал «4400», роман В. Сорокина «23000», фильм Н. Михалкова «12» и многое другое. И поверьте, этим дело не кончится.
Мода на число – это мировая тенденция, и, казалось бы, причем тут русский язык. И тут надо сказать две вещи. Вопервых, мы, русские, больше многих других наций (американцев, немцев и прочих шведов) любим порядковые числительные. Там, где по-английски или по-французски используется количественное, по-русски часто предпочитается порядковое. Для тех, кто не помнит грамматики, поясню. Скажем, в королевском имени Ричард III мы прочтем число как «третий», а не как «три», автомобиль «Москвич407» называем «четыреста седьмым», а «Мерседес 600» – «шестисотым». Ну и так далее.
Сегодня же в русском языке количественные числительные теснят порядковые. Так, и это во-вторых, в русском языке стала очень популярной особая конструкция, включающая в себя число, которое следует читать именно как количественное числительное.
Я открываю в журналах и газетах раздел, посвященный развлечениям, и вижу: галерея А3, клуб Б2, спектакль «Докторшоу, или Кабаре-03», коктейль Б-52, выставка Электронный вуду-2, телевизионная передача «Кремль-9», концерт «Скажи Ой 2», авиакомпания S7, «Радио 7», романы, фильмы, сценарии и т. д. «Одиночество-12», «Параграф 78», «Убежище 3/9». И повсюду количественные числительные. Откуда это все взялось?
Надо сказать, что в русском языке была подобная синтаксическая конструкция, но с ее помощью назывались, пожалуй, только три определенных вещи:
• Механизм и номенклатура: (танк) Т-34, (самолет) Ту-134, (телевизор) Темп-3 и т. п.
• Событие, или место, и год: Олимпиада-80, роман В. Войновича «Москва 2042» и т. п.
• Населенный пункт и номер: Армавир-9, Арзамас-16, Горки-10, Шереметьево-2 и т. п.
Сегодня же так может называться что угодно: от коктейля до романа, от клуба до авиакомпании. Расшатываться и расширяться эта конструкция стала под влиянием английского языка. Приведу только самые известные давние примеры: роман Дж. Хеллера «Уловка 22» (в другом переводе «Поправка 22»), вещество «Лед 9» в романе К. Воннегута, гонки «Формула 1», так называемые сиквелы (продолжения фильмов) «Крик 2», «Пила 2» и т. п., а также знаменитый «агент 007» – Джеймс Бонд. Именно названия фильмов и составили ту критическую массу, после которой стало позволено все. Само это явление уже пародируется в юмористических текстах, например во вновь актуальном журнале «Крокодил»: Сбылась мечта-3, Дедушка возвращается-2, В глубокой заднице-8. Один из самых чутких к моде писателей В. Пелевин публикует роман «Числа», где эта конструкция становится судьбоносной.
Роман в целом как раз и посвящен роли чисел в жизни современного человека. По существу, в нем предлагается некая концепция этой роли, а по ходу действия происходит постоянная игра с числами. Можно привести один, пожалуй самый яркий, пример. Все главы помечены числами, но это не порядковый номер главы, а скорее ее название (за исключением, возможно, первой главы). Во второй по порядку главе «17» речь идет о семнадцатом дне рождения. В следующей главе «43» – о числе 43 и т. п. Название же «34» встречается в романе неоднократно.
Одна из основных коллизий романа заключается в поиске героем хорошего числа, которое смогло бы защитить его, а также во взаимодействии выбранного им числа с другими числами, хорошими и плохими, и числами других людей.
Таким ангелом-хранителем для героя после долгих размышлений становится число 34. В этом решении его укрепил и случай в кино, когда на спинке кресла он увидел надпись:
«Перед ним чернела жирная надпись несмываемым маркером: “САН-34”. Что такое “САН”, он не знал – может быть, группа в каком-нибудь учебном заведении или что-нибудь в этом роде. Зато он хорошо знал, что такое “34” <…> После этого случая стало окончательно ясно, что пакт, о котором он мечтал с детства, заключен».
Вот так ключевую роль в жизни героя романа сыграла надпись на спинке кресла в кинотеатре – САН-34. Герой переосмыслил ее, наполнив число своим собственным содержанием. И это чрезвычайно важно.
Вкратце основные принципы «новой нумерологии» по Пелевину[19] таковы.
Во-первых, в отличие от нумерологической традиции она оперирует как раз большими числами (двузначными) и потому, как уже сказано выше, не имеющими устойчивых культурных коннотаций.
Во-вторых, сама связь числа и явления в «новой нумерологии» культурно никак не обусловлена. Более того, можно говорить о произвольности и даже натянутости этой связи. Подгонка события под число или вычитывание числа из события в интерпретации персонажей романа кажутся абсурдными и смешными. «Новая нумерология» по существу является постмодернистским издевательством над традиционной нумерологией.
В-третьих, несмотря на произвольность и абсурдность, «новая нумерология» работает как некая прикладная наука, или, иначе говоря, как руководство к действию. Такое руководство дает определенный положительный эффект, и не только психологический. Абсурдность «новой нумерологии» противостоит абсурдности современного мира и помогает упорядочить его некоторым, пусть случайным, образом.
В жизни, а точнее, в сегодняшнем языке действительно происходит нечто очень похожее. В современных названиях число иногда получает совершенно понятную интерпретацию, например в «Кабаре-03» число отсылает к номеру скорой помощи, а в галерее А3, по-видимому, к формату бумаги. Но порой появляется множественность смыслов. Скажем, в случае «Радио 7» – это можно интерпретировать и как радио на семи холмах, и как трансляция семь дней в неделю (в соответствии с рекламным слоганом). А в одной радиопередаче, посвященной авиакомпании, был объявлен конкурс на лучшую интерпретацию сочетания «S 7», что фактически подразумевало, что у владельцев компании такой интерпретации либо нет, либо они готовы ее дополнить другими. Интересно, что одной из лучших была признана интерпретация числа 7 как количества континентов или частей света, куда летают самолеты компании, что, безусловно, неверно. Традиционно выделяются шесть континентов и шесть (реже семь) частей света, но в любом случае в Антарктиду самолеты данной компании не летают.
Наконец, в качестве логичного завершения этого процесса происходит обессмысливание числа в названии. И здесь опять стоит обратиться к художественной литературе. Название модного романа «Одиночество-12» его автор А. Ревазов объясняет словами своих героев, между которыми происходит следующий диалог.
– Вот и создалась концессия, – сказал Антон.
– Надо както ее назвать, – предложил я.
– «ДейрЭльБахри», – предложил Матвей. – Жестко. Серьезно.
– Серьезно, но хрен выговоришь, – возразил я. – Давайте лучше «Одиночество». Это слово мы еще не расшифровали.
– Слишком грустно, – покачал головой Матвей. – И не круто.
– «Одиночество-12», – сказал Антон. – Грусти – меньше, крутизны – больше.
– Почему 12?
– Просто так. Лучше звучит. Как Catch 22. Или Ми-6. И вообще, двенадцать – счастливое число.
Все согласились, хотя Мотя проворчал, что ему это больше напоминает не Ми-6, а Горки-10.
Для числа 12 вообще не предусмотрено никакой интерпретации. Появляется же оно в названии совершенно случайным образом, для «крутости», а фактически – «под иностранным влиянием», точнее, под влиянием соответствующей английской конструкции (см. указание на уже упоминавшийся роман Дж. Хеллера «Catch 22» и английскую разведку Ми-6).
Вот и объяснение всему. Если говорить ученым языком, то сначала происходит семантическое опустошение числа, когда первоначальное значение либо постепенно утрачивается, либо изначально неизвестно адресату текста. В предельном случае оно и не предполагается, то есть цифровую запись можно рассматривать как иероглиф, используемый только ради его звучания, но не значения.
Если же совсем просто, то под влиянием английского языка в русском стало расширяться значение конструкции с числом. И расширилось до того, что число фактически потеряло смысл, стало своего рода крутым атрибутом или аксессуаром, красивым и модным украшением в названии.
Николай Гумилев когда-то написал:
А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
В последнее время числа несколько поглупели, по крайней мере некоторые из них. Зато получили доступ в высший свет.
Пункт приема потерянных слов
Как-то в Хельсинки я заглянул в музей истории и некоторое время бродил по залам, отстраненно любуясь предметами старины, пока не увидел телефон. Почти такой же был у нас дома, с большим диском и большой грубой трубкой. Рядом с музейным телефоном стояла пишущая машинка «Ундервуд», такая же, как у моего отца, и еще старая и задрипанная детская коляска. Это оказался зал двадцатого века, а в нем вещи, с которыми я когда-то жил и которых больше нет вокруг. Только в музее истории.
Увы, для слов не существует музеев. Мы яростно спорим, хорошо это или плохо, что в русском языке появляется так много новых слов, и совершенно не обращаем внимания на то, что тем временем другие слова постепенно исчезают. Конечно, об исчезновении слов всем известно, и любой мало-мальски образованный человек засыплет меня примерами: смерд, чело, десница, засим, вечерять, токмо, паче… Но это все мертвые слова, которые мы никогда не используем в обычной речи, а в современных словарях, если они туда, конечно, попали, им сопутствует помета «устаревшее». В несуществующем музее слов их следовало бы поместить в какие-то первые залы. Гораздо интереснее посмотреть на слова, уходящие из языка в двадцатом и двадцать первом веках, попросту говоря, на наших глазах.
Легко сказать «посмотреть»! А как это сделать? Как понять, что слово действительно уходит? Проще всего обстоит дело со словами, называющими утраченные вещи или понятия. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из языка ушли многие советизмы: от фельетонного несуна[20] до идеологических субботника или парторга. На смену многотиражкам пришли корпоративные издания, а партсобрания были вытеснены корпоративными вечеринками. Те, кто старше тридцати пяти (то есть в 85-м были уже взрослыми), конечно, помнят эти слова, те, кто моложе двадцати пяти, – вряд ли. Впрочем, некоторые из этих слов остаются в языке где-то на периферии – для обозначения «той жизни». В последнее время в переводных романах мне несколько раз при описании вещей в комнате попалось странное словосочетание – печатная машинка. Подозреваю, что переводчик либо слишком молод, либо слишком забывчив. Речь ведь идет о том, что по-русски называется пишущей машинкой и только так (см. выше сцену в музее). Печатная машина, конечно, тоже существует, но место ей в типографии.
Слова уходят не только вместе с вещами, но и сами по себе. Трудно поймать момент их ухода, еще труднее предсказать его. Тут мне не поможет профессия лингвиста, потому что пока лингвисты не умеют фиксировать это довольно условное прощание слова с языком. Попробую опереться на свою интуицию, хотя и понимаю, как это субъективно. Назову несколько слов, которые, как мне кажется, еще используются, но только теми, кто постарше. А это значит, что они на пути к исчезновению.
Я давно уже не слышал от своих знакомых слова получка, а ведь раньше жизнь измерялась от получки до получки. Интересно, что вполне советское по происхождению слово зарплата чувствует себя превосходно. Повидимому, в получке было заложено что-то социально важное: процесс выдачи денег (как правило, два раза в месяц), очереди у кассы, раздача долгов – все то, что бесследно (хочется надеяться) исчезло из нашей жизни.
Не слышу я и таких слов, как посиделки и междусобойчик (в значении праздника для своих). По-моему, их нет в речи молодых людей. Может быть, их заменила тусовка? Мне почему-то посиделки милее, как-то камернее и домашнее, не сочтите за старческое брюзжание. Кстати, мы теперь и не чаёвничаем, хотя чай пить вроде не перестали.
Часто уход слова никакими теориями и социальными сдвигами не объяснишь. В начале этой главы я употребил слово задрипанный, но ведь так тоже сегодня не говорят. А задрипанных или, скажем, замурзанных вещей вокруг сколько угодно. Почему-то исчезло из употребления в качестве ответа на вопрос слово отнюдь, еще недавно популярное в узких кругах: Ну что, теперь ты довольна? – Отнюдь.
Особенно интересно обстоят дела с человеческими отношениями. О сокращении терминов родства я уже писал. Но вот слово приятельница, обозначающее дружеские отношения между взрослыми женщинами. То ли нынешние девушки, те самые двадцатипятилетние, еще просто не выросли (и у них все еще подруги), то ли с приятельницей придется попрощаться (в отличие от вроде бы похожего на нее приятеля). В общем, в нынешнюю унисекс-эпоху особым женским словам приходится туго. Незаметным стало слово земляк, видимо, в эпоху глобальных перемещений исходный пункт все меньше связывает людей. Уход слова не трагедия, но всегда потеря – потеря смысла и некоторого особого взгляда на мир.
Любой читатель может поспорить с моим списком и предложить свой собственный. У нас у каждого свой слух и свой языковой опыт. Хорошо было бы открыть пункт приема уходящих слов, потому что иначе, как всем миром, нам их не собрать. А потом создать музей, хотя, как я уже сказал, для слов не бывает музеев.
Зато есть словари. И, может быть, когда-нибудь мы увидим словарь русских слов, исчезнувших в нашу смутную эпоху. Боюсь, что он будет довольно толстым.
Поговорим об этом вместе
В 2006 году моя статья про уходящие слова вышла в газете «Ведомости» и вызвала огромное количество откликов в интернете на форуме газеты. Кто-то спорил со мной, кто-то друг с другом, но в основном все вспоминали разные уходящие или ушедшие слова. Интересных примеров было так много, что, в конце концов, мне стали прозрачно намекать о необходимости совместных исследований, публикаций или хотя бы просто благодарности за помощь. Конечно, я не могу привести здесь всю дискуссию, но самые, на мой взгляд, интересные, а может быть, забавные реплики я процитирую.[21]
Semar
…гы, вы у проституток спросите пользуются ли они термином «субботник»:)))
Scally
Вот оно, значит, как… мне еще жить и жить до 35-ти, но слово «отнюдь» – мое любимое. Часто его употребляю в разговоре вместо «нет». На мой взгляд, оно более звучное и более убедительное. Не брезгую словами «приятельница» и «посиделки». И периодически слышу их от своих ровесников.
exibmbcs
«ударник»
«рабфак» (хотя в МГУ до сих упорно называют подготовительный факультет «рабфаком»)
«косынка» (теперь у нас носят «банданы»)
Capoeirista
Недавно с друзьями заметили, что слишком часто стали употреблять слово «прикольно». Решили, что это не правильно. Теперь пытаемся заменить его хорошо забытым словом «баско».
exibmbcs
Да, помню такое словечко по школьным временам. Только смысл все же немного другой.
Capoeirista
Да, «баско» – значит красиво. Но мы употребляли его как синоним слову «клево». Клево сейчас используем только применительно к рыбалке.
s_o_smirnov
У нас в деревне так говорили, например, баская девушка, баский платок. А вы случайно не из Вологды?:)
NataNK
используют «баской» в Сибири. Моя бабушка так говорила. И мама иногда употребляет, но уже «в кавычках», понимая, что слово устаревшее. И в сельской местности до сих пор употребляют, чаще слышала по отношению к урожаю: «морковка баская такая» (т. е. крупная, сочная, хорошая), произносится с растягиваниям и усилением второго слога. Слово имеет сильную эмоциональную окраску. А у другой мой бабушки картоша на огороде росла «обламучая», только ни от кого я такого слова больше не слышала.
exibmbcs
А еще есть ушедшее слово «лимитчик». Хотя нет-нет, а употребляют презрительное «лимита». Впрочем, есть слова, которые пока не ушли из нашего лексикона, хотя очень хотелось бы: «понаехали», например.
s_o_smirnov
Из этого же советского прошлого – «толкач». А порой уходят не только слова, термины, но и фамилии. Лет семь назад мой сын принес из детского садика старую детскую считалку-дразнилку: «Улица Ленина, дом короля, кто обижается – сам на себя». Но Ленин он произносил как Левин. Когда я попробовал его исправить, он ответил: «Папа, такого слова Ленин – нет!»
exibmbcs
А помните слова «фарцевать», «фарцовщик»? И еще: «барыга». Последнее, правда, приходится все чаще использовать сейчас. Например, как еще назвать спекулянтов, которые на вокзале «барыжат» билетами в тот же Питер? Самое смешное, они в ответ на прямое употребление слова «барыга» в их адрес говорят: «да назови нас как хочешь, только деньги плати»…
Вальдман
Еще спекулянты исчезли. Мироед еще слово было;) Пропесочить.
exibmbcs
Вот не знаю, подскажите насчет слова «авоська» – ими кто-то еще пользуется?! Помните, такие из тонких веревочек сетчатые сумки?! И куда исчезли из магазинов «рогалики»?!
Ryck
В тему авоськи – «кулек». Давно не слышал…
spina
бедненькие вы, у нас рогаликов с повидлом еще полно, и сверху сыплют сахарной пудрой
exibmbcs
Еще были распространены шапки «из пыжика», или попросту «пыжик». Теперь «пыжиками» называют дамские машинки марки Peugeot (например 206).
Kosh
Кто ни будь знаком со словом «Раскардаш»?
а глаголом «перехиляться?»:))
Ulitochka
Раскардаш у меня мама часто употребляет в смысле «беспорядок, бардак»)) А вот глагол незнакомый:))
spina
раскардаш – у нас тут на юге часто используется синонимом беспорядка
Ulitochka
А вместо слова «подгузник» сейчас все чаще употребляют «памперс»:)
ААлек
было еще подряд, но в ироничном смысле – отлэ, зэконско, ништяк.
NataNK
исчезла «кошелка» как вид сумки.
исчезло такое название предмета женского нижнего белья, как «комбинация», причем сам предмет остался (зайдите в дорогой бельевой бутик в центре Москвы). Нижнее белье перестали называть «исподним».
Кстати, совсем недавно в одной из сибирских деревень встретила слово «исподки» как название мягких шерстяных варежек (рукавичек), в отличие от грубых рабочих рукавиц «верхонок».
еще не стало управдомов!
С. Никонов
У нас с Вами кошелка конечно исчезла
Это слово теперь очень активно используется для обозначения некоторых неприятных оратору женщин.
С. Никонов
А еще «ватник» заменил «телогрейку».
NataNK
не, телогрейка осталась. в сельской местности, причем по всей стране, используется и одежда, и слово.
а вот душегрейка как теплая женская одежда ушла. когда-то жилет был сугубо мужской одеждой, а женские утепленные безрукавки, одеваемые на другую одежду, назывались душегрейками.
Ярославич
«Ватник» то же уже не слышу, как и «батник» из 80-х и «пуховик» из 90-х. Убежали «кеды».
NataNK
пуховики остались на рынках, а кеды возвращаются в бутики как «винтажная обувь»
Ulitochka
Еще, мне кажется, уходит слово «диктор» – теперь вместо него ведущие или диджеи:) В книжках про 50–60е годы, особенно в детских (Драгунский, Носов и пр.) часто встречалось слово «ситро», а в жизни я его вообще не слышала.
Бобби
Сейчас, Максим Кронгауз за нами уже всё записал, со словариком ты немного опоздал. Давайте попросимся в соавторы хоть? И пусть не называет нас забытым словом «нахлебники» или «захребетники».
s_o_smirnov
Леня Голубков бы сказал – мы партнеры:) Максим, вы действительно делаете такой словарик, тогда прошусь в помощники (в соавторы – это слишком нахально:))
NataNK
Уважаемый Максим Кронгауз! Посмотрите, сколько мы вам вышедших и еще выходящих из употребления слов назвали. Надеюсь, вы сможете отделить от тех, что действительно покидают язык, поколения жаргонизмов, диалекты и неприжившийся новояз. И очень хочется, чтобы вы нашли способ както сообщить нам, пригодились ли вам наши полные энтузиазма изыскания!
Я не участвовал в самой дискуссии и попробую исправить этот свой промах в книге.
МК
Дорогие участники форума, «ваши полные энтузиазма изыскания» мне, безусловно, пригодились. Буду рад, если включение этой главы в книгу, вы сочтете моей благодарностью и признанием партнерства.
Спасатели слов
Никак не могу расстаться с этой темой – уходящие слова. Россию часто сравнивают с Францией именно по отношению к родному языку. Точнее, многие считают, что нам следует ориентироваться на Францию в смысле заботы и защиты родного языка. Я прожил во Франции два года, преподавал там в университете и, честно говоря, так не думаю. Не потому, что французы неправы, а просто мы другие (вспомните историю про @ из главы «Курс молодого словца»). Но попадались мне там замечательные вещи, о которых стоит рассказать.
Начну издалека – с французского телевидения. Оно, с содержательной точки зрения, ничем не лучше российского, за, пожалуй, одним или, если хотите, двумя исключениями. Я имею в виду программы о книгах и языке. Каждый из основных французских каналов имеет специальную передачу о новых книгах. На этих передачах, как правило, присутствуют авторы, и обсуждается не только художественная литература, но и публицистика, и даже сугубо научные книги. Иногда эти передачи закрываются, но им на смену приходят новые. Самую знаменитую (так и хочется сказать – культовую), уже давно закрытую, под названием «Культурный бульон» вел Бернар Пиво. Бернар Пиво – один из самых известных французских тележурналистов. Кроме всего прочего, он – один из организаторов знаменитых французских диктантов популярного конкурса, финал которого проводился на телевидении. Диктанты настолько сложны, что даже победители делают какое-то количество ошибок. Пиво также составитель серии «Les Dicos d’or» («Золотые словари»), куда входят популярные книги о языке.
И вот у меня в руках новая книга из этой серии, написанная самим Бернаром Пиво, «100 mots а sauver» (2004), название которой переводится на русский язык примерно как «100 слов, которые нужно спасти». Это тоненькая книжка, напечатанная к тому же крупным шрифтом, по сути представляет собой словарик. Она некоторое время была среди бестселлеров, что для словаря, согласитесь, редкость. Впрочем, по виду на словарь она совсем не похожа, да и никаких научных претензий у нее, на первый взгляд, нет. В небольшом предисловии автор пишет о том, что люди справедливо заняты спасением птиц, насекомых, растений и других живых созданий, находящихся под угрозой исчезновения. Но никому нет дела до исчезающих слов, хотя, казалось бы, слова родного языка должны быть нам ближе, чем никогда не виданное растение. Впрочем, и в лингвистике появилась своя экология, правда, лингвисты спасают объекты более крупные, чем слова, – целые языки. Пиво цитирует известного французского лингвиста Клода Ажежа, который утверждает, что ежегодно в мире исчезает около двадцати пяти языков. Что уж тут говорить о словах!
И все-таки французы удивительно трепетно относятся к своему языку. Бернар Пиво, не будучи, вообще говоря, профессиональным лингвистом, берется за задачу проследить, а точнее – выследить уходящие из французского языка слова, и даже не только слова, а отдельные значения. Это оказывается возможным лишь по одной простой причине – благодаря налаженной, как безостановочное производство, французской лексикографии. Во Франции существуют два знаменитых словарных издательства Larousse и Robert (есть и другие, но Пиво опирался на эти издания), каждое из которых кроме большого многотомного словаря издает, и делает это из года в год, однотомные словари, так называемый Petit Larousse и Petit Robert, соответственно. Каждый год в эти словари включаются новые слова и, увы, исключаются какие-то устаревшие (объем словаря более или менее фиксирован). Эти обновления также фиксируются и даже обсуждаются, в том числе на телевидении. Именно поэтому словарь исчезающих слов может составить и неспециалист. Трогательным штрихом в книге Пиво оказываются пустые страницы в конце, озаглавленные «Liste personnelle de mots en pйril» («Личный список, слов, находящихся под угрозой исчезновения»). Читатель приглашается в соавторы!
Сам словарик чрезвычайно прост. Статья о слове состоит из описания его значения, примера его употребления (как правило, цитата из какого-нибудь известного автора) и необязательного, но всегда любопытного (когда оно есть) неформального примечания, помеченного восклицанием Hep!, которое, кажется, понятно и без перевода. Написано это все чрезвычайно живым языком и, конечно же, не без особого французского юмора, впрочем, достаточно интеллигентного.
Едва ли читателю, незнакомому с французским языком, будет интересен подробный разбор словаря, поэтому ограничусь несколькими примерами.
Вот словечко bath с пометой «неизменяемое прилагательное». Это слово выражает положительную оценку. Такие слова очень частотны, особенно в устах молодых людей, и не слишком содержательны. На них существует особая мода, но если они выпадают из языка, возврата, как правило, нет. На смену ему пришли такие понятные и другим нациям слова, как super, gйant, genial, extra. Но, как мягко замечает автор, bath est un mot trйs bath, et mкme super! Что означает: bath – словечко очень bath (хоть куда), и даже super (супер).
Исчезнувшее слово bйjaune (существительное мужского рода) происходит от слов bec «клюв» и jaune «желтый» и в точности напоминает и по смыслу, и по структуре русское желторотый (за исключением части речи и порядка компонентов). Происхождение его прозрачно: желтый клюв бывает у птенцов. Интересно, однако, что более употребительно французское слово blancbec («белоклювик»), которое отличается от первого по значению, поскольку совмещает неопытность с самоуверенностью и высокомерием. Естественно, что «белоклювиков» не слишком жалуют, например, в армии.
Устаревшее междометие fi! понятно русскому человеку без перевода. К нам оно, повидимому, пришло из французского языка (как и выражение выразить фи) и, к сожалению, тоже устарело. Сам Пиво восхищается его эмоциональностью и краткостью, своего рода рекорд французского языка.
Еще одно очень французское словечко flafla (существительное мужского рода). Оно обозначает неестественное, напыщенное или манерное поведение, а в сочетании с глаголом faire «делать» может быть переведено на русский, как изображать из себя, а если совсем грубо, то выпендриваться.
Устарело и существительное женского рода nasarde, обозначающее удар или щелчок по носу, как в прямом, так и в переносном смысле.
Существительное женского рода patache обозначало лишенный комфорта дилижанс, на котором на небольшие расстояния перемещались крестьяне. Интересно, однако, что водителей такого дилижанса называли patachon, а поскольку вели они несколько рассеянный (не сказать богемный) образ жизни, появилось выражение la vie de patachon (жизнь «паташона»), которое тоже благополучно устарело.
А вот смешное и очень длинное междометие saperlipopette!, когда-то богохульство, а сейчас повод для каламбуров. Его упоминает среди любимых ругательств один из гостей «Культурного бульона», правда, в виде целой фразы Зa me perd les popettes, звучащей очень похоже и совершенно бессмысленной (во всяком случае знакомые французы интерпретировать ее не смогли).
Как можно не пожалеть об уходящем неизменяемом существительном мужского рода suivezmoijeunehomme (буквально: следуйте за мной, молодой человек). Так назывались ленты на женских шляпках, грациозно раскачивавшиеся сзади и как бы приглашавшие молодых людей последовать их движениям.
А вот существительное женского рода gourgandine обозначает уже самих женщин, легких и, как пишет Пиво, «без холода в глазах». Однако, предупреждает он, не надо путать их с женщинами легкого поведения, поскольку «гургандинки» делают это не ради денег. Слово происходит от названия корсета со шнуровкой на груди, а дальше автор порождает уж совсем непереводимый каламбур: Dйlacer la gourgandine avant d’enlacer la gourgandine – что-то вроде снять гургандину (корсет) перед тем, как обнять гургандину (девушку).
Ну, и чтобы покончить с французскими двусмысленностями, сообщу, что из языка ушло существительное мужского рода vit, вполне корректное, а главное, самое короткое название мужского полового органа. Впрочем, успокаивает Пиво, еще осталось бессчетное количество других названий, правда, все они будут подлиннее.
Вообще, надо сказать, что авторские комментарии, как уже видно, весьма веселые и неформальные, часто вполне информативные. Из них я, например, узнал, что устарело слово brunet «брюнет», а вот brunette «брюнетка» вполне живо. Русский язык оказался в данном случае более политически корректным, сохранив оба заимствованных из французского языка слова.
Еще удивительнее оказалась для меня информация о романе «La Disparition», написанном Жоржем Переком (Georges Perec) и опубликованном в 1969 году. Бернар Пиво, не оценивая его художественные достоинства, признает его лингвистическим подвигом. Автор поставил и выполнил задачу не использовать в романе букву «e».
Рассказ о книге Пиво можно продолжать, и так перебрать все сто спасенных слов. Но главное должно быть уже ясно. Перед нами очень французская, легкая и веселая, но вместе с тем мудрая книга о словах и языке.
Конечно, спасти слова, то есть сохранить их в языке, невозможно, но ведь понятно, что автор и не ставил такой задачи. Скорее, сохраняется память об этих словах. И мне остается только с завистью вертеть в руках книжку Бернара Пиво, представителя редкой профессии – спасателя слов.
Во власти слов
Большинство людей даже не представляют, в каких сложных, а порой интимных отношениях они находятся со словами родного языка. Иногда любовь или нелюбовь к слову сугубо индивидуальны и чтобы объяснить их, придется залезать в подсознание или искать какую-то психологическую травму в детстве. Вот я написал слово сугубо и внутренне поежился. Чем-то оно не по душе мне, а чем – объяснить не могу. Может быть, тем, что звучанием напоминает суккуба, а может быть… Впрочем, не стоит заниматься публичным самоанализом, лучше честно признаться, что все мы находимся во власти слов.
Некоторые лингвистические симпатии и антипатии носят гораздо более общий и регулярный характер. Мной был проведен эксперимент по выявлению любимых и нелюбимых слов, результаты которого были частично опубликованы в журнале «Власть» в 2005 году. Журнал к тому же помог мне, опросив многих известных людей: политиков, бизнесменов, деятелей шоубизнеса и т. д. Многие слова – герои всех предыдущих глав – были использованы в этом эксперименте и, действительно, вызывали у людей сильную реакцию. Фактически в этой главе я подвожу итог сказанному ранее.
Можно выделить группы или даже целые пласты слов, вызывающих у большинства людей разнообразные, иногда довольно сильные эмоции. Интересно, что то или иное отношение к такой группе слов оказывается важной характеристикой самого человека. Скажем, любовь или нелюбовь к крепкому словцу делит человечество на два противоборствующих класса и кое-что говорит нам о характере, темпераменте, воспитании и т. д. конкретного человека. Да и вообще, наше отношение к другим людям формируется не только «по одежке и уму», но и по тому, как они говорят, в частности, какие слова используют. Одно единственное слово – например, грубое или неграмотное (или, наоборот, «слишком умное») – может вызвать отторжение и заранее испортить общение.
Сегодня в русском языке таких «групп риска» довольно много. Связано это с тем, что за последние 10–15 лет наш лексикон изменился очень сильно. У одних людей эти изменения вызывают резкое неприятие и вообще оцениваются ими как порча языка. Для других же новые слова кажутся интересными игрушками, с помощью которых можно сделать свою речь более эмоциональной, более яркой, наконец, более модной. Часто отношение к «лексическим новинкам» определяется возрастом, грамотностью, профессией или, шире, – социальным положением. У слов, как и у людей, есть свой характер, своя популярность, свой престиж. Современная же русская речь является смешением всего, что только существует в языке (в том числе и того, что ранее существовало на глубокой периферии).
Итак, что же за группы слов вызывают особое к себе отношение?
Прежде всего, это заимствования. Заимствований в русском языке всегда было много, но сейчас они хлынули таким потоком, что часто даже затрудняют понимание текста. Особое раздражение вызывают «избыточные» заимствования, то есть когда заимствование дублирует по смыслу уже существующее в русском языке слово (иногда при этом заимствованное ранее и из другого языка). Чаще всего это модные слова типа комьюнити (вместо сообщество), интервью (в новом значении вместо собеседования), лофт (вместо чердака) и т. д. Самым известным примером такого рода является, пожалуй, консенсус, по значению совпадающий с русским словом согласие. Его короткое воцарение в русском языке было связано как раз с помянутыми выше сложными отношениями, а именно – загадочной любовью к нему Михаила Сергеевича Горбачева. К месту и не к месту мы пытались «достигнуть консенсуса», кончилось же все тем, что слово практически исчезло из нашей речи. Напротив, некоторые заимствования остаются, и раздраженным носителям языка приходится с этим смириться. Так, трудно вообразить себе современный мир без презентаций, несмотря на существование почти полного синонима – слова представление.
Мода, как известно, вызывает одновременно и притяжение, и раздражение. Кто-то такие слова не любит, кто-то любит и употребляет к месту и не к месту, а кто-то не любит, но все равно употребляет, потому что модно!
Заимствование лишь способ проникновения слова в язык, важно же рассмотреть разные тематические пласты лексики. Так, заимствованиями полны, например, современные жаргоны, среди которых главную роль играют сейчас молодежный (сленг), «бандитский», или криминальный, а также некоторые профессиональные (компьютерный, экономический, политический, спортивный и некоторые другие).
Особенно интересно отношение к криминальной лексике типа наезд, беспредел, отморозок, крыша, стрелка, кинуть, мочить и т. д. (здесь, кстати, как я писал раньше, почти нет заимствований). Многие люди, выражая недовольство распространением этих слов, на самом деле активно их используют.
Причины мной уже назывались. Во-первых, криминализация общества, так что некоторые ситуации адекватно описываются с помощью именно этой лексики. Во-вторых, их эмоциональность и, выражаясь этим же языком, «крутость». Короче говоря, многие из этих слов проникли уже не только в обыденную речь, но и в речь официальных лиц, и даже официальные документы.
Безусловно, эмоциональным является и молодежный жаргон. Слова из сленга часто ничего кроме эмоциональной оценки и не выражают: отстой, кул, прикольно, супер, классно, атомно и т. п. Особое отторжение у людей постарше вызывает междометие вау, заимствованное из английского языка и выражающее неподдельный и внезапный восторг. Как же неподдельный восторг можно выражать только что заимствованным и потому неестественным словом? – недоумевают старшие товарищи. Вау! Сами удивляемся, – отвечает молодежь.
Очень близка к молодежному жаргону и гламурная лексика: культовый, кастинг, эксклюзивный, стильный, элитный и др. Само слово гламур вызывает противоречивые чувства, но похоже, что без него уже не обойтись. Речь идет об особой культуре, создаваемой глянцевыми, или гламурными, журналами, об особом идеальном мире, населенном «правильными» юношами и девушками, посещающими «правильные» места в «правильной» одежде, рассекающими на «правильных» авто и так до бесконечности. Провести четкую грань между молодежным и гламурным жаргоном невозможно, то же вау, очевидно, относится и к гламурному миру.
Гламурный язык во многом наследует традиции словаря людоедки Эллочки и отчасти языка приказчиков (галантерейного языка), главным принципом которого было «сделать (точнее, сказать) красиво». А вот функционально гламурная лексика, по существу, заняла место советских идеологических слов и с той же степенью агрессивности внедряется в общественное сознание. У многих она вызывает раздражение как агрессивностью, так и искусственностью, но при поддержке соответствующей прессы остается модной.
На нашу сегодняшнюю речь оказывают влияние и различные профессиональные жаргоны – политический, экономический, компьютерный и другие. Особо надо отметить появление огромного количества новых профессий. Пожалуй, к рекламщикам и пиарщикам уже привыкли. К риэлторам и криэйторам тоже, хотя и пишут их поразному. А вот акаунт-, сейлз– и прочие менеджеры беспокоят (и раздражают), слишком уж их много. Недаром же, правда только в качестве иронической игры, появился уродливый аналог – манагер.
Кстати, игровая характеристика слова тоже вносит свой вклад в то, как – положительно или отрицательно – мы его воспринимаем. Очень много игры в компьютерном жаргоне, который в действительности распадается на несколько разных явлений. Одно дело – названия технических приспособлений или просто новые понятия, например интернет, сидюшник, драйвер, хомяк, юзер, мыло. И совершенно другое – видоизменения нашего языка в интернет-коммуникации. В последнее время активно обсуждается «новая орфография» в Живом журнале (например, уже классическое аффтар жжот, пеши исчо), которая, конечно же, вызывает сильные эмоции с разными знаками.
Напротив, слишком серьезны жаргонизмы и термины (их не всегда удается различить) из области политики и экономики: брифинги и саммиты, дефолты и монетизации и прочее. К ним примыкает и более общая научная и псевдонаучная лексика, например харизма, контент, визуальный и прочее. «Умные» слова так же, как и «смешные и глупые», могут вызывать активное неприятие, но по несколько иным причинам. Они часто затрудняют понимание текста, а иногда просто-напросто маскируют отсутствие смысла.
Эмоциональная реакция, о которой говорится, вызвана в первую очередь смешением нового и старого, языкового центра и периферии. Жаргоны и заимствования существовали всегда, и всегда пуристы возмущались новыми явлениями в языке, воспринимая это новое как порчу. Так, главными врагами были когда-то и заимствованное слово бизнесмен (ведь есть же русское предприниматель), и просторечное прощание пока, и многие другие. Но ведь, несмотря ни на что, эти слова остались в русском языке, и к ним постепенно привыкли.
Сейчас, правда, ситуация иная: новых слов слишком много и при этом они проникают повсюду, так что, действительно, размываются границы литературного языка. И это пугает и раздражает людей, к этому языку привыкших. Естественно, что отношение к изменениям в языке связано с возрастом. Молодые люди (моложе 25 лет) выросли в период этих изменений и воспринимают их как естественное развитие языка, то есть часто просто не замечают их (это показывают различные тесты и опросы). В частности, многие молодые люди плохо понимают языковую игру, построенную на смешении стилей, что было так характерно для андеграундной литературы советского периода. Люди постарше реагируют на изменения по-разному, в зависимости от собственного характера и темперамента. Консерваторы и пуристы, например, такой «порчей» активно возмущаются. Можно сказать, что к традиционному конфликту отцов и детей добавился еще и языковой разрыв.
Возможно ли национальное примирение на почве языка? Безусловно, да, поскольку эпоха больших изменений довольно скоро завершится, и острота противостояния старого и нового, знакомого и незнакомого пройдет. Но отношение к словам все равно никогда не будет единым. Останутся такие вечные возбудители эмоций, как брань, канцелярит («чиновничий жаргон») или, например, слова-паразиты (без них, как я уже писал, не обходится ни один язык, потому что на самом деле никакие они не паразиты). И здесь надо сказать следующее. Эмоциональное отношение к словам, в том числе и негативное, свидетельствует только об одном – об интересе к языку. Лингвистическая же рефлексия в широком смысле – один из важнейших процессов, который связывает народ и язык и – по крайней мере, отчасти – определяет развитие последнего.
Разделенные одним языком
Название «разделенные одним языком» – перифраза одного очень известного и загадочного английского афоризма. Загадочного потому, что, несмотря на известность, для него не существует единой канонической формы и нет согласия по поводу авторства. Из вариантов назову несколько: «Britain and America are two nations divided by a common language» или «England and America are two countries separated by the same language».[22] Авторство же приписывается прежде всего Б. Шоу и О. Уайльду, сказавшим, повидимому, нечто похожее, а также Марку Твену, Уинстону Черчиллю и даже Бертрану Расселу. Впрочем, для данной темы это не столь существенно.
Несмотря на то, что в русском языке не без основания ищут и национальную идею, и вообще объединяющее начало для всего российского народа, сегодня он во многом разделяет людей, и именно поэтому я позволил себе перенести высказывание Шоу или Уайльда на нашу почву.
Если произвести мыслительный эксперимент и перенести молодого человека третьего тысячелетия в семидесятые годы прошлого века и наоборот перенести обычного человека из семидесятых в сегодня, минуя перестройку и дальнейшие события, мы получим интересный результат. У каждого из них возникнут серьезные языковые проблемы. Это не значит, что они совсем не поймут язык другого времени, но по крайней мере некоторые слова и выражения будут непонятны. Более того, общение человека из семидесятых годов с человеком третьего тысячелетия вполне могло бы закончиться коммуникативным провалом не только из-за простого непонимания слов, но и из-за несовместимости языкового поведения.
Этот мыслительный эксперимент становится вполне реальным, когда, например, современные студенты читают советские газеты или смотрят советские фильмы. Кажется, что в обратную сторону реализовать эксперимент сложнее. Однако возвращаются в Россию советские эмигранты, люди из семидесятых, и недоуменно застывают, видя, как мы общаемся. Они помнят другие речевые клише, другой речевой этикет и, наконец, следуют другим правилам речевого поведения, соблюдают другие речевые запреты.
Но языковый разрыв существует не только между уехавшими и оставшимися (в конце концов, они редко встречаются), но и между старыми и молодыми, между живущими в сети или в реале, короче, он есть и здесь между нами, в России.
Ни господа, ни товарищи…
Слова о том, что наш язык меняется с огромной скоростью, уже стали банальностью. Порой нам кажется, что мы управляем этим процессом, особенно в сфере речевого этикета, который часто сознательно формируется лингвистами и, почти как правила правописания, предписывается обществу. К речевому этикету относятся и слова-обращения, с помощью которых можно привлечь чье-то внимание, определить социальный статус участников беседы, выразить эмоциональное отношение, порой даже манипулировать собеседником. Они используются и в публичном, и в интимном общении, и с незнакомыми или малознакомыми людьми, и с друзьями. В русской культуре особую роль играют личные имена, и эта тема отдельного разговора. А вот как быть сегодня с официальными обращениями, которые очень чутко реагируют на социальные потрясения?
Власть и различные общественные институты (в том числе пресса и телевидение) пытаются контролировать их употребление. Достаточно сказать, что после Французской революции специальным декретом Конвента было введено в качестве обязательного обращение citoyen/citoyenne «гражданин/гражданка». Впрочем, в посттермидорский период с падением прежнего режима оно бесследно исчезло. Также и в бывших социалистических странах стремительно уходили из языка официальные обращения типа немецкого Genosse.
В России же именно обращения оказались в центре двух социально-лингвистических переворотов – «революционного» и «перестроечного». Считается, что мы, вернув в качестве обращения дореволюционного господина, возвращаемся к старому доброму положению дел. Чтобы разобраться с тем, так ли это, придется оглянуться назад.
После революции принципиальные изменения коснулись самых важных обращений: сударь/сударыня, господин/госпожа, товарищ, гражданин/гражданка и некоторых других, например, Ваше превосходительство. Можно сказать, что на смену обращениям господин/госпожа пришло более демократичное товарищ. Дореволюционные обращения различали пол адресата, подразумевали определенный и достаточно высокий социальный статус и обычно использовались вместе с фамилией, профессией, званием и т. д. Новая власть ввела новое обращение товарищ с претензией на устранение всех отмеченных противопоставлений. Именно товарищ стал первым феминистическим вкладом в развитие языка, поскольку называет лицо независимо от его пола. Кроме того, товарищ может употребляться как в сочетании с фамилией (профессией или званием), так и без нее (товарищ Иванова; товарищ майор; Товарищ, подождите). С идеологической точки зрения слово товарищ имело очевидные преимущества: его использование подразумевало равенство говорящего и адресата и, кроме того, для него была характерна сниженность статуса адресата по сравнению со старыми обращениями (возможное товарищ проводник при невозможном господин проводник).
Правда, в ситуации, где нормальных отношений между людьми нет, обращение вообще невозможно, что тонко подметил М. Булгаков, часто использовавший обращения для характеристики персонажей. В «Мастере и Маргарите» он так описывает сцену избиения:
– Что вы, товари… – прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: – гражда… – смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух, так что кровь из носу хлынула на толстовку.
Препятствием для широкого распространения обращения товарищ стали его идеологические ассоциации. Поначалу существовало противопоставление двух классов – «господ» и «товарищей», т. е. людей, употребляющих соответствующие обращения. Обращение товарищ для части носителей языка было оскорбительным, для другой же части обращение господин свидетельствовало о принадлежности собеседника к идеологически враждебному классу.
Именно в этот период в русском языке появились новые значения слов господа и товарищи, соответствующие двум общественным группам. Весьма красноречивым было иногда встречавшееся обращение к новым чиновникам господин товарищ. Господин выполняет свою привычную функцию вежливого официального обращения, а товарищ обозначает принадлежность к классу.
Современные же перемены ни в коем случае не являются возвращением к дореволюционной системе. Можно отметить многочисленные различия между сегодняшним и «старым» использованием господина. Так, возможны сниженные обращения типа господин дворник, недопустимые ранее. Очень часто приходится слышать обращение господа к разнополой аудитории. Происходит это по аналогии с неизменяемым по роду товарищи, хотя в соответствии с дореволюционным этикетом нужно говорить: дамы и господа. Наконец, встречаются совсем уж странные ошибки, когда в официальных письмах это обращение сочетается с личным именем или именем отчеством: господин Андрей или господин Иван Иванович.
Но главное даже не это. Новое обращение используется только в письменной речи, в основном в официальной переписке, а также в прессе. В устной речи его употребление вызывает эффект отчуждения и может иметь даже негативный оттенок. Скажем, во время предвыборных кампаний расположенные к кандидату журналисты обращаются к нему по имени-отчеству, а нерасположенные с помощью господина. Употребление этого слова больше похоже на употребление товарища в советский период.
Таким образом, можно сказать, что возвращение в «доброе старое время» не состоялось. В нашу речь вернулся не дореволюционный господин, а переодетый в него товарищ. А мы, в свою очередь, перестав быть товарищами, так и не стали господами.
Просто Мария
Есть несколько мифов о русском языке, и один из них состоит в том, что у нас нет словобращений. Это не так. Например, в русском разговорном этикете (восходящем еще к старой деревенской культуре) допускается обращение к незнакомому человеку с помощью термина родства, например: мать, отец, сынок, дочка, дедушка, бабушка, внучок, внучка, дядя, тетя, братец или браток и некоторые другие. Такое обращение вполне традиционно и совмещает в себе фамильярность вместе с особой теплотой. Говорящий метафорически распространяет модель семьи на весь мир. У Чехова в разговоре двух мужчин (один из которых врач) используется даже ласковое обращение матушка. Естественно, что никаких изменений пола при этом не имелось в виду.
Тем не менее основной проблемой для иностранцев остается выбор слова в начале общения. Большинство русских обращений эмоционально окрашены и не могут использоваться в нейтральной ситуации. Увы, действительно нейтрального обращения в русском языке нет. И на улице приходится начинать общение с вежливых формул: Простите! или Извините!, а в менее церемонных ситуация и с возгласа Эй!.
Зато особую роль в общении порусски играют личные имена. Можно даже сформулировать основное правило русского речевого этикета: «Если ты знаешь имя собеседника, используй его». В течение беседы мы повторяем имена друг друга несколько раз, как бы поддерживая ее, делая нашу речь более адресной и контактной. Интересно, что, например, японцев это скорее пугает, поскольку в японском общении личные имена избегаются, слишком уж интимное это дело. Редко используют имена и финны, и некоторые другие народы.
Подтверждением важности обращения по имени в русском речевом этикете, и прежде всего подтверждением осознания этого факта, стали видеоконференции президента России В. В. Путина, в частности проведенная в 2003 году. В различных населенных пунктах России были установлены телекамеры, и граждане России с помощью журналиста могли задать президенту вопрос и тут же в прямом эфире получить видеоответ. Перед тем, как предоставить слово, журналисты просили задающих вопрос представиться. Естественно, что люди представляли себя в зависимости от возраста либо по имени отчеству, либо по имени. Свой ответ президент, как правило, начинал с уже известного ему личного именного обращения. Более того, в процессе разговора с пожилым человеком, ветераном войны, В. В. Путин повторил обращение несколько раз, что подчеркивало, повидимому, его уважение и персональную направленность его речи. Таким образом, осознание важности обращения по имени (теми, кто готовил видеоконференцию) привело к приданию ему статуса официального речевого этикета (обязательное самопредставление задающих вопрос, правда, вследствие вопроса журналиста, и обязательное использование обращения в речи президента).
У каждого из нас огромное количество имен, если сложить все сочетания имени, отчества и фамилии, а также всевозможные уменьшительные и ласкательные имена. Такого обилия вариантов нет в других языках, и мало кто из иностранцев способен понять несочетаемую в теории комбинацию типа Людочка Ивановна, распространенную в медицинских учреждениях и школах, где отчество выражает уважение, а уменьшительное имя – эмоциональную теплоту. С помощью имени можно выразить очень много разнообразных чувств, но обращение по имени будет также и самым нейтральным. Именно поэтому, вступая в общение, мы прежде всего стремимся узнать имена собеседников.
Речевой этикет меняется на наших глазах, и это касается как раз наиболее нейтральных обращений. За последние два десятка лет заметно сузилась сфера использования имен-отчеств. Отчество практически исчезло из тех сфер общения, которые наиболее подвержены иностранному влиянию, то есть из бизнеса (в политике мы имеем причудливую смесь нового бизнес-этикета и старого советского). Новый речевой этикет во многих деловых коллективах подразумевает обращение только по имени, в том числе и к начальнику, и к деловому партнеру, то есть в тех ситуациях, где ранее нейтральным было обращение по имени-отчеству.
Такая, казалось бы, точечная замена приводит к значительной перестройке системы личных имен. В русском языке личные имена можно разделить на два класса. Первый класс составляют имена, для которых при самостоятельном употреблении (то есть без отчества и без фамилии) наиболее нейтральным вариантом является полное имя. К этому классу относятся такие мужские имена, как Андрей, Антон, Максим, Никита и т. д., и такие женские, как Вера, Лариса, Марина, Нина и т. д. С некоторым огрублением можно сказать, что у них вообще отсутствуют уменьшительные имена, а есть только прагматически маркированные варианты (ласкательные и др.). Так, меня обычно называют просто Максим, и только в особых ситуациях (чаще всего в детстве) я слышал Максимка, Максимушка, Максик. Кстати, если к телефону зовут Макса, я, еще не взяв трубку, понимаю, что звонит кто-то из моей студенческой или даже школьной юности.
Ко второму классу относятся личные имена, чьи полные варианты раньше самостоятельно не употреблялись, по крайней мере в функции обращения. При самостоятельном употреблении используются соответствующие краткие имена. К этому классу относятся такие мужские имена, как Александр (соответствующие краткие – Саша или Шура, возможно и Алик), Владимир (Володя), Дмитрий (Дима или Митя), Евгений (Женя), Михаил (Миша) и др., и такие женские, как Анна (Аня), Екатерина (Катя), Елена (Лена), Мария (Маша или устар. Маруся), Надежда (Надя) и др.
Еще пятнадцать лет назад невозможно было вообразить себе ситуацию, что человека без всякой иронии в разговоре назовут Александром или Константином, и сам он будет так представляться при знакомстве. Это было бы претенциозно, чопорно и даже жеманно. Подобные имена использовались только вместе с отчествами (или уж совсем в особых случаях типа «строгого родительского»: Владимир, ты до сих пор не сделал уроки!).
Однако все изменилось. И сегодня старый этикет фактически разрушен. В тех ситуациях, где раньше было принято называть собеседника по имени-отчеству, а теперь только по имени, такие краткие имена, как Маша или Володя, воспринимаются все-таки как чрезмерно контактные (интимные, фамильярные и т. п.), и вместо них используются Мария и Владимир, что раньше было недопустимо. Именно так все чаще представляются и незнакомым людям. Вот и превратилась Мария Михайловна в просто Марию.
Интересное смешение двух систем имеет место в ряде телевизионных программ. Когда приглашенный в студию гость имеет высокий социальный статус, ведущий обращается к нему по имени-отчеству. Однако для представления и называния его в речи, обращенной к зрителям, используется имя без отчества, правда вместе с фамилией. По старой традиции, гостя следовало все же представлять, используя отчество. Таким образом, складывается новый публичный этикет.
Изменения речевого этикета относятся, пожалуй, к самым неосознаваемым в языке. Появление новых слов отмечают все – кто с возмущением, кто с любопытством. Речевой этикет, в отличие от слов, практически нигде не фиксируется. И сегодня люди так привыкли к новому этикету, что уверены в том, что он существовал всегда. Те, кто вырос после перестройки, воспринимают его как норму, те же, кто постарше, если и морщатся при таких обращениях, то не всегда понимают почему. Вот так мы и меняемся, даже не замечая этого.
Спокойной ночи и удачи!
В 60–70х годах в прессе время от времени попадались статьи о том, как портится русский язык. В качестве одного из основных примеров такой порчи постоянно приводилось фамильярное прощание «пока!», которое ни при каких условиях, ни в каком случае не должен употреблять культурный человек. Стоит ли говорить, что сегодня без «пока!» русский язык себе представить невозможно. Его используют и некультурные, и малокультурные, и вполне культурные люди. Короче, все.
У каждого времени свои пугала. Сегодня появилось еще более ужасное «покапока!». В первый раз я его услышал по телевизору, в телепередаче Сергея Шолохова «Тихий дом». Конечно, в русском языке встречается удвоение слов. Мы можем сказать «здравствуйте, здравствуйте!» или «до свидания, до свидания!», но произносим это в замедленном темпе и даже напевно. А тут меня поразил убыстренный темп речи, так что слышалось только «пкапка!». Конечно же, это «пкапка!» было только модной калькой с английского «byebye!», своего рода шуткой продвинутого журналиста. И казалось, за границы этой передачи оно не выйдет, так и останется авторской характеристикой. Тем не менее, сейчас я все чаще слышу эту формулу прощания, особенно в речи некоторых «гламурных» персонажей.
Под влиянием английского языка в русском появилось еще несколько вежливых формул. Наиболее прижилось, пожалуй, прощание «увидимся!». Многие вообще считают его исконно русским. Однако это не так. В русском такое слово, конечно, существовало, но оно никогда не завершало беседу. В отличие от английского «see you!», калькой которого оно является. В английском стандартность этого прощания обыгрывается в известном стишке See you later, alligator / In a while, crocodile, перевести которое на русский нет никакой возможности. Зато существует конгениальный этому стишок, обыгрывающий русские стандарты вежливости: «Как живете, караси? / Ничего живем, мерси!» А совсем недавно по аналогии с «увидимся!» начало использоваться и шутливое телефонное «услышимся!». Впрочем, пока оно звучит несколько экзотично. В связи с этим меня беспокоит, не появится ли в эпистолярном жанре прощание «упишемся!». Кто знает!
Наконец, менее повезло авторскому изобретению еще одного журналиста, спортивного комментатора Виктора Гусева. Он заканчивал футбольные репортажи и другие свои передачи еще одной калькой с английского – «берегите себя!». Однако если в английском «Take care!» абсолютно конвенционально, т. е. является чистой формулой вежливости и никто не вдумывается в его смысл, то русское «берегите себя!» невольно заставляет телезрителей вздрогнуть. Ведь если рекомендуют беречь себя, значит, существует какая-то реальная угроза.
В целом, подобного рода заимствования остаются для многих непривычными и, скорее, должны рассматриваться как модное, но недолговечное явление. Хотя кто знает.
Среди новых «уродцев» речевого этикета есть и исконно русские. Одно из самых нелюбимых мной – новое и уже вполне прижившееся приветствие «Доброй ночи!». Оно появилось вместе с новым явлением – прямым ночным эфиром. Сначала в речи ведущих, которые таким образом – с особым шиком – здоровались со зрителями / слушателями, звонившими ночью в студию. Потом же «Доброй ночи!» было подхвачено и самими звонившими и даже вышло за пределы студийных бесед. Например, оно иногда используется как приветствие при телефонном звонке в слишком позднее время.
В действительности, появление такого приветствия противоречит многим нормам языка. Во-первых, в европейских языках аналогичная формула (good night, Gute Nacht и bonne nuit) используется именно при прощании, в отличие от дневных приветствия типа английских good morning, good evening, немецких Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend или французских bonjour, bonsoir. Это соответствует и обычному русскому прощанию «Спокойной ночи!».
Во-вторых, в русском языке Доброй ночи! как формула прощания уже существует, хотя и используется значительно реже, чем Спокойной ночи!
В-третьих, в ней представлен родительный падеж, который в русском языке означает пожелание, традиционно используемое именно как прощание: «Счастливого пути!», «Удачи!», «Счастья вам!» и т. д. (с опущенным глаголом «желаю»). Приветствие же выражается другим падежом («Добрый день!», «Хлеб да соль!»).
В последнее время по аналогии с этим появляются и новые «неправильные» приветствия. Например, в интернете все чаще встречается «Доброго времени суток!», подчеркивающее тот факт, что электронное письмо может быть получено в любое время.
Как лингвист, я бы всячески рекомендовал не расшатывать стройную систему русского этикета и не использовать приветствий в родительном падеже. В том же интернете встречается и более грамотное приветствие «Доброе время суток!». Игра сохраняется, а правила соблюдены. Но при всем при этом я рискую оказаться в положении авторов, боровшихся с прощанием «пока!». Ведь последнюю точку ставит не лингвист, а народ. И если слово овладевает массами, а массы – словом, то никакой лингвист не сможет его запретить. Так что поживем – увидим.
И наконец, о последнем «уродце». Слово «превед» появилось в русле народного интернет-движения «За неправильную орфографию!» наряду со словами «аффтар», «исчо» и др. Все эти, казалось бы, нелепые написания объединяет то, что они читаются так же, как правильные. И уж точно являются игрой, модной в интернет-сообществе. Впрочем, в интернете найдется все, и уже часть интернет-сообщества начинает бороться со словом «превед». Самое смешное, что недавно в речи студентов я услышал отчетливое произношение слова «превед», чего по правилам русского произношения уж никак не должно быть: безударный гласный больше похож на «и», а согласный на конце всегда глухой («т»). Но, пожалуй, это можно отметить как чистый казус и всерьез не комментировать. Короче говоря, берегите себя!
Из Европы – с приветом!
Речевой этикет у каждого народа свой. Но интересно, что мы не только по-разному говорим, но и по-разному молчим. Точнее, когда у одних народов принято говорить, у других – принято молчать.
Сравнивать людей русской культуры с другими народами чрезвычайно интересно, но трудно; прежде всего потому, что русский речевой этикет за последние 20 лет изменился так сильно, что, по существу, можно говорить о двух разных речевых этикетах: старом и новом. И носители нового этикета – молодые люди – намного ближе к усредненной западной культуре общения. Поэтому для чистоты сравнения возьмем городского человека 80-х годов.
О русских (тогда еще – о советских) сложился известный культурный миф, что они в целом не слишком дружелюбны. Мало улыбаются и – что немаловажно – редко здороваются. Вот с тем, что русские редко здороваются (или, точнее, здоровались), и стоит разобраться. Разберем несколько стандартных ситуаций.
Два незнакомых человека встречаются в подъезде жилого дома. Или даже (чтобы усугубить ситуацию) оказываются в одном лифте. Что делают при этом два стандартных европейца (стандартными мы будем считать жителей западной континентальной Европы, не слишком южных и не слишком северных, – скажем, немцев или французов; впрочем, и американцы ведут себя так же)? Они в этой ситуации непременно друг с другом поздороваются, а двое русских – ни в коем случае.
Или другая ситуация. Два незнакомых человека встречаются в отдаленном пустынном месте: в лесу, в парке и т. п. Двое европейцев, прежде чем разойтись, скорее всего опять поздороваются. А русские (если только они не намерены вступить в беседу) – снова нет.
Более того, можно сказать, что приветствие и в лифте, и в лесу для носителя русской культуры скорее даже нежелательно, поскольку подразумевает дальнейшее общение, не исключено, что и агрессивное.
Наконец, третья ситуация. Встречаются служащий и его клиент. Или, для большей конкретности, человек входит в магазин и вступает в коммуникацию с продавцом или кассиром. И снова в европейском магазине общению предшествует взаимное приветствие. Представить же себе, что в 80-е годы москвич, войдя в гастроном, сказал бы: «Здравствуйте. Взвесьте мне, пожалуйста, 200 граммов колбасы», – совершенно невозможно. «200 грамм “Любительской”, пожалуйста!» – вот абсолютно вежливая фраза, соответствующая тогдашнему речевому этикету. Приветствие же сразу выдавало иностранца. Одна моя знакомая, вернувшись в середине 80-х годов после длительного пребывания заграницей в Москву, решила, как она говорила, научить своих соотечественников вежливости. То есть начала здороваться в магазинах. Это вызывало бурную и довольно неприязненную реакцию. Ее приветствия воспринимались либо как странность, либо как простое издевательство. И в лучшем случае она слышала в ответ: «Девушка, не задерживайте очередь!»
Таким образом, в отличие от европейского этикета, русский не требовал приветствия от незнакомых людей в ряде ситуаций, а именно – при отсутствии дальнейшей коммуникации, при краткой формальной коммуникации, в том числе между служащим и клиентом. В этом смысле можно говорить о меньшей открытости русских – либо вовсе не вступавших в коммуникацию (обмен приветствиями без продолжения коммуникации, тем не менее, сам уже является коммуникацией), либо строго ограничивавшихся краткой формальной коммуникацией. Более того, приветствие в таких случаях воспринималось носителем русского этикета как своего рода экспансия или, точнее, прелюдия к не всегда желательному разговору (например, в лифте).
В современной науке вежливость рассматривается как снятие или смягчение возможной или реальной агрессии. Таким образом, если оценивать в целом стратегии вежливого поведения в рассматриваемых ситуациях, то европейскую можно было бы обозначить как «мы (ты и я) – свои, и поэтому я не представляю для тебя опасности», а русскую – как «ты для меня не существуешь, и поэтому я не представляю для тебя опасности».
Здесь очень важно заметить, что русские были ничуть не менее вежливыми, чем европейцы, – просто этикет у них был устроен иначе. Невежливость русских возникала только в той ситуации, когда они, попадая в Европу и говоря на соответствующем иностранном языке, сохраняли свой речевой этикет (свои стандартные манеры). Но ведь и поведение иностранца в России, говорящего по-русски, но сохранявшего свой речевой этикет, выглядело по меньшей мере странным.
За последние годы произошел сдвиг русского речевого этикета в сторону европейского. Прежде всего речь идет об общении в магазине. Эта ситуация, в отличие от двух других и даже в отличие от близких к ней ситуаций в транспорте, в медицинских учреждениях, попадает в сферу корпоративного этикета. Во многих крупных магазинах больших городов действует обязательный корпоративный этикет. Продавец или кассир должны обязательно поздороваться с клиентом. Не ответить в данном случае на приветствие было бы откровенной грубостью. Естественно, что постоянные покупатели сами начинают здороваться с продавцами и кассирами.
Определенные изменения происходят и при встрече незнакомых людей в доме или рядом с ним. Все чаще происходит обмен приветствиями во дворе и подъезде, причем это касается в основном молодого и среднего поколения. Очевидно, здесь также сказывается знакомство с европейским этикетом, причем, повидимому, непосредственное.
Итак, наш этикет за достаточно короткий срок существенно изменился. Мы стали больше похожи на европейцев и американцев. Новый этикет приветствий уже сложился в корпоративной культуре и постепенно складывается в бытовой. И здесь мне почему-то совсем не жаль старой русской традиции. Ну что, разве от нас убудет – лишний раз поздороваться? А приятный осадок останется.
Чрезмерная вежливость
Правда, и с вежливостью не стоит перебарщивать.
Неужели вам незнакомо это чувство, когда хочется швырнуть трубку всего-то после третьего-четвертого повтора с легким придыханием: «Ваш звонок очень важен для нас. К сожалению, в данный момент все операторы заняты…»? Ну и так далее по тексту. Вежливость тоже может раздражать, особенно если она, как бы это поаккуратнее сказать, не вполне естественна что ли.
Приведу два примера из собственного языкового опыта.
Первая сцена разворачивается в эстонском посольстве в очереди для получения виз. В окне выдачи виз сообщают, что время работы закончилось и ближайшая по очереди русская женщина визы не получит. Однако та возражает, говоря, что ее впустил охранник и она отстояла очередь. В качестве свидетеля она призывает охранника, чье имя она случайно услышала: «Ян, Ян, подойдите, скажите…» и т. д. Охранник подходит и молча присутствует при разговоре русской просительницы и эстонской чиновницы, а затем так же молча отходит на свое место. Обращение по имени к незнакомому человеку, выполняющему в данный момент свои профессиональные обязанности, повидимому, совершенно исключено в европейском, и в том числе в эстонском, речевом этикете, но допустимо, хотя также с определенными ограничениями, в русском. В данной ситуации оно является способом установления более близких отношений, сокращения дистанции и привлечения адресата на свою сторону (как своего). Напротив, с точки зрения служащего оно воспринимается как внедрение в личную сферу, незаконная (имя услышано случайно) претензия на знакомство и попытка изменить служебные отношения на личные без каких-либо оснований.
Второй пример связан с моей собственной реакцией на распространенную французскую просьбу, выражаемую конструкцией из слов merci de + глагол в неопределенной форме или отглагольное существительное, например merci de me rendre quelque chose или merci de votre comprйhension (последнее, как правило, заключая констатацию некоего положения дел, не слишком приятного для адресата). Эту конструкцию достаточно сложно перевести на русский язык, поскольку русское спасибо – естественный перевод французского merci – является реакцией на уже совершившееся событие. В данных же примерах речь идет о благодарности за еще не сделанное действие, которое состоится в будущем. В русском языке «благодарность вперед» возможна, однако значительно более редка. Существует выражение заранее благодарен, используемое в письменной речи (как правило, в письмах). Оно заключает некую просьбу и выражает определенную подчиненность пишущего, более низкий статус. Выражение merci de votre comprйhension можно перевести на русский язык как «надеемся (или надеюсь) на ваше понимание».
Эта конструкция, безусловно относящаяся к средствам выражения вежливости, вызывала у меня устойчивое раздражение и воспринималась, напротив, как не вполне вежливое и достаточно агрессивное действие. Опрос русских, живущих во Франции, показал, что эта реакция не единична и по крайней мере не случайна. Выражение благодарности за еще не совершенное действие воспринимается как навязывание этого действия, то есть не как вежливая просьба, а, скорее, как агрессия, спрятанная за этикетной формой благодарности, что совершенно не характерно для русского этикета. Перевод merci с помощью «надеемся» не адекватен, поскольку данное русское слово выражает неуверенную просьбу в отличие от сверхуверенной (если не сказать – самоуверенной) благодарности за еще не случившееся. Произнесенная благодарность обязывает адресата следовать навязанной стратегии, предопределяет его действия и лишает возможности выбора.
Обе описанные языковые ситуации интересны сами по себе. Но к тому же они подтверждают достаточно важный, хотя и очевидный факт: использование речевого этикета одной культуры (в данном случае слов, направленных на установление положительного контакта и доброжелательных отношений) по отношению к представителю другой культуры может вызывать непредвиденные негативные последствия, в частности, восприниматься как своего рода агрессия.
Кроме особенностей нашего этикета, про которые я говорил в предыдущей главе, у него есть еще одна важная черта – анонимность, и прежде всего она реализуется как раз в телефонном разговоре. Мы не любим называть себя (и этому есть много серьезных причин[23]) случайному собеседнику. Если я звоню кому-либо по служебной надобности, а трубку берет кто-то другой, то, как правило, ни он, ни я не называем себя и не здороваемся, а я просто прошу подозвать нужного человека. Даже на личных автоответчиках чаще встречается запись «Вы позвонили по телефону такому-то», чем имя хозяина. Впрочем, это касается не только телефона. Мои японские коллеги отмечали, что для них естественно представиться, даже если они задают вопрос на конференции.
Я уже сказал, что за последние годы произошел резкий сдвиг русского речевого этикета в сторону европейского. Изменилось и телефонное общение. Во всех крупных или просто уважающих себя компаниях служащий, беря трубку, либо представляется сам, либо называет свою компанию, и, как правило, здоровается. К хорошему – в данном случае открытости и «персональности» общения – привыкаешь очень быстро. Поэтому когдато привычное старое уже раздражает. Например, когда звонишь в обычную поликлинику, кто-то снимает трубку, и ты еще пару минут слушаешь разговор о чужих проблемах, а потом короткое «Да», кажется, что ты попал в другой мир. По существу, так оно и есть. И все-таки, вводя чужой этикет, надо быть осторожным. То, что немцу здорово, русскому не то чтобы смерть, но как-то не по себе. Русский этикет, даже новый, все-таки достаточно экономен и прост, поэтому длинные и непривычные фразы мы склонны воспринимать уже не как чистую вежливость, а скорее как содержательное общение. А к нему и требования иные. Так что осторожно, особенно с корпоративным этикетом.
Вот и фразе «Ваш звонок очень важен для нас» поначалу просто веришь, на третьей минуте ожидания начинаешь сомневаться, а на десятой понимаешь, что тебе нагло врут. А ведь автоответчик всего лишь хотел быть вежливым…
Етикет
Как правильно начинать электронное письмо, с обращения или с приветствия? Увы, не знаю. И если кто скажет, что знает, не верьте ему. Этикет электронного письма еще окончательно не сложился, и человек, который дает рекомендации по этому поводу, просто придумывает его.
Новые технологии разрушили один из самых важных и незыблемых коммуникативных постулатов, состоящий в том, что речь бывает устная и письменная (в быту скорее называемая текстом), каждая со своими яркими особенностями. Ну, действительно, находясь в аське (ICQ), в ЖЖ, посылая емейл/имейл (сам я склоняюсь к первому варианту, хотя, как это ни смешно, логичнее было бы писать эмейл), мы, безусловно, пишем, но вот то, что мы пишем, больше похоже на устную речь. Хотя бы с точки зрения синтаксиса, если читатель еще помнит это слово.
Более того, в интернет-речи есть много всякого нехарактерного для письма, например смайлики. Смайлики ведь соответствуют мимике, а отчасти жестам и интонации, то есть именно компонентам устной речи. Я уж не говорю о том, что сами жанры и стили, встречаемые в интернете, гораздо более естественны для устного общения – дружеский обмен мнениями, перепалка или перебранка, рассказывание анекдотов и их комментирование и т. д.
Когда-то в интернете предпринимались попытки отгородиться с помощью языка от остального мира. Тогда и начали появляться различные самоназвания типа сетяне или сетенавты, а для собственного этикета придумали смешное слово сетикет (или нетикет, заимствованный из английского). Однако это слово так и не привилось. Во-первых, сетевой этикет уж не настолько отличается от обычного, то есть не становится самостоятельной системой, просто кое-где возникают отдельные дополнительные правила. Во-вторых, сам интернет очень разнообразен, и, конечно, никакого единого этикета в нем не существует, причем разных дополнительных правил в уголках сети довольно много, и актуальны они для отдельных сообществ. Слишком уж по-разному общаются фанаты «Спартака», поклонники Мадонны, представители бизнеса и, скажем, ученые. В принципе не исключено, что один и тот же человек заглядывает на все эти сайты или форумы, но ведет себя каждый раз соответственно. Где-то принято ругаться матом, где-то мат «банят», а где-то как бы не замечают.
Но вернемся к электронному письму. Когда я говорил об отсутствии «электронного» этикета (который я, собственно, несколько неуклюже и попытался назвать «етикетом», чем, наверное, порадовал носителей украинского языка), я сильно кривил душой. На самом деле он, конечно же, существует, но представляет собой довольно причудливую смесь из компонентов устного и письменного (в основном, эпистолярного) этикета.
В начале емейла возможно как особое письменное обращение, так и приветствие. Можно начать такое письмо словами: «Уважаемый господин Тунгусов» или «Дорогая Марина». Интересно, что прежде в русском языке, как, например, и в немецком, слово дорогой использовалось для более интимного обращения (следующая ступень, повидимому, милый и далее любимый). Однако под влиянием английского dear, которое наиболее нейтрально, но переводится на русский именно как «дорогой», последнее стало вытеснять уважаемый. Так сегодня порой в письме обращаются и к малознакомым людям.
С другой стороны, электронное письмо можно начать и с приветствия, обычно без слов типа уважаемый или дорогой (подчеркну, практически обязательных в эпистолярном жанре): «Здравствуйте, господин Тунгусов» или «Привет, Марина». Такое начало характерно как раз для устного общения. Именно в электронных письмах появилось смешное и совершенно неправильное приветствие Доброго времени суток. Лучше уж было бы – Доброе время суток; впрочем, я уже об этом писал. В этом приветствии в игровом ключе проявляется настоящая интернет-вежливость. Пишущий мог использовать для приветствия обозначение «своего времени», то есть времени написания письма, однако из уважения к читающему или даже многим читающим предпочел туманную неизвестность – «время суток». Итак, электронный этикет допускает и письменные, и устные формы, но не смешивает их, как когда-то поступал товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни»: «Добрый день, веселая минутка, любезная Катерина Матвеевна». Его замечательные, как теперь бы сказали, аудиописьма были смешны во многом именно из-за стиля.
Самое же интересное в электронной переписке происходит, когда она состоит из целого ряда посланий. Я уж не буду говорить о приемах сохранения в рамках одного письма прошлых текстов (или их фрагментов), хотя и это сближает емейлы не с обычными письмами, а с записками на одном листе бумаги, которыми обмениваются школьники на уроке или студенты на лекции. В ходе переписки, особенно если она проходит интенсивно, постепенно теряются вежливые слова. Сначала опускаются эпитеты дорогой и уважаемый: «Марина, я согласна с тем, что ты пишешь, но…», – а потом и сами обращения: «Ни в коем случае!» Очередные письма рассматриваются не самостоятельно, а в контексте всей переписки, благо контекст действительно перед глазами. И это уже жанр беседы, или, если пытаться искать аналоги в письменной речи, жанр записки, но не городской, посланной с нарочным, а именно школьных записок, которыми перебрасываются в течение урока многократно.
Электронное письмо – жанр довольно разнообразный и очень демократичный. Его этикет формируется спонтанно на основе уже существующих вариантов, и нет никакой необходимости навязывать ему ту или иную норму. Очевидно, впрочем, что его развитие продолжается, и в дальнейшем будут возникать новые, в том числе игровые, элементы.
Основной инстинкт
Русский язык в интернете это, конечно же, черт знает что такое. Но при том это все равно русский язык.
Начнем с самого простого – с яростной порчи орфографии. Возникла она не в интернете, но именно в интернете была поставлена на поток. И наиболее ярко проявилась в так называемом языке падонков и истории со словом превед. Порча орфографии оказалась настолько привлекательной идеей, что сразу овладела интернет-умами и стала модной и почти обязательной. Прежде чем как-то оценивать этот процесс, хорошо бы понять, зачем нам вообще нужна орфография.[24]
Хорошо известно, что именно орфография помогает легче воспринимать написанное, то есть попросту – быстрее читать. Это происходит потому, что мы привыкли к определенному графическому облику слов и опознаем их даже не целиком, а по нескольким ключевым буквам, прежде всего – по первой и последней. Неправильное написание незначительно задерживает наш взгляд на слове, тормозя процесс чтения в целом. Если таких задержек оказывается много (то есть мы имеем дело с неграмотным текстом), чтение тормозится не чуть-чуть, а сильно.
На самом деле орфография помогает и быстрее писать, поскольку грамотный человек делает это автоматически. И вот здесь прозвучало ключевое слово: грамотный. Дело в том, – и сейчас я раскрываю большой секрет, – что орфография облегчает жизнь далеко не всем, а только грамотным людям. Именно поэтому при любых реформах орфографии и графики страдают прежде всего они – те, для кого письмо и чтение стали, по существу, основным инстинктом. И именно образованные люди сильнее всего сопротивляются таким реформам. Остальные же без орфографии даже немного выигрывают: не надо думать, как писать, да и чтению это не мешает, поскольку привычки к определенному графическому облику слов у них не сформировано. Главное же, что при отсутствии орфографии незнание орфографических правил им абсолютно не вредит, так что их социальный статус сильно повышается.
Вторая причина привлекательности неправильной орфографии заключается в том, что она придает слову дополнительную выразительность. Один мой знакомый объявил, что будет писать жи и ши только с буквой ы – в частности, потому, что «жызнь более энергична и жызненна, чем жизнь». И по-своему был прав. Так он и писал: жывот, ошыбка, машына. Однако, будучи грамотным человеком, периодически забывался и срывался на нормативное держишь и пишите (сознательно следить за окончаниями значительно труднее, и здесь срабатывал автоматизм).
Итак, всевозможные выражения языка падонков – аццкий сотона, аффтар жжот и пеши исчо – безусловно, выразительны и потому так популярны. Кое-кто стал даже говорить о новой неправильной орфографии, то есть новой системе антиправил. На самом деле никакой особой системы нет. По существу, есть лишь одно основное правило: там, где можно написать слово иначе, чем оно пишется, и это не повлияет на его произнесение, – пиши иначе. Фактически это означает, что написание сотона является, как бы это сказать, – приемлемым, потому что везде, где ошибку сделать было можно, она сделана. При этом для слова еще возможны варианты: исчо, ищщо и т. п., один из которых, возможно, становится каноническим. Так, правильно писать аффтар с двумя ф, а не с одним, хотя оба варианта одинаково ошибочны.
Но здесь-то и кроется опасность. По-настоящему неправильно могут писать только очень грамотные люди, которые, во-первых, знают, как писать правильно, а во-вторых, понимают, какие ошибки не искажают произношение. Так, мне очень трудно поверить в то, что неграмотный человек мог бы написать «превед, кросавчег!» (лучше, впрочем, было бы кросафчег), потому что сделаны почти все возможные ошибки, причем каждый раз выбирается более неестественная с точки зрения произношения буква.
Выразительность же всех этих написаний весьма условна. Они выразительны, пока мы осознаем их необычность и неправильность. По мере привыкания к ним и забывания «правильного прототипа» они станут совершенно обычными, нейтральными написаниями, но правила орфографии при этом мы потеряем безвозвратно.
Меня поразила позиция одного безусловно грамотного и вполне образованного человека по этому поводу, сформулированная на одном из форумов: дайте мне самовыражаться в интернете так, как я хочу, а вот моих детей в школе, господа лингвисты, извольте учить правильному языку и правильной орфографии. Этот человек, увы, не понимает одной простой вещи: то, что для него является игрой, для следующего поколения постепенно превращается в норму. Язык осваивается не в школе и не под чутким руководством каких-то там лингвистов. Вполне возможно, что его сын впервые увидит слово аффтар именно в интернете и именно в таком виде. И это окажется его первым и основным языковым опытом, который не перечеркнешь школьной зубрежкой.
Учитывая распространение интернета, игры и изыски взрослых с большой вероятностью станут основной языковой средой для сегодняшних детей.
После всего сказанного читатель вправе спросить меня, как же я оцениваю будущее нашей орфографии. На это у меня есть два ответа. В краткосрочной перспективе – очень плохо. Сегодняшние модные игры интеллектуалов выгодны неграмотным людям, а их, как известно, больше. В долгосрочной же перспективе грамотные образованные люди, безусловно, спасут нашу орфографию и победят. Вы спросите, как? – А как обычно: не известным науке способом.
Коллективное остроумие
Ну вот, мы и обсудили превед и аффтара. Но в предыдущей главе речь шла исключительно об искажении орфографии. Сегодняшний язык в интернете (частью которого является знаменитый «язык падонков») к одному только издевательству над орфографией не сводится. Если посмотреть на комментарии в Живом журнале, легко заметить, что в них используется некий набор речевых клише – большей частью со значением оценки.
Например, аффтар жжот или зачот выражают положительную оценку («хороший текст»), а выпей йаду, или убей сибя апстену, или убей сибя тапкам и пр. – негативную («плохой текст»). Ржунимагу или валялсо пацтулом означает «смешно», а многа букв неасилил – «скучно».
В принципе, эти клише можно творчески комбинировать (Убей сибя с расбегу апстену вымазанайу йадам), да и сам лексикон понемногу пополняется, но все равно существующие в интернете словари, в которые включается все, что только можно включить, показывают, что таких специфических для интернета слов и выражений где-то около сотни, то есть немного.
Можно было бы вообще не обращать на них внимания, ну, сленг и сленг, если бы не одно «но», а если подумать, то и целых два. Во-первых, необычайная популярность этого сленга, вызывающая очень сильное эмоциональное отношение к нему – буквально от щенячьего восторга до лютой ненависти. Вовторых, сленг-то он сленг, но есть в нем некоторые особенности, отличающие его от обычных жаргонов.
Как и любой сленг, этот прежде всего проводит границу между своими и чужими. Свои – это те, кто относится к интернет-сообществу (совсем не обязательно к так называемым «падонкам») и употребляет все эти выражения или хотя бы часть из них. Чужие – это те, кто их не употребляет или использует неправильно: ну, например, пишет автор, выпей яду (то есть не искажает орфографию). Таким образом, это своего рода тест на принадлежность к сообществу, а также выражение лояльности («я – такой же, как вы»). Следует признать, что мы имеем дело с открытым сообществом, в которое, в принципе, может вступить любой, кто захочет. Достаточно овладеть парой-тройкой клише и начать их активно использовать. Стоит заметить, что далеко не все деятели интернета употребляют эти выражения, и даже среди создателей жаргона ведутся дискуссии о правильных и неправильных словах. Скажем, на некоторых сайтах превед был подвергнут остракизму.
Специфика этого сленга заключается, во-первых, в его агрессивности. Можно говорить о его экспансии, распространении в первую очередь в разговорной речи, да и в письменной вне интернета тоже (например, в некоторых СМИ).[25] То есть данное сообщество с гордостью заявляет о себе вне своей исконной территории, а значит, оценивает себя как элитарное. Что не может не раздражать оставшуюся часть населения.
Еще одно важное свойство интернет-сленга состоит в его игровой природе. Для разных жаргонов бывают характерны игровые модели, но здесь существуют исключительно они. Употребление этих выражений, по идее, всегда должно вызывать смех, это что-то вроде постоянного подмигивания. Более того, у многих выражений есть своя история, рассказывающая о том, как они возникли. Иногда такая история, впрочем, больше напоминает легенду и даже не слишком претендует на достоверность, но, в любом случае, это смешные и веселые истории.[26] Так что то или иное выражение смешно не только само по себе, но и потому, что напоминает о своем бурном происхождении.
Собственно, это и дает интернет-словечкам возможность выполнять совершенно определенную функцию, структурируя и тем самым заполняя, вообще говоря, пустоту мысли. Ну, представьте себе, вы прочли некий текст, и он вам не понравился. Немного странно было бы прокомментировать его следующим образом – плохой текст. Это, с одной стороны, просто неинтересно (мало ли что вы там думаете), с другой стороны, явно недостаточно, нужно привести хотя бы какие-то аргументы. Примерно так же обстоит дело и с положительной оценкой, хотя там аргументация не обязательна (ну, понравилось и понравилось). Совершенно иначе выглядит комментарий типа аффтар выпей йаду или баян (вторично)[27] и т. п. Во-первых, это означает, что вы – свой, здешний, местный и, следовательно, имеете право высказываться. Во-вторых, это весело и потому не требует дополнительной аргументации. Надо быть занудой, чтобы требовать аргументов после остроумной реплики. Правда, это не ваше личное остроумие, а, так сказать, коллективное (своего рода анекдот № такойто[28]), но это дела не меняет, поскольку вы – «свой» и имеете право прибегать к коллективному разуму. Наиболее ярким примером является комментарий без комментария – широко распространившийся первый нах (а также второй нах и так далее). Этот матерный эвфемизм (замена матерного выражения) представляет собой вырожденный и потому показательный случай. Комментатору нечего сказать, но, тем не менее, он говорит и даже полагает, что это остроумно. Он отметился и заявил о себе. Это напоминает столь же ритуальные надписи типа здесь был Ося, соответственно, Ося был первым, вторым и так далее.
Подводя итог, я попытаюсь сделать прогноз (хотя прогнозам и не стоит верить). Мода на «язык падонков», превед и подобные клише связана с их новизной. По существу, каждое очередное употребление эту новизну, а следовательно – игру, остроумие и веселость стирает, а точнее говоря, превращает в банальность. Это судьба любого речевого клише. Мне кажется, что особых перспектив развития у этой лингвистической игры нет, уже сейчас набор выражений застыл, и новые появляются достаточно редко. С другой стороны, нет оснований считать, что все эти слова вот-вот исчезнут. Речевые клише могут существовать очень долго, хотя, как я уже и сказал, теряют большую часть своей энергии. Короче говоря, долгие лета медведу, преведу и иже с ними! И пусть они напоминают нам о лингвистических играх раннего периода развития интернета. А в качестве моды на смену им придет что-то иное, другие языковые игры, другие слова и словечки, так что лет через сорок какое-нибудь плакаль будет вызывать жуткую ностальгию.
Сбрендили
«А я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести…» – писал в поэме «Люблю» Владимир Маяковский. В наше время обучиться азбуке таким способом у поэта не вышло бы. Вывески, растяжки, рекламные щиты, а на них бренды да слоганы – все это порой трудно прочитать даже взрослому человеку (особенно грамотному). Во-первых, русских слов на вывесках и прочем не так уж много. Во-вторых, русские буквы перемешаны с нерусскими, а иногда даже и с небуквами. Ну, и в-третьих, просто ничего не понятно. Например, что означает «плюс» или «+» в конце слова: «Работа+», НТВ+, «Европа Плюс»? Если бы были «Работа + отдых» или «Европа + Америка», еще куда ни шло, а так совершенно непонятно. Или вот, скажем, «ТрансИнвестКредитТрастБанк».[29] Что это: одно слово или пять? Если пять, то где пробелы между ними, а если одно, то откуда берется столько прописных букв внутри слова. Или вывеска «Хлебъ». Кажется, что попал в дореволюционную Россию, но такую чутьчуть ненастоящую. В настоящей бы после «л» написали букву ять, да кто ж это сейчас помнит. Или вот огромная растяжка через Садовое кольцо – Выездная трапеза, записанная по правилам дореволюционной орфографии. Вроде все красиво, но только после буквы «ы» идет буква «еръ», а должна была бы быть буква «ять». Вечно с этим «ятем» проблемы.
Идем дальше – сапожная мастерская Versal, это мы вроде перенеслись во Францию. Жалко, что тамошний Версаль пишется иначе, но, с другой стороны, он ведь и не сапожная мастерская. Похоже, что знание иностранных языков только мешает. Как, например, русский человек со знанием одного иностранного языка (а значит, английского) должен прочесть название компании «ТНКBP», если никогда не встречал его раньше? На мой взгляд, есть только два разумных варианта: тээнкавээр (если считать, что это русские буквы) или тиэйчкейбипи (если считать, что это по-английски). Догадаться, что это слово написано сразу на двух языках, на этаком русангле, невозможно. Опять же на Садовом кольце, проезжая мимо обувного магазина, я притормаживаю, чем создаю аварийную ситуацию. На нем написано «PETEK», и мне непонятно, петек это или ретек. И я на этом месте каждый раз торможу.
Есть у меня в Москве и самая нелюбимая вывеска. Это ресторан «Т.Ж.И. Фрайдис». Сначала, глядя на нее, я не испытывал особых отрицательных эмоций. Думал, ну открыл некий Томас Жан Ингеборга Фрайдис ресторан и назвал своим именем, что ж в этом худого, не всем же быть Обломовыми да Пушкиными. Но когда мне объяснили, что за этой надписью скрывается английское выражение Thanks God It’s Friday (в традиционном, несколько вольном переводе: «Слава богу, сегодня пятница»), я расстроился, потому что перестал понимать что бы то ни было. Откуда берется «с» на конце, мне всетаки объяснили, а вот с «Ж» я так и не смирился: лучше уж «Г» (от God). Но, главное, я не понимаю, кто все это может понять. Ну да ладно, Ж. им судья!
Казалось бы, из всего сказанного вывод может быть только один – запретить! То есть абсолютно все запретить. Нерусские буквы запретить, древнерусские тоже запретить, слова чтоб остались только наши отечественные, а за плюсом чтоб всегда следовало слагаемое (и желательно сумму указывать). И «МегаФон» станет «Мегафоном», и «Яndex» – «Яндексом», и всем будет хорошо. Нет, «Яндексу» хорошо не будет, потому что слова такого русского нет, и имени такого нет, а значит, придется запретить целиком. Впрочем, и конкурентов его тоже запретят, так что никому не будет обидно. Но все-таки жалко.
Вот, кстати, и торговую марку «ЧайКофский» тоже запретить – за издевательство над великим композитором. А ведь тоже жалко, потому что действительно смешно, и вряд ли Петр Ильич обижается. Даже возмутительное смешение алфавитов бывает чем-то оправдано. Написание названия газеты «Коммерсантъ» с твердым знаком подчеркивает определенную преемственность с дореволюционной эпохой,[30] а латинское i в названии газеты «iностранец» делает ее как бы более иностранной.
Так что и окончательный вывод получается какой-то жалкий и двусмысленный. Как говорится, с одной стороны, но с другой стороны. В общем, пусть себе существуют.
А если говорить более решительно, то названия компаний и продуктов и, шире, реклама в целом – это своего рода игровая площадка, и было бы странно ожидать здесь соблюдения орфографических норм. Графические игры бывают разные. Это прежде всего выделение некоторых фрагментов слова или текста