Читать онлайн Экспедиция надежды бесплатно
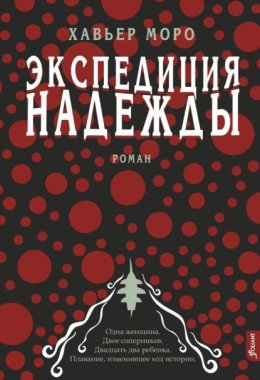
Посвящается Карлосу, Канделе и Виолетте
Памяти Рины Анусси, Франсиско Гомеса Бельярда
* * *
Эпидемии оказали куда большее влияние на ход истории,
чем действия любых правительств.
Джордж Бернард Шоу
Не бывает одиноких героев; великими деяниями всегда движет энтузиазм многих людей.
Элифас Леви
Сострадание выше справедливости.
Мигель де Сервантес. Дон Кихот
* * *
Маршрут Королевской Филантропической вакцинационной экспедиции
1
Девушке пришлось пинками разгонять животных, столпившихся у двери, чтобы пробраться в свой дом, всегда погруженный в полумрак. К привычному уже смраду мочи, звериного пота и прелой соломы примешивался едкий дух мандрагоры. Она насторожилась: «Неужели врач?» Слышалось лишь сопение коровы и попискивание цыплят, деловито клюющих что-то на полу. Из глубины дома не доносилось ни звука – ни человеческого голоса, ни лая, хотя обычно было не протолкнуться от людей и зверья. «Как странно», – удивилась Исабель. Она знала, что ее мать прикована к постели, поэтому никуда уйти не могла. Девушка пристроила у входа кочаны капусты, за которыми ее посылал отец, сняла заляпанные глиной башмаки и открыла дверь. Пахнуло дымом и затхлой сыростью.
Ей пришлось сощуриться, пока глаза не привыкли к темноте. В тусклом свете, сочащемся из щели в стене, Исабель с удивлением обнаружила, что все семейство собралось в этой единственной комнате, служившей одновременно хлевом, свинарником, спальней, гостиной и даже лазаретом. На деревянной лежанке, на подстилке из соломы, едва прикрытой грубым рядном, – обычно они спали там все вместе – сейчас покоилась женщина среднего возраста, казавшаяся старухой. Ее мать, Игнасия. Она вечно хлопотала по хозяйству, всегда подбадривала других, не боялась ни холода, ни голода; все считали, что и смерть ей не страшна. Однако уже три дня ее лихорадило, знобило и рвало, тело сводило судорогами. Исабель испугалась при виде багровых пятен, проступивших на лице матери.
На полу, стоя на коленях с четками в руках, священник дон Кайетано Маса – толстяк с мясистыми щеками – бормотал молитву. Сердце Исабель сжалось: падре обычно не заходил в дома прихожан, уж очень не по нутру ему было наблюдать вблизи бедность и болезнь. Последний раз он показался, чтобы крестить новорожденного братца, да и то, когда он пришел, ребенок уже помер.
– Мама? – дрожащим голосом позвала Исабель.
Маленькие сестренки, Мария и Франсиска, тихо плакали. Хуан, самый старший, отрешенно смотрел на распростертое тело; рядом с ним стоял отец, Хакобо Сендаль, – жилистый крестьянин, чья кожа от работы давным-давно задубела и покрылась морщинами. Он поднял на дочь воспаленные опухшие глаза.
– Что случилось? – спросила Исабель.
Отец не ответил, продолжая смотреть беспомощным взглядом. Тетушка Мария, сестра матери, лишь пожала плечами. Малыш у нее на руках потянулся ручонками к Исабель, и она ласково улыбнулась.
– Оспа, – произнес врач, – черная оспа.
Исабель скользнула взглядом по комнате, где даже печной трубы не было. Балки, потолок и стены покрывал толстый слой копоти. На дровяной плите громоздились тарелки, пара кастрюль, деревянные ложки и корзинка со сливами; по всему полу были раскиданы лопаты, мотыги и прочие орудия для полевых работ, а среди них в свое удовольствие разгуливали цыплята и поросенок. Внимание Исабель привлекла прялка, прислоненная к плите, неразлучная спутница матери; такие прялки можно было встретить во всех домах Галисии. И тут внезапно девушка осознала происходящее: ее мать только что скончалась. Это произошло в четверг, тридцать первого июля 1788 года.
Трудно придумать более разительный контраст, чем мрачная нищета лачуги Сендалей и пышное великолепие окружающей природы. Раскинувшись на плавных изгибах холмов близ деревушки Санта-Маринья-де-Парада, в округе Ордес, золотились поля, засеянные пшеницей, рожью и кукурузой. Скоро наступит время жатвы. Яркими стежками склоны горы прошивали желтые соцветия дрока – кустарника, который измельчали, смешивали с коровьими лепешками и пускали на удобрение. Пение птиц заглушал погребальный звон колоколов. Из своих домов, таких же нищих, как и домишко Сендалей, на похороны Игнасии тянулись соседи. Многие шли босиком, потому что земля пересохла. Их заплатанная, пропахшая дымом одежда, черная или коричневая, цеплялась за колючки ежевики. Неподалеку от церкви, куда они направлялись, высился замок сеньора, владельца большей части местных земель, а рядом с ним стоял гигантский амбар, где хранились каштаны и мед.
Члены семьи шагали по тропинке вслед за телом усопшей, лежащим на скрипучей телеге, которую тащила корова. Этой же дорогой, обрамленной яблонями, грушами, каштанами и высоченными дубами, в чьих кронах вили гнезда горлицы и пересмешники, Исабель ходила по субботам в церковь, чтобы учиться грамоте у приходского священника. Хотя уроки предназначались, как было сказано, «только для мальчиков», падре оказался вынужден в виде исключения допустить ее к занятиям, поскольку, во-первых, она отличалась бойким умом, а во-вторых, он устал спорить с Игнасией. Той, в свою очередь, надоело, что ее постоянно обвешивают и обсчитывают, и она употребила всю свою энергию, чтобы сломить упрямое сопротивление как соседей, так и собственного мужа и отправить дочку учиться счету. Ей и в голову не приходило, что эти уроки навсегда изменят судьбу девочки. Для Исабель учеба, столь далекая от повседневной рутины, стала единственным шансом узнавать вещи, не связанные напрямую с миром, в котором ей суждено было родиться; но эти моменты канули в прошлое со смертью матери.
Дон Кайетано завел Исабель в ризницу и указал пальцем на лежавший на столе документ – акт погребения.
– Подпиши вот здесь, – велел священник, – раз уж ты обучена грамоте.
Очень медленно, стараясь выводить буквы как можно красивее, Исабель написала свое имя. Затем в нижней части документа она прочла три слова.
– Падре, а что значит бедный… по за-ко-ну?..
– Ничего, деточка. Это для того, чтобы вы не платили за похороны.
Для священника «бедность по закону» была не просто словами, этот юридический термин означал, что Игнасия Гомес – супруга Хакобо Сендаля, рабочего-поденщика, человека мирного, с ровным характером, не имеющего никакого движимого и недвижимого имущества, – может считаться «претендентом на получение безвозмездного вспомоществования по причине бедности по закону». А одним из видов этого вспомоществования как раз является бесплатное захоронение в отдельной могиле на территории приходского храма, поскольку именно приход берет на себя все расходы на погребение.
К увитым дикими розами стенам церкви стекались соседи, однако они останавливались в нескольких метрах, за кладбищенскими крестами, чтобы не приближаться к родным усопшей, иначе рисковали бы заразиться. Оспа вызывала у людей животный страх, особенно у женщин. Пусть чума и тиф убивают быстрее, оспа страшна своими последствиями: шрамы и язвы на коже способны изуродовать самое миловидное личико. Для девушек на выданье это было страшнее смерти.
Исабель не помнила, чтобы столько односельчан собиралось вместе с того дня, как семь лет назад приезжал епископ из Сантьяго для проведения обряда конфирмации. Сейчас же на всех окружающих ее лицах читалось боязливое недоумение. Смерть забрала эту добрую женщину, которая менее недели назад еще прекрасно себя чувствовала. Утром того дня, когда ее сразила хворь, она доила хозяйских коров, а днем видели, как она тащит большие клубки чесаного льна. Внезапно Игнасия стала задыхаться, началась лихорадка, а к ночи она уже корчилась от боли в постели. Известили священника, тот вызвал врача из самого Ордеса, но лекарь удосужился явиться лишь на третий день. Слишком поздно; хотя, по правде, если бы он и прибыл раньше, все равно ничем бы помочь не смог. Черный цветок, как называли оспу, славился своей жестокостью и непредсказуемостью, особенно по отношению к беднякам.
Когда настало время предать земле тело, завернутое в перепачканный глиной саван, Исабель встала рядом с братом и сестрами, раздвинув их плечом. Ей тоже хотелось участвовать в прощании с матерью; так, все вместе, они опустили свой груз в глубокую яму, закидав ее негашеной известью и землей. Наверху, на краю могилы, неунывающий дон Кайетано, приобняв за плечи Хакобо, прочел заупокойную молитву. Его слова, те самые, к которым люди прибегают от начала времен, дабы обрести защиту от смерти, не доставили желанного утешения. Игнасия ушла слишком быстро, посеяв среди собравшихся смятение и ужас; в воздухе витал неизбежный вопрос: кто станет следующей жертвой? Подняв голову, Исабель увидела стаю птиц, перечеркнувших небесную синеву. Девушка подумала о душе своей матери; в семье не было ни единого реала, пришлось ей отправиться в мир иной в том, в чем была. Но, даже если и так, все равно надо благодарить священника, поскольку тот, в виде утешения, пообещал им добыть у сеньора и хозяина этих земель два реала на особую мессу с молитвой Богоматери невинных, мучеников и беспомощных, а возможно, и еще на одну службу в Часовне Душ, в Сантьяго-де-Компостела.
2
В свои тринадцать лет Исабель осознала, что ей предстоит занять место матери в семейной иерархии. Для начала нужно было вынести все из дома, побелить заново стены, промазать их негашеной известью и целый день держать двери открытыми, чтобы проветрить помещение. Таковы были указания дона Кайетано: он раз за разом повторял с амвона советы лекаря по защите от эпидемий. Исабель наотрез отказалась от помощи сестер; работа стала для нее единственным способом справляться с гнетущим сердце горем.
Самым трудным оказалось собрать все вещи матери и вилами перекидать их в костер. Ей хотелось бы оставить хоть что-то на память, но оспа забрала все: сорочку, две юбки, корсаж, три платка и нижнее белье, все домотканое, из грубого полотна с шерстяной ниткой в основе. Затем Исабель загрузила одежду всех членов семьи в чан и покрасила в черный цвет – юбки, штаны, жакеты, жилеты и чулки. К привычной грязи, которая уже въелась в кожу, отныне прибавились трудносмываемые темные пятна от линяющей ткани. Но строгий траур – это самое малое, что заслужила Игнасия.
Однако, даже пребывая во власти глубокого горя, семейство Сендаль не могло позволить себе пренебречь ежедневной рутиной. Они занимались поденщиной: обрабатывали чужие земли и ухаживали за чужим скотом, а теперь вдобавок должны были взять на себя и те обязанности, которые всегда выполняла мать семейства. Она вставала первой и ложилась последней, а рядом с ней всегда находилась Исабель, материнская любимица, старшая дочка и лучшая помощница, из всех детей самая веселая и энергичная, но при этом и самая ласковая, – ее неотлучная тень. В Галисии говорят, что каждый ребенок – это не лишний рот, а еще одна пара рук для работы. В пять лет Исабель уже с удовольствием шла перед запряженными в плуг коровами, чтобы борозда получалась ровной. В праздничные дни ей доверяли следить за приготовлением поте[2]; похлебка должна томиться долгие часы, и все это время нужно поддерживать огонь в печи. В семь лет Исабель переболела корью, а когда выздоровела, ее стали отправлять одну то в лес за дровами, то за водой на родник, то за мукой на мельницу. «Она уже отрабатывает свой хлеб», – говаривала мать, и эти слова наполняли гордостью сердце девочки.
Больше всего Исабель любила проводить время с матерью, но, помимо этого, ей нравилось пасти скот. В компании других детей она целыми днями носилась по полю – гоняла кур или сбивала овец в стадо. С малых лет она не только хлопотала по хозяйству, выполняя мелкие поручения, но и помогала управляться с младшими племянниками, которые жили неподалеку, метрах в ста, в Грела-де-Арриба. Ей приходилось два-три раза в день кормить их, покуда, чуть позже, она не научила их есть самостоятельно. Однажды родителям понадобилась ее помощь в поле, но девочка решительно отказалась оставить племянников одних, на попечении собаки и кур. Не имело значения, что все местные дети росли как трава, предоставленные сами себе; Исабель не была готова оставить малышей без присмотра, по крайней мере, пока они не научатся ходить. Ей приходилось нелегко; обычно она покорно следовала правилам, но когда речь заходила о маленьких детях, в ней просыпался характер, тот самый, что она унаследовала от матери, и тогда уже Исабель поступала так, как подсказывала ей совесть.
Пришлось распрощаться с тетрадками, карандашами и уроками по субботам, единственной отдушиной среди тяжелой работы по дому и в поле. Исабель просыпалась еще затемно, зажигала свечу, кормила животных, разжигала огонь в плите и ставила греться горшок с молоком, если таковое имелось. Проснувшись, медленно подтягивались остальные члены семейства, наливали молока в миску и добавляли пшенной муки. Завтракали, сидя прямо на полу, прислонившись к стене, в полном молчании. Про оспу, унесшую жизнь Игнасии, старались не упоминать, дабы не навлечь беду. Похороны тоже не обсуждали: эти люди привыкли к неизбежности смерти. И без того немногословные, сейчас, под грузом печали, они и вовсе притихли. Заговаривали лишь о каких-то незначительных происшествиях в каждодневной работе. Покончив с молоком, все клали в карман по куску сала с кукурузным хлебом – Исабель готовила заранее этот «тормозок», как они называли перекус в поле, который устраивали около одиннадцати часов, – и прощались. Девушка оставалась дома; мыла миски и ложки, а потом делала то, что всегда делала мать: собирала остатки золы и высыпала их в огород, для удобрения.
День еще только начинался. Ей предстояло заниматься и племянниками, и хозяйством, и скотом, и работать в поле. В зависимости от сезона нужно было косить траву и жать пшеницу, молотить зерно, собирать лук и чеснок, пахать почву плугом, сажать капусту и бобы, обрезать деревья и колоть дрова, убирать созревшее просо, полоть, ходить с серпом за дроком на подстилку хозяйским коровам, готовить землю к севу, трепать лен, прясть – список столь же бесконечный, сколь и разнообразный.
К этому добавлялись еще и привычные трудности, связанные с каждым временем года. С начала весны кладовка стояла почти пустая: забитую свинью успевали съесть, заканчивалось и зерно предыдущего урожая. Этот парадокс нелегко было осмыслить – весной больше всего работы, но меньше всего пищи, которая так нужна для подкрепления сил. Но так происходило во всех семьях. К концу лета у Исабель не осталось муки, потому что пришлось возвращать соседкам ту, что мать брала в долг два месяца назад. Также она урезала расход молока и яиц, благо их можно было выгодно продать или обменять. Исабель решила обойтись капустой, бобами, каштанами, просяным хлебом и салом. Свежего мяса ей не перепадало с самой зимы, когда они с матерью готовили на Рождество праздничный поте. В свои тринадцать лет Исабель ни разу не пробовала рыбу, и это притом, что жили они в нескольких километрах от моря.
Подобная скудная жизнь требовала постоянства и равновесия, потому что малейший сбой приводил к пагубным последствиям. Затяжные дожди или засуха грозили бедствиями, и рядом всегда маячил призрак голода и эпидемий.
3
Именно так и произошло в ту зиму, вслед за смертью Игнасии. Лишний раз подтверждая старую истину о том, что беда не приходит одна, в октябре хлынули дожди, да такие сильные, каких и старики не помнили. День за днем над полями ходили низкие свинцовые тучи, изливая потоки воды. Ручьи взбухли и стали непреодолимой преградой, доносились слухи о разливах рек. Из-за протекающих крыш полы в домах превратились в глинистое месиво. Попытки навести чистоту не давали никаких результатов. Вместе с холодом, грязью и голодом не заставили себя ждать и клопы с блохами. Жизнь текла под аккомпанемент бурчания пустых животов, сиплого кашля и скребущего царапанья, когда кто-то начинал расчесывать укусы. Несмотря ни на что, крестьяне завалили священника подношениями – горстка каштанов, пучок ботвы репы – в надежде его задобрить и вдохновить на еще один молебен. Чем больше худели и голодали крестьяне, тем больше толстел священник.
Старожилы не помнили и подобных заморозков, как в тот год; все посевы погибли. Дождевая вода и ледяной ветер проникали в каждую щелочку домов. Влажность стояла такая, что в течение многих ночей семейству Сендаль приходилось спать в мокрой одежде, потому что огонь в очаге не успевал ее высушить. Да и без этого одежда изо льна не слишком грела; помимо того, ее столько раз стирали и чинили, что она расползалась на глазах. За ночь доводилось по нескольку раз просыпаться от пронизывающего до костей холода.
Дети пали первыми жертвами голода. В любую непогоду они рыскали повсюду, грязные, сопливые, совсем голые или слегка прикрытые лохмотьями. Однажды, возвращаясь из имения сеньора с мисочкой меда (это величайшее сокровище не без труда удалось выменять на льняную кудель), Исабель увидела около церкви соседского сынишку; ему было семь лет, и девушка прекрасно его знала. Малыш безутешно рыдал и упирался, а дон Кайетано куда-то его тащил, крепко ухватив за плечо. Мать мальчика торопливо уходила прочь, закрыв уши руками, словно ей невмоготу было слышать крики сына. Она скрылась из виду, на лице ее читались стыд и отчаяние.
На Исабель эта сцена произвела такое ошеломляющее впечатление, что ночью она не могла сомкнуть глаз. На следующий день, после службы, она спросила про ребенка. Священник объяснил, что мать не могла прокормить сына и поэтому была вынуждена отказаться от него; сам же падре отправил мальчика в сиротский приют в Сантьяго, и, быть может, в конце концов его усыновит какая-нибудь семья, так что он не будет испытывать голода и лишений. Не составило труда успокоить девушку подобной благочестивой ложью. Однако дон Кайетано забыл упомянуть о чудовищной смертности в подобных заведениях, а также не рассказал и о том, что не раз слышал на исповеди: некоторые семьи в голодные времена не гнушались детоубийством. Укладывали маленького ребенка на ночь с собой в кровать, а потом незаметно, пока все спали, ненароком придавливали его до смерти. «Несчастный случай», – оправдывались они потом перед властями. Поэтому в своих проповедях падре не уставал повторять, чтобы родители не брали маленьких детей с собой в постель, дабы не задавить их. Таким образом он следовал «Руководству для исповедников»; в связи с размахом, который данная проблема приобрела в последнее время, церковь сочла необходимым включить подобные рекомендации в число первоочередных наставлений верующим.
В деревнях голод обходил стороной только землевладельцев, дворян и священников. Все остальные в той или иной степени испытывали нехватку пищи, потому что половина всего урожая уходила на оплату ренты и приберегалась для покупки семян. В иерархии нищеты хуже всего приходилось детям, за ними следовали женщины. По традиции, лучшая еда доставалась мужчинам, а все прочие вынуждены были довольствоваться остатками. Исабель и ее сестры питались капустными листьями, плавающими в прозрачном бульоне без жира, потому что сало доели еще в конце лета. Вскоре девушка заметила, что у нее стали подгибаться колени, и при малейшем усилии ей, как старухе, приходилось либо присаживаться, либо искать, на что опереться. Порой живот сводило судорогой, а после домашних хлопот кружилась голова. Иногда она разражалась плачем без видимых причин, только лишь от слабости. Оставшись одна, она рыдала уже не переставая и ощущала все большую жалость к себе. Когда слезы готовы были уняться, Исабель вспоминала о матери. «Боже мой, какое горе!» – повторяла она про себя и снова начинала плакать. Только сейчас стало понятно, насколько мать защищала ее от житейских невзгод.
Когда Игнасия трагически ушла в мир иной, ее незримое присутствие стало как никогда осязаемым. «Как бы она поступила?» – спрашивали себя члены семьи перед лицом очередных трудностей; казалось невероятным, что она уже никогда больше не переступит порог дома. Ее дух витал над холмами и внутри дома, между грязным полом и почерневшими балками потолка; живы были и ее советы, как, например, глотать слюну, чтобы не чувствовать голода, – этот трюк поначалу работал, принося временное облегчение. Или сосать щепки, чтобы обмануть желудок. Это помогало чуть дольше, пока челюсти не уставали от стольких бесплодных усилий. На самом деле они ужасно по ней скучали; Игнасия умудрялась при любых невзгодах сохранять выдержку и спокойствие. С ней и живот не так сводило, и голод казался просто неудачной шуткой судьбы, и холод доставлял лишь временные неудобства. А без нее жизнь превратилась в ад.
Помимо судорог в желудке и головокружения, голод порождал сонм злобных чувств. Сперва возникало недоумение перед несправедливостью мироустройства. «Почему это происходит со мной? – спрашивал себя каждый из них. – Разве я не добрый христианин, разве не работаю, как вол?» Затем наступало ощущение позора и бесчестья. Исабель и ее отец стыдились признаться, что им не хватает пропитания, и поначалу притворялись перед соседями, что у них все в порядке. Но это длилось недолго, потому что все нуждались друг в друге: можно обменять яйцо на кусочек мяса, если сосед решил забить животину, или выменять кринку молока на ломтик сала. Никому не удавалось избежать унижения голодом.
Когда проходило и это состояние, людей охватывала злость.
– Это наша кара за то, что мы не платим десятину! – бушевала Франсиска, намекая на церковную ренту.
Хакобо, как и большинство крестьян, противился злоупотреблениям духовенства и отказывался оплачивать поборы, что неимоверно возмущало его суеверную дочь Франсиску. Люди возлагали вину и на ренту, которую платили хозяину, и на ту, что платили королю, и на акцизы, и на все зловредные силы мира, сговорившиеся объединиться против несчастных крестьян Галисии; но эта слабая попытка бунта угасала в самом начале по причине физической изможденности самих бунтовщиков. Так что к концу оставалось лишь глухое безнадежное отчаяние. Не раз ночью кто-то из членов семьи просыпался, будто бы учуяв сладостный аромат просяного хлеба. От отчаяния до сумасшествия только один шаг.
Несмотря ни на что, Хакобо делал все возможное и невозможное, чтобы семья по мере сил продолжала жить в привычных рамках. Ему выпало принимать самые тяжелые решения, как тогда, когда он пожертвовал худющей, как скелет, телкой, прежде чем она успела околеть от истощения. На вырученные деньги они купили сала, семян на следующий год, муки и несколько колбасок, чтобы на Пасху умаслить священника. Одно дело не платить десятину, и совсем другое – забыть о личных отношениях. Можно ненавидеть церковь, но ладить с доном Кайетано призывал здравый смысл.
Так потихоньку удалось пережить самые тяжелые месяцы. Хакобо Сендаля совершенно измучила такая жизнь: все зависело от событий, ход которых он был не властен контролировать. Один год без урожая… А следующий? А если вернутся морозы? И, как бы он ни противился, на горизонте маячила неминуемая тень еще большего бедствия. Все знали, что вслед за голодом всегда приходят чума и оспа.
4
Не давали пощады и непрекращающиеся ливни. За самой дождливой на людской памяти зимой последовали еще более сырые весна и лето. Урожай пшеницы и проса сгнил на корню. На посевы льна напала мучнистая роса, а яблоки источили черви. Целыми семьями крестьяне, выгнанные из своих домов голодом и холодом, в поисках работы бродили по дорогам, таща за собой детей и стариков. А в конце концов очень скоро начинали просить милостыню, и вся округа заполнилась нищими. Хакобо, глядя на них и предвидя подобную участь в недалеком будущем, панически боялся такого исхода. Дома удалось сохранить только маленького поросенка, одну курицу и жалкие запасы сала. После этого не останется ничего. В грядущем их ожидал только голод. И, возможно, болезнь, как это случилось с Игнасией.
Так что однажды утром он встал раньше обычного, осторожно, чтобы не разбудить остальных, выбрался из дома и подошел к холмику, который служил погребом. Достав из запасов два яйца, он аккуратно положил их в карман.
– Отец, оставь их!
От слов Исабель, проводившей ночи в полудреме, Хакобо испуганно вздрогнул.
– Я отдам их дону Кайетано, – объяснил он.
– Это наша еда на сегодня!
– Ну, съедим что-нибудь другое.
– Другое? У нас же ничего нет!
Исабель пылко возражала, пока отец не велел ей умолкнуть, причем таким грозным тоном, что дочь потупила взор. Смирившись, с полными слез глазами Исабель зашла в дом; ноги ее подкосились, и она рухнула на стул.
Священник жил рядом с церковью; ее каменные стены ярко блестели под непрерывно моросящим дождем. Одетая в черное ключница открыла дверь и пригласила Хакобо войти, что тот и сделал, предварительно вытерев ноги. В помещении горел камин; было жарко, а от доносившихся с кухни запахов перца и лука у Хакобо свело живот. Глаза его разбегались при виде полок, сплошь заставленных буханками хлеба, окороками, корзинами фруктов, головками сыра, бутылками оливкового масла и прочими деликатесами, которые такие же бедняки, как он, тащили священнику в обмен на молебны, свадьбы, крестины или похороны. Падре поздоровался с гостем в свойской дружелюбной манере. Сендаль протянул ему яйца.
– Нет-нет, сын мой. Я не могу принять их. Мне известно, как нелегко вам приходится, и поверь… я молюсь за вас.
– Падре, сделайте милость…
Хакобо так настаивал, что священник решил, будто его станут просить о таком великом одолжении, что он и выполнить-то его не сможет. Он уже придумывал слова для отказа, а тем временем, однако, укладывал яйца в корзину на полке.
– Падре, вы единственный, кто в силах нам помочь.
– Я всего лишь орудие Господа, сын мой…
Воцарилось молчание, затем Хакобо откашлялся. Ему было неимоверно стыдно, но он все же произнес:
– Я вынужден отправить свою дочь в услужение.
Дон Кайетано возвел глаза к небу. Примерно подобное он и предполагал.
– Старшую?
– Мою Исабель.
– Столько домов не наберется, сколько прислуги сейчас развелось! – ответил он, хлопая гостя по плечу. – Всем вам нужно одно и то же.
– Но… если бы была жива Игнасия.
– Знаю, знаю, сын мой, – промолвил священник, меняя тон при виде отчаяния на лице Сендаля. – Она вас охраняет, помогает вам с небес.
– Конечно, падре… Ну, пожалуйста, пристройте мне девчушку, она и с детьми управляется, и работы не боится. Бог вас вознаградит.
– Не сомневайся, я разузнаю, но сразу предупреждаю, что это очень нелегко. Не хочу давать тебе ложных надежд.
Хакобо понурился. Священник встал.
– Подожди-ка… – сказал он.
Подойдя к ключнице, он что-то шепнул ей; Хакобо не расслышал его слов. Женщина исчезла и тут же вернулась с пакетом, который передала священнику.
– Возьми, сын мой… Вам это пригодится.
– Нет, что вы, отче… это я вам задолжал…
– Бери, ты мне ничего не должен.
– Но я хотел… Мне бы дочку пристроить…
– Забирай и веруй, – оборвал его дон Кайетано. – Игнасия вас оберегает. Ну, давай, ступай с Богом…
Говорить было больше не о чем, и священник проводил гостя до двери. Хакобо вышел, прижимая к груди пакет, словно боялся, что его ограбят. Едва оказавшись вне поля зрения дона Кайетано, он сразу же открыл пакет: там лежал изрядный кусок солонины. Это, конечно, не было решением его проблемы, но вместе с тем являлось превосходным вспомоществованием, великолепным подарком, так что Хакобо испытывал глубокую признательность. «Исабель будет довольна», – подумал он.
5
Последнее, чего бы хотелось Хакобо Сендалю после потери жены, – это расстаться с дочерью, но такое решение казалось единственной возможностью уберечь ее от нищеты и ее последствий. Она не только перестанет обременять семейство, но и сможет время от времени помогать им продуктами, а может статься, даже и деньгами. Помимо того, она обучится хорошим манерам и получит шанс преуспеть в жизни. Все, что угодно, лишь бы вырваться из этого мира, лишенного будущего.
Священник искренне уважал Сендаля и чувствовал расположение к его дочери, своей ученице, и поэтому он сразу взялся за дело: каждому, кто был готов его слушать, рассказывал, какая превосходная у него есть кандидатка на роль прислуги в состоятельном доме. Дон Кайетано связался со своими собратьями-священниками из окрестных деревень, чтобы они дальше распространили эту весть. С учетом сложившихся обстоятельств он не питал сколь-нибудь твердых надежд устроить Исабель на службу, но от души сделал все, что от него зависело.
Тем временем, как и предсказывал Хакобо, несколько жителей подхватили лихорадку, которую лекарь поначалу определил как заразную, гнилостную, злокачественную и чумную. Она сражала самых слабых, проявляясь ознобом, болью в спине, ощущением ватной слабости в ногах, головными болями, когда казалось, что череп вот-вот лопнет, и привкусом желчи во рту. У некоторых этим симптомам предшествовали судороги в кистях рук и запястьях, покраснение глаз и лица, сильнейшая бессонница и ночной бред. Когда через несколько дней на телах страждущих выступило множество гнойников, врач смог назвать настоящее имя этой болезни: оспа. И снова Исабель пришлось выносить из дома все пожитки, чтобы дочиста отмыть грязь. Потом она обильно опрыскала стены уксусом, а пол устелила цветами и пряными травами. Исабель сделала, что могла, осталось разве что промазать стены раствором извести. Этим она и занималась, когда появился отец; было заметно, что ему изрядно не по себе.
– Оставь это и пойдем со мной, надо навестить священника.
– Я занята, – возразила Исабель.
– Давай-давай… И умойся немного, дочка.
Она отставила ведро с известью и вымыла руки. Девушка не понимала, к чему ей сопровождать отца, и Хакобо пришлось объяснить, что он недавно ходил к священнику и просил подыскать для Исабель место в услужении. Раньше он не говорил об этом, потому что не питал особых надежд. Но, наверное, Бог и Игнасия услышали его молитвы, потому что сейчас в деревню пришел другой священник в поисках служанки для очень хорошей семьи. Он хочет посмотреть на Исабель; их уже ждут.
Девушка смешалась. Ее первой реакцией была радость: устроиться на службу – это самое пылкое желание почти всех ее ровесниц, а возможность вырваться из деревни, то есть из оков нищеты, означала невероятную удачу. Исабель это прекрасно знала. Но одна лишь мысль о том, что придется покинуть своих самых близких людей – Хакобо, Франсиску, Хуана – и лишиться родственного тепла, скрашивающего тяготы жизни, вызывала у нее глухую тревогу.
Переступив порог дома дона Кайетано, Исабель чуть не упала в обморок от запаха тушеного мяса. К тому времени от нее остались лишь кожа да кости. Оба священника с интересом разглядывали ее. Она была выше среднего роста, и это еще больше подчеркивало ее худобу. Исабель носила траур – потрепанная жакетка и юбка, закрывающая лодыжки; черные как смоль волосы убраны под дырявый платок. Щеки раскраснелись; кожа на руках покрылась шершавыми цыпками, а ногти побелели от извести. Но черты лица Исабель отличались правильностью, улыбка была ясной и открытой, а большие черные глаза смотрели спокойно и внимательно. Горести последнего года стерли в ее облике все напоминания о детстве, и сейчас перед священниками стояла женщина, которая, вне всяких сомнений, может превратиться в настоящую красавицу, если ее откормить и приодеть. Правда, голод настолько иссушил ее, что новоприбывший падре озаботился, уж не хворает ли она.
– Нет, я здорова… – ответила Исабель, нервно сплетая пальцы.
Хакобо не преминул вмешаться:
– У нее крепкое здоровье. Вообще никогда не болеет!
– Девчушка просто оголодала, – вырвалось у ключницы.
Исабель испуганно опустила глаза. Ключница подошла ближе и тихонько спросила:
– Есть хочешь, золотце?
Девушка взглянула на отца, будто спрашивая, как ей поступить, но Хакобо отвел глаза. Она на миг заколебалась, а потом выпалила:
– Да, я очень голодна, если вы дадите мне корочку хлеба, я с удовольствием ее съем.
При виде подобной непосредственности священники разулыбались.
– Дайте ей миску, пускай наестся горячей похлебки, – словно через силу промолвил дон Кайетано. – И Хакобо тоже налейте.
– Пойдемте со мной, – позвала ключница.
Торопливо расправившись на кухне с огромной миской дымящейся похлебки, отец и дочь вернулись в комнату. Теперь они выглядели совсем иначе. Священник объяснил им, что может устроить Исабель служанкой в дом к очень знатному сеньору в Ла-Корунье. Услышав название этого города, такого близкого и вместе с тем такого далекого, Исабель вздрогнула. Наверное, такой же эффект возымело бы предложение отправиться на другую планету. В свои тринадцать лет она ни разу не покидала родную деревушку; она даже не бывала в Сантьяго, хотя до него от дома всего три лиги[3]. Видя ее смятение, священник спросил:
– Ты ведь хочешь пойти в служанки, так?
Исабель заколебалась. Посмотрела сначала на отца, потом на миску с едой и наконец выдавила:
– Хочу.
– Смотри, придется много работать…
– Работа меня не пугает.
В это мгновение Хакобо посчитал нужным вмешаться:
– Падре, вы же ее знаете.
– Как родную дочь, – согласился дон Кайетано. – Я написал в своей рекомендации, что Исабель – девушка безупречного поведения и очень набожная.
Сендаль кивнул, подтверждая слова дона Кайетано. Второй священник продолжал свои расспросы:
– Ты любишь детей?
– Да, очень…
Хакобо снова вмешался:
– Она в одиночку вырастила своих племянников, – сказал он, глядя на местного священника в поисках одобрения.
– Да-да, подтверждаю.
– И сколько ты хочешь получать? – поинтересовался второй священник.
Девушка вновь посмотрела на отца, прежде чем ответить.
– Сколько заплатят.
– Предпочитаешь получать деньги раз в месяц или сразу за год?
– Как вам угодно.
– Сначала тебе будут платить десять песо в год; и дадут два форменных платья, одно на смену. Тратиться ни на что не придется. Я уверен, что со временем тебе повысят плату, но при условии, что ты это заслужишь.
– Она заслужит, – подтвердил дон Кайетано.
– Ну и хорошо, – подытожил священник, уже приняв решение. – Отправляемся завтра, дилижанс отходит из Ордеса после обеда.
– Приходи сюда к часу, малышка, я сам вас отвезу в Ордес в моей повозке, – предложил дон Кайетано.
Исабель смотрела на священников широко открытыми глазами. Она ничего не чувствовала, казалось, ее разум окутал густой туман. Что сейчас произошло – катастрофа или сказочная удача? «Завтра? – подумала она. – Но ведь уже почти ночь!» С трудом скрывая волнение, она со всеми попрощалась.
Шел дождь. За всю дорогу до дома отец и дочь не раскрыли рта. Бедняки покорно свыклись с мыслью, что судьбу не выбирают. Она ведет свою игру по большей части во вред, но иногда и на пользу. Но всегда неотвратимо и неизбежно.
Той ночью, улегшись на свое место в общей кровати, Исабель зарылась лицом в солому, чтобы заглушить рыдания. Хакобо тем не менее услышал всхлипы и взял ее за руку. Он не делал этого с тех пор, как она была совсем маленькой. Потом отец обнял ее, и они так и проспали эту последнюю ночь дома, под шум храпа, кашля и сиплого дыхания остальных членов семьи.
6
На горизонте занимался новый день, когда Исабель добралась до Ла-Коруньи. Всю ночь она провела, забившись поглубже на сиденье дилижанса, который неторопливо пробирался сквозь стену дождя. Проснулась она с болью в затекшем теле, в полном унынии, и при взгляде в окошко обнаружила, что справа и слева простирается море – черное, необъятное и такое мрачное, что ей стало страшно. Вскоре экипаж въехал в город, настоящую крепость, обнесенную стеной, и продолжил путь по перешейку. Фасады самых больших зданий смотрели на бухту, наиболее защищенную часть моря; с другой стороны, на берегу открытого штормам залива, постройки были меньшего размера и поскромнее. Небольшие площади густонаселенного квартала Пескадерия были обрамлены домами с портиками – таких Исабель никогда не доводилось видеть. Через открытые ворота в крепостной стене она разглядела рыбаков: те возвращались с ловли, причаливали к пляжу в бухте и растягивали сети для починки. Для нее все было новым в этой паутине улиц, окруженных морем и пахнущих солью. Однако обилие рассеянных по городу огородов, бродящие повсюду стада домашних животных и горы мусора и нечистот живо напомнили о деревне, которую она только что покинула.
Верхняя же аристократическая часть города, также обнесенная стеной, – старинный центр Ла-Коруньи, – выглядела совсем иначе. Впечатляющие здания ратуши, Собора Святой Марии дель Кампо, Капитанского дворца и пышные особняки знатных дворянских родов поражали воображение. Но больше всего внимание Исабель привлекла башня; стоящая вдалеке, на оконечности мыса, она отбрасывала в небо вспышки яркого света и не походила ни на одно виденное ранее здание.
– Это старинный римский маяк, – сообщил священник. – Называется Башня Геркулеса.
– Маяк? Что такое маяк?
– Его свет помогает кораблям не сбиться с курса в темноте.
Ла-Корунья прежде всего была надежным океанским портом. До берега доносились команды с судов, маневрирующих при заходе в бухту, потому что там не было ни причалов, ни молов. Корабли бросали якорь на рейде, а погрузку и разгрузку осуществляли курсирующие между ними и берегом лодки. В этой части города не бродили стада домашних животных; копыта лошадей звонко цокали по блестящей брусчатке. Дилижанс остановился у дома номер тридцать шесть по улице Реал; четырехэтажный особняк принадлежал Херонимо Ихосе, процветающему торговцу, одному из достойнейших сынов города. Священник препоручил Исабель служанке-мулатке, которая впустила их через черный ход. Уроженка Кубы, вольноотпущенная рабыня, она вместе с мужем следила за домашним хозяйством. Рассмотрев поближе новоприбывшую и отметив ее нищенский вид, заострившиеся черты лица и запавшие глаза, мулатка скорчила недовольную гримасу.
– Пойдем со мной, доча…
Они поднялись на два этажа и через кухню зашли в служебные помещения. Мулатка показала Исабель ее спальню; на кровати лежало сложенное форменное платье, которое девушке следовало надеть, чтобы прислуживать господам. Комнатка была маленькой, но чистой, с побеленными стенами и смотрящим на море окном. Исабель выпустила из рук узелок со своими жалкими пожитками и почувствовала непреодолимое желание прилечь и поспать, однако мулатка ей не позволила. Нужно было познакомить ее с кухаркой и прочими слугами, показать, где хранится посуда и столовые приборы, где расположены прачечная, гладильня и дровник, куда выкидывать мусор и как работают камины.
Голос сеньоры из глубины дома прервал объяснения мулатки. У Исабель кровь застыла в жилах. Сердце сжалось от страха перед встречей с той, кто, судя по всему, отныне станет распоряжаться ее жизнью. Исабель охватило жгучее желание немедленно сбежать подальше отсюда. По-видимому, мулатка что-то почувствовала, потому что спросила, все ли в порядке; Исабель ответила, что все хорошо, стараясь незаметно вытереть брызнувшие фонтаном слезы. Ее пронзила мучительная тоска по своей деревне. Тем не менее она боязливо поинтересовалась, памятуя о принятом среди слуг Галисии обычае:
– Должна ли я встать на колени?
– Нет, здесь этого не требуют…
Они вошли в гостиную; то ли от усталости, то ли от туманящего мысли отчаяния, но девушке показалось, что все происходит во сне. Этот дом ничем не напоминал жилище владельца ее деревни, картина перед глазами была самым роскошным и прекрасным, что ей когда-либо доводилось видеть. Ее окружал сонм скульптур, витрины с украшенными драгоценными камнями часами, бархатные кресла с позолоченными подлокотниками, ковры, переливающиеся солнечными бликами хрустальные люстры, пианино и попугай с алым оперением, который сидел в огромной клетке и повторял незнакомые слова.
– Дон Кайетано очень хорошо о тебе отзывался…
Донья Мария-Хосефа дель Кастильо, супруга дона Херонимо Ихосы, была изысканной красавицей, но при этом любезной и деликатной; одевалась она просто, дома не носила украшений и драгоценностей, а светлые волосы собирала в незатейливый узел. Исабель слышала множество рассказов о хозяевах, которые обращаются со слугами хуже, чем с собаками, постоянно отчитывают их, ругают и могут даже ударить в присутствии гостей. Сейчас же, едва увидев свою госпожу, Исабель осознала, как ей повезло. Эта женщина составляла полную противоположность деревенской сеньоре – та смотрела на всех свысока.
– Какая ты худышка, дитя мое… – сказала дама теплым тоном. – Ладно, у нас ты будешь есть вдоволь.
Исабель робко кивнула головой.
Вмешалась мулатка:
– Я ей объяснила, что в ее обязанности входит накрывать на стол, приносить завтрак в спальни, поддерживать огонь в каминах и помогать вам одеваться и обуваться.
– В последнем нет необходимости, для этого у меня есть вы, – оборвала ее сеньора. Обернувшись к Исабель, она продолжила, глядя девушке прямо в глаза:
– Исабель, священник тебе объяснил, для чего именно мы тебя наняли?
– Нет, сеньора…
– Прежде всего, чтобы ты занималась моими детьми; их двое, и они скоро вернутся из школы. Мне говорили, что ты умеешь читать и писать…
– Буквы знаю немного.
– Может, в буквах и понимает толк, а вот на стол накрыть совсем не умеет, – перебила мулатка.
– Честно говоря… – Исабель пристыжено потупила взгляд.
– Ничего, научишься. Главное, чтобы ты занималась детьми, одевала их, водила в школу, играла бы с ними и заставляла читать и делать уроки. Для этого мы тебя и взяли.
– Да, сеньора…
– У тебя будет свободное время – по воскресеньям, с трех до семи.
– Хорошо, сеньора.
Теперь Исабель начала понимать: уроки грамоты с деревенским священником дали ей преимущество, позволившее выделиться из массы и заполучить это место. Она волевым усилием выкинула из головы мысль о том, что, возможно, пишет и читает хуже, чем сами дети. Ей вспомнилась мать, Игнасия, и девушка подумала, что та и сейчас, из другого мира, продолжает управлять ее судьбой.
Она обессилела от стольких переживаний, все здесь было другим и непривычным, и люди показались странными. Тяжелее всего было выносить отношение других слуг – оно колебалось между молчаливым укором и откровенным презрением. Бедные девушки, как и она сама, только приехавшие из деревни, находились на самой низкой ступеньке сложившейся иерархии. А то, что она обучена грамоте, только подбавляло жара в огонь неприязни. Намеренно проигнорировав слова доньи Марии-Хосефы, мулатка заставляла Исабель начищать пемзой железную кухонную плиту, пока она не стерла руки до крови; поручала щеткой и мылом скрести полы, научила наводить глянец на обувь и крахмалить белье, а также велела ей продемонстрировать свои способности к глажке. Когда Исабель, выжатая как лимон, надела черное платье с кружевным воротником и манжетами и белый передник, чтобы предстать перед хозяином дома, ее вновь охватило желание стремглав бежать в свою деревню. Но дон Херонимо Ихоса оказался столь же дружелюбен, как и его супруга:
– Здесь ты ни в чем не будешь нуждаться, дочь моя, – промолвил он отеческим тоном.
И Исабель снова захотелось плакать, на этот раз от признательности.
Позднее она познакомилась с детьми. Старшей, Марианне, исполнилось десять, а ее брату Гонсало – семь. Они были прекрасно одеты, хорошо воспитаны и жизнерадостны; ей не составило труда завоевать их дружбу. Достаточно было изобразить звуки, которые издают деревенские животные, чтобы дети покатились со смеху. Исабель обладала внушительным репертуаром и под конец порадовала слушателей гусиным гоготом, коровьим мычанием, щебетаньем птички, собачьим лаем и стрекотанием сверчка. Как же они отличались от ее собственных племянников! Их гладкая кожа светилась белизной, ростом они могли равняться с взрослыми жителями деревни. У них была великолепная правильная речь, они умели играть на фортепьяно, да и читали они лучше, чем сама Исабель, чего она и опасалась. Когда это выяснилось, казалось, родители вовсе этому не удивились и никак не стали укорять девушку. Напротив, они вручили ей целую стопку непереплетенных брошюр с популярными стихами, чтобы она совершенствовалась в чтении. По ночам, лежа в кровати, – оттуда была видна луна и краешек неба с бегущими облаками, – Исабель проглатывала их от корки до корки, включая даже объявления. Общение с господскими детьми не только оберегало ее от нападок других слуг – вскоре между ними зародилась настоящая сердечная привязанность. Девушка сжимала их в объятиях, целовала, всячески баловала, играла с ними в классики, в прятки и жмурки. По утрам она будила их к завтраку, подтягивала носочки, надевала форменные костюмчики, перчатки и шарфы и по затянутым предрассветным туманом улицам отводила в школу. По вечерам она резвилась вместе с ними, облачала их в пижамки, читала сказку на ночь и водила в уборную перед сном. Довольно скоро у них образовалась своя маленькая семья внутри большой.
7
Исабель научилась работать так сноровисто, что остальные слуги перестали обращаться с ней как с новичком. Ее главной защитницей стала кухарка – толстая веселая тетка с испещренным оспинами лицом, тройным подбородком и смеющимися глазами. Родом она была из деревни, соседней с деревушкой Исабель. Она заметила, что девушка совсем не бережет силы и не норовит при первой возможности переложить свою работу на других. Напротив, новенькая ко всему относилась с крайней серьезностью и ответственностью, чем славилась с малых лет. Ее скромный и дружелюбный нрав, нежность по отношению к господским детям, услужливость и преданность вскоре завоевали всеобщую благосклонность; не был исключением и сам дон Херонимо, который умел ценить подобные качества в людях.
Исабель быстро привыкла к сытой жизни. Как и прочие слуги, она кормилась остатками с господского стола. Кухарка заботилась о том, чтобы еды оставалось побольше. Конечно же, когда очередь доходила до Исабель, все успевало остыть, но девушка, памятуя о былых лишениях, жадно съедала все до последней крошки. При хорошем питании, когда над головой не висит угроза голода, она начала поправляться. Со щек сошел лихорадочный румянец, кожа посветлела, угловатые черты лица смягчись. Поначалу, выйдя на улицу, она смущалась при виде дам в юбках чуть повыше лодыжек, слишком коротких на ее вкус.
– Такова нынешняя мода, – сказала ей как-то портниха, ежедневно приходящая в их дом.
Она объяснила, что это в порядке вещей. Так же, как и носить нижние юбки – предмет, доселе девушке незнакомый.
– Кабальеро очень любят шелест юбок, – говорила швея с плутовским выражением лица, и Исабель всякий раз краснела.
Понемногу ее облик менялся: грудь увеличилась, а бедра округлились. Портнихе уже несколько раз пришлось расставлять ее форменную одежду; кроме того, она сшила девушке платье для прогулок из такой тонкой и невесомой материи, какую Исабель в жизни не видела. Прибавив в весе, она вытянулась, как ухоженный цветок, и начала привлекать внимание как осанкой, так и красотой.
Ла-Корунья благодаря своему стратегическому положению всегда кишела солдатами:
– Роскошная корма! Жаль, что я не моряк!
Комплименты так и сыпались, Исабель опускала глаза, щеки ее становились пунцовыми.
Этот город был слишком велик для нее; она терялась на его улицах, куда выходила лишь по самой неотложной надобности. По воскресеньям она предпочитала оставаться дома и играть с детьми, а не идти на прогулку. Ее пугали толпы народа и мужские заигрывания. Кроме того, она никогда не мерзла в доме семейства Ихоса, что могло считаться чем-то из ряда вон выходящим: тогда мерзли все, богатые – из-за скупости, бедные – из-за нищеты.
Постепенно она узнавала историю своего благодетеля. Говорили, что дон Херонимо, приехав из своего родного городка Медина-де-Риосеко в Кастилии, сразу же занялся импортом ржи, кукурузы и пшеницы; он ввозил их по морю из Сантандера и с юга Франции, чтобы облегчить царящий в Ла-Корунье голод.
– Это зерно, – рассказывала кухарка, – он продавал за гроши. Говорят, он на этом много потерял, вполне возможно, что так и есть. Но то, что он потерял в одном месте, – она потерла пальцы, словно пересчитывая купюры, – он с лихвой окупил в другом. Все эти люди оказались ему обязаны, он их держит в кулаке; мы уж не станем сообщать об этом властям, правда? И теперь он снабжает винами Рибейро[4], соленой рыбой и тканями всю Америку, от Филадельфии до Чили, а оттуда экспортирует какао и сахар. И все, заметь, возит собственными кораблями!
– Оборотистый господин, – подхватывал трубочист, который все вечера просиживал в компании кухарки; она всегда угощала его остатками вкусного кушанья или каким-нибудь лакомством.
Исабель не уставала благодарить Бога за эту редкостную удачу – попасть в дом человека, входящего в узкий круг избранных, который состоял из галисийских, баскских, каталонских и французских негоциантов.
– Все богачи приехали сюда одновременно, – продолжал рассказ трубочист, – ровно тогда, когда в тысяча семьсот семьдесят восьмом году поменяли законы и открыли порт для торговли с Америкой. Они тут же налетели, чтобы не упустить своего.
– Слышь, прекрати злословить! – возмущалась кухарка. – Кто оплатил ремонт Башни Геркулеса? Кто строил дорогу в Мадрид? Корниде, Баррие и наш хозяин. Так что перестань говорить гадости, завистник!
– Это я-то завистник? Нет уж, это они завидуют королевским министрам, дворянам, городским советникам…
Вся Ла-Корунья знала, что дону Херонимо пришлось ехать в Вальядолид, чтобы начать хлопотать о получении дворянского звания; ему предписывалось доказать, что в жилах его предков «не текла дурная кровь мавров, евреев или какой-либо другой секты, порицаемой Святейшей Инквизицией». Купеческая элита страстно желала примкнуть к аристократии Ла-Коруньи, а это на деле оказывалось весьма непросто, ибо зависело только от чистоты крови, а не от богатства или деловой хватки.
Даже через год городской жизни Исабель редко пользовалась своим свободным временем по воскресеньям; гулять она отваживалась лишь тогда, когда кто-нибудь из служанок или кухарка звали ее с собой. Прихорошившись и нарядившись в сшитое портнихой выходное платье, Исабель преображалась: узкую талию подчеркивал облегающий крой, волосы убраны под яркий платок, плечи укутаны мантильей; осанка гордая, походка решительная. Она казалась девушкой без возраста – раскрывшийся цветок, источающий невинную чувственность. Однажды она приняла предложение другой служанки поучаствовать в большом ежегодном празднике – крестном ходе в честь Спасения от Пороха. Два века назад взрыв порохового склада унес жизни двухсот человек; с тех пор потрясенные бедствием жители Ла-Коруньи устраивают шествие, вознося свою благодарность за то, что жертв не оказалось больше. Ла-Корунья жила, подчиняясь ритму своих традиций, чуждая гудевшему по всей Европе звону революционного набата. Под моросящим дождиком, вдыхая запах ладана и дым свечей, обе девушки присоединились к процессии – нескончаемому потоку жителей, распевающих молитвы; кто-то веселился, будто пьяный, кто-то брел, словно дремал на ходу. Казалось, здесь собрался весь город: военные, писари, лекари, ремесленники, рабочие из шляпных и швейных мастерских, крестьяне, каменщики… и все с семьями. Вдруг Исабель заметила в толпе кающихся и страждущих какого-то военного в сверкающем мундире. Много раз впоследствии она задавалась вопросом – привлекла ли ее внимание форма или ее владелец. Но в тот момент она не могла глаз оторвать от этого солдата, который на голову возвышался над всей толпой. Он был смуглым, прядь черных волос падала на лоб; пышные бакенбарды придавали ему сходство с рысью. Довершали картину орлиный нос, ослепительная улыбка и живые глаза, с любопытством поймавшие взгляд Исабель.
– Кто это такой? – спросила она у подруги.
– Даже и не смотри в его сторону, – ответила ей служанка и так сильно потянула Исабель за рукав, что она сразу потупила взор.
Но она просила о невозможном… Как было отвести взгляд от этого алого мундира со стоячим воротником, белых кюлотов, шапки с красной кокардой, кожаной перевязи, подсумка из черной телячьей кожи и туфель с металлическими пряжками? И девушка решила поступить так, как хочется: она гордо подняла голову, откинула мантилью и улыбнулась незнакомцу, послав ему «сладкий взгляд», в чем ее упрекнула потом служанка. Исабель сама удивилась, что ей хватило смелости на подобное поведение. Вероятно, в тот самый миг она поверила, что это неотвратимый и неизбежный знак судьбы, отразившейся в блестящих золотых пуговицах мундира.
– Такие, как он, только и делают, что ищут приключений, – сказала подруга. – Веры им ни на грош…
Исабель молчала. Но ее «сладкий взгляд» явно был приглашением к флирту.
8
Исабель быстро забыла этот эпизод, вернувшись к привычному жизненному распорядку. Священник, благодаря хорошо отлаженной системе сообщения между приходами, регулярно поставлял новости из ее родной деревни. Некоторые хорошие – как, например, то, что сестра Франсиска вышла замуж за соседа, с которым дружила с детства; другие – плохие, как та, что у отца рецидив воспаления легких, и он не встает с постели. Когда господские дети засыпали, Исабель садилась писать письма семье, представляя себе, как падре читает их вслух отцу или брату с сестрой. Тогда ей чудилось, будто она дышит ароматным воздухом полей, будто ощущает кожей холод деревенских ночей. Она скучала по семье, но вовсе не испытывала никакой тоски по прежней жизни. Особенно с тех пор, как солдат в ослепительной униформе, к ее изумлению, вновь появился на ее горизонте. «Позвольте вам помочь», – попросил он, пока она старалась наполнить кувшин водой из источника. Она сразу же его узнала; более того, она узнала бы его из тысячи. Не давая ей времени ответить, солдат наклонился так близко к Исабель, что она смутилась. Его запах – земли и выделанной кожи – навсегда отложился в памяти девушки. Она не успела согласиться, да и нужды не было, так как солдат уже тащил кувшин.
– Меня зовут Бенито Велес, я вас видел недавно на празднике Пороха, и с того дня не перестаю думать о вас… А вас как зовут?
Исабель пробормотала свое имя.
– Самое прекрасное имя на свете! – произнес он убежденно, с андалузским акцентом. И прибавил: – Я из Гранады…
Этот мужчина был искусным ухажером. Говорил он бархатным голосом, с таким выражением, словно знал ее всю жизнь и словно их встреча была предопределена свыше. Он пожирал ее взглядом и даже осмелился поправить развязавшийся головной платок.
– Разрешите, я помогу, дитя мое… – Он воспользовался случаем и провел указательным пальцем по щеке Исабель, очень медленно и нарочито дерзко. – Ну какое же милое личико…
Исабель, оцепенев от страха и восторга, сглотнула. По спине побежали мурашки. Не то что бы она не знала, что ответить, она просто потеряла дар речи. Ей не приходилось сталкиваться с подобными юношами – такими смелыми, языкастыми и беззастенчивыми, в корне отличавшимися от тех немногих, с кем ей довелось иметь дело: те ухаживали чинно, всем своим видом демонстрируя сдержанность и кротость. Этот же был воплощением страсти, огня. Он служил капралом в роте стрелков Пехотного полка Кастилии номер шестнадцать, недавно созданной герцогом дель Инфантадо части Королевской армии, предназначенной для защиты Испании от революционного пыла французов.
– Но я воюю не потому, что мне это по душе, – уточнил Бенито. – Когда начался призыв, семья заставила меня пойти в армию. Сам-то я хотел сбежать, потому что мечтаю об Америке…
Правда слегка отличалась от изложенной версии: его семья была слишком бедна, чтобы заплатить и тем самым избавить сына от службы. Напротив, они считали армию благом, поскольку становилось одним ртом меньше, – в семье было десять детей.
– В Америке, – вещал он, глядя на горизонт, – не надо ни перед кем гнуть шею, ты можешь упасть, а потом подняться и начать все сначала; последний бедняк способен выбиться в люди.
Казалось, ему все известно о почтовых кораблях, курсирующих от Ла-Коруньи до Буэнос-Айреса: они перевозили галисийских крестьян, которые вознамерились колонизировать Рио-де-ла-Плата. Он говорил о Новой Испании, о Кубе или Перу с таким обилием деталей, будто ему самому довелось отведать изысканно-свежий вкус маракуйи, торговать изумрудами в Картахене-де-Индиас или запросто общаться с самыми сливками креольского общества. Описывал города из чистого золота, затерянное в лесах царство амазонок, полные драгоценных слитков повозки, исцеляющие все болезни воды… У него не было ни малейших сомнений в том, что человек вроде него сможет без труда сколотить состояние на тамошних богатствах.
– Но к чему эти мечты, если мне не с кем разделить их? – вопрошал он, пристально глядя в глаза Исабель. – Надо скрыться, бежать подальше от хаоса войны. Смотри, что происходит во Франции… И здесь тоже все рухнет к чертям.
Исабель завороженно слушала своего нового знакомца, прилагая немалые усилия, чтобы понять его. До того ей не доводилось встречать такие слова, как «океан», или «индеец», или «континент». Ей казалось, что человек, говорящий с такой уверенностью и с таким знающим видом, никак не может ошибаться. Особенно она уверилась в этом тогда, когда кавалер признался торжественным тоном, что он не хочет ехать один; он хочет создать семью с девушкой, которая лишила его сна с той секунды, когда их взгляды пересеклись во время крестного хода. Это он сообщил в их третью встречу. Также он сознался, что знавал других женщин, но ни одна из них не могла сравниться с Исабель.
Исабель же просто таяла, слушая эти речи, поскольку не привыкла занимать центральное место в чьих-нибудь мыслях. Ей не хватало смелости задавать вопросы, чтобы, не дай бог, не затуманить волшебное стекло, через которое ее солдат взирал на реальность. Намного приятнее было подпасть под власть этого чудесного сновидения, чем ставить под сомнение быстроту и силу обуревавших кавалера чувств. «Он весь пылает, – думала она, – и это любовь». Рядом с ним она не шла, а плыла на облаке. Вместе с ним Исабель забывала обо всем, о своем месте в мире и даже о времени. Рука об руку с ним она ощущала свою завершенность, ее переполняло счастье, которое она затруднилась бы определить. Она постоянно думала о нем – когда делала уборку, стирала или подавала на стол. Только с детьми ей удавалось прогнать его из мыслей, да и то ненадолго.
Канули в прошлое времена, когда ей не хотелось выбираться из дома по воскресеньям; сейчас Исабель считала часы до долгожданной встречи со своим капралом. Она до предела затягивала талию на платье, которое теперь стирала мылом с ароматом роз, заплетенные косы украшала бантами и на свидания одалживала бусы у кухарки, которая между тем напевала, помешивая пучеро[5]:
– Красавица-дочка, не стоит влюбляться, словам кавалеров нельзя доверяться.
До этого момента весь любовный опыт Исабель ограничивался тем, что она позволяла себя трогать соседскому сыну, когда они кувыркались на пшеничном поле; а чуть позднее играли в свадьбу, изображая супружеские утехи – мальчишка ложился сверху, они елозили по соломе, но при этом не раздевались. Игра всякий раз останавливалась, когда она, чувствуя вину за вспыхнувшее жгучее желание, вскакивала, застегивала пуговицы и отряхивала с юбки прилипшие сухие стебельки.
С Бенито все было иначе. Ни чувство вины, ни стыд, ни боязнь пересудов не в силах были сдержать пожиравший ее любовный жар. Но при этом она оттолкнула капрала, когда он попытался поцеловать ее в губы одним ветреным вечером во время прогулки около Башни Геркулеса. Ей надлежало показать, что она приличная девушка, несмотря на то, что она мечтала о ласке; как же ей тяжко это далось! На второй попытке она сдалась, прикрыла глаза и чуть не умерла от наслаждения, которое доставил ей поцелуй, самый великолепный из всех, что она пробовала. Но дальше уступать она не собиралась, поскольку от деревенских подружек знала, что лучший способ заполучить мужчину – это отказывать в вольностях, как бы он ни развлекал тебя стихами и речами, как бы ни очаровывал комплиментами и словами любви, когда провожает ночью с ярмарки домой, с шутками и прибаутками.
9
Вся Испания уже много десятилетий переживала драму «подати кровью»[6], эта мрачная тень витала над целыми поколениями молодых людей. В городе Аликанте, когда Франсиско Хавьер Бальмис и Беренгер достиг семнадцатилетнего возраста, его имя выпало в рекрутской жеребьевке как принадлежащее к «первому классу податного населения». «Податной» означало определенное социальное положение, связанное не столько с богатством, сколько с обязанностью оплачивать некий вид персонального налога или же просто отправляться на военную службу – пресловутая «подать кровью». Особый разряд составляли льготники – привилегированный класс, получавший освобождение либо в силу отношения к дворянству или духовенству, либо королевской милостью. К таким льготникам относились пятьсот тысяч идальго, а также все те, кто удостаивался обращения «ваша светлость», включая судейских. В конторе Городского совета Франсиско измерили – пять футов, три дюйма и четыре линии, то есть один метр шестьдесят сантиметров – и занесли в призывной список. Впав в отчаяние от перспективы попасть в рекруты, Бальмис осознал, что, несмотря на многие годы учебы и принадлежность к очень уважаемой в городе семье, сам он находится на низшей ступени социальной иерархии. И это стало первым звеном в цепочке жизненных разочарований.
Молодой Бальмис, нареченный при рождении именем Франсиско Хавьер в честь святого, в день памяти которого он появился на свет третьего декабря 1753 года, отличался крепким телосложением, невысоким ростом; из-за нервного тика он периодически моргал, и особенно часто, когда волновался. Больше всего его привлекали учеба, чтение и научные исследования. Жизнь на свежем воздухе и физические упражнения были не для него: бегал он неуклюже, ему недоставало ловкости, и в детских играх он всегда служил всеобщим посмешищем. Он с ужасом представлял, как его станут третировать в армии; страх усугублялся тем, что теперь он уже не сможет искать убежища дома.
Бальмис происходил из семьи, члены которой – отец, дед, дядя и шурин – принадлежали к цеху цирюльников-хирургов-кровопускателей[7]. Он провел счастливое детство под крылом у заботливой матери в окружении большой и дружной семьи. Дом был всегда полон пациентов: приходили полечиться, поставить пиявки, просили отца или деда зашить рану. Больше всего маленький Франсиско любил играть в ассистента – раскладывать инструменты и перевязочные материалы и по мере надобности подавать отцу необходимое. Многие пациенты возвращались с презентами – горшочек меда, корзинка мушмулы, головка сыра, – чтобы выразить свою благодарность за исцеление. Так, мало-помалу, Франсиско начал проникаться семейным призванием, в чем немалую помощь составила его феноменальная память на даты и факты.
«Наша работа – помогать людям», – говаривал его дедушка. Эта фраза запечатлелась в мозгу мальчика; он мечтал спасать людей, как делали его отец, дед или семейство Матайш – еще одна династия хирургов, близкие друзья Бальмисов. Они жили неподалеку, и их дети играли вместе с Франсиско еще до того, как в нем вспыхнула пламенная страсть к медицине. Вскоре его перестали интересовать сверстники, он предпочел общество взрослых. Спасение человечества – удел героев, и Франсиско возмечтал стать героем хирургии. Поскольку ему довелось присутствовать при бессчетном количестве операций у себя дома или в доме семьи Матайш, с самого детства он привык к виду рассеченных мышц, крови, перерезанных, словно обычные трубки, вен, гнойных абсцессов, удаляемых одним взмахом скальпеля. Все это его не пугало, а напротив, подстегивало и без того жгучий интерес к сложному устройству человеческого организма.
– Отец, почему у этого человека здесь отек? А почему ты сначала зашиваешь, что, нельзя все это вычистить?
– Сынок, молчи, не отвлекай меня.
– А для чего нужна селезенка?
Он задавал столько вопросов и с таким занудным педантизмом вникал в каждую мелочь, что выводил из себя отца, дедушку и мать.
– Детка, не капризничай. Пойди, погуляй на площади.
Мать беспокоило то, что ее сын предпочитает общество взрослых детям своего возраста. Ей говорили, что маленький Франсиско Хавьер любит всегда выигрывать и старается заставить других соблюдать установленные им правила. Поэтому всякий раз общение со сверстниками заканчивалось безрадостно, к тому же они глумились над его нелепой манерой завязывать шнурки. С площади он всегда возвращался в слезах после очередной стычки. Мальчик закрывался у себя и читал книги по медицине; он был способен долгие часы сидеть, погрузившись в собственные мысли и покачиваясь, как замученная кляча. Едва заслышав шаги пациента, он тотчас же бежал к отцу. Если случай не поддавался лечению, что случалось нередко, отец отвечал на вопросы мальчика следующим образом:
– Если ты не в силах исцелить – помоги; если не можешь помочь – утешь; а если и это не получается – просто будь рядом.
Существование семейств Бальмис и Матайш, как и всех людей, живущих своим умом и своим трудом, было пропитано гуманистическими идеями века Просвещения. Юный Бальмис начал изучать латынь и гуманитарные науки – предметы, обязательные для начинающего хирурга, таких студентов называли «латинскими хирургами»[8]. В шестнадцать лет он сдал экзамены по латыни и двухгодичному курсу философии и добился места практиканта в Королевском военном госпитале в Аликанте. Ни на миг он не расставался с мечтой прославиться благодаря своему служению человечеству.
Как хорошего студента, его ожидало многообещающее будущее. А настоящее казалось приятным и бесхлопотным с тех пор, как Хосефа Матайш, старшая дочь в семье родительских друзей, призналась ему в своих чувствах. Она была семью годами старше, не слишком обаятельная внешне – с вытянутым костлявым лицом; до того Хосефа совершила несколько безуспешных попыток обзавестись мужем, но при этом отличалась острым умом, бойким языком и необычной для девицы образованностью.
– Я хотела сказать… У тебя всегда такие ясные мысли, такой решительный настрой, что… что… – Он никак не реагировал. Хосефа продолжала: – Ну посмотри же мне в глаза. Хоть разочек…
Бальмису всегда было сложно понимать чувства других людей. Хосефа вспомнила, как его мать говорила о сыне: «Этому ребенку все как с гуся вода!» Но он был чистым, простодушным и бесхитростным. Ему пришлось сделать над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы посмотреть Хосефе в глаза, и тут она быстро поцеловала его в губы, примерно так, как тореро наносит молниеносный удар шпагой. Когда поцелуй закончился, казалось, Бальмис не испытал ни малейшего удовольствия от подобного сюрприза; вид у него был такой, словно он только что произвел рутинный осмотр ротовой полости очередного пациента. «В этом его очарование», – подумала Хосефа и потащила Бальмиса на танцы; там она, прямая как палка, позволила ему вести себя, он же на каждом шагу спотыкался, ибо от природы был неуклюж, а что касалось музыкального слуха, ему явно медведь на ухо наступил.
Однако, если отрешиться от танцев, в остальном Бальмис завораживал ее своей ненасытной любознательностью, распространявшейся в основном на все, что прямо или косвенно было связано со здоровьем. Если они гуляли по лугам, он интересовался исключительно целебными растениями; из всех магазинов отдавал предпочтение аптекам, причем так надолго застывал перед строем баночек и бутылочек, что Хосефе приходилось за руку оттаскивать его от прилавка, потому что сил не было терпеть всю эту скуку. Подобная связь находила объяснение: оба принадлежали к одному и тому же миру, практически были членами одной семьи. И к тому же по ночам Хосефа забывала об условностях и давала полную волю своей необузданной тяге к постельным утехам. Будь то на пляже или под каким-нибудь случайным навесом, она тут же втягивала Бальмиса в любовные игры. Не было ни единой позы или трюка, которые бы она не испробовала с полной самоотдачей, словно страшась в один прекрасный день остаться без этого жизненно необходимого эликсира. К плотской любви, как, впрочем, и ко всему окружающему миру, Бальмис относился исключительно с позиций врача-клинициста. Ему удавалось получить наслаждение, но лишь после того, как он ощупывал, осматривал и исследовал пальцами самые укромные уголки тела своей спутницы. Казалось, будто ему требуется обезопасить территорию, прежде чем ступить на нее. Помимо того, он использовал этот опыт, чтобы расширить свои познания о человеческом организме. Бальмис никогда ничего не делал просто так.
По утрам он в изнеможении добирался до своего места работы практикантом при главном хирурге больницы, чтобы, по сути дела, продолжить заниматься тем же самым – изучать тайны человеческого тела. Там он научился пускать кровь, ставить банки и пиявки, удалять зубы.
– Неправильно объединять хирургию и ремесло цирюльника… – сказал он однажды главному хирургу.
– Почему это?
– Потому что хирург – это намного больше, чем просто цирюльник. А нас, хирургов, считают работниками ручного труда.
– Как и лекарей, делающих кровопускания.
– Но я хочу работать головой, как доктора медицины.
– Тогда тебе придется много учиться.
– Это мне и нужно.
Потому-то для Бальмиса результат жеребьевки и последующий призыв в армию означал крах карьеры и провал всех жизненных планов.
– Я не против армии, – говорил он своему начальнику, который его прекрасно понимал, – как я могу быть против, если работаю в военном госпитале?
– Я знаю, ты просто не хочешь быть пушечным мясом.
Его семья, как и многие другие, с печалью переживала этот призыв в армию; они боялись, что больше не увидят сына, если его отправят на поле боя. Чтобы избежать рекрутского набора для своих сыновей, родственники прибегали к самым разным уловкам, включая подкуп и подлог. Власти тоже принимали участие в этом обмане, особенно если призывали кого-нибудь из членов их собственной семьи. Самым распространенным видом ухищрений был подкуп чиновника, ответственного за измерение роста; немудрено, что однажды в списках появилась деревня, где все юноши не превышали ростом ста сорока сантиметров, то есть официально все были карликами[9].
При участии отца Бальмису удалось получить освобождение от первого призыва. В качестве аргумента он привел свою работу врача-практиканта в Королевском военном госпитале и то обстоятельство, что он «является единственным сыном и кормильцем отца-инвалида, не имеющего иных средств к существованию». Но в будущем ему грозил новый рекрутский набор.
10
Мечты Бальмиса о смене сословного положения и медицинском образовании разбились о заинтересованность армии в его персоне; в 1773 году его признали годным к вступлению в Королевское войско. И вновь судьба была на его стороне. Медицинский осмотр производили врач и хирург, которым оказался отец Хосефы. Заключение, подписанное Томасом Матайшем, гласило: «Проведенное специалистами обследование показало, что кандидат страдает ревматизмом и близорукостью, что не позволяет ему полноценно практиковать ремесло кровопускания, и посему он освобождается от призыва».
Его опять вычеркнули из списков, но ненадолго. Через несколько месяцев из комендатуры Валенсии прибыло уведомление: его снова включили в призывной список, признав сомнительным предыдущее заключение. Начиная с этого момента, Бальмиса могли объявить уклоняющимся от службы и даже посадить в тюрьму. Один из братьев Хосефы, друг детства Франсиско Хавьера, оказался в таком же положении. Обстановка в Аликанте накалилась до предела, не проходило и дня, чтобы молодые парни не устраивали беспорядков из-за очевидной несправедливости «подати кровью». Повсюду вспыхивали бунты и мятежи. И, конечно же, расцветали обман и плутовство; каждый изощрялся как мог, чтобы уклониться от службы. Бальмис старался не бывать дома на случай, если за ним придут, и на время переехал к своим родственникам в Мучамель, деревушку неподалеку от города. Хосефа навещала его каждый день – встречи уже стали рутиной в их бесконечном жениховстве, – и именно она предложила ему лазейку для спасения:
– А почему бы нам не пожениться?
Бальмису стукнуло двадцать, ей – двадцать восемь. Для нее он был последним шансом. Все предыдущие попытки вступить в брак не достигли успеха, и она не могла себе позволить, чтобы и эта закончилась провалом. Для него женитьба означала окончательное освобождение от армии, дальнейшую учебу, осуществление амбиций и достижение мечты. Весьма быстро ему удалось убедить себя в том, что физическая привлекательность или страсть вовсе не являются непременными условиями при создании семьи. Родители не стали вмешиваться: хотя разница в возрасте и вызывала удивление, они понимали, что родственная связь двух самых влиятельных семей хирургов спасет жизнь их сыну; да и Хосефу, в конце концов, они привыкли считать почти дочерью. Таким образом, тридцатого марта 1773 года молодые заключили брак в приходской церкви Санта-Марии в Аликанте.
Через месяц Бальмис написал письмо в рекрутскую контору, хлопоча об отзыве предписания и своем исключении из призывного списка. «Заявитель освобождается от рекрутской жеребьевки на основании своего семейного положения. Хотя его брак и был заключен уже после выхода Королевского указа о призыве, это произошло без злого умысла заявителя и не по его воле, а по судебному ходатайству Хосефы Матайш…» Наконец, восьмого июля было вынесено решение, согласно которому Франсиско Хавьер Бальмис получал полное освобождение от армейской службы.
Через два года Хосефа забеременела. Когда она была на пятом месяце, Бальмис заявил, что отправляется на войну.
– Как это? – возмутилась она.
– Мне нужно практиковаться, чтобы сдать экзамен на звание хирурга. Преподаватели предложили мне приписаться к полевому госпиталю, который входит в состав морской экспедиции под командованием генерала О’Рейли[10].
– Всю жизнь боролся, чтобы освободиться от службы, а именно сейчас тебе приспичило идти в армию?
– Служить врачом – это совсем не то же самое, что простым солдатом. Никакого риска, говорят, это будет что-то вроде военной прогулки.
– Военная прогулка! И ты поверил…
Бальмису исполнилось двадцать два, он мечтал о славе, верил в непобедимость испанской армии и чувствовал себя в безопасности, потому что относился к тыловым войскам.
– Через месяц снова буду дома, – пообещал он.
Они собирались высадиться в Алжире, чтобы раз и навсегда покончить с берберскими пиратами, постоянно устраивавшими набеги на побережье Испании. Он навсегда запомнит, с какой скрупулезностью готовил хирургические инструменты в каюте корабля, служившей лазаретом: троакар, трепан, пилу с запасным лезвием, щипцы и зажимы, скальпель, иглы, кюретки[11], зонд, ланцеты… Бальмис обстоятельно готовился к тому, чтобы принимать раненых в идеальных условиях. Все сверкало чистотой, включая половые доски.
Но начался бой, и разверзся хаос. Испанская армия в течение нескольких месяцев трудилась над подготовкой и оснащением кораблей, но никак не озаботилась изучением сил врага, а они оказались куда более многочисленными и лучше организованными, чем было принято считать. Скоро начали прибывать лодки с ранеными. Бальмис заметил, что никто не подумал, каким способом доставить на борт самых тяжелых, и взял инициативу в свои руки.
– Берите гамаки и веревки, кладите раненых и поднимайте!
Количество пострадавших было столь велико, что не хватало ни гамаков, ни веревок. Помещение маленького госпиталя быстро наполнялось жертвами этой «прогулки». Кровь лилась ручьем, воздух сотрясали жуткие вопли, а умерших тут же бросали в море, без саванов и прощальных пушечных залпов. Разве отец его не предупреждал, что боль и заражение, особенно гангрена, – злейшие враги медиков? От него Бальмис научился тому, что в основе всего лежит повышенное внимание к гигиене, но как можно этого добиться среди крови, гноя, грязи, нечистот и боли? Через несколько часов каюта превратилась в чудовищное скопище живых и мертвых. Несмотря на то, что события застали его врасплох, Бальмису удавалось сохранять поразительное хладнокровие.
– Поскольку мы не можем лечить сразу всех, – велел он своим помощникам, – нужно сразу отсеять тех, кто ранен в живот, – они все равно погибнут от заражения.
– И что нам делать?
– Ампутируйте, дурачье, ампутируйте!
Это считалось самым надежным средством спасать жизни от угрозы кровотечения.
– Накладывайте жгуты, тампонируйте раны, зажимайте сосуды! Быстрее, времени нет!
Бальмис прижигал культи железными щипцами, которые он прокаливал в стоявшей в углу печке. Вопли этих солдат навсегда впечатались в его память. Позже начали прибывать раненые офицеры, и стал понятен масштаб поражения испанской армии. Первым привезли майора Бернардо де Гальвеса[12] – это была очень известная фигура; уроженец Малаги, он получил чин лейтенанта в шестнадцать лет за участие в войне с Португалией и дослужился до звания капитана Королевского войска за успехи в кампании против апачей в Новой Испании. Герой армии, он пережил множество тяжелых ранений, а сейчас лежал перед Бальмисом, скорчившись от боли; в его ноге зияла открытая рана, через которую толчками вытекала кровь.
– Дон Бернардо, не бойтесь, я здесь, чтобы спасти вас.
Бальмис не мог начать лечение, не облегчив муки страдальца. В то время набор средств для обезболивания был крайне скуден: мандрагора не всегда приносила желаемый результат, опиум было тяжело дозировать; помогали гашиш и несколько добрых глотков водки, но их под рукой не оказалось. Бальмису пришлось прибегнуть к самому эффективному, но вместе с тем самому рискованному способу: он схватил обломок весла и ударил Гальвеса по голове, отчего тот потерял сознание.
– Скорее, надо прижечь до того, как он очнется!
Ему до мяса прижгли культю каленым железом. Когда Гальвес пришел в себя, он едва слышным голосом обратился к Бальмису:
– Я вам безмерно признателен, юноша.
– Это вы про удар по голове?
Гальвес попытался улыбнуться, но лицо его тут же исказилось от боли. Он и представить себе не мог, что Бальмис спрашивал вполне серьезно, ибо ирония была ему глубоко чужда. Точно так же он не понимал, почему его благодарят за работу. И в тот момент Бальмис даже не догадывался, что удар по голове Гальвеса окажется судьбоносным.
Когда генерал О’Рейли дал сигнал к отступлению и стали известны потери, Бальмис окончательно разуверился в воинской славе: пятьсот человек убитыми и две с половиной тысячи раненых – слишком много крови, пролитой напрасно. Во всем этом не было ни доблести, ни чести, один только позор. Беспомощность перед лицом огнестрельных ран, отчаяние от неспособности облегчить страдания и спасти больше жизней повергли Бальмиса в глубочайшее уныние. «Как скудны возможности военной хирургии», – думал он, понуро качая головой, как всегда делал, когда его обуревала тоска.
После поражения флот вернулся в Аликанте; город сразу же превратился в гигантский полевой госпиталь. Никто не понимал, как столь мощная экспедиция, которую так долго подготавливали, могла быть разгромлена за считаные часы. Люди бросали на раненых презрительные взгляды и не отказывали себе в издевательских комментариях:
– Отправлялись за славой, а теперь топят нас в дерьме!
Когда Бальмис вернулся к своей работе в Военном госпитале, начальство высоко оценило его заслуги.
– Вы отличились способностью принимать ответственные решения, быстрой реакцией и неутомимостью во время боя, – сказали они.
Также о нем вспоминали как о человеке, спасшем Гальвеса, который, в свою очередь, получил звание подполковника.
Рождение сына, нареченного при крещении в церкви Святого Николаса именем Мигель Хосеп, помогло развеять чувство унижения, поселившееся в душе Бальмиса после поражения. Он начал хлопотать о получении официального звания хирурга и, прихватив с собой рекомендации докторов, отправился в Валенсию для прохождения экзаменов перед Королевской квалификационной комиссией, высшим органом здравоохранения.
Вернувшись в Аликанте, он задумался о переоценке своей жизни: действительно ли он хочет остаться в этом городе?
– Мама, я легко получил аттестацию, теперь я военный хирург.
Мать сжала его в объятиях.
– Ты уже превзошел своего отца, дорогой, – нежно молвила она, проводя рукой по копне всклокоченных волос сына. – Пришла пора сменить его, как он сменил твоего дедушку, правда?
Бальмис мягко отстранил ее.
– Мама, мир велик.
– Ты уже не хочешь работать хирургом?
– Не знаю, что и делать. Я мог бы остаться в Аликанте и практиковать, это было бы проще всего, но я хочу дальше делать карьеру военного хирурга – стать старшим хирургом, а потом, возможно, и получить чин королевского хирурга. Я хочу быть врачом, трудиться умом, а не руками.
– Это трудный путь, дитя мое. Здесь у тебя обеспеченная жизнь, жена, сын.
– Да, конечно, но мне нравится испытывать новые лекарства, открывать способы лечения, изучать болезни, экспериментировать.
– В этом ты ничуть не изменился. Но как ты собираешься оплачивать занятия медициной? Отец не сможет тебе помогать, ты же знаешь…
– Да, знаю…
У Бальмиса душа была не на месте. Он разрывался между двумя возможностями: остаться в Аликанте или же вступить в соответствующий полк и продолжить учебу, которую отец оплачивать не мог. Ему исполнилось двадцать три; его вели непоколебимая тяга к медицине и немалые личные амбиции – он мечтал подняться по социальной лестнице, навсегда вырваться из тесных рамок податного сословия. Через несколько дней он вернулся к матери с известием:
– Хосефе я еще не говорил, но врачи из моего госпиталя похлопотали, чтобы меня взяли в корпус Военно-санитарной службы. Говорят, заслуг у меня более чем достаточно. Я уже жду направления.
Ему выпала служба в полку Саморы, который в ту пору намеревался организовать сухопутную блокаду Гибралтара.
– Перестань плакать, Хосефа. Обещаю, что скоро вернусь из Альхесираса.
– Поклянись, что никогда нас не бросишь.
– Клянусь своей матерью.
Но Хосефа ему не поверила. Она успела хорошо изучить его безразличие к людям и всепоглощающую страсть к медицине. Помимо того, в ее сердце не угасла грызущая тоска с тех пор, когда ее покидали другие женихи. Она выплакала все слезы, ибо в душе понимала, что Бальмис – очередной мужчина, выскользнувший у нее из рук.
11
По вечерам, во время прогулок по Ла-Корунье под крытыми галереями квартала Пескадерия, Бенито Велес пытался уговорить Исабель:
– Ну-ка, скажи, где твой хозяин сколотил состояние?
Она пожимала плечами. Тогда он сам отвечал:
– В Америке, точно не здесь. Америка – для таких, как мы, для тех, кто не боится рисковать…
– Ну ты и нахал! Сравниваешь себя с моим хозяином?
Гранадец совершенно не стеснялся ставить себя на ту же высоту, где обретались самые именитые горожане.
– Я только хочу сказать, что в этой жизни все возможно.
Для него не существовало непреодолимых препятствий и недостижимых целей. Этот же энтузиазм и уверенность в своих силах он внушал и Исабель, которая так нуждалась в чьей-нибудь любви и участии. Отсюда до предложения руки и сердца оставалось не более шага, который капрал и преодолел в свойственной ему непосредственной шутливой манере:
– Мы с тобой поженимся, сядем на кораблик…
– Да ладно тебе… Любви солдата нет веры… – отвечала она со смехом.
– Через пару лет вернемся, купим себе дом в верхнем городе… Или ты собралась всю жизнь в служанках провести?
Воцарилось молчание, и через какое-то время он произнес:
– Разве не говорится, что лучше черту служить, чем в служанках ходить?
Эта поговорка была популярна, и Исабель не раз уже ее слышала. Она задумалась. Нет, подобной участи она не желала. Работа служанки – это необходимая ступенька, чтобы вырваться из деревенской нищеты, но уж никак не окончательная цель. Все девушки стремились выйти замуж, и тогда большинство из них увольнялись. Выйти замуж, завести детей, обустроить свою собственную жизнь, а не взятую взаймы. Этот мужчина умел придать смысл ее существованию.
Поэтому Бенито превратился для Исабель в настоящее наваждение. Для деревенской девушки, оказавшейся в городе без семьи и без друзей, он воплощал спасательный круг, яркий луч, который освещал ей путь, затмевая маяк Башни Геркулеса. Он постоянно присутствовал в ее мыслях, она замечала его в рыночной толпе даже тогда, когда его там не было, просыпалась по ночам в полной уверенности, что он ждет ее под окном. Чтобы сократить вечность от воскресенья до воскресенья, солдат подлавливал Исабель за углом, когда она шла за детьми или за водой к источнику, как в первый раз. Это были мимолетные свидания, такие призрачные, что порой Исабель сомневалась, уж не порождение ли это ее буйного воображения. Иногда Бенито показывал ей краешек конверта, в котором он оставлял на каменной кладке прядь волос, цветок или, как случилось однажды, официальное предложение руки и сердца. Взволнованная и встревоженная, Исабель вернулась в дом, не зная, что и думать; в растрепанных чувствах она принялась машинально пересчитывать столовые приборы, менять воду в вазах, накрывать на стол и мыть оконные стекла.
Ответ она дала через несколько дней, когда они сидели на волнорезе и наблюдали за хлопотливой суетой кораблей в бухте. Ей подумалось, что в мире нет никого, кто бы так нуждался в спутнике, как он, чтобы осуществить свои грандиозные планы; с другой стороны, ей самой он был нужен, как воздух, и поэтому сказала «да». Если уж проводить остаток дней в услужении, то она предпочла бы заботиться о муже, способном подарить ей детей и обеспечить достойную жизнь, чем стараться ради чужих людей, как бы нежно она к ним ни относилась. Так что они стали еще одной парочкой, которые гуляют воскресными вечерами по парку или по проспекту, воркуют о завтрашнем дне и выбирают имя для будущих отпрысков, не обращая внимания на хулиганский шепот какого-нибудь прохожего:
– Не к лицу служанкам шляться по гулянкам…
Четких планов будущей свадьбы у них не было, так как не было и денег. Оставалось лишь тешить себя иллюзиями некоего совместного будущего в каком-нибудь уголке обширной Испанской империи, где жизнь окажется слаще, чем в дождливой и нищей Галисии. В те дни Исабель не ценила своего счастья. Оно стояло в том же ряду привычных вещей, как обедать каждый день и не мерзнуть от холода.
Большая часть разговоров сводилась к нелепым фантазиям о будущем величии Бенито Велеса; на свой день рождения он настоял, чтобы Исабель пошла с ним на оперу в театр Сетаро[13].
– Но это же дорого! – запротестовала Исабель.
– У меня есть билеты! – похвастался капрал, триумфально потрясая в воздухе двумя полосками бумаги.
Исабель всю неделю провела в мечтах об опере, которая представлялась ей чем-то роскошным и экзотическим. Она попросила портниху заузить воскресное платье, по случаю надела нижние юбки, на плечи накинула взятую взаймы мантилью и нарумянила щеки, чтобы скрыть природную бледность. Кабы не отсутствие драгоценностей, она могла бы сойти за дочку добропорядочного семейства, а не за служанку. Вместе с капралом в форме они составляли прелестную пару. Но сколь велико было разочарование Исабель, когда оказалось, что театр – это всего лишь ветхое здание, зал без украшений, с облупившейся росписью и следами протечек. В довершение всего, билет, который ей вручил кавалер, не давал права занять сидячее место; его самого это ничуть не волновало. Им пришлось стоять в глубине, среди шумной толпы простолюдинов, тогда как господа наслаждались представлением из бархатных кресел партера, а избранные семейства – из лож. Спектакль начался с того, что какой-то мужчина полез под потолок, схватился за веревку и прыгнул в пустоту. Тут же поднялся занавес, смягчая падение. Так и тянулось это унылое действо, скучное и настолько долгое, что у Исабель разболелись ноги. Внезапно, уже ближе к концу представления, музыканты перестали играть. Актеры смолкли, среди публики поднялись шепотки. На сцену вышел директор театра в окружении группы войсковых офицеров и гражданских чиновников; актеры тут же столпились около вновь прибывших. Исабель поняла, что происходит нечто важное. Публика явно нервничала. Накоротке посовещавшись с начальством, сопрано вышла вперед и обратилась к залу:
– Сегодня, седьмого марта тысяча семьсот девяносто третьего года, Франция объявила Испании войну!
Исабель и Бенито в панике смотрели друг на друга. Под оглушительный свист, топанье сотен пар ног, крики «Да здравствует Испания!» и восторженные вопли прима объявила, что французские революционеры, возмущенные стараниями короля Испании Карла IV спасти своего кузена Людовика XVI от гильотины, объявили войну Испании во имя свержения с трона еще одного Бурбона и начала революции для испанского народа. Завоеватели уже захватили долину реки Аран.
Казалось, сами стены театра задрожали. Актриса, которая совсем недавно таяла от любви в сладкоголосой арии, обернулась пламенным оратором: французы вознамерились покончить с религией, поэтому встать на защиту Испании – значит встать на защиту Бога, нужно бросить все силы на искоренение революционной агрессии; военные будут расквартированы по всей стране, нации нужны добровольцы и патриотические пожертвования. Исабель и Бенито не дослушали до конца эту гневную диатрибу. Услышанная новость грозила похоронить все их будущее, и они сразу ушли из театра. Исабель еле плелась.
– Что с тобой?
У нее ужасно болели ноги; однако, поскольку любовь снисходительна, Исабель предпочла ничего не говорить и в глубине души уже простила жениху провальное посещение оперы. Одна мысль о том, что его могут отправить на войну и она больше его не увидит, повергала девушку в глубочайшую тоску. Под аркой Исабель обняла его и крепко поцеловала, чего прежде никогда себе не позволяла: она чувствовала, что их хрупкое счастье вот-вот разобьется. Той ночью Исабель вернулась домой поздно. Стараясь не шуметь, она зашла в детскую, укрыла одеялом своих подопечных и поцеловала. Затем натянула ночную рубашку и улеглась в постель, чтобы наконец расплакаться.
12
Объявление Францией войны взбудоражило испанцев. В армию записалось столько добровольцев, что вооружения на всех не хватало. Как и актеры со своих подмостков, священники и монахи призывали в своих проповедях поддержать эту, как ее называли, «религиозную войну».
– Мы, испанцы, не желаем революции! – вещали они.
Испанцы мало что знали о революции: иностранные газеты и даже книги со словом «свобода» на обложке находились под запретом.
Бенито Велес не отправился на войну, потому что его подразделение должно было оставаться в тылу и ждать, когда их призовут в качестве подкрепления; тем не менее тысяча пятьсот человек из его полка получили назначение в Каталонию, где под командованием генерала Рикардоса им предстояло занять французскую провинцию Росельон.
Исабель с облегчением выдохнула. Первого удара им удалось избежать. Они вернулись к привычной жизни, но уже без прежней радости. Висевшая дамокловым мечом угроза, что его в любой момент могут отправить на фронт, еще больше их сблизила. Прогулки, обмен записочками, мимолетные поцелуи под галереями, объятия на темных улицах… на всем лежал некий драматический налет; теперь они, наконец, осознали хрупкость счастья. Настроение Исабель в те дни полностью зависело от поступающих новостей. Они опасались, что конфликт перерастет в затяжной, и тогда наверняка возникнет нужда в резервах. Но на протяжении полутора лет – целых восемнадцать месяцев постоянного, без единой ссоры, общения, спокойной, почти привычной, любви – с фронта приходили лишь добрые вести. Бенито считал, что эту партию они выиграли:
– Рикардос пошел в контратаку и разгромил войско французов! Мы заняли Росельон! – ворвался он однажды к Исабель с газетой в руках.
– Это Игнасия, она услышала наши молитвы! Надо пойти в церковь Святого Николаса и поставить свечку…
Но радость длилась недолго. Вскоре после того массовый рекрутский набор во Франции резко изменил курс событий. Санкюлоты вернули себе захваченные территории и вошли в Каталонию.
– Испанцы в панике бегут, – сообщил Бенито; когда соотечественники побеждали, он говорил от первого лица, сейчас же, после разгрома, перешел на третье. – Французы пересекли Наварру и подошли к Миранда-де-Эбро. Это катастрофа, Исабель!
В его голосе звучал неприкрытый страх. Исабель опять сходила в церковь, поставила свечки матери и почти всему сонму святых. Что еще она могла сделать, если все остальное было явно не в ее власти? Той же ночью пришла весть о смерти генерала Рикардоса от пневмонии – в ту пору он находился в Мадриде, куда приехал с просьбой о подкреплении. «Нас мобилизовали, Исабель. В течение суток мы должны выдвинуться из Ла-Коруньи», – написал ей Бенито в записке, которую подсунул под кухонное окно.
Итак, миг, которого они так боялись, наступил. Исабель всегда верила в удачу, а если не в нее, то в божественное провидение и в свои молитвы, обращенные к Игнасии. Но сейчас, похоже, высшие силы забыли о ней. Тем же вечером она попросила хозяев отпустить ее, чтобы встретиться с Бенито. Он казался спокойным. «То ли скрывает свое волнение, то ли не слишком хорошо понимает, что его ждет», – подумала Исабель.
– К весне я вернусь… – промолвил он убежденно, поскольку был неистребимым оптимистом, а к тому же именно это заявляли его командиры.
Исабель хотела бы ему поверить. Она с трудом сдерживала свои чувства; боль разлуки еще больше раздувала пламя любви в ее душе. Они отошли далеко от дома, к Башне Геркулеса, откуда едва виднелись крыши города, расцвеченного огнями.
– Ты ведь будешь мне писать, правда?
Исабель казалась загнанным зверьком. Бенито держал ее за руку, перебирая пальцы.
– Если смогу, то каждый день.
– Клянешься?
– Жизнью моей матери и всеми святыми, – пообещал Бенито, перекрестившись и поднеся пальцы к губам.
Исабель улыбнулась ему, обняла и прикрыла глаза, когда он начал шептать ей что-то на ухо. А потом повел ее дальше, вокруг маяка.
Уже затемно они добрались до обломков выброшенного на берег корабля – одного из многих, севших на мель при заходе в бухту и потом разбившихся о рифы. С регулярными интервалами луч маяка освещал контур судна, вырванные с мясом шпангоуты, растерзанную носовую палубу, сломанные мачты и оборванные канаты. Но все же это было укрытием более надежным, чем скалы, обдаваемые морской пеной и брызгами. Они тесно прижались друг к другу; он просил ее потерпеть, шептал о своем возвращении, о чудесном путешествии через океан, о том, как они заживут в Америке, где над ними не будет ни хозяев, ни командиров; мечты о совместном будущем хоть и откладывались на неопределенный срок, но были нерушимы, это святое. А пока Бенито все это шептал в потемках, он незаметно расстегнул блузку девушки, а потом и корсет.
– Нет, – слабо протестовала Исабель, – остановись…
Но настаивать не стала, боясь нарушить очарование момента, пока он продолжал исследовать ее тело. Кончиками пальцев он провел по ее плечам, шее, ушам, проложил дорожку ниже. У Исабель разрывалось сердце, оголенные нервы вздрагивали от его касаний, и она, забыв о советах деревенских подруг, еще раз промолвила «нет»; ее слова тут же затерялись в реве волн, и она отважилась погладить плечи жениха и спрятать лицо в завитках волос на его груди. Благодаря небеса за темноту, милостиво скрывающую стыдливый румянец, она отдалась Бенито, умирая от отчаяния и любви.
Отрезвление наступило, едва она вернулась домой. Исабель посмотрелась в зеркало: на корсете недоставало пуговиц, платок она потеряла, волосы были растрепаны; среди прочих свидетельств любви она обнаружила отметины на шее и груди и несколько царапин. Оставшись одна, она осознала масштаб бедствия и стала укорять себя за то, что потеряла бдительность: к чему тогда были все эти месяцы героического сопротивления, если в минуту слабости она так быстро сдалась? Тут же Исабель вспомнила о средстве, к которому прибегали деревенские женщины. Она на цыпочках прокралась на кухню, нашла губку, смочила ее в уксусе и поместила ее между ног, чтобы избежать беременности. Оставалось только молиться Божьей Матери и Святому Николасу; часовня стояла неподалеку, и Исабель усердно ее посещала.
13
Прошло несколько недель, а письма от Бенито так и не было. Вначале Исабель думала, что у жениха просто нет времени, или же у почтовой службы возникли сложности. Затем она встревожилась: может, он ранен и не в силах взяться за перо? Бессознательно она отгоняла мысль, которая постепенно занимала все больше места в ее думах, по мере того как шли дни, а весточки так и не появилось: «А если он пал в бою?»
– Нет, конечно, ты бы наверняка узнала, – успокаивала ее кухарка, единственная наперсница.
Она говорила так, не уточняя, каким именно образом удалось бы об этом проведать. Исабель, в смятении чувств, предпочитала ей верить, дабы избежать боли. Когда чаша страданий переполнилась, однажды вечером она отправилась в казармы и спросила про капрала Велеса. Ее заверили, что он не убит и не ранен, по той простой причине, что их отряд не участвовал в боях из-за трудностей с продовольственным снабжением. Французы по-прежнему удерживали баскские провинции и север Каталонии. «Тогда почему же он не пишет? – в отчаянии думала Исабель. – Ведь он поклялся!»
Кухарка места себе не находила, видя, как она страдает, и в особенности потому, что с каждым днем Исабель выглядела все хуже. Темные круги под глазами выделялись на мраморнобледном лице. Она постоянно чувствовала усталость, а ее былая ловкость, с которой она всегда развешивала белье или разжигала камин, исчезла без следа. Если приходилось прислуживать за столом, ее мутило от запаха еды. Однажды кухарка пригляделась к ногам Исабель – их испещряли толстые, как червяки, вены – и воскликнула:
– Детка, да ты беременна!
Исабель похолодела. Некоторое время назад она заметила, что ее грудь набухла, но не придала этому значения.
– И сколько месяцев у тебя задержка?
– Один… ну, почти два.
Ей не хотелось прислушиваться к изменениям своего тела; невольно она отвергала, хоть и угадывала интуитивно, неизбежный вердикт. Лучше уж питать сомнения, чем осознать чудовищную истину. Когда кухарка без экивоков выпалила ей правду, сердце девушки пронзила такая острая боль, словно ей в грудь всадили нож. Но эта простая грубоватая женщина была права. Исабель беременна, и это катастрофа, потому что она ждала ребенка от исчезнувшего из ее жизни человека. От мужчины, которому она поторопилась отдать всю себя в обмен на слова. Она поставила все на эту карту и проиграла. Исабель жила в мире, где честь женщины определялась ее чистотой, а честь мужчины призывала хранить чистоту женщин, находящихся на его попечении. Потеря чести оборачивалась позором и презрением окружающих.
Исабель присела, борясь с тошнотой. Ее будущее, планы, мечты, стремление к совершенству – все пошло прахом. И, возможно, ее работа тоже.
– Пожалуйста, умоляю, не говори только ничего дону Херонимо.
– Я ничего не скажу, – отвечала кухарка, – тебе придется сообщить это самой.
– Только не сейчас, я не могу.
– Хорошо, но потом ты должна это сделать.
В тот миг она еще тешила себя надеждой, что Бенито Велес может объявиться вновь.
По окончании войны солдаты в унынии вернулись в свои казармы. Но Бенито исчез без следа. Исабель всячески отказывалась признать, что ее любовь была всего лишь фантазией, что она попалась в древнюю, как мир, самую банальную и самую глупую ловушку, которую испокон веков мужчины подстраивают женщинам, – пообещать женитьбу в обмен на близость. А как же жизнь в Америке, как же дети, которых они собирались произвести на свет? Разве он не говорил, что это святое?
Об этом же напевала и кухарка:
– Красавица-дочка, не стоит влюбляться, словам кавалеров нельзя доверяться.
Сама мысль о том, что ее так беззастенчиво обольстили, была ненавистна девушке, а по ночам на поверхность пробивалось бессознательное, раз за разом погружая ее в повторяющийся кошмар: она застигнута пожаром в объятом пламенем доме, и Бенито в своем алом сверкающем мундире является, чтобы спасти ее. Она просыпалась в поту, обливаясь слезами, – столь разителен был контраст с действительностью. Как только получалось ускользнуть из дома, она возвращалась в те места, где они вместе гуляли, словно могло случиться чудо и вдруг из ниоткуда возник бы Бенито. Исабель расспрашивала его однополчан, выкрикивала его имя на аллеях парка, не обращая внимания на недоуменные взгляды прохожих, писала письма, остававшиеся без ответа. Если он и был жив, то перестал существовать. Постепенно пришло осознание того, что она одна на белом свете, а в ее чреве подрастает ребенок, который вскоре изменит ее жизнь. К концу дня Исабель зарывалась лицом в подушку, представляя себе, как возвращается в деревню, к холоду и грязи, одинокая, с ребенком в подоле, и захлебывалась в рыданиях. Теплое отношение семейства Ихоса не приносило никакого утешения; Исабель его не заслуживала. Она ощущала себя заблудшей овцой, изгоем.
Она была уже на третьем месяце, но до сих пор ни в чем не призналась своим хозяевам, несмотря на то, что подруга-кухарка постоянно ей об этом напоминала. Исабель была настолько уверена, что ее тут же уволят, что никак не находила в себе смелости; в глубине души она продолжала верить, что ее жених вернется. Дважды в неделю она ходила в полковую канцелярию в Ла-Корунье, где через месяц ей сообщили, что, наконец, Бенито нашли и он жив. Однако всплеск радости длился недолго, ровно до той секунды, когда офицер сообщил ей, что след жениха теряется в Севилье. Исабель решила, что он уехал в Америку один, а ее не известил, поскольку не мог взять ее с собой… Было невозможно смириться, что Бенито попросту окончательно ее бросил, забыл, обманул, что ее вычеркнул из памяти человек, которого она так любила. Этого она допустить не могла. Она находила тысячи причин, чтобы найти ему оправдания, питая надежду, что в один прекрасный день он вернется за ней и за своим сыном, с карманами, полными денег. Эта мечта была ей необходима, чтобы не пасть духом, потому что перспективы виделись весьма прискорбными. Мысль о том, чтобы вытравить плод, она даже не рассматривала. Подкинуть ребенка в сиротский дом – это тоже было не для нее. Отсутствие рядом мужчины грозило превратить ее в проститутку. Разве не значится в городских уложениях, что «никакая незамужняя девица не должна проживать одна, торговать фруктами и каштанами; а та, что нарушит этот закон, будет отправлена в приют»? Оставался лишь один вариант, позволявший избежать публичного позора: объявить себя «непредумышленно оступившейся», то есть обманутой: в этом случае ей следовало явиться к коррехидору[14] и заявить о своем положении вследствие нарушенного мужчиной обещания жениться. По закону она могла просить у суда защиты от нападок и преследования. В свою очередь, она брала на себя обязательство заботиться о ребенке или отдать его на усыновление, а также вести жизнь порядочную и скромную. Либо так, либо возвращение в деревню – с опущенной головой, с навсегда запятнанной репутацией. Конечно же, родные ее примут, но при условии, что она опять не впадет в грех, будет честной и работящей, посвятившей себя целиком уходу за ребенком.
Исабель уже мысленно собралась покаяться перед хозяевами, когда внезапно намного более грустные события не отодвинули ее заботы на второй план. Прелестная и добросердечная донья Мария-Хосефа занедужила, болезнь походила на грипп.
14
У себя дома, в Аликанте, Хосефа Матайш регулярно получала письма из госпиталя в Альхесирасе, где испанские войска с суши и с моря вели блокаду Гибралтара: «Мне пришлось обработать от клопов свою комнату, и знаешь, что я придумал? Я положил кусочки селедки, завернутые в бумагу, под свой матрас. Воняло ужасно, но клопов и след простыл». В другом письме ее муж рассказывал, как ему довелось оперировать солдата – тот пал жертвой непрестанных пушечных обстрелов англичан – прямо на поле боя. «За это меня повысили, теперь я второй помощник хирурга», – с гордостью сообщал он. Но ей самой и ребенком он почти не интересовался; заботы о них взял на себя отец Бальмиса. Он понимал, что сын в своей карьере замахнулся на недосягаемые высоты, хотя лично он тоже предпочел бы видеть своего отпрыска в Аликанте.
Постепенно письма Бальмиса становились пространнее: он говорил, что вовлечен в боевые действия, но войны как таковой нет; и все же он рассчитывает получить военные награды, когда осада завершится. Тем временем он изучает французский – язык, о котором уже имеет некое представление, ибо он необходим для того, чтобы быть в курсе последних нововведений в медицине. Ему бы хотелось расширить свои познания, чтобы успешно сдать экзамен на звание старшего хирурга. О чем Бальмис умалчивал в своих посланиях, так это о том, как он ходит по кабакам и публичным домам, чтобы убить скуку и развеяться. В борделях, как и в самом госпитале в Альхесирасе, он оценил урон, причиняемый венерическими заболеваниями, и заинтересовался «галльской болезнью», сифилисом; от него в войсках солдат гибло больше, чем от британских пуль. Способы лечения этого заболевания составляли неисчерпаемую тему в беседах госпитальных врачей; они же и посоветовали Бальмису ходить в бордель для офицеров, ибо там лучше обстоит дело с чистотой и гигиеной, да и медицинский контроль присутствует. Постоянным клиентом этого заведения был некий прапорщик по имени Хосе де Итурригарай, богатый наследник из Андалусии; родился он в Кадисе, но его род происходил из Наварры, а на юг он прибыл после португальской кампании. Высокий, с орлиным носом, внушительной челюстью и тонкими губами, он казался вполне приятным человеком и сиял от счастья, что очутился в родных краях. При этом он отличался таким самодовольством, что не упускал возможности бросить взгляд на свое отражение на любой гладкой поверхности, будь то оконное стекло или чужие очки. Он всегда стремился быть в центре внимания; подобный тип людей не внушал Бальмису особого доверия, что не мешало ему смеяться над шутками прапорщика:
– Я же говорил тебе четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч раз: не надо преувеличивать!
Бальмис смеялся всегда, то ли из вежливости, то ли по необходимости, потому что иронию и шутки он попросту не понимал. Он и представить себе не мог, что ему придется в будущем столкнуться с Хосе де Итурригараем, утонченным андалузцем, в самый ответственный момент своей жизни.
Общение с военными врачами, профессионалами, получившими образование за границей за королевский счет и мечтавшими о внедрении современной медицинской науки в Испании, для Бальмиса явилось неким питательным бульоном, открывавшим новые перспективы. Бальмис обогатил свой опыт и пополнил знания в областях, далеких от хирургии. К примеру, доктор Тимотео ОСканлан, один из поборников вариоляции, посвятил его в методику инокуляции[15] в борьбе с оспой. Другой врач обучил его различным способам лечения сифилиса. Проведенное в Альхесирасе время расширило горизонты молодого хирурга. «Я все больше чувствую, что мой путь – это наука», – писал он отцу.
После двух лет осады, принесшей жестокие страдания защитникам Скалы, когда они уже были готовы сдаться, английская эскадра под командованием адмирала Родни разгромила испанский флот, защищавший бухту Кадиса. Хотя огромные плавучие батареи испанцев открыли артиллерийский обстрел Гибралтара, англичане смогли пробить заграждение и триумфально вошли в Пеньон[16]. Голодающие обитатели крепости набросились на продукты и боеприпасы, которые Родни вез с собой из Англии, а также на трофейное имущество захваченного по пути испанского конвоя.
Среди испанцев воцарились уныние и злоба. Бальмису не удалось поучаствовать в финальном победоносном сражении, и вследствие этого он не получил ожидаемых наград. Это было уже второе военное поражение в его жизни.
Но истинным полем боя для него была его карьера, и здесь он одерживал победу за победой. За свое поведение во время осады, за проявленное усердие и пунктуальность при исполнении обязанностей он был отмечен начальством и повышен в звании до военного хирурга. Он получил увольнительную на неопределенный срок и вернулся в Аликанте в ожидании нового назначения. Сыну его уже исполнилось два года.
– В следующий раз мы с сыном поедем с тобой, – заявила Хосефа.
После стольких лет армейской жизни оказалось очень приятно вести размеренное существование в большом семейном особняке Бальмисов, где теперь поселились и его жена с сыном. Но в этом замкнутом мирке самому Бальмису не хватало воздуха. Работу своего отца и деда и связанные с ней ограничения он уже знал досконально. Чему он мог здесь научиться? Ему недоставало общения с великими врачами, которые поощряли его любознательность и стремление учиться. К двадцати восьми годам он был женат скорее не на Хосефе, а на военно-полевой медицине.
В один прекрасный день пришло письмо на официальном бланке его полка. Полковник требовал его участия в качестве первого помощника главного хирурга в новой экспедиции; целью кампании была ликвидация банд мятежников, восставших против короля в Новой Гранаде[17], а затем им надлежало отправиться в Мексику. В письме требовали как можно скорее завершить все дела и прибыть в Кадис. Саморским полком командовал сейчас генерал Бернардо де Гальвес, тот самый офицер, которому Бальмис прижигал рану на ноге во время сражения в Алжире. Гальвес продолжил свою блистательную карьеру в Америке, где основал город Галвестон и был назначен губернатором Луизианы.
Хосефа – до этого она надеялась, что мужа назначат хирургом в какой-нибудь местной больнице, в Валенсии или, возможно, в Картахене, – совершенно пала духом.
– Мы едем с тобой в Америку, – огорошила она Бальмиса.
– Это не слишком хорошая идея, – ответил он осторожно. – Америка далеко, путешествие полно опасностей, есть и болезни, редкие и неизлечимые. А ребенок еще так мал…
Он мог бы без конца перечислять неопровержимые аргументы, так что Хосефа была вынуждена смириться с новой разлукой; на этот раз расставание грозило стать еще более долгим, тяжелым и опасным, чем предыдущее. Больше всего угнетало то, что Бальмис даже не считал нужным скрывать ни своего желания отправиться в путь, ни воодушевления перед этой новой задачей. То, что сам Гальвес, знаменитейший полководец Испании, потребовал его участия, представлялось огромной честью, от которой Бальмис преисполнялся гордостью. Словно у него появился крестный отец, твердо ведущий его по жизни дорогой процветания. Две военные кампании с его участием, хоть и завершившиеся полным провалом, послужили ему на пользу в смысле профессионального роста. У Бальмиса имелись более чем достаточные основания полагать, что и это предприятие обернется для него новыми достижениями, новыми возможностями проявить свои блестящие таланты в работе. Отец Бальмиса это понимал и, как всегда, поддержал сына. Хосефа оставалась на его попечении, в родовом особняке, грустная и беспомощная; она видела, как пропасть, отделяющая ее от мужа, становится все более широкой и непреодолимой.
Новый Свет очаровал и напугал молодого Бальмиса. Благодатная щедрость побережья, судоходные реки, впечатляющие горные ущелья, пышные тропические леса – все это были явления совсем иного масштаба.
Дорогая Хосефа,
я очень сомневаюсь, что вы с ребенком сумели бы пережить это путешествие, так что не отравляй себе жизнь мыслями о том, что могла бы меня сопровождать. Здесь все намного величественнее и сильнее: не дождь – а настоящий потоп, солнце не светит, а нещадно палит. Растительность невероятно густая и пышная. Кажется, здесь природа отбросила все ограничения и дала себе полную волю. Влажность и жара превосходят рамки разумного. Едва мы высадились в порту Эль-Гуахиро, нашим войскам пришлось сражаться с индейцами, подстрекаемыми креолами, – это рожденные уже здесь потомки испанцев. Поскольку перевес наших сил очевиден, то командование сейчас ведет мирные переговоры. Нескольких зачинщиков помиловали и пообещали выделить креолам посты в местном управлении.
Я тем временем занимаюсь наблюдениями за жителями деревень, их положение приводит в отчаяние: повсюду в грязи и нечистотах валяются тела мужчин, женщин и детей, умерших от оспы. Большинство индейцев – ходят они голышом и наносят на кожу цветные рисунки – страдают от истощения и изнурения. Много слепцов, их лица покрыты гнойными язвами. Я и вообразить не мог, что на свете существует подобная нищета. Отец Эспиноса, местный миссионер, сообщил мне, что, по его подсчетам, каждый третий индеец погибает от оспы… Но сами они не верят, что это болезнь, а полагают, будто это кара за то, что они разгневали своих богов.
Бальмис передвигался по узким извилистым тропам, которые то и дело пересекали бурные реки. Когда силы кончались, он усаживался на узкое сиденье с длинной доской в качестве спинки, которое тащил на плечах индеец-носильщик. Бальмис не отрывал глаз от дороги; ветки кустов и деревьев, через которые они пробирались, хлестали и царапали кожу. Тик, до этого проявлявшийся лишь непроизвольным морганием, превратился в гримасу: лицо на уровне глаз судорожно кривилось, а шея вытягивалась. Он стал пугалом для местных детишек и посмешищем для взрослых – несмотря на ужасающие условия существования, индейцы сохраняли детскую непосредственность.
– Дикарь, выбравшийся из сельвы и подхвативший оспу, – почитай что покойник, – говорил отец Эспиноса. – Почему? Да потому, что лечиться он будет заклинаниями и обливаниями холодной водой. Они не понимают, что эпидемии – это Божья кара за их неправедную жизнь.
– Не впутывайте в это Бога, падре. Он тут ни при чем.
– Тогда как вы объясните, что каждый третий индеец погибает от оспы? Дохнут, как клопы, у меня порой появляется чувство, что они так и вымрут все до единого. Ясно, что Бог их покинул… Должно быть, есть причины.
– Причина одна: оспа – это заболевание, о котором мы еще очень мало знаем. А если индейцы умирают быстрее и чаще, чем мы, то это потому, что их тела более слабые.
– То есть вы не верите в Божью кару?
– Отец Эспиноса, я верю прежде всего в науку, да простит меня Господь, – промолвил Бальмис, перекрестившись и вытянув шею.
Священник бросил на него исполненный скепсиса взгляд. Этот человек, – не верящий в Бога, хоть и крестится, со своим странным тиком, из-за которого его лицо искажается гримасой так, что не понять, злится он или смеется, – казался ему еще одной заблудшей душой. Согласно собственной системе оценок, падре полагал, что бывают заблудшие души и среди индейцев, и среди белых; именно такой человек стоял сейчас перед ним. Он решил сменить тему беседы:
– Хуже всего то, что дворяне и землевладельцы из нынешних американских испанцев лишаются рабочих рук.
Грубая прямолинейность священника вызвала у Бальмиса новый приступ тика.
– Вы правы, надо что-то предпринять, чтобы сдержать оспу. При королевском дворе многие не понимают, что это вопрос не только медицинский, но и политический. На сегодняшний день единственное, что доказало эффективность, – это процедура под названием «вариоляция», или оспопрививание, но она несет свои риски. Пока нам остается лишь наращивать гигиенические мероприятия.
– И молиться всем святым.
Оба собеседника вперили друг в друга полный взаимного непонимания взор. Мир делился не только на индейцев и европейцев, все шире становилась пропасть и между самими белыми.
Хосефа!
Пишу тебе с борта судна, которое перевозит наш полк в Веракрус, в Новую Испанию. Едва был подписан мир с европейскими испанцами, как наши войска стали жертвой эпидемии лихорадки неизвестного происхождения. Несколько моих коллег-хирургов погибли, и мне пришлось взять на себя их обязанности. Но к концу и я слег. Я чувствовал неимоверную усталость, которая мешала мне продолжать работать, начались галлюцинации; несмотря на удушливую жару, меня сотрясает озноб. Я задаюсь вопросом, уж не подхватил ли и я оспу…
15
– Ангина, – вынес вердикт доктор Поссе Ройбанес[18], подкручивая пальцами кончики нафабренных усов.
Он был семейным врачом, профессионалом с безупречной репутацией; много лет он преподавал в университете Сантьяго, пока не посвятил себя полностью работе в благотворительных учреждениях, где и подружился с доном Херонимо. Поначалу доктор приходил дважды в день и закапывал донье Марии-Хосефе несколько капель ртутной настойки в воспаленное горло и мицдалины. Через несколько дней состояние больной не только не улучшилось, а начало стремительно ухудшаться. Если первыми симптомами были лихорадка и боль при глотании, то сейчас она страдала от спазмов, тахикардии и сильнейших судорог в руках и ногах, причинявших неимоверные мучения.
– Исабель! – взывала сеньора с искаженным лицом. – Иди сюда-а-а, ты мне нужна!
Только ее горничная оказалась способна растираниями жидкой мазью унять боль в сведенных мышцах госпожи. В передней с печальными лицами маялись доктор Поссе, дон Херонимо и служанки.
– Надо усилить меры предосторожности, лучше будет изолировать донью Марию-Хосефу, – шепнул доктор, делясь своей озабоченностью. – Следует перевезти детей в другой дом, желательно за город.
– Я отправлю их в наше имение в Бетансосе… – согласился дон Херонимо.
Он взял врача под руку и отвел в дальний угол комнаты, чтобы поговорить без посторонних ушей. После беседы доктор Поссе подозвал Исабель.
– Вам лучше остаться и ухаживать за доньей Марией-Хосефой. Мы с доном Херонимо считаем, что вы лучше прочих справитесь с подобной щекотливой ситуацией, – промолвил он, объясняя девушке, как следует изолировать больную; тем временем дон Херонимо велел мулатке собираться вместе с детьми в загородное имение.
«Если бы только они знали правду!» – говорила себе Исабель. Она ощущала себя униженной и обесчещенной, однако ей хотелось соответствовать тем уважительным представлениям, которые сложились у хозяев в отношении нее, и она телом и душой отдалась заботам о болящей. По утрам Исабель обтирала и умывала ее, потом развлекала рассказами о забавных случаях из жизни ее детей, кормила, по вечерам приносила лимонный сок, сваренный с медом и розмарином, по первому знаку массировала хозяйке сведенные судорогами ноги. Только ей и врачу разрешалось заходить в комнату больной. Госпожа скучала по детям и так безутешно рыдала от боли, что Исабель и думать позабыла о собственных горестях.
– Надо дождаться, чтобы болезнь «заговорила», – повторял врач.
На пятый день агонии недуг «заговорил»: на прекрасном лице доньи Марии-Хосефы выступили яркие пятна размером с горошину. Исабель сразу вспомнила о таких же высыпаниях на лице матери в тот день, когда она, вернувшись с поля, распрощалась с детством. Пока девушка смоченным в холодной воде платком протирала вспотевший лоб хозяйки, врач обратился к дону Херонимо и подтвердил диагноз:
– Это сильнейший приступ черной оспы.
– Как такое могло случиться? – схватился за голову дон Херонимо. – Чем она заслужила такое наказание?
– Ничем, – ответил медик. – Болезнь – это не кара господня за человеческие грехи, оставим это священникам.
Он тоже был человеком эпохи Просвещения, поборником науки и противником суеверий и мракобесия. Изучая при помощи лупы алые пятна на лице больной, он продолжал свою речь:
– При оспе мы видим только проявления, но не знаем причин. Известно лишь то, что она передается при контакте.
– Но как… она?
– Оспа не ведает сословных рамок, дон Херонимо. Ей безразличны пол, климат, возраст или социальное положение.
Доктору Поссе доводилось видеть сотни лиц, столь же прекрасных, а то и более, которые болезнь сводила в могилу в ужасающе безобразном виде. Он слишком часто наблюдал, как заживо гниют невинные дети. Для него оспа воплощала самую страшную и неотвратимую беду, но врач также знал, что не все случаи заболевания приводят к подобному концу. Поэтому он все же дал малый луч надежды:
– Быть может, оспенный возбудитель окажется доброкачественным.
Исабель, присутствовавшая при разговоре, вздрогнула. Этот язык был ей вполне понятен. Если оспа оказывалась злокачественной, человек погибал в невыразимых мучениях, как ее мать, Игнасия. Если на этот раз болезнь доброкачественная, ее госпожа выживет. Конечно же, у нее останутся рубцы, возможно, она ослепнет. Наверняка она пополнит ряды людей, у которых лица навсегда отмечены оспой.
– Сейчас необходимо самое пристальное внимание уделять гигиене, – заключил доктор Поссе.
Исабель знала, о чем говорит врач. Точно так же, как она поступила с одеждой своей матери, она сожгла в печке одежду доньи Марии-Хосефы. Как же обидно было жечь сатиновые нижние юбки, перкалевые сорочки, корсеты из чесучи и парчовые юбки! Не из-за самих вещей, не из-за нежно скользивших в руках дорогих тканей, а из-за странного ощущения, будто она соучаствует в уничтожении красоты этой женщины, еще недавно столь ослепительной. Супруг госпожи велел окурить весь дом парами купороса, а потом вручил девушке две большие шкатулки с драгоценностями, которые его жена никогда не надевала. Исабель перебирала броши в форме павлина, инкрустированные бриллиантами и изумрудами, ожерелья из серого жемчуга, серьги с рубинами… Их пришлось обработать раствором азотной кислоты и щелочью, как старые столовые приборы.
Изменения во внешности больной наводили ужас. Все лицо, особенно вокруг глаз и рта, было обметано высыпаниями, далее пустулы спускались на грудь, руки и ноги. Врач отслеживал цвет пятен – белесые, черноватые, свинцово-серые или пунцовые, а также их форму – выступающие, расползающиеся вширь или уходящие вглубь. Наибольшие страдания причиняло воспаление слизистых: из-за конъюнктивита глаза почти не открывались, дыхание стало неровным и сиплым, голос охрип.
– Есть опасность отека гортани, – сказал врач негромко. И, сообразив, что его слова нуждаются в пояснении, добавил: – Она в любое мгновение может задохнуться. И еще риск сепсиса, то есть общего заражения крови. Надо стараться как можно чище обрабатывать кожу.
Через четыре дня папулы превратились в пузырьки с мутным гнойным содержимым. Запах от них шел невыносимый, но Исабель без единой жалобы, совершенно спокойно чистила их и подсушивала. Она выполняла необходимые манипуляции такими точными движениями, словно занималась этим всю жизнь. Похоже, в болезни наступил критический момент: у больной поднялся жар, она начала бредить. Тут же, словно по волшебству, появился священник: само собой, его никто не звал. Увидев прискорбное состояние страждущей, он засуетился со святым елеем.
– Что это вы делаете, дон Камило? – процедил врач, от природы подозрительный.
– Мы все желаем, чтобы донья Мария-Хосефа оставила этот мир, причастившись Божьей благодати, – медоточиво пропел священник.
– Не торопите события, а то как бы беду не накликали.
Визит священника вызвал панику среди прислуги. Под какими-то невнятными предлогами многие бежали назад в свои деревни. Оставшиеся же старались ускользнуть всякий раз, когда их просили подняться наверх. С Исабель все общались на расстоянии, кроме кухарки – она давно переболела оспой и не боялась заразиться. Особняк погрузился в безмолвный полумрак. Дон Херонимо, столь отважно и успешно решавший мирские дела, совсем потерялся перед лицом смерти. Непредсказуемость болезни и ее заразность буквально парализовали его. «Выживет ли она? Не стану ли я следующим? – Казалось, он постоянно мучается этими вопросами. – Или настанет черед детей?» Таким образом, вскоре Исабель стала опорой дома: она взяла на себя все заботы, включая пополнение запасов и организационные вопросы. Целиком посвятив себя этим хлопотам, она занимала работой руки и голову; это позволяло забыть о себе и смягчить сердечную боль. После смерти матери она усвоила, что это лучший способ справиться с потерей.
«Черный цветок», как называли оспу, пощадил жизнь доньи Марии-Хосефы. На двенадцатый день врач заметил, что пустулы подсыхают, превращаясь в темные струпья, и тогда он, наконец, вздохнул с облегчением.
– Худшее позади, – объявил доктор, – наступил последний этап, когда язвы подсыхают. Она выкарабкается!
И действительно, боли стали стихать, на смену им пришел невыносимый зуд от подсохших струпьев. В общем итоге недуг продлился пятнадцать дней.
– Единственный плюс, если можно употребить это слово, – это то, что донья Мария-Хосефа до конца своих дней защищена от оспы.
Когда впервые за две недели адовых мук донья Мария-Хосефа встала с постели и подошла к зеркалу в гостиной, она не произнесла ни слова. Долгое время она провела в безутешных беззвучных рыданиях. Ее блузка промокла от слез, и Исабель пришлось переодеть свою госпожу. Плакала она не от счастья, что осталась жива, а от горя по своей навсегда утерянной красоте.
16
Дон Херонимо был категоричен:
– Не хочу, чтобы мои дети проходили через этот кошмар.
– Я бы на вашем месте последовал примеру нашего короля, – посоветовал врач.
Карл IV имел подобный опыт. Его дочь, инфанта Мария-Луиза, после оспы чудом осталась жива, хоть и навсегда обезображена. Перепуганный монарх постарался уберечь других детей от заражения. Однако, придя к выводу, что традиционные методы лечения – кровопускание, слабительное, диета, ртуть, сарсапарель[19] и копайский бальзам – не дают желаемого эффекта, он решил испытать единственное превентивное средство, предлагаемое тогдашней наукой: вариоляцию.
– Это значит, что здоровым людям вводят гной от больного оспой человека, – пояснил доктор Поссе.
Дон Херонимо скорчил гримасу:
– Вводят заразу прямо в тело? Маленьким детям?
– Да, именно так. Это искусственное заражение, чтобы вызвать смягченную инфекцию: болезнь будет протекать относительно легко и навсегда защитит организм от заражения естественным путем.
Дон Херонимо задумался. Ему претила сама мысль о том, чтобы добровольно заражать своих детей.
– А Бог дозволяет подобное? – робко поинтересовался он.
– Об этом надо спрашивать священников, хотя я лично так не думаю. Любое новшество рассматривается церковью как угроза для веры, тем более в медицине, где каждый день совершаются открытия, несущие пользу всему человечеству.
– А если инфекция разовьется в тяжелой форме? Вы гарантируете, что сможете сдерживать ее в ослабленном виде?
– Нет, гарантировать я не могу, потому что болезнь способна выйти из-под контроля. Был случай, когда шестеро слуг заразились после того, как одному из детей в доме сделали прививку. Из-за этого некоторые мои коллеги полагают, что вариоляция способствует распространению оспы. Не стану вас обманывать: многие настроены против прививок, ибо действительно существует риск. Но этот риск снижается, если речь идет о здоровом человеке. Поверьте, дон Херонимо, этот метод уже подтвердил свою эффективность и не представляет смертельной опасности. Ни один из инфантов серьезно не заболел. Поэтому король обязал проводить вариоляцию во всех больницах и сиротских приютах, находящихся под его патронатом.
– Церковники, конечно, встречают в штыки любые научные открытия, но это не означает, что следует воспринимать любое новшество со слепым энтузиазмом… Разве принц Карл-Мария Исидро не заболел самым тяжким образом? И я слышал, что инфанта Мария-Амалия лишилась зрения…
– Да, это правда, у нее развилась сильнейшая офтальмия, воспалительное поражение глаз. Но она уже поправилась, как и дон Карл. Согласно полученным данным, примерно у трех процентов привитых развивается оспа, и они погибают. Другие могут заболеть и выздороветь лишь через несколько недель; у третьих, впрочем, их совсем мало, присоединяются такие инфекции, как сифилис или туберкулез… Это цена, которую мы платим, чтобы побороть оспу.
На лице дона Херонимо отразилась печаль. Но врач продолжал приводить аргументы:
– Но даже при всем этом лучше рискнуть, чем подхватить оспу через контакт с заболевшим. Потому что в этом случае смертность повышается с двадцати до сорока процентов, а зачастую выздоровевшим грозит слепота. Если повезет, как повезло вашей супруге, останутся только шрамы.
Идея добровольного заражения, чтобы вызвать иммунный ответ организма, была столь же старой, как и само желание человечества побороть эту язву. Медик рассказал, как в древнем Китае в нос здоровым людям вдували порошок из толченых струпьев от выздоравливающих больных; как в Индии существовала каста брахманов, которые при помощи тончайших игл вводили каплю оспенной жидкости от больного здоровым. В Европе прибегали к различным способам: например, «покупали оспу» (брали сухие корочки с подживших язв у маленьких детей, идущих на поправку) или же укладывали здоровых молодых людей рядом с больными, чтобы таким образом они легче перенесли натуральную оспу.
– Вариоляция – это не новое явление, дон Херонимо, – продолжал свои объяснения доктор Поссе. – Знаете, с каких времен она практикуется в Европе? Уже почти пятьдесят лет, с тех пор, как одна англичанка, жена британского посла в Константинополе, привезла этот метод из Турции. Ее звали Мэри Монтегю. Она была женщиной умной и пребывала в отчаянии, потому что ее брат скончался от оспы, а сама она выжила, но осталась обезображенной. Она наблюдала, как гной из пустул выздоравливающих пациентов вводили уколом в кожу здоровых людей, и решила опробовать эту методику на своем сыне… И знаете, что случилось?
Дон Херонимо отрицательно покачал головой.
– Мальчик вообще не заболел! Затем она привила свою дочку, и та тоже избежала оспы. Мэри Монтегю добилась распространения этого опыта в среде британской аристократии, так что даже дочери принца Уэльского были привиты. А известно ли вам, почему этот метод завоевал такую популярность в Турции?
– Естественно, нет!
– Из-за гаремов, дон Херонимо. Потому что там красота – это основная ценность женщины. Поэтому им делали прививки в самом нежном возрасте, причем в таком месте, где потом будет незаметен шрам от язвочки.
Слова врача окончательно убедили дона Херонимо, но он не хотел принимать решение, предварительно не обсудив его с женой. Он уже представлял себе, как приходской священник из церкви Святого Николаса станет говорить, что не дозволено совершать зло, каким бы малым оно ни было, для получения какой-то выгоды. А общественное мнение Ла-Коруньи возмутит тот факт, что он подвергнет риску жизнь невинных деток. Но супруга ни секунды не колебалась. Недуг принес ей такие ужасные страдания и имел такие трагические последствия, что из страха вновь с ним столкнуться она решилась на то, чтобы спасти своих детей таким же образом, как поступила леди Мэри Монтегю со своими.
– А мне тоже стоит пройти через это? – поинтересовался дон Херонимо.
– Король не прививался, а вы, полагаю, уже получили иммунитет. Этот метод работает в основном применительно к людям молодым и здоровым… Вот Исабель, наверное, стоит сделать прививку; я не вполне уверен, что у нее сформировалась защита.
Услышав свое имя, Исабель насторожилась. Врач позвал ее и рассказал о своих намерениях:
– Тебе придется провести долгое время у постели детей, им будет довольно плохо. У них поднимется температура, будут болеть мышцы – процесс тот же самый, что пережила их мать, но намного более короткий и менее заразный. Чтобы вариоляция прошла успешно, надо строго соблюдать гигиенические правила, а ты с ними уже знакома.
Исабель кивнула. Врач продолжал:
– Тебе тоже надо сделать прививку, причем первой, чтобы ты успела выздороветь и окрепнуть к тому моменту, когда настанет их очередь.
Исабель окаменела. Даже если она и хотела бы подвергнуться этой процедуре, то все равно не могла: она носила ребенка и подозревала, что подобное вмешательство может навредить ему.
– Нет, я не… Падре говорит, что это нехорошо, что если бы Господь…
– Ты молода и здорова, тебе надо привиться. Ради твоего собственного блага, ради будущего, ради детей, которых ты однажды родишь. Подумай хорошенько.
Услышав последние слова врача, Исабель не сдержала слез, глядя на доктора с обреченным видом. Какое-то время она испытывала искушение признаться в беременности, чтобы он понял, что ее тело уже не принадлежит ей целиком. Рано или поздно придется сделать это, так почему не сейчас? Но подобное откровение напоминало прыжок в пустоту: потерять расположение и уважение хозяев, ощущать себя словно вывалянной в грязи… Исабель казалось, будто она лишится всего того хорошего, чего ей удалось достичь, и в ее представлении признание в содеянном грехе и позорное возвращение в черную дыру деревенской жизни разделял всего лишь один шаг.
17
Впоследствии Бальмису не удастся вспомнить никаких подробностей о путешествии в Новую Испанию на борту корабля Саморского полка; он настолько ослаб, что большую часть пути провел в забытьи. В конце концов судно бросило якорь в порту Веракрус. Это был самый крупный в мире морской транспортный узел, место, где желтая лихорадка укоренилась столь же прочно, как пороки и контрабанда. Сотни негров, рабов и свободных граждан, вместе с индейцами из внутренних областей страны, трудились на погрузке и разгрузке кораблей. Преобладали индейцы с плоскогорья – их легко было узнать по необычной формы сомбреро и по огромным тюкам какао на плечах. Бальмиса сразу же перевезли из этого нездорового города, кишащего москитами и застывшего от удушливой жары, в госпиталь в Халапу; там, на горных склонах, воздух был прозрачен и чист, а монахи – внимательны и доброжелательны.
– Оспу можно смело отбросить, доктор Бальмис, – сообщили ему, едва он оправился. – Возможно, у вас сформировался иммунитет, вы же побывали во многих госпиталях, как мы поняли.
Бальмис кивнул и с облегчением засопел.
– Тогда… что же это было?
Монах пожал плечами:
– Есть столько недугов, о которых нам ничего не известно… Главное, что вы поправились.
Выздоровление затянулось на несколько недель; все это время Бальмис предпринимал долгие прогулки по окрестным лесам, навещал деревни индейцев, которые здесь разительно отличались от тех, что он наблюдал в сельве Эль-Гуахиро. Индейцы Новой Испании блюли древнейшие культурные традиции, находившие отражение в их костюмах, ремеслах, языке и глубоких познаниях в лекарственных растениях.
– Нам предстоит многому у них научиться… – говорил Бальмис сопровождавшему его монаху.
Свойственная его характеру искренность вызывала удивление. В высших кругах американских европейцев было принято презирать индейцев и весь багаж их знаний и традиций. Но Бальмис, открытый новому и восприимчивый к знаниям, проявлял поистине детское любопытство. Когда он окончательно поправился, монахи предложили ему поработать в госпитале в Халапе, пока он ждет нового назначения из своего полка. Бальмис не раздумывая согласился.
В то время скоропостижно скончался вице-король Новой Испании Матиас де Гальвес-и-Гальярдо, человек порядочный и любимый в народе; среди прочих достоинств, по случайному совпадению, он был отцом Бернардо де Гальвеса, командира Саморского полка. Бернардо, который недавно обосновался в Гаване, был назначен преемником отца. Он отплыл в Мексику и семнадцатого июня 1785 года вступил в должность. Новый вице-король собирался продолжить дело отца, который, помимо прочего, учредил Королевскую академию Сан-Карлоса, по образу и подобию Академии Сан-Фернандо в Мадриде, где получали образование архитекторы, художники и скульпторы. Он также способствовал улучшению сельского хозяйства, строил дороги, продвигал картографию и, как истинный сын эпохи Просвещения, поддерживал все начинания, связанные с развитием науки и медицины.
Бальмис не проработал и трех месяцев в госпитале в Халапе, как получил письмо от Алонсо Нуньеса де Аро, архиепископа Мехико: прелат требовал присутствия Бальмиса в столице. Бальмис подозревал, что за этим вызовом стоит влиятельная фигура нового вице-короля. В высшей степени аристократический и гостеприимный город поражал контрастом между нищетой необъятных предместий и великолепием дворцов и монастырей. Бальмиса провели по залам архиепископского дворца – вдоль отделанных дамастом и бархатом стен располагались буфеты с драгоценным японским фарфором, серебряными чеканными кубками и изделиями из золота, а с потолка свисали прекрасные серебряные люстры. В роскошном кабинете его ожидал прелат, самый могущественный человек Новой Испании после вице-короля. Архиепископ был облачен в черную бархатную ризу, на груди его сияло рубиновое ожерелье с огромным рубиновым же наперсным крестом. Бальмис начал раскачиваться вперед-назад, как он делал в детстве, когда ему становилось страшно.
– Я пригласил вас, впечатленный великолепными рекомендациями вашим талантам, которые услышал от нового вице-короля.
Бальмис закашлялся и заморгал, наморщив лоб.
– В Оахаке началась новая эпидемия оспы. В прошлый раз вымерла половина индейцев. Поэтому мне нужна ваша помощь; насколько я понял, вы весьма сведущи в методе вариоляции.
– Я учился у доктора Тимотео О’Сканлана, выдающегося специалиста. Мы познакомились во время осады Гибралтара. На сегодняшний день это лучший способ защиты, но он несет много рисков.
– Понимаю, но по крайней мере он сможет неминуемую смерть перевести в разряд просто вероятных…
– Это действительно так, – согласился Бальмис.
– Я разослал циркуляр всем священникам своего архиепископства, чтобы они убедили верующих подвергнуться этой процедуре в их приходах. Но многие противятся этому. Из страха перед оспой они закрывают и покидают свои церкви, что вынуждает меня принять меры для поддержания религии. Бытует поговорка, что «от оспы и чумы бегут здравые умы». Индейцы тоже пускаются наутек, и проблема усугубляется тем, что они разносят болезнь по деревням в глубине страны. Я прошу вас отправиться в зараженные зоны вместе с другими врачами из госпиталя Сан-Андреса и привить столько людей, сколько сможете.
– Да, но… Ваше Высокопреосвященство, как вы упомянули, народ опасается прививать себе болезнь.
Архиепископ протянул ему пачку листов бумаги.
– Это списки жителей, которые я в чрезвычайном порядке истребовал из всех населенных пунктов этой области. Здесь указаны имена тех, кто согласен на вариоляцию, и тех, кто совсем беден: требуется оказать им необходимую помощь.
Бальмис смотрел на него в изумлении. Чтобы клирик такого ранга, как Нуньес де Аро, сделал ставку на медицинский прогресс – это воистину прекрасная новость.
– Для меня честь выполнить вашу просьбу, – промолвил он.
– Помогите нам остановить смерть, доктор Бальмис.
– Я положу на это все силы, – кивнул он в ответ.
Бальмис и его команда отбыли в город Оахака; испанцы называли его также Зеленой Антекерой за сходство с андалузской Антекерой и зеленоватый оттенок каменных стен церквей. Здания и соборы этого прекрасного города были задуманы так, чтобы солнце заглядывало в окна и двери во все времена года. Он славился жизнелюбием и веселым нравом горожан, а также пышностью религиозных праздников, организованных как католиками, так и сапотеками[20]. Но сейчас Зеленая Антекера превратилась в черную Оахаку. На въезде в город горели огромные костры, чтобы очистить воздух. На церковном кладбище люди с закрытыми тканью лицами скидывали трупы в свежевыкопанные рвы. Главная площадь была безлюдна, лишь тут и там можно было наблюдать небольшие группы индейцев – истощенных, как тени, с кожей, испещренной рубцами и пятнами, шрамами на глазах и вздутыми веками. У всех наблюдались симптомы оспы: зеленоватый цвет кожи, чудовищная слабость и непрерывный кашель. Почти не встречались красивые женщины без следов оспин. При приближении врачей многие из них напрягали последние силы, чтобы отползти и спрятаться. Большинство индейцев отказывалось от прививки. Бальмис узнал, что недуг они лечили с помощью паровых бань, что в итоге приводило к еще большему росту заболеваемости. Местные знахари прописывали больному пить и умывать лицо горячей мочой и прикладывать к пораженной коже желтый острый перец чили. «Они живут в плену у страха, – писал Бальмис отцу, – их пугает окружающая действительность; они погрязли в мире, населенном духами и демонами, которые контролируют их жизнь. Они верят, будто подношения их богам или молитвы нашему Господу дадут лучший результат, чем медицинские процедуры. Проблема в том, отец, что многие влиятельные священники точно так же невежественны». Когда Бальмис пытался объяснить одному священнику, что умерших от оспы следует хоронить подальше от церкви, тот ему ответил:
– Подальше от церкви? Подальше от Бога?
– Видите ли, падре, чтобы избежать заражения, следует самым строгим образом соблюдать правила гигиены.
И указал на пару индейцев, которые вместе плескались в пруду неподалеку, стараясь смыть шелушащиеся пятна и корки с гнойников.
– Вы не должны допускать подобного.
Затем он показал на ребенка, пившего из лужи, на рой мух, вившихся вокруг лежащей в гамаке больной женщины, на животных, снующих среди мусорных куч.
– Ни этого, ни этого…
– Мы делаем все возможное, чтобы Господь смилостивился и избавил их от кары, – молимся святым целителям, служим мессы, приносим покаяние…
– Падре, это не работает.
Бальмису и его команде удалось сделать прививку всем, кто значился в списке прелата. В своем отчете о путешествии, который произвел в высшей степени благоприятное впечатление в архиепископстве, Бальмис особо подчеркивал необходимость борьбы с недоеданием, голодом, физическим насилием и загрязненностью индейских поселений. Также он предлагал обучить местные власти – чиновников и священников – практике вариоляции, чтобы они могли уже сами применять этот метод in situ[21]. В знак признательности Нуньес де Аро предложил Бальмису место хирурга в госпитале Сан-Андрес, где лечили самые разные заболевания; это была больница на тысячу коек, расположенных в тридцати девяти корпусах.
– Такого любителя научных исследований, как вы, доктор, наверняка привлечет тот факт, что Сан-Андрес обладает самой большой в Новой Испании фармацевтической базой, а также имеет лабораторию и отделение анатомии и аутопсии.
Бальмис раскачивался вперед-назад. Руки моментально вспотели. Предложение звучало более чем заманчиво. С научной точки зрения Мехико был самым прогрессивным городом во всей Америке. Он мог продолжить изучение курсов анатомии, физиологии и ботаники. Ему еще не доводилось работать в такой крупной больнице, к тому же имеющей такие ресурсы.
Но существовала одна загвоздка.
– Если я останусь в Мехико, мне придется покинуть свой полк…
– Вы могли бы уволиться из армии в качестве резервиста, а я вам помогу.
Так назывались военные, открепленные от своего подразделения; они могли самостоятельно выбирать себе место жительства. При этих словах архиепископа Бальмиса накрыло волной эйфории, он увидел свет в конце туннеля. Он опустился на колени перед прелатом и поцеловал ему руку.
Той же ночью он писал Хосефе: «Я вынужден продлить свое пребывание в Новой Испании по просьбе архиепископа и самого вице-короля.» Это был весомый аргумент, имеющий неопровержимую силу. Но Хосефа на его письма уже не отвечала.
18
Настойчивость доктора Поссе в том, что Исабель должна сделать прививку от оспы вместе с двумя отпрысками семейства Ихоса, в конце концов толкнула девушку на признание.
– Я не хочу подвергать опасности жизнь моего малыша, – лепетала она сквозь слезы. – Умоляю вас, не говорите ничего господам.
Медика совершенно ошеломило услышанное, потому что никак не вязалось с безупречной репутацией Исабель. Помимо того, эта откровенность ставила его самого в весьма деликатное положение. Зная благородный и снисходительный характер дона Херонимо и его супруги, доктор решил, что должен поделиться с ними новостями.
Господа вызвали Исабель в гостиную. Девушка робко вошла; лицо ее было искажено страданием, от стыда она не отрывала от пола покрасневших глаз. С порога она заявила, что вернется в свою деревню, ибо совершила непростительный грех. Исабель ждала бурной реакции, ругани и незамедлительного увольнения. Но она ошибалась. Не последовало ни брани, ни проповедей. В глазах хозяев ей мнился упрек, на деле же они просто не могли прийти в себя от изумления: казалось, кто угодно из слуг был способен так оступиться, только не она. Они сразу поняли, что девушка из-за своей доверчивости и неопытности оказалась жертвой обмана. Дон Херонимо высказался в том ключе, что никто не застрахован от человеческих слабостей, и прохладным тоном прибавил:
– В Галисии подобные… ошибки судят менее строго, чем на моей родине, в Кастилии, где моральные устои более суровы. Так что тебе не придется покидать наш дом. Мы считаем тебя членом семьи и хотим, чтобы ты осталась.
От этих слов Исабель прослезилась.
– Твой сын будет здесь, – подхватила донья Мария-Хосефа, – ты сможешь жить вместе с ним, так что перестань плакать, лучше сходи на исповедь.
– Ах, госпожа, я уже исповедовалась…
– И не таскай дров и иных тяжестей.
Донья Мария-Хосефа, которая к тому времени теряла зрение из-за осложнений после оспы, сейчас думала о том, что не сможет обойтись без привычной умелой помощи Исабель. Помимо того, супруги Ихоса усердно занимались благотворительностью самого различного свойства, от строительства нового госпиталя Милосердия до поддержки нуждающихся семей доброхотными даяниями, согласно рекомендациям приходского священника. По окончании беседы в гостиной госпожа направилась в свои покои, попросив Исабель следовать за ней. В гардеробной она распахнула шкафы и выбрала платье из недавно купленных:
– Возьми, тебе понадобится одежда попросторнее…
Неправда, что «лучше черту служить, чем в служанках ходить», как некогда говаривал Бенито Велес, ее большая любовь. По крайней мере для Исабель все обстояло иначе. В самый трудный момент жизни она находилась в семье, оказавшей ей неоценимую помощь и поддержку. Другие, менее везучие девушки в ее положении кончали свои дни в борделе, а ребенок прямиком отправлялся в приют.
Но, тем не менее, она себя запятнала.
– Ты должна принять честное решение и безупречным поведением искупить свое позорное клеймо, – сказал ей священник после исповеди.
К счастью, слово «клеймо» она не поняла, но вышла из церкви в полной уверенности, что все показывают на нее пальцем. Исабель чувствовала себя отверженной, не заслуживающей права наслаждаться жизнью и была обречена на вечное покаяние, как сказал священник. Как бы она ни старалась скрыть живот под подаренными госпожой платьями, она понимала, что никогда не сможет считать себя добродетельной женщиной. Пора было уже расстаться с мечтой всех юных девиц – найти себе мужа; какой достойный мужчина захочет взять ее в жены, зная, что он не первый?
– Замуж идет – песни поет, а вышла – слезы льет, – подбадривала ее кухарка.
Перспективы у Исабель были самыми что ни на есть унылыми и предсказуемыми. Ее судьба – ухаживать за детьми других людей, питаться объедками с барского стола, жить не своими радостями и горестями, в лучшем случае – носить одежду с чужого плеча; попросту говоря, вести ту самую жизнь взаймы, от которой ее обещал избавить Бенито Велес. Сейчас, когда донья Мария-Хосефа наполовину ослепла, почти не вставала с постели и не имела сил заниматься своими детьми, Исабель проводила с ними все больше времени. Когда они задавали ей вопросы о беременности, она ссылалась на то, что отец ребенка в Америке, а она только и ждет, что он пришлет денег, и вот тогда отправится к нему. Это была ложь во спасение, но она помогала Исабель оберегать свою честь.
В те дни она получила известие, что болезнь ее отца усугубилась. Первым порывом было поехать навестить его, возможно, чтобы сказать последнее прости. Но затем она рассудила, что ей никак нельзя показаться в деревне с эдаким пузом – это обернется сущей пыткой. Она так и представляла себе шушуканье соседей, грубые шутки, расспросы сестер, упреки дона Кайетано, который всегда так благожелательно к ней относился… Чувство, что она подвела всех, кто в нее верил, переносить было тяжелее всего.
В конце концов желание увидеть Хакобо, пусть даже только для того, чтобы поблагодарить его за возможность вырваться из непроглядного мрака деревенской жизни, одержало верх над очевидными неудобствами ее уже заметной беременности. Исабель наступила на горло собственной гордости, попросила небольшой отпуск и приехала в Санта-Маринья-де-Парада весенним днем, когда одновременно шел дождь и светило солнце. Отец в забытьи распростерся на кровати в темной лачуге, окруженный детьми. Казалось, он дожидался только ее приезда, потому что умер той же ночью. На следующий день его похоронили вместе с Игнасией, на месте, отведенном для бедняков по закону. «Покойся с миром, отец…» – шепнула Исабель, бросая горсть земли на могилу.
На прощание священник не удержался и попенял ей за совершенный грех, напоследок добавив:
– Может, и лучше, что Хакобо тебя не успел увидеть.
Затем он сообщил, что рад встрече, и что семейство Ихоса необычайно довольно ее работой, но Исабель его уже не слушала; еще раз поблагодарив падре, она с комом в горле продолжила свой путь. Бестактные слова утешения дона Кайетано ранили девушку до глубины души. Но оказалось, что это был единственный досадный момент за время ее пребывания в деревне, потому что никто из соседей или родственников ничего не сказал; напротив, к ней отнеслись со всей сердечностью и лаской. Люди в Санта-Маринья-де-Парада не отличались нетерпимостью. Положение матери-одиночки не представлялось им безнадежным, даже не считалось серьезной бедой – так, обычная неприятность, как сказала ее сестра. Исабель задержалась еще на одну ночь в доме своего детства. То, что несколько лет назад казалось ей нормой жизни, сейчас поражало до глубины души: соломенный тюфяк для ночлега, кишащие под ногами животные и птицы, грубая домотканая одежда сестры… Она увидела, насколько безропотны и нетребовательны эти люди, с какой стойкостью они переносят физические страдания. Здесь ничего не менялось, изменилась она сама. Исабель уже не принадлежала этому миру. На обратном пути в Ла-Корунью, сидя в дилижансе, она почувствовала, что больше никогда не вернется в свою деревню.
Ровно через четыре месяца, тридцать первого июля 1793 года, Исабель разрешилась от бремени в своей комнате в особняке Ихоса. Стоял жаркий день. Во время родов ей помогали все слуги и, по настоянию дона Херонимо, специально приглашенная акушерка из отделения тайных родов больницы Милосердия, открытой три месяца назад. Ребенок появился на свет в мгновение ока; акушерка перерезала пуповину, и кухарка тут же подхватила его, подняла за ножки в воздух и наградила парой приветственных шлепков, отчего малыш задышал и огласил комнату первым, но далеко не последним ревом. Когда ребенка положили на руки Исабель и она увидела его личико, ей показалось, будто это живой портрет единственного любимого мужчины; от перенесенных мук она разразилась бурными рыданиями.
– Как его назовешь? – спросили у Исабель.
– У моего сына есть отец, – промолвила она. – Пускай его будут звать так же: Бенито Велес.
Остальные слуги дома Ихоса, наблюдавшие страдания Исабель во время беременности, не могли понять этого упрямого стремления увековечить память человека, который ее бросил. Слабая надежда, что однажды он вернется, помогала ей выносить постыдное положение одинокой матери. Кроме того, окрещенный именем отца ребенок получал вполне достойную личность; если бы его нарекли фамилией матери, он бы на всю жизнь был отмечен как дитя греха. Тем самым Исабель как бы сообщала, что ее поступок – следствие не случайной ошибки (что поставило бы ее в ряд доступных женщин), а отказа мужчины выполнить свои обещания, что в некотором смысле было правдой. Да и отказ этот, и бегство отца могли оказаться временными. Лучше прослыть жертвой, чем распутницей.
Когда родился ребенок, выяснилось, что страдания Исабель из-за стыда и ощущения вины, которые угнетали ее в последние месяцы, никуда не исчезли. Какие бы нежные чувства ни пробуждал в ней малыш, Исабель не могла выйти из глубокой меланхолии.
– Это потому, что ребенок не дает тебе выспаться, – заявила кухарка.
Но Исабель потеряла аппетит и волю к жизни; ее одолевали печаль и тревога. С неимоверным усилием она заставляла себя встать с постели.
– У меня ощущение, что должно случиться что-то плохое, – поделилась она с доктором Поссе.
– Ничего не случится, – ответил врач. – То, что с тобой происходит, – весьма частое явление, это послеродовая меланхолия… У тебя болит голова, чувствуешь изнеможение?
– Да, доктор, и узел в животе, который не дает мне дышать.
– Это пройдет само. Но ты не должна лежать в кровати, нужно гулять и пить липовый настой. Угнетенное настроение – это следствие того, что тебе пришлось преодолеть, дитя мое.
Каждый подбадривал Исабель на свой лад:
– Имея сына, можно не бояться одинокой и нищей старости, – говаривала кухарка.
Кризис у Исабель продлился месяц, а потом она с головой окунулась в заботы о ребенке, который стал для нее неиссякаемым источником радости, хотя она и продолжала печалиться, что он растет без отца. Время шло, менялись обстоятельства, окружение всячески выказывало сочувствие и понимание, но в глубине души Исабель так и не свыклась со своим новым положением одинокой матери. Этот внутренний протест вызывал постоянные перепады настроения, с которыми она научилась справляться, с головой уходя в работу, – благо в особняке семейства Ихоса всегда было чем заняться.
«Ты собираешься всю жизнь провести в служанках?» – вопрос, заданный однажды Бенито Велесом, заставил Исабель осознать свое положение; с тех пор он постоянно крутился у нее в голове.
19
Для Бальмиса прожитые в Мехико годы оказались лучшим временем его жизни. Он наслаждался неведомой ранее свободой. Ему нравилось, что его высоко ценят как врача, причем исключительно за профессиональные качества, а не за то, что он принадлежит к тому или иному знатному роду. В Новом Свете он со всем юношеским пылом окунулся в учебу, работу и радости бытия. Благодаря близкому знакомству с вице-королем он легко влился в местное общество, участвовал и в празднествах, и в культурной жизни. Он увлекся театром, который на тот момент служил одним из источников финансирования Королевской больницы для коренного населения – учреждения, оказывавшего помощь индейцам. Поскольку вложений от местных жителей не хватало на содержание больницы, то билеты в театр среди прочего служили финансовым подспорьем.
Всегда находился какой-нибудь аристократ, который приглашал Бальмиса в закрытую ложу, откуда можно было из-за жалюзи, не будучи объектом чужих взглядов, наслаждаться спектаклями в театре «Колизей»: там чередовались постановки испанских классических пьес с одноактными комедиями «сайнете», интермедиями и опереттами в жанре «сарсуэла». Именно в этой ложе как-то после спектакля он познакомился с примой Антоньитой Сан-Мартин, очаровательной и болтливой уроженкой Кадиса.
– Я была замужем за одним негодяем, который так дурно со мной обращался, что я в конце концов подала на развод, – рассказывала она всем, кто был готов слушать. – И знаете, что самое забавное? Суд вице-короля вынес решение в мою пользу, и мужа выгнали из города «по причине того, что он жил за мой счет», как было написано в бумагах.
Люди от души смеялись. Бальмис же пришел в совершенное ошеломление: ему не доводилось встречать женщин с подобным темпераментом.
– Ну а ты?.. – спросила она у Бальмиса. – Мне говорили, что ты способен вылечить от всего. И от сердечных печалей тоже?
Бальмис залился румянцем, заморгал и ответил серьезным тоном:
– Сердце – это орган…
Антоньита покатилась со смеху.
– Орган! Ха-ха-ха! Печальный орган, как это гадко звучит!
Бальмис цепенел перед этой феерической женщиной, которая одним махом обольстила его и, не спрашивая позволения, целовала и теребила, как он рассказывал впоследствии.
Скромному жителю Аликанте был совсем незнаком ни этот тип женщин – одиноких и независимых, – ни эта богемная атмосфера. Под руку с прекрасной Антоньитой Сан-Мартин он ходил на вечеринки и приемы; пока длился их роман, Бальмис ощущал себя самым счастливым человеком на земле. Ему нравилось находиться в центре внимания, это льстило его тщеславию и удовлетворяло его потребность в признании, будь то профессиональном или общественном. На какое-то время они стали парой и снискали широкую известность в светских кругах Мехико. Но она никогда не уступала его сексуальным домогательствам, что Бальмис относил на счет изощренной женской стратегии обольщения. В конце концов однажды он не смог сдерживать свой пыл и попытался взять ее силой, причем в свойственной ему неуклюжей манере.
– Успокойся, малыш! Это ради твоего же блага.
– Что ты этим хочешь сказать?
– А ты как считаешь? Думаешь, мне не хочется… этого?
Бальмис ошарашенно посмотрел на нее; лицо его так сильно задергалось, что Антоньита расхохоталась.
– Ах, что за дрянная у меня жизнь! А ведь я так тебя люблю!
Она обняла Бальмиса и затормошила, словно он был безответной куклой. Затем, понизив голос, зашептала:
– Наверняка после того, что я тебе скажу, ты перестанешь меня любить. Но знай, я всегда буду любить тебя, несмотря на твои заскоки… А их немало.
– Почему ты так говоришь? Я влюблен в тебя, разве я не признавался тебе тысячи раз?
– Матерь Божья!.. Как такой умный человек может быть таким глупцом? Готова поставить все что угодно, что ты меня разлюбишь…
– Давай заключим пари.
– Тогда пару сережек, что мы видели в ювелирной мастерской Ла-Принсеса.
– Договорились. Но ты проиграешь.
– Я выиграю. Хочешь повысить ставку?
– Я так тебя хочу, что готов повышать.
– Ладно, сережек довольно, пусть они будут единственным прощальным подарком. А то ты меня возненавидишь.
– Ладно, скажи, наконец, в чем дело!
– Ну, у меня французская болезнь[22].
Бальмис похолодел. На миг у него пресеклось дыхание.
– Меня наградил ей бывший муж.
Врач несколько раз вытянул шею, словно у него в челюсти сработала пружина, и провел дрожащей рукой по взъерошенной шевелюре. За короткое время он прошел несколько стадий: удивление, разочарование, протест, презрение к бывшему супругу, и наконец, поскольку отличался быстротой ума, принятие. Все совпадало: Антоньита отвергала его ухаживания не из женской хитрости, как он полагал, а по значительно более прозаической причине.
– Почему ты мне раньше не сказала?
– Ага! Вот видишь! Все кончилось. Теперь ты меня возненавидишь. Я же предупреждала… Но я вовсе не собираюсь отказываться от сережек.
– Нет, что ты, я никогда не смогу тебя ненавидеть. Твоего мужа, вот кого стоит ненавидеть. – И затем Бальмис произнес фразу, на которую только он и был способен: – Если ты не можешь стать моей любовницей, ты станешь моей пациенткой.
Антоньита, конечно же, оказалась права. Едва пришлось отказаться от планов затащить девушку в постель, как страсть Бальмиса поутихла. Но они остались добрыми друзьями. Врач прописал ей усиленное лечение препаратами на основе ртути. А однажды вечером ушел пораньше из больницы, чтобы купить подруге те сережки, что они когда-то видели вместе в ювелирной мастерской Ла-Принсеса.
Наш уроженец Аликанте не стал отчаиваться и продолжил свои галантные похождения, обычно в среде комедиантов, ибо в этих кругах он чувствовал себя наиболее раскрепощенно. Ему были не по душе дамы из высшего общества, которые никогда не ходили по улицам в одиночестве, если только не направлялись в церковь. Одержимые желанием иметь миниатюрные ступни – эта мода пришла из Китая с манильскими галеонами[23], – дамы передвигались в экипажах, возлежа на подушках и приветствуя знакомых издалека.
Бальмис же любил гулять пешком, под руку с Марией Плотничихой или Анитой Керетанкой[24] – эти две его любовные связи, сколь бурные, столь и недолговечные, принесли ему славу ловеласа, что совершенно не вязалось с его характером. Но от кого он действительно потерял голову, так это от актрисы Барбары Ордоньес, прекрасной и обольстительной, веселой и ласковой. Ее хрустальный смех, бархатный взгляд, полет рук… Прелесть этой актрисы заставляла нестись вскачь его воображение. Но он не понимал, как такая умная и красивая женщина может жить без мужа. После авантюры с Антоньитой он стал недоверчив и подозревал, что здесь кроется какой-то подвох. Он и не догадывался, что подвох крылся в его собственной жизни.
– Я хотел бы состариться рядом с тобой, – от полноты чувств говорил ей Бальмис.
Барбара мечтала, что однажды он попросит ее руки, ибо она всеми силами стремилась вырваться из среды комедиантов. Их жизнь представлялась вовсе не сладкой; они напрямую зависели от воли очередного вице-короля, в чьих руках была сосредоточена вся власть над актерской братией. Церковь же, со своей стороны, уже давно обрекла их на вечные муки. Бальмис мог дать Барбаре Ордоньес шанс превратиться в супругу прославленного врача, тем самым обеспечивая ей пропуск в респектабельную жизнь. Но предложение руки и сердца все не поступало:
– Наши отношения – это иллюзия, – заявила она однажды, – нет смысла продолжать.
Бальмис отпрянул.
– Как это? – пробормотал он с потерянным видом.
– Знаешь почему? Ты так страстно влюблен в свою работу, как никогда не полюбишь меня.
– Нет, неправда…
– Правда. А если нет, то докажи серьезность своих намерений. Я не могу больше ждать.
Бальмис не мог признаться в том, что не может жениться: в этом случае ему грозило окончить дни на костре Инквизиции за двоеженство. Никому в Мексике не было известно, что в Испании у него остались жена и сын. Он отчаянно старался сохранить их связь, но Барбара решительно положила конец безнадежным отношениям.
Измученный безуспешными попытками вернуть возлюбленную, с разбитым сердцем Бальмис целиком ушел в работу. Потребность занять ум была столь велика, что он поступил в Университет Мехико и получил степень бакалавра изящных искусств. Это был его способ преодолевать муки неразделенной любви.
В день рождения монарха Испании Бальмис был приглашен во дворец вице-короля на открытие нового великолепного тронного зала. Его повозка, запряженная жалкой лошаденкой, составляла разительный контраст с роскошными каретами и богато украшенной сбруей породистых коней аристократов. Другие придворные прибывали в портшезах, которые тащили черные рабы или одетые в ливреи слуги. Бальмис, много общавшийся с индейцами и разнообразными представителями низов, знал, что вице-король Бернардо де Гальвес за короткое время приобрел популярность у простого народа. Чтобы справиться с голодом, следствием затянувшейся засухи, он на собственные и взятые в долг деньги закупил кукурузу и бобы и распределил их среди бедноты. Потом он затеял строительство целого ряда общественных зданий, чтобы дать людям работу, а после переключился на сельское хозяйство: занялся модернизацией полевых работ, чтобы увеличить урожай и покончить с нищетой. На публике Гальвес обычно появлялся в открытой коляске, запряженной парой коней, которой зачастую управлял самолично, и с огромным удовольствием посещал корриды, ярмарки и народные празднества, где его всегда встречали аплодисментами и радостными криками. Население Новой Испании было так довольно своим вице-королем, что даже сам министр Флоридабланка[25] удостоил его похвалы из Мадрида. Но подобная популярность имела и обратную сторону: Бальмис знал, что зажиточные слои американских испанцев косо смотрят на его толерантную политику по отношению к индейцам. Было нечто революционное во взглядах Бернардо де Гальвеса, и это не могло не вызывать у многих озабоченности.
В дворцовом зале в роскошном обрамлении из драгоценного алого дамаска, расшитого золотом, сиял портрет Карла IV. Десять дюжин кресел из благородного дерева ожидали высоких гостей; прибывающие по очереди склонялись перед вице-королем.
– Ваша милость… – начал было Бальмис.
– Не кланяйтесь, – промолвил Гальвес, – если здесь кто-то и должен склонить голову, то это я сам. Я искренне рад вас видеть.
Приобняв Бальмиса за плечи, вице-король представлял его придворным и знати.
– Нам повезло, что здесь, в Новой Испании, работает один из лучших врачей в мире, – говорил он.
Бальмис упивался славой. Единственное, что его заботило, – это разыгравшийся от всплеска эмоций тик.
– Хочу познакомить вас с ученым и исследователем Мартином де Сессе, он здесь проездом: возглавляет снаряженную королем экспедицию по составлению полного каталога растений, птиц и рыб Новой Испании.
Сессе, как и Бальмис, в прошлом военный врач, оставил занятия медициной и полностью посвятил себя ботанике; он организовал кафедру в Университете Мехико. Эта случайная встреча еще больше подстегнула научную любознательность Бальмиса, который к тому времени начал интересоваться ботаникой серьезнейшим образом: по его убеждению, именно в растениях лежал ключ к исцелению от болезней.
Через год после прибытия Бальмиса в Мехико арихиепископ Нуньес де Аро вновь призвал его к себе. Он собирался объединить больницу Сан-Андрес с Военным госпиталем Амор-де-Диос, который в основном специализировался на лечении от «галльского недуга», иными словами, сифилиса.
– Я предлагаю вам, доктор Бальмис, возглавить отделение венерических болезней после слияния этих лечебниц; конечно, вы продолжите и свою работу в качестве хирурга.
Как и все военные медики, Бальмис имел за плечами опыт лечения венерических заболеваний. Предлагаемое повышение, без сомнений, еще больше нагрузит его работой, но вместе с тем даст возможность экспериментировать и испытывать различные новые способы терапии: самый распространенный на то время метод, основанный на применении ртути, давал слишком высокую смертность в среднесрочной перспективе.
– Я принимаю это щедрое предложение, Ваше Высокопреосвященство.
Затем прелат добавил:
– Хочу сообщить вам: я обратился к королю с ходатайством, чтобы вы получили звание главного хирурга новой больницы.
Бальмис поежился от удовольствия. Какое глубокое наслаждение – видеть, как сбываются твои мечты! Это с лихвой компенсировало все бубоны, фистулы и язвы, шанкры и гуммы, кондиломы и папулы, которые ему придется обрабатывать ртутными мазями сомнительной эффективности. Главный хирург! Тем же вечером он написал своей семье и сообщил грандиозную новость.
20
Теперь, когда сын подрос, а господские дети стали совсем большими и требовали меньше внимания, Исабель все чаще мечтала о независимости. Она в конце концов смирилась с тем, что, вероятно, никогда не найдет себе мужа, способного обеспечить ей с сыном достойное существование, но с завистью смотрела на женщин, которые работали в мастерских и на фабриках зарождающейся промышленности Ла-Коруньи и после рабочего дня возвращались по домам. Разве не может она стать одной из полутора тысяч ткачих, чьи ловкие танцующие пальцы создают на ткацких станках новой фабрики изысканные роскошные ткани для сервировки? Потом эти скатерти отправляются и к королевскому двору, и к богатым американским аристократам. Или же поискать работу на канатной фабрике одного из друзей дона Херонимо, а еще лучше поступить в шляпное ателье француза Баррие д’Абади, одно из самых процветающих заведений города? Хотя и в этом случае ей не удастся вырваться из бедности, все же это будет значительный прогресс по сравнению с нынешним положением служанки. В то время в городе начинались робкие шаги по улучшению работы мануфактур, и дон Херонимо, не желая оставаться в стороне от новшеств, открыл первую фабрику ситцев – хлопковых тканей с рисунком. Узнав об этом, Исабель отважилась попросить у него работы. Ответ был короткий:
– Это не для тебя.
«Я обречена всю жизнь провести в служанках», – так поняла его слова девушка, но дон Херонимо тут же продолжил:
– У меня на уме другое.
Вскоре после того дон Херонимо закрыл фабрику, так как на новую ткань не нашлось большого спроса. Для него эта потеря прошла почти незаметно; основные его доходы были связаны с торговлей колониальными товарами, которые перевозились судами его собственного парусного флота, и тут, в буквальном смысле слова, ему всегда дул попутный ветер. Когда негоциант понял, что обеспечил безбедную жизнь нескольким поколениям потомков, погоня за прибылью перестала служить путеводной звездой его жизни. Перенесенная супругой оспа едва не сломила его; будучи человеком верующим и уже немолодым, дон Херонимо озаботился тем, что ждет его за порогом вечности. В своем стремлении служить Богу и человечеству часть времени он посвятил управлению делами больницы Милосердия, первого общественного госпиталя в городе. Эта больница – плод вдохновенных усилий почитаемой в Ла-Корунье Терезы Эррера, которая оставила неизгладимый след в истории города, но умерла, не дождавшись воплощения своей мечты. Приняв обет безбрачия, она отличалась такой набожностью, что на коленях проползала расстояние от своего дома до церкви Святого Николаса, чтобы освободиться от терзающих ее тело демонов. Всю жизнь она помогала больным женщинам, не способным себя обеспечить, и превратила свое жилище в лазарет – люди называли его «божьей больничкой». Получив наследство от матери, Тереза целиком пожертвовала его Конгрегации Богоматери Всех Скорбящих (дон Херонимо входил в ее правление), чтобы построить больницу, цель всей ее жизни. В день, когда заложили первый камень будущего госпиталя, Тереза не смогла подписать акт пожертвования, поскольку была неграмотна.
В ту пору по всей Испании строились больницы, приюты для подкидышей и знаменитые дома Галера – пристанище для публичных женщин, которое также служило тюрьмой для наказания замужних женщин по ходатайству их супругов; объяснялось это стремлением правительства Карла IV укрепить значимость богоугодных деяний в противовес пагубному влиянию французских революционных идей. Помимо того, огромное количество калек, нищих, умалишенных, беспризорных детей и проституток на городских улицах входило в противоречие с гуманистическими ценностями эпохи Просвещения. Отчасти стремительное обнищание людей являлось следствием бесконечных военных конфликтов того времени. Город был укреплен – в нем соорудили бастионы, равелины, пороховые погреба, рвы и батареи для защиты входа в порт. Но для размещения такого количества солдат казарм не хватало и многие устраивались на постой в дома горожан. Эта скученность, а также постоянный приток деревенских жителей стали благодатной почвой для «роста числа женщин, предающихся безделью и самой бесчестной проституции», как писал в 1793 году уполномоченный член магистрата. Это привело к резкому увеличению количества абортов и незаконнорожденных детей, практически не имевших шансов на выживание. Детей бросали, живыми или мертвыми, на ступеньках домов, в мусорных ящиках, в нишах, в полях под стогом сена, их оставляли в неурочные часы прямо посреди улиц, а некоторых находили наполовину обглоданными зверьем. Дабы избежать такого числа детоубийств, при больнице Милосердия открыли отделение тайных родов: там гарантировали анонимность роженицы и не брали тех, кто успел прилюдно обнаружить свою беременность. «Богоугодная идея, достойная всяческого восхищения», как сказал дон Херонимо.
Убедившись в умелости и ловкости Исабель в уходе за больными и, прежде всего, в ее сдержанности и скромности, дон Херонимо попросил девушку работать помощницей акушерки; в больнице едва справлялись с количеством женщин, жаждущих попасть в отделение тайных родов. Все они приходили, закрыв лицо, чтобы никто не смог узнать их. Персоналу больницы запрещалось задавать какие-либо вопросы об их жизни. Правила защиты личности были столь строгими, что в случае смерти роженицы тело выносили только глубокой ночью. Исабель приняла предложение. Ей нужно было покончить с работой служанки, вырваться из золоченой клетки, пусть даже в этот закрытый, отрезанный от всех мир.
Отделение тайных родов было разделено на несколько помещений: одни – для бедных, попроще, где на стенах проступали пятна сырости, другие – почище, для тех, кто в состоянии оплачивать расходы. Внутрь имели право заходить только капеллан, надзирательница, акушерка и Исабель. Большинство женщин ходили нечесаными, в лохмотьях, другие были прилично одеты, но всех их объединяло выражение глухого отчаяния в глазах. Женщины почти не разговаривали, то ли из-за духоты, то ли из-за тоски; кто-то молился, другие пытались привести волосы в порядок, третьи давали ребенку грудь, прекрасно зная, что малыша придется отдать, как только найдется кормилица. Устав был строгим, капеллан вручал ребенка кормилице сразу же после крещения. Если впоследствии какая-нибудь мать, в силу изменившихся обстоятельств, хотела забрать его, можно было подать ходатайство. Но большинство рожениц находилось здесь анонимно; у этих женщин почти не было шансов оставить ребенка при себе, и в этом случае он попадал в приют или на усыновление. Исабель видела себя в этих заблудших женщинах и не уставала благодарить Бога – и Игнасию – за то великое счастье, что на ее пути встретились супруги Ихоса. Может, кто-то из этих страдалиц и согрешил из сластолюбия, но все же большая часть была обманута, как и она сама; другие же пали жертвой насилия, как некая племянница епископа – совсем молоденькая девушка с ангельской улыбкой, похожая на раненую птичку, которая как мантру твердила одну и ту же неразборчивую фразу. Сколько страданий скрывалось за этими стенами… Однако само существование подобного заведения для заботы об одиноких матерях, без сомнения, могло считаться шагом вперед, предвестником новых времен.
Вскоре Исабель стала незаменима в работе отделения тайных родов; за эти годы она обучилась всему, что акушерка должна знать о рождении ребенка и первом уходе за ним, и, помимо того, проявила недюжинные организаторские таланты. Приходилось заниматься всем – убирать, мыть, покупать полотно на пеленки и подгузники, мыло, пуговицы… а потом тщательно заносить расходы в бухгалтерские книги, которые регулярно и досконально проверяли попечители из Конгрегации Богоматери Всех Скорбящих. Все записывалось, от самой ничтожной траты до полученных пожертвований, будь то деньги, одежда или драгоценности, причем с указанием даты и описанием качества и состояния каждого предмета. Контроль за распределением поступлений и отчетами о расходах составлял главную заботу Конгрегации.
21
Однажды в ноябре Бальмиса тайно позвали в епископский дворец городка Такубайя на Мексиканском нагорье и попросили произвести осмотр заболевшего. Дворец окружали великолепные фруктовые сады и оливковые рощи. Не называя имени пациента, монахи провели Бальмиса по длинным коридорам в альков, где находился больной. В постели лежал вице-король – небритый, зеленовато-бледный, с явными признаками нездоровья. Некогда любезный и остроумный, сейчас Бернардо де Гальвес пребывал в унынии. Бальмис опустился на колени, чтобы приветствовать его.
– Не надо… Встаньте, прошу вас.
Врач присел на край постели.
– Я попросил позвать вас, потому что один раз вы уже спасли мне жизнь, кто знает, может, у вас и во второй раз получится.
– Мы попытаемся. Где у вас болит?
– У меня болит душа.
– Позвольте осмотреть вас.
Пока Бальмис доставал инструменты и ощупывал шею больного, тот продолжал:
– Я сейчас вам скажу нечто, что может пригодиться на будущее… Худшие наши враги – это не французы и не англичане, это не те, кого встречаешь на полях сражений, а внутренние враги… мы их не замечаем, хотя они все время вокруг нас… они кланяются тебе, а затем вонзают нож в спину.
– О ком вы говорите, сеньор?
– Об американских аристократах, о королевских чиновниках. О всех тех, кто упрекал меня за то, что я направляю деньги на помощь голодающим, на улучшение условий жизни и гигиены в предместьях, чтобы побороть эпидемии. Мое решение направить на благотворительные цели существенную часть доходов от Королевской лотереи и штрафов пришлось им не по вкусу.
– Мне доподлинно известно, что люди вам благодарны и за оборудование уличного освещения, и за строительство Чапультепекского дворца[26].
– Об этом они молчат… Был подан протест в Верховный суд; там мою деятельность сочли не соответствующей чину правителя.
– Но ведь правитель должен заботиться о благе народа, разве не так?
– По идее, так… Дело в том, что они заявляют, будто моя популярность весьма подозрительна, обвиняют меня в интригах – якобы я пристраивал своих родственников и знакомых на хлебные места, – и в намерении захватить власть в вице-королевстве и отделиться от Испании. В Мадриде этому поверили, и меня считают теперь изменником родины.
Двор, еще несколько месяцев назад превозносивший его до небес, теперь порицал его столь сурово, что от Гальвеса осталась одна лишь печальная тень. Бальмису было ясно, что подавленность и ощущение несправедливости происходящего ускорили течение болезни. Вице-король никак не мог осознать, что его травят с подобной жестокостью и обвиняют в вероломстве лишь за то, что он стремился облегчить жизнь беднейшим слоям населения. Его, человека, который возглавил одно из самых героических деяний всей военной истории Испании – в одиночку вошел на своей бригантине в бухту Пенсаколы и одержал победу над англичанами, за что король даровал ему на герб девиз «Я сам». Он вел успешную политику и способствовал обретению независимости Соединенными Штатами; его имя носит город в Техасе и бухта в Мексиканском заливе. Он стоял по правую руку от Джорджа Вашингтона на первом параде в честь победы четвертого июля 1783 года. А сейчас героя лишили славы, так как сменились политические приоритеты. Король Испании уже не был расположен оказывать всемерную поддержку республиканцам Севера, ибо идеи независимости могли перекинуться и на испанскую Америку.
– Разве все эти шрамы, – промолвил Гальвес, – не являются доказательством моего патриотизма?
Бальмис бросил взгляд на рубец от раны на ноге, которую он сам же прижигал, и в памяти всплыли события битвы в Алжире. Его охватила еле сдерживаемая ярость. Такой правитель, как вице-король, с величайшим рвением откликавшийся на нужды народа, не заслуживал подобного унижения. Что-то явно неправильно устроено в империи, где облегчение страданий народа приравнивается к предательству. Для Бальмиса было очевидно, что вице-король угасает от нервного заболевания, вызванного унынием и упадком духа.
– Я скоро умру, – помолчав, произнес Гальвес.
Бальмис взглянул на него:
– Мы все когда-нибудь умрем. – А потом продолжил: – Возможно, не так быстро, как вы полагаете. Я сделаю вам кровопускание и пропишу лекарства на основе полыни, лаванды и цветков мака. Советую пить побольше виноградного сока, исключить мясо и соленья, не есть ничего возбуждающего. И прохладные ванны.
Это стало их последней встречей. Через несколько дней вице-король испустил последний вздох в той же самой спальне. Ему исполнилось сорок. Он был похоронен рядом со своим отцом в церкви Сан-Фернандо, в Мехико. Бальмис присутствовал на погребении. Именно там зародились слухи, что вице-короля отравили. Но врач знал, что Гальвес умер от горя, став жертвой зависти и страха, вызванных его собственной славой.
Бальмис остался без покровителя, но не без покровительства: архиепископ Нуньес де Аро был назначен временно исполняющим обязанности вице-короля, пока из Испании не прибудет новый правитель.
Бальмис получил статус резервиста, с окладом в сто пятьдесят реалов в месяц. В последующие годы его авторитет и клиентура постоянно росли. Врачебная слава и влиятельные пациенты открывали перед ним любые двери. Со всех концов страны к нему тянулись знахари, чтобы предложить новые лекарства: все уже знали, что Бальмис интересуется целебными свойствами растений. Однажды появился посетитель из Пацкуаро, из епископата Мичоакан; он назвался испанским именем Николас де Виана, по прозвищу Блаженный. Посетитель был высок, медно-красную кожу бороздили глубокие морщины, седые волосы разметались по плечам; на шее красовалось ожерелье из птичьих перьев. Босой, он был одет в длинную рубаху и кожаную, грубой выделки, куртку, с которой свисало множество амулетов. В Испании его бы приняли либо за бродягу, либо за юродивого. Ни один уважающий себя врач не стал бы тратить на подобного типа ни капли своего времени. И Бальмис не принял бы его, если бы тот не представил рекомендательное письмо от Медицинского совета госпиталя Мичоакана.
– Слушайте, доктор, у меня есть средство, которое помогает от сифилиса.
Бальмис навострил уши: именно этой теме он посвятил больше всего времени.
– И что это за лекарство, добрый человек? На основе чего?
– Мне о нем рассказала одна индианка, которая вылечила двадцать семь больных… И знаете ли, доктор: без ртути!
– Вот как?
Бальмис поднял брови. Это звучало слишком заманчиво, чтобы быть правдой.
– Я истоптал ноги в кровь, чтобы добраться до вас. Мне бы хотелось, чтобы мой труд признали здесь, в столице; умоляю вас отправиться со мной и самолично убедиться в результатах лечения.
– А каков состав лекарства? – поинтересовался Бальмис.
– Отвар голубой агавы, три унции ее же корня, две унции мяса гадюки и одна унция дамасской розы. Смотрите: ставим все кипятиться, пока объем не выпарится наполовину, затем процеживаем через ткань и даем больному, чтобы он как следует пропотел…
– Это называется потогонный отвар, – уточнил Бальмис.
– Что вы сказали?
– Ничего, ничего, давайте дальше.
– Затем делаю другое снадобье: смешиваю анис и истолченную в порошок бегонию, и знаете, куда это вводим? – Бальмис помотал головой, и знахарь продолжил: – Прямо в зад!
– Хотите сказать, это клизма?
– Да называйте как хотите…
Бальмис отправился в Пацкуаро и обследовал пациентов; и в самом деле, у них не наблюдалось ни язв, ни прочих признаков болезни. Переговорив с другими врачами, он получил заверения в том, что этот метод действует независимо от пола, возраста и дозировки. Бальмис воодушевился, убежденный в том, что его отделяет лишь шаг от открытия панацеи от злостного недуга. «Представляете, что я вот-вот могу найти лекарство сколь безвредное для организма, столь и действенное? – писал он отцу. – Это стало бы апогеем всей моей борьбы против пагубной язвы, начиная с Гибралтарской кампании. Да, отец, я верю, что стою на пороге великого открытия, которое избавит человечество от многих страданий, а мне принесет заслуженную славу…»
В течение трех месяцев Бальмис занимался испытаниями нового средства. В нем проснулся научный дух: хотелось отделить то, что он считал чистой воды предрассудком и суеверием, от того, что он полагал плодом древнего знания.
– Хочу попробовать убрать из состава мясо гадюки, – сообщил он Николасу де Виана.
– Но ведь именно змеиная плоть убивает злых духов, которые вызывают болезнь! Без нее лекарство не подействует.
– Вот и узнаем.
– Вы, медики, ни во что не верите… А если вы увидите, как я могу вылечить больного взглядом или наложением рук?
Бальмис закашлялся и нервно заморгал. Конфликт между научным подходом и вековой мудростью, между гуманистом Бальмисом с его рационалистическим складом ума и необразованным знахарем с его вполне действенными лекарствами и приемами окончательно назрел. Виана продолжал:
– Надо мне познакомить вас с доньей Пачитой: она садится перед своим маленьким алтарем, медитирует, потом у нее начинается шум в ушах, она входит в транс и делает хирургические операции. Есть целители, которые едва взглянув на человека, сразу понимают, чем он болен.
– Я как врач тоже обычно сразу знаю, болен мой пациент или нет, как только он переступает порог моего кабинета. В этом мы сходимся.
– Может, вы и понимаете, что человеку нездоровится, но не верите, что его можно вылечить взглядом или руками.
– Уж это точно нет.
– Ну так вот, лично я могу лечить взглядом. Дело в том, что вы всегда верите лишь в ту правду, которую видите собственными глазами и можете пощупать… Но вот что я вам скажу, доктор: ваш Бог, как вы говорите, присутствует повсюду, однако вы его хоть раз видели? Смогли его коснуться?
Бальмис не очень понимал, как на это ответить. Знахарь затронул очень деликатный момент, тот узел, где религия соединяется с наукой. Бальмис верил в Бога, но на свой лад, полагая это необходимостью, дабы найти объяснение великой тайне жизни.
– Я верю в единого Бога, друг Виана, но не в сонм духов или магию.
– Тогда у вас это лекарство не сработает… оно дает результаты уже многие тысячи лет… А вы хотите его изменить? Вам известно больше того, что подтверждает тысячелетний опыт?
В подобных разговорах с Вианой Бальмис, выступая в роли ученика колдуна, невольно обнаруживал свойственную ему самонадеянность. Знахарь открыл ему секреты агавы для лечения от сифилиса, а Бальмис, приняв «подарок», начал менять его по своему усмотрению. С точки зрения простого человека, коим, собственно, и являлся Виана, это выглядело как проявление неуважения. Знахарь чуял, что, внося свои исправления, Бальмис старается присвоить себе лавры первооткрывателя (в этом он не ошибся). По мнению Вианы, гуманисту Бальмису недоставало человеколюбия, зато тщеславие его било через край.
– Я хочу лишь применить научный подход к средству, которое, как мы знаем, вполне успешно действует, – ответил Бальмис.
– Если мы и так знаем, что оно действует, к чему приплетать науку? Не стоит менять то, что даровал Господь…
– Мне хотелось бы упростить процесс применения и всесторонне изучить терапевтический эффект полученного лекарства.
– Что вы имеете в виду?
Бальмис пребывал в убеждении, что держит в руках ключ к открытию средства, способного раз и навсегда покончить с галльским недугом, и всеобъемлющая польза, которую человечество извлечет из этой находки, не может быть обусловлена подчинением каким-то непонятным для него верованиям. Так что он распростился с шаманом и начал работать самостоятельно, действуя методом проб и ошибок. В конечном итоге он остановился на потогонном снадобье на основе корня магея, или американской агавы, и пульке[27], и пришел к выводу, что оно более эффективно. Для слабительного он использовал только бегонию – растение, найденное Мартином де Сессе в Пацкуаро. Бальмис назвал этот вид Begonia syphilitica благодаря его славе в регионе Мичоакан. Все остальные компоненты Бальмис отринул. «Результаты моих трудов, – писал он отцу, – более чем обнадеживающие. Триста двадцать три пациента обоих полов – среди них старики, беременные женщины и дети, зараженные в материнской утробе или в период кормления грудью, – излечились, не страдая от пагубных последствий применения ртути. Королевская квалификационная комиссия больницы Сан-Андрес в Мехико дала положительную оценку моему методу, сочтя его простым в использовании, дешевым, надежным и быстродействующим для излечения венерического недуга. Отец, признаюсь, я испытываю невыразимое удовлетворение…»
Воодушевленный открытием, Алонсо Нунье де Аро обязал всех медиков вице-королевства применять этот метод в своей работе. По его мнению, весь мир должен был воспользоваться столь славными плодами медицинского прогресса.
– Я хочу, чтобы вы представили свое открытие в Испании, – заявил он Бальмису.
Врач чувствовал себя польщенным. Возвращение в Мадрид с панацеей от венерических болезней, да еще и с поручительством вице-короля и епископа Новой Испании, вселяло надежды.
– Я мог бы продолжать опыты и наблюдения при дворе в Мадриде.
– Да, Бальмис, только в вашей власти добиться того, чтобы магей пополнил собой ряд растений, изменивших европейскую фармакопею два века назад.
– Вы имеете в виду сарсапарель?
Да, а также гваяковое дерево и ялапу[28].
– Ваше Высокопреосвященство, благодарю вас за оказанное доверие.
– Это я должен благодарить. Меня всегда поражали точность ваших наблюдений и преданность профессии.
Бальмис написал отцу, чтобы поделиться радостью скорого возвращения домой, но ответа не получил. Собственно, как и на все свои последние письма. Одно лишь предположение, что отец заболел или – даже думать об этом не хотелось – умер, заставляло Бальмиса спешить с отъездом.
Когда доктор пришел проститься со своим покровителем, его охватила грусть. Суждено ли им увидеться снова?
– На свете не так много служителей Господа, столь открытых для новых веяний.
Бальмис произнес эти слова, преклонив колени и целуя массивное золотое кольцо на руке прелата.
– Церковь не может стоять в стороне от людских нужд, – ответил на это Нуньес де Аро.
22
К тому времени Бальмис уже одиннадцать лет жил вдали от Испании. Он полюбил контрасты и пейзажи Мексики, ее кухню и обычаи, терпимость и исполненную достоинства вежливость ее жителей. Он чувствовал, что здесь его уважают и любят. Но стремление к славе перевешивало все прочие резоны. Возвращение на родину с открытием подобного масштаба вознесло бы его на вершину медицинского олимпа. Появился и еще один повод для поездки в Испанию: его жена Хосефа обратилась за вспомоществованием к королю, поскольку сама осталась без средств. Король тщательно изучил все материалы касательно добропорядочного образа жизни просительницы и отдал официальное распоряжение, отправленное вице-королю Новой Испании. Бальмису, согласно этому указу, предписывалось содержать супругу в соответствии с собственными возможностями. Для него этот указ стал подтверждением того, что его отец, до того опекавший Хосефу и помогавший ей, покинул этот мир. Бальмис тут же откликнулся и начал каждый месяц посылать супруге определенную сумму.
Доктор покинул Новую Испанию, везя с собой сто арроб[29] магея и тридцать арроб бегонии, собственноручно собранных в окрестностях Пацкуаро, где росли лучшие экземпляры растений. Прибыв в Кадис, он отправил свой драгоценный багаж в Мадрид, а сам поехал в Аликанте.
– Мама?
Ответом ему было лишь эхо. Безмолвный полумрак окутывал дом, некогда полный веселых голосов.
– Франсиско!..
Мать говорила еле слышным голосом. Со слезами Бальмис обнял ее.
– А отец?
Хотя он уже предчувствовал ответ, сердце его болезненно сжалось.
– На небесах, сынок, на небесах.
Перед глазами Бальмиса промелькнуло все его детство, сонм проникнутых нежностью счастливых моментов, проведенных в этом доме, где вечно толпились дети, родня, пациенты и друзья, в памяти всплыли минуты столь драгоценного времени общения с отцом… Как далеко в прошлое канули дни, когда он не ведал одиночества! Сейчас сестры вышли замуж, а Хосефа с сыном переехали и устроились самостоятельно. Мать осталась наедине со своими воспоминаниями.
– Давай сходим на кладбище, положим цветы на его могилу, а потом я отведу тебя к жене и сыну.
Шли они медленно, сказывался преклонный возраст матери. Постояв у могилы отца, они направились к дому Хосефы. Дверь открыла женщина, которую Бальмис не сразу узнал: увядшее лицо, седые волосы – она выглядела намного старше своих лет.
– Мне жаль, что я причинила тебе неудобства, когда попросила помощи у короля, но у нас даже на еду денег не было, – призналась жена.
– Стояла ужасная засуха, начался голод. – добавила мать.
Вскоре появился сын. Он пришел из дома своего дяди, зубного врача-хирурга, у которого служил подмастерьем. Мальчику исполнилось шестнадцать, и он с опаской смотрел на Бальмиса: чего ожидать от этого новоявленного отца, знаменитого медика? Ведь он так давно покинул их с матерью.
– Ты тоже хочешь стать хирургом? – поинтересовался Бальмис.
– Нет, я не хочу быть, как вы.
– Мигель, так нельзя говорить, – попеняла ему Хосефа.
Чего еще мог ждать Бальмис после столь долгого отсутствия? Что сын встретит его с распростертыми объятиями? Мальчик явно чувствовал обиду, он едва спрашивал о жизни отца в Америке и его работе, из чего Бальмис сделал вывод, что не вызывает у сына ни малейшего интереса. А как могло быть иначе?
– Мальчик тебя совсем не знает, – попыталась объяснить Хосефа.
Бальмиса охватило чувство вины, когда он сравнил свои отношения с отцом и нынешние отношения с сыном, если вообще их можно было назвать этим словом.
– Ученые занятия и работа требуют такого количества времени, что его уже не остается на личные привязанности, – промолвил он извиняющимся тоном.
Бальмис всегда находил оправдания.
– Ты выбрал для себя жизнь не ради семьи, – с пониманием поддержала его мать, – а ради всего человечества.
И Бальмис рассказал ей о привезенном из Мексики революционном лекарстве и о том, как срочно ему нужно ехать в Мадрид, чтобы представить его кругу влиятельных лиц.
– Мама, я стою на пороге славы.
– Ты всегда об этом мечтал, сынок. У каждого человека своя судьба, я все время твержу об этом Хосефе, чтобы она не слишком страдала в своем одиночестве.
Но Бальмис молчал; он не испытывал сочувствия ни к Хосефе, ни даже к собственному сыну. Его жизнь проходила в мире, не вмещавшем понятий любви и привязанности.
Весной Бальмис обосновался в Мадриде в доме двадцать шесть по улице Монтера. Он возобновил свои эксперименты в больнице Сан-Хуан-де-Диос, под надзором Квалификационной комиссии. Почти сразу же стало ясно, что здешняя обстановка разительно отличается от непринужденной атмосферы госпиталя Сан-Андрес, куда любой индеец мог заявиться с лечебными растениями и встретить серьезный прием и где врача не распинали за допущенную ошибку. Это был Мадрид, столица империи; здесь царили диктат властей и коррупция, все ветшало и приходило в упадок – все, кроме предрассудков, высокомерия и зависти.
Бальмис, пытавшийся акклиматизировать привезенные магей и бегонию в новом Ботаническом саду, столкнулся со скептическим и откровенно враждебным отношением со стороны докторов из Квалификационной комиссии: еще до начала экспериментов они поставили под сомнение лечебные свойства этих растений. Ход их мыслей можно было обобщить одним вопросом: разве способен хирург, прибывший из Америки, научить чему-то новому столичных медиков? Бальмису пришлось принять горькую истину: даже блестящий послужной список не гарантирует уважения коллег.
В то время как Бальмис уже считал, что вот-вот достигнет вершин профессионального успеха, он внезапно оказался повергнут в пучину непонимания. Враждебно настроенные к нововведениям врачи смешали с грязью его открытие, продолжая упрямо настаивать на том, что единственно возможным средством для лечения галльской болезни остается ртуть.