Читать онлайн 1916. Волчий кош бесплатно
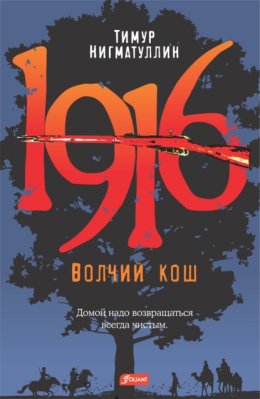
© Т. Нигматуллин, 2023
© ТОО «Издательство «Фолиант», 2023
Пролог
Сразу за густыми зарослями камыша на правом берегу Ишима лежал степной город. Осевшая за ночь пыль густо покрыла улицы и переулки серым налетом, и от этого город казался суфийским дервишем, свернувшимся в клубок под своим шерстяным плащом. Утром, когда грохот первых торговых повозок раздастся на базарной площади и зычный голос Махмута-муэдзина позовет на азан, дервиш проснется и в безумной пляске раскроет свой плащ. Закружатся в диком хороводе миллионы поднятых в небо пылинок, чтоб повиснуть над городом ржавой, глухой и душной пеленой.
Но пока тихо, дервиш спит. Спят, словно слепые разномастные кутята, сбившиеся у сиськи матери, и городские кварталы. Все как один, растянулись они по правому берегу реки, рядами выходя к Северному выгону.
Вот рыжая, как стог соломы, Рабочая слобода. Дома здесь, втыкаясь низкими саманными стенами в пологий бок Шубинской сопки, перекидывают плетеные огороды на репейные заросли бурьяна и плеши, идущие до Грязного булака[1]. От самана – глины, мазанной с камышом, – и цвет слободы: цвет выгоревшей под солнцем степи. До старой крепости застроилась слобода, подпирая будто специально подготовленными для поджога скирдами центральную, купеческую, часть города.
Если жухлая и худая слобода еле-еле дотягивается до сиськи, то развалившийся кудрявый увалень – Купеческий квартал – сполна получает свое. Тут и храм, и базарная площадь, и каменные и кирпичные дома в два этажа, и даже мостовая с фонарями и лавками имеется. Вдоль мостовой – женское училище, а при нем не так давно театральную труппу организовали, по воскресеньям спектакли показывают. В самом центре квартала – городская управа из красного кирпича. Вокруг управы ровными застройками стоят бакалеи, банки, питейные заведения, гостиницы да обменные по пушнине и шкурам. За ними, в сторону речки, мощными, на века вколоченными в степную землю фундаментами усажены купеческие особняки, а в самом их центре – кубринская усадьба с флигелем и садом, построенная на английский манер.
За Купеческим кварталом – Татарский городок. Дома тут двой ные, спаренные, с резными деревянными ставнями и наглухо закрытыми передними воротами. Низ домов – каменный, второй этаж – бревенчатый. Здесь на краску не скупились: одна улица – словно жар-птица крыльями машет, другая – как ящерица африканская переливается, и только третья, где дома вокруг мечети стоят, поспокойней будет – зеленая. Поболее, чем у соседей, настроено в Татарском городке лавок да торговых домов, и хоть небольшие, зато на каждой улице – мясные, мучные, хозяйственные. Что ни улица, то торг, мантышные да кумысные. Сам квартал, если окинуть взглядом, раза в три шире Купеческого, в два раза Рабочую слободу обгоняет, без мала в тиски забрал правого своего соседа – казаков.
У Казачьего стана выход на Северный выгон только через Чистый булак и остался. Казаки свои срубы на нем специально ставили, чтоб татары кольцом не сжали. Избы казачьи крепкие, с подворьями не чета слободским. И амбары, и для скотины сараи поставили. Бани круглый год дымом небо коптят. Вокруг церкви плотнее всего застроились, а сама церковь куполами своими над избами висит – вроде как оберегает. Казачий стан хоть и самый дальний сосед слободки, зато самый родственный: много кто в слободу на отставку переезжает, заново быт налаживает.
Между Ишимом и двумя булаками и разбил Шубин крепость. От той крепости одни осколки остались, станица в город выросла, а в Акмолинск теперь четыре главные степные дороги ведут и в нем же сходятся.
Часть первая. Гроза
Глава 1. «Караван прибыл-с»
Уездный начальник Акмолинска полковник Андрей Иванович Тропицкий с утра был нездоров. Оно и понятно: всю ночь играли в карты. В общественном собрании, что проходило вечерами в доме купца Сипатова, уже неделю шла большая игра. Играли против англичанина в бридж. И надо признать, местные купцы летели в пух и прах. Горный инженер из Тоттенхема успел за короткое время выиграть чуть ли не у всей достопочтенной верхушки Акмолинска. Купец второй гильдии Калистрат Силин дважды залез в долг к сартовским[2] ростовщикам и все же не смог отыграться. Его партнер по скотопромышленному торгу, по совместительству думский гласный Иван Егоров и того круче попался – заложил векселя с правом недельного выкупа. Неделя заканчивалась, выиграть местные так и не смогли. Сам Тропицкий не устоял и то ли от азарта, то ли от обиды за своих влез в игру, о чем нынче сожалел, растирая коркой лимона гудевшие виски. Он посмотрел на массивные, обитые коваными вензелями часы. И вправду, лечись не лечись, а на работу пора, хоть бы и с несвежим дыханием.
Тропицкий аккуратно отодвинул тарелку с основательным завтраком – яичница с кровяной колбасой, приправленная тушеной капустой, – и нарочито громко крякнул.
– Не дам, и не просите, Андрей Иванович, – раздался из-за двери женский голос, – вы потом сами жалеть будете. В том месяце мне строжайше наказали не слушать вас по утрам. Не дам. Не просите.
– Смилуйтесь, матушка, – сказал Тропицкий, хмурясь от головной боли, – вам ли не знать, что сегодня за день… Ведь не смогу на людях стоять – задрожу.
Двери в обеденную залу, служившую в доме Тропицких одновременно и гостиной, открылись, и в комнату вошла женщина невообразимо больших размеров, напоминавшая фигурой самовар, готовый вот-вот лопнуть. В ее руках был зажат поднос с графином и хрустальным бокалом.
– Воля ваша, Андрей Иванович, но если вы опосля снова изволите умирать и просить меня кланяться этим противным бухарцам, знайте: не бывать тому!
Тропицкий молча вздохнул, перекрестился и, откупорив графин, наполнил бокал до краев.
– Фу… – выдохнул он и запрокинул наголо бритую голову, заливая в себя спасительный напиток.
– Была бы Матрена Пална жива, да разве бы такое позволила, – с сожалением проговорила женщина и, не дожидаясь, когда бокал вернется на поднос, развернулась на выход.
– Теперь можно и на работу.
Тропицкий отер пшеничные усы. Он и впрямь оживился. Помолодел. Вытянулся в струнку.
За долгую службу он не сгорбился, в полку, считай, самый высокий был, да и в руках сила осталась: когда не болел, то двухпудовую гирю по утрам с дюжину раз кидал. На вид и пяти десятков не дашь, а ведь уже шесть с гаком. В этом году на ярмарке, что по весне у брода разбивают, с приезжим борцом-башкиром состязание устроили. Борец не Хаджимукан, конечно, но тоже титулованный. По чину самому Тропицкому бороться не пристало, так фельдфебель Кривец предложил на руках силой померяться. И что? Положил борца, хоть и схитрил немного (за стол придерживался), но ничего: если кто и заметил, промолчал.
Уф… полегчало!
Обычно Андрей Иванович пить осторожничал. Знал, что остановиться трудно. Избегал: в компаниях порой и в ковер лил, и за плечи вымахивал. Но раз на раз не приходится, да и случаи, опять же, бывают, что отказать грех али совсем нельзя. На первых годах службы, еще при генерал-губернаторе Колпаковском, в Омске, пили-то как – сутками да с куражами… Но тогда дело было молодое, многое организм вытягивал, а где сбой давал, там баня с девками помогала.
Потом остепенился. Женился, двое сыновей родилось. Должность получил – не ахти какую, конечно, по сравнению с обещанными санкт-петербургскими портфелями: умер Колпаковский, а новый генерал-губернатор Таубе старую гвардию не жаловал – отправил Тропицкого в киргизские степи да и забыл про него. Но и тут жизнь есть. Худо-бедно, но город в порядке держится и с купцов прибыток есть. Жить можно, если разумно.
Сыновья выросли, уехали в Москву. Андрей Иванович тоже было за ними собрался, но жена, Матрена Павловна, слегла. Два года лечили-лечили в уездной больнице, место за счет городской казны держали, не помогло – померла… Вот и остался один в Степном краю.
– …С верной Никитишной, – прервал свои мысли Тропицкий. – Верно же говорю, а? Никитишна?
Не дождавшись ответа бывшей няньки детей (а теперь уже и самого Тропицкого), он снял халат, надел военный мундир, присобачил к ремню саблю, разгладил усы и натянул до блеска натертые сапоги.
– Каждый день тру да тру их, – неожиданно оказалась рядом Никитишна, – а толку? В этом городе грязь да пыль одна, пошто, спрашивается, их так натирать? Было б куда ходить, то еще ладно.
– А куда ходить? – поинтересовался Андрей Иванович. – В синему ты ни ногой, чертей боишься. Сколько раз билеты давал, все одно твердишь: «Свят, свят!» И платье тебе купил, и платок.
– Да разве в синему вашу нормальный пойдет? В театр – другое дело. Я бы с радостью.
– Нету у нас театров в городе!
– С такими начальниками и не… – осеклась Никитишна.
– Разговорчики в строю! – сказал Тропицкий и, взяв фуражку, вышел во двор.
До управы по грязи идти два переулка. Сначала Церковный, с построенным на личные пожертвования самого императора Николая Второго собором Александра Невского, а затем Конюшный, в котором ничего примечательного, кроме конского помета, и нет вовсе. За переулками начинался Купеческий квартал с его каменными белыми особняками и парковыми аллеями. За ним место службы – городская управа, стоящая в самом центре города.
Привычно перепрыгивая через лужи, Тропицкий быстро добрался до первых купеческих домов и зашагал вдоль самого большого, с кудрявыми грифонами на парапете, кубринского особняка. Кубрин, как и подобает городскому главе, обнес свой дом крепким кованым забором, дабы никто не шастал по разбитому внутри уютному дворику в английском стиле. Не задерживаясь возле купеческих построек, Тропицкий вышел к управе, проскочил мимо откозырявших начальству писаря-казаха и фельдфебеля и зашел в свой кабинет.
Лет десять как построили каменную управу взамен старой из сруба, а не пришлась по душе: чужая какая-то, холодная, словно склеп. По ночам одному там жутко, будто воет в стенах кто-то. Потому и сердце не лежало обживаться: казенный стул со скамьей, стол из мастерской по дереву, что на Шубинской сопке, приволокли да шкаф соорудили для бумаг – вот и весь кабинет. А Тропицкому больше и не надо – служить ходил, но подолгу не засиживался.
Сегодня, впрочем, дел многовато, придется поработать. Приказ о мобилизации местного населения на германский фронт – окопы рыть. Считай, по всем аулам да джайлау теперь гоняются с казаками за этими новобранцами, ловят. Приказ дурацкий, необдуманный, на кой они там нужны, киргизы, – непонятно. Недовольство со стороны местных растет с каждым днем. На Тургае бандит местный, из кипчаков, Иманов, армию собирает: вслед за казаками по аулам скачет, народ подбивает на бунт.
Запрос в Омск уже отправлен, нужно усиливать Акмолинский гарнизон. Иманов – заноза, но сами виноваты: не раздавали бы таких приказов, не было бы проблем.
В дверь постучали.
– Заходи, Кривец, – опередил входящего Тропицкий. – Новостей за ночь много?
– Здравия желаю, ваш благородие, – по-военному отчеканил дежурный фельдфебель, поправляя сползающую с плеча винтовку. – Вы соколом пролетели, не успел доложить. Извиняюсь, значитца.
– Говори.
– Особо, значитца, немного. В слободе пара упырей друг друга ножом покромсали. В лазарете померли. Сарты мантышную после намаза открывают. Вы добро им зимой давали.
– Джалил? – сняв фуражку, спросил Тропицкий. – Куда им столько мантышных, кто ест эти манты?
– Пить-то им нельзя! – весело ответил Кривец. – Я, значитца, напомнил им, чтоб с вами согласовали. Точка в добротном месте, у мечети Татарской сразу. Эти сарты, если им не напоминать, всё вмиг забывают. Как ни приду за деньг… – фельдфебель запнулся и спустя мгновение закончил: – Ну, за нашим напоминанием, значитца, то всегда глаза – во! – Он сложил пальцы колечками над носом. – Ей-богу, сычи.
– Еще что? – хохотнул Тропицкий. – Тебе, Еремей Петрович, в цирке хорошо выступать. Как Вертинский. Петь умеешь?
– Нет, – посерьезнел дежурный, – после окопов голос отсырел… Еще что… А, вот. Караван прибыл-с.
Тропицкий привстал и впился глазами в Кривца.
– Какой именно?
– Бухарский, тот, что весной повел Халил по Туркестанскому тракту.
– Где он?! Да что ж ты ни мычишь, ни телишься?! – резко сорвавшись, заорал Тропицкий на смутившегося фельдфебеля. – Живо коляску мне!
– Ваш благородие, так я же сразу, значитца, к вам, известить! Как передали, я сразу к вам. В город только зашел.
– Кто с караваном? – чуть ли не простонал от нетерпения Тропицкий. – Сам Халил?
– А кто ж еще, – удивленно развел руками Кривец, – сам идет. Ну, верблюды, известное дело, с ним.
– Верблюды? – озадаченно переспросил Тропицкий. – Какие вер… Еще кто-то есть?
– Неведомо… Вроде нет! Точно – нет! Он со стороны слободки идет. Схомутать?
– Зачем? – потер виски Тропицкий. – Зачем… Китайца точно нет?
– Я, ваш благородие, сразу к вам! Как только узнали, значитца, как вы и велели, сразу… Китайца?
– Сразу к вам… Заладил одно и то же. Готовь коляску, – чуть успокоившись, сел обратно на стул Тропицкий.
Прибывший караван спутал все карты. Стало сразу не до Иманова, не до англичанина с проигравшими купцами и не до отчетов в генерал-губернаторство. Караван ждали уже как месяц. И вот он прибыл. Быстро собрав бумаги со стола в портфель, Тропицкий спустился с крыльца и сел в коляску.
– К Кубрину, на дачу, – сказал он кучеру и подтолкнул того рукой, – живо!
Глава 2. В Бухару и обратно
Возвращаясь с караваном, Халил всегда ночевал на Чубарке. Отсюда и город видно, и до Черного брода рукой подать: за утро выйдешь, к обеду брод перейдешь и в самый разгар базарного дня товар на зеленых рядах Акмолинска уже можно показывать. Правда, в этот раз везти было нечего. Бухарские товары разобрали еще в Спасске: и перец, и курага с финиками, и зандона[3] в рулонах и тюках в обозы семипалатинских татар перекочевали. А те уж через неделю втридорога на Ирбитской ярмарке продадут все, что у Халила взяли практически без торга.
А что торговаться? Товар не его. Свой бы он ни в жизнь татарам не отдал, вез бы до Атбасара или Петропавловска, а то и до самого Омска добрался бы. Но велено продавать – продавал! Три верблюда с бумагой до Акмолы доставить велено – три верблюда на Чубарке стоят, воду ишимскую тянут, горбы наполняют. Сказано – сделано! За то караванщику и платят. А китаец… Халил посмотрел на лежащий в камышах труп с разбитым черепом. Арсен сказал, сам его схоронит. Сейчас главное – груз Тропицкому отдать и вторую половину за дорогу получить. Два месяца дома не был. Хадиша уже и родить могла… Халил дождался, когда верблюды поднимут головы от воды и качнут горбами, мол, все, сыты, напоены, и двинулся к Черному броду.
В свои двадцать пять лет он уже не первый раз вел караван из Бухары. Еще до Царской вой ны, когда в степи было спокойно и на тихие джайлау налетали лишь ветра с Тарбагатая, он повел свой первый караван по древнему пути. Верблюды, навьюченные акмолинской белоснежной мукой и выскобленными добела шкурками соболей, неспешно покачивая горбами, друг за другом двинулись в степь, как сотни и тысячи лет назад шли этим же путем с севера на юг.
Заказчиком тогда был сарт Джалил. Из тех, кто, прознав об отсутствии в Акмолинске царских акцизов и сборов на торговлю, оставил теплую и щедрую Бухару и уехал в холодные степи. Джалил держал мантышные и торговые лавки с курагой и тканями. В лавках тех, помимо торговли, несмотря на запрет займов по мусульманским законам, время от времени давали в долг под проценты. Татары, казахские купцы, уйгуры с башкортами такого сторонились, а вот сарты не брезговали. За это их и не любили.
Джалил долго торговался с Халилом за работу, все выспрашивал, сможет ли дойти без отца, без Хабибулы, а если не дойдет, кто товары вернет? Кто за него поручиться может? Помог Карабек, мулла татарской Зеленой мечети. Свое имя на договоре поставил за Халила. Покойный отец с Карабеком дружбу водил, с каждого каравана в мечеть относил часть прибыли, вот и помнил Карабек добро. Хотя, может, и что другое помнил. Карабеку лет сто скоро, в городе самый старый, еще Шубина застал, лицо словно маска бездвижная – сразу и не поймешь, зачем мулла то или иное делает.
Уговором тогда от Карабека было взять в дорогу его человека – иштяка[4] Кривого Арсена. Хоть и не нужен был Халилу такой помощник, а куда деваться? От отца остались верблюды, тюки, карты, погонщики да имя. Но он-то ведь не Хабибула, свое имя зарабатывать надо, хоть и на отцовских верблюдах, а свое. Вот и согласился.
Первый свой караван в Бухару Халил привел в срок, как и оговаривалось. По джалиловской расписке сдал товар купцу и, получив от него тюки со специями и сладостями, выдвинулся обратно. Правда, задержался на день в древнем городе: покинув шумные базары и заплатив стоянщику в сарае, сходил в хамам – на севере их не было. Хотя ничего интересного там Халил так и не увидел: пар, камни, вода, хна с басмой… Посетители развалились, укрытые простынями, банщики мнут им спины. Караванщик сам худой, жилистый, волос кудрявый, борода лишь слегка щеки закрыла – красить пока нечего, да и мять разве что кости. Долго не задержался в хамаме, побежал обратно в сарай, верблюдов в дорогу готовить.
С закрытым черной повязкой левым глазом, редкой жесткой бородой и бритым черепом Кривой Арсен больше походил на лихого разбойника. В дороге иштяк не мешал, тихо пел о чем-то, плетясь позади каравана. Зато когда нарвались на бродяг возле угольных копей, он вмиг оживился. Выхватив кнут, одним щелчком выбил из рук детины в лохматой шапке огромный топор и следующим ударом ожег его по щеке. Лохматый, схватившись за щеку, громко вскрикнул, падая на землю. Остальные разбежались, прячась за высокими черными отвалами. Халил с удивлением посмотрел на Арсена, а тот, пожав плечами, вернулся на свое место, вновь напевая какую-то тягучую песню.
Так и вернулись в Акмолинск. Больше мулла не отправлял Кривого Арсена с Халилом.
– Он свое дело сделал, – объяснил старик, – про тебя теперь в дорогах знают. Можешь смело ходить.
За первым караваном потянулись следующие: то в Самарканд к узбекам, то уйгуры на Кашгар наймут, то купцы в Семипалатинск отправят – за пять лет исполосовал Халил степь вдоль и поперек, даже к халха хаживал. Но такого, как этот, каравана у него еще не было.
Встречу тогда Тропицкий назначил странную: без предварительных переговоров о цене, под вечер и не у себя в управе, а в пекарне «Миткинъ и Ко», что стояла на Думской улице напротив пожарной каланчи. Пекарня имела вывеску с позолоченными вензелями и тучным амурчиком, который был стилистически выведен из первой буквы «М». В «Миткинъ и Ко» пекли пряники. Пряники, сразу сказать, вкусные, но для господ состоятельных. Слободские и люд с Казачьего стана больше на витрины заглядывали, дивились, и ведь было на что рот разинуть. Тут и тульские печатные, шириной с цельное колесо телеги, и французские – с фигурками собак да птиц. А уж к английским (их пекли по праздникам) вообще очередь собиралась.
С чего бы Тропицкому назначать встречу в этом заведении, Халил уже не пытался понять, больше недоумевал от условий заказа.
– Туда налегке пойдешь! – Тропицкий слегка отхлебнул чая из фарфоровой чашки и, заметив удивленный взгляд Халила, добавил: – За это тоже заплатим, конечно… как за основной путь. Главное, в Бухаре остановиться в караван-сарае «Эмирский сад». – Уездный начальник вдруг сделался еще больше, чем он был на самом деле, и надулся, будто поднимал штангу. – Придет Асана-сан…
Достав из внутреннего кармана сюртука фотокарточку, он протянул ее Халилу вместе с запиской.
– Только точно чтоб этому отдал! Никому другому!
Халил выдержал паузу, тоже взялся за чашку, оттопырив мизинец в сторону, подул на чай. Так его еще ни разу не нанимали. Тысяча верст пустого ходу. Вместо расчетных таблиц – что и где купить и по какой цене, чтобы потом сверить, – какая-то фотокарточка. Он глянул на фотографию. С нее смотрел щеголеватый японец или, скорее всего, китаец, который хотел сойти за японца. Разница видна: вот здесь глаза чуть уже, рот не такой широкий, а самое главное, лицо не круглое. Интересно. Записка. Но записку не прочесть, зашита и сургучом красным с печатью уездной залеплена. Получается, даже не знаешь, что грузить.
Тропицкий словно прочитал его мысли.
– Груз основной сдашь в Спасске. Примерно на три верблюда весу. Сюда – бумагу.
– Бумагу? – по инерции переспросил Халил, хотя какое ему, собственно, дело. Платят не за интерес его к товару, а за доставку. Однако бумагу из Бухары, наверное, тысячу лет назад в последний раз возили. Сейчас или из Оренбурга, или из Казани идет. За дурака держат, понял Халил. Ладно. Пусть держат. Главное, чтоб за святого не приняли. Он назвал цифру.
В Бухаре было жарко. Это на севере, в степях, весна осторожничает – сугробы только подпалила грязью да изъела их, словно ржой, а здесь, на подступах к древнему городу, уже вовсю цвели деревья. В невысоких рядах урюк раскрылся нежными бело-розовыми лепестками. Куда ни бросишь взгляд, все в округе засажено деревьями да кустарниками. Торчали даже пальмы, за которыми, по всей видимости, ухаживали особо – каждая была ограждена сбитыми жердяными треугольниками.
Халил в очередной раз зачарованно смотрел на разбитые у городских стен сады и огороды дехкан. Он повернулся было по привычке назад, чтобы указать помощникам на деревья, но увидел лишь горб третьего верблюда Буя, крайнего в караване. Одним из требований Тропицкого было: «Помощников не берешь. Цифру, которую ты назвал, я удвою».
Ходить без помощника трудно. Одному путь держать, верблюдов на ночлег укладывать, кормить, чистить. Очень трудно. Хорошо еще пустой караван, товара нет, не нужно вьюки на стоянках снимать. По сорок верст в день вымахивают верблюды под пустыми седлами. После пяти-шести дней пути – отдых, чтоб подошвы не стерлись. Взял только трех верблюдов: Буй и Бой, нары-восьмилетки, и толстогорбый кез-нар Бура, потомок туркменского дромадера. Каждый на себе по тридцать пудов нести способен, а Бура и все сорок берет. Если и идти без помощника в дорогу, то только с такими нарами. Вот только зачем Тропицкий пустой караван в Бухару гонит, почему не дал груза захватить в южный эмират?
Да и уездный глава, по степной иерархии, не его заказчик. Что Кубрин, что Силин, что Егоровы с Байщегулом – все они у Терехина в транспортной фирме заказы делают. «Терехин и братья» – компания старая, с опытом. Не верблюдами, а быками и тяжеловесами грузы перемещают. На всех основных пересылочных пунктах филиалы имеют. Обозы перепрягают да дальше на свежих идут. А тут верблюды… Правда, Терехины до Бухары не ходят – по пескам никак на обозах. Так заказал бы до Верного или Аулие-Аты на быках, а там местных караванщиков нанял, они бы с радостью подхватили. Сейчас заказов все меньше, со всех сторон железные дороги маршруты захватили – с ними уже не потягаешься! Одно получается: уездный секретно доставить бумагу хочет. Поэтому и своим не отдал заказ, и из Бухары не нанял никого. Бухарским доверия никогда не было. И в товар заглянут, и при случае откажутся от недостачи. Что ж это за бумага такая, за которую ему двой ную цену заплатили, да еще наперед больше половины дали? Загадка…
Как и оговаривалось с Тропицким, через месяц нелегкой дороги, по прибытии каравана в Бухару, человек с фотокарточки встретил Халила в «Эмирском саду». Ни на какой сад, естественно, и тем более на эмирский, караван-сарай не был похож. Желтое трехэтажное здание с огромным двором, разделенным на столбовые отсеки для верблюдов. В углу двора небольшая чайхана с тканевыми занавесками – от зноя и лишних глаз, в нее и позвал Халила хозяин гостиницы, сообщив, что его там ожидает друг.
Друг был действительно китайцем, одетым в английский суконный костюм кремового цвета и котелок, плотно натянутый на лоб. Китаец то и дело постукивал тростью по дощатому полу чайханы и с подозрением смотрел на Халила.
– От кого приесали? – прищурился он. – Сто мне передали?
Проверяет, решил Халил, но виду не подал и, достав из кармана халата фотокарточку, сверил лица. Тот! Вот и левый глаз чуть закрыт у разреза, шрам то ли от ножа, то ли от штыка. Нижняя губа оттопыривается. Тот!
– Уездный начальник, – решил все же схитрить Халил. Мало ли что. А документ с сургучом передавать кому попало не резон. Вторая часть за караван не получена. Отсюда кто его наймет? Полгода можно простоять, все потратить. – Знаешь такого?
Тут китайцу пришлось открыть все карты.
– Трописька!
Халил прыснул в кулак и, еле сдерживая смех, закивал в знак согласия. Он достал из кармана запечатанный конверт и положил его на столик. Чайханщик вовремя принес чай. В горле пересохло, и ароматный, с медом и лимоном, зеленый напиток был как нельзя кстати.
Китаец, внимательно проверив ногтем сургучную печать, пару раз щелкнул по ней и убрал документ во внутренний карман сюртука.
– Застра приду. Будить готовы крузится, – сказал он, поднимаясь из-за стола, так и не попив чаю.
В Бухаре, в отличие от Акмолинска или даже Омска, было на что посмотреть. В самом центре сказочного города разноцветной мозаикой пестрят величественные усыпальницы султанов и падишахов. Ханские дворцы вперемежку с минаретами мечетей возвышаются возле каждой площади. Медресе, мавзолеи, сады с диковинными растениями, торговые залы и бани. Оттого что постоянно смотришь вверх, кружится голова. От покрытых глазурью стен и причудливых узоров кружится голова. От манящих запахов специй, фруктов и самсы тоже кружится голова. От всего в этом городе может закружиться голова, главное – не поддаться соблазну и не потерять ее.
Халил успел до наступления темноты сходить на базар, где купил саженец дерева. Сколько можно любоваться видами чужих оазисов и садов? Хватит, пора самому посадить. И пусть сладкоголосый Бабур-дукенщик сочиняет сказки про урюк и алычу, пусть всучивает хурму и гранат. Разве они вырастут на степной земле, выдержат акмолинские морозы? А вот черный тополь, кара-терек, сможет. Теперь довезти только до дому. Не было еще в Акмолинске такого дерева. А теперь будет!
Утром китаец заехал за Халилом. Нары уже стояли с наброшенными на горбы срощенными жердями, готовые для погрузки вьюков. Караванщик расплатился с хозяином за ночлег и повел своих верблюдов по узким улочкам города. Китаец, в неизменном котелке и костюме, ехал впереди на арбе, запряженной ослом.
Грузились рядом с банями. Народ уже начинал толпиться возле центрального входа в каменные хамамы. Китаец, наняв двух грузчиков, перетащил со склада два увесистых вьюка-чувала и дорожные ящики.
– Это для Трописька. Осень вазный груса! Понятно? – он с недоверием посмотрел на Халила. – Никто не долзен снать! В ясика ткани в Паска.
– Спасск? – переспросил Халил, рассматривая пузатые чувалы.
– Да! – китаец вплотную подошел к Халилу и, сузив глаза, произнес: – Но я поеду с тобой. Плана мала-мала паминяли.
Он быстро переоделся, сменив светлый английский костюм на дорожный камзол поверх свободной длинной рубашки. На ногах оказались мягкие восточные туфли с загнутым носком.
– Не было такого уговора, чтоб тебя везти, – спокойно сказал Халил, – у меня и свободного верблюда нет для этого.
– Тода я забирай веси. Ты не получис груса.
– Забирай.
Халил сделал знак, и нары легли на землю.
Китаец, подойдя к одному из верблюдов, стал сбрасывать ящики, забитые тканями, на землю. Скинув все, он, кряхтя и тужась, развернул их в сторону склада. Народу у бань собралось уже много, и очередь начала обращать внимание на сумятицу, возникшую возле верблюдов. Любопытные показывали пальцами на караван, который сначала грузят, а потом сразу же разгружают. Китаец, заметив это, неожиданно заговорил на чистейшем русском языке:
– Все уговоры заключаются здесь. Когда тебя нанимали, были другие планы, сейчас иные. Я думаю, господин Тропицкий предложил нормальную цену. Я могу остаться здесь. Но и ты останешься без денег. Груз в Акмолинск ты сейчас навряд ли хороший сыщешь. Не сезон.
– Дело не в цене, – удивившись такому обороту, ответил Халил, – я не могу везти столько груза и китайца, который на самом деле…
– Для всех я китаец, и для тебя тоже. За неудобства доплачу. И вот, – он ногой ткнул в ящики с тканями, – эти в следующий раз заберу. Давай договоримся. Я не задаю тебе вопросов, ты не спрашиваешь меня. Ты и так теперь знаешь больше, чем нужно, караванщик. Я обязан ехать с этими документами в чувалах. Тебе этого достаточно?
– Мне платят за вес, а не за вопросы. – Халил указал еще на один ящик: – Тоже оставляем.
– Может, другой? Тут дорогие товары.
– Тяжелый, – Халил приподнял рукой ящик, – дорога тоже нелегкая. Не берем его.
Китаец чертыхнулся и, не прося помощи у Халила, стал перетаскивать ящики обратно на склад. Халил попытался помочь, схватил ящик, тот, что потяжелее, но китаец почему-то запретил ему:
– Я сам. Готовь верблюдов.
Перенеся все ящики, китаец вышел со склада с какой-то тряпкой, вытер об нее руки и, проверяя крепления груза на верблюдах, увидел саженец.
– Черный тополь. Такие влагу любят. Побольше на корни намотать нужно, – он свернул свои тряпки и стал оборачивать ими саженец, – если смачивать не забывать, вода долго держаться будет. Главное, эти тряпки в дороге не снимать, чтоб корни не оголились.
Халил, махнув рукой в знак согласия, приказал верблюдам встать. Те с недовольным ревом поднялись с колен, мотая из стороны в сторону головами так, что с губ слетала пена.
Из города выехали через час. Попетляв по улицам, вырвались вновь в сады урюка и пригородные бахчи. Оазис кончился к вечеру, а наутро караван уже шел по такыру – сухой, потрескавшейся от солнца и дождей глиняной дороге. Бесконечные желтые пески Сандыклы потянулись со всех сторон, барханами переходя в прозрачное небо. Жара раздавливала, выжимая из путников последние капли влаги.
Китайцу все время чудились водоемы и колодцы, и он оживлялся, настойчиво указывая к ним путь. Халил, завернутый в плотный ватный халат, неторопливо выводил верблюдов к основному Туркестанскому тракту, не обращая внимания на выкрики попутчика. Сколько раз миражи уводили караваны в пустоту, сколько людей покоится в этих песках! Поверишь призраку – сам им станешь. Бура на то и потомок коспака[5] и туркменского дромадера, что воду чувствует за десятки верст. В ту сторону, куда показывает китаец, ни разу не повернул голову. Идет, не сбиваясь с шага, перетирая подошвами горячий песок.
К концу третьего дня такыр закончился и на земле появились островки травы. На тракте было уже спокойней. Китаец постоянно крутился рядом с грузом, то и дело проверяя его сохранность. Не забывал он также о саженце.
– Засохнет. Слышишь, Халил? Воды ему надо.
– Дойдем до первой реки, будет ему вода.
До реки шли еще двое суток. С первыми аулами и стойбищами появились и бродячие отряды.
Бандиты назывались то ибрагимовцами, то асановцами, то чомолаковцами, требовали платить им за дорогу, заверяя, что больше каравану опасаться нечего. Но через два перехода вновь появлялись на стоянках, вызывали Халила на разговор. Слушая и кивая, что оплата уже была и что караван не настолько загружен, чтоб платить всем и вся, упрямо требовали мзду.
– Я дважды уже давал, – упирался Халил, стоя перед верблюдами, – вы если так будете за дорогу брать, то кто по вашей земле ходить будет? Кто главный?
– Я, курбаши[6] Юсуп, – блеснул дулом револьвера лысый, с мясистыми ушами чомолаковец. – Чего упираешься, караванщик? Чего на рожон лезешь? Все платят, и ты будешь. А нет – вьюки заберем.
– А те отряды тоже твои? Раньше за всю дорогу от песков до перевала один раз платили. С чего правила поменялись?
– У кого оружие, – курбаши приподнял револьвер вверх, – тот и правила устанавливает. Я на своей земле, другие – на своей. Я к ним не лезу, они ко мне. Мне платят, я пропускаю. Десятую часть отдаешь или нет?
– Если нет? – Халил посмотрел в глаза курбаши. – Завтра у всех оружие появится. Всем платить, что ли? Одну и ту же землю на куски порвали и себя хозяевами назначили, а дальше и ее кромсать начнете? За каждый шаг моего нара деньги брать будете?
– Ахмад, Азиз! – крикнул Юсуп. – Этого связать. Не хочет по-хорошему.
На пути к Халилу помощники Юсупа остановились, увидев, как наперерез им бежит китаец. В руках у него были рулоны ткани. Китаец бросил к ногам Юсупа товар и упал перед ним на колени.
– Вот! – воскликнул курбаши. – Хоть и китаец, а умнее тебя оказался. Ахмад, Азиз, товары заберите и по коням. А ты запомни, караванщик, оружия у всех не может быть. Только у сильных. Ты слабый, тебе оружие не нужно. Что ты с ним делать будешь, ворон стрелять? Сажай вон лучше деревья, – он заметил привязанный к верблюду саженец, – и плати исправно.
– Запомнил, – ответил Халил, – без оружия справлюсь как-нибудь.
Когда чомолаковцы уехали, китаец поднялся с колен, отряхнулся и зло произнес:
– Чуть груз не потеряли из-за тебя. Чего ты с ними в спор вступаешь? Тебе какое дело до моего груза? Отдавай и все. И где тебя такого Тропицкий нашел, ума не приложу.
– Никто, наверное, без помощников ехать не согласился, – честно ответил Халил, – вот и пришлось меня нанимать.
– Ладно, – похлопал его по плечу китаец, – не злись. Вспылил. Ночуем здесь?
Халил на это ничего не ответил. Встал возле Буры, расстегивая седло.
– Значит, здесь, – пробурчал китаец себе под нос и, достав из кармана платок, высморкался, – в этом деле ты хозяин.
Весь следующий день караван шел по перевалу. Бура не спеша вел за собой привязанных к его седлу верблюдов, те мирно шагали следом, пожевывая вечную жвачку и шурша мозолями по камням.
За перевалом жара спала. Нары двигались по степному тракту день и ночь, все ближе и ближе подбираясь к железным горам Сары-Арки. Остался позади Балхаш с его прозрачной водой и землями, пропитанными мертвой, черной солью. Прошли святые места, горы Бектау и Акшатау.
Уже по Нуринским землям потянулся караван, когда со стороны стоящей впереди сопки Иткыр неожиданно налетел отряд всадников в грубых степных тулупах. Всадники мигом окружили наров, посматривая на чувалы и ящики с товаром. Халил сбросил с лица накидку, защищающую от мошкары, и остановил своего верблюда.
– Не ты ли, Халил? – узнав караванщика, громко крикнул рослый всадник с ярко-желтым лисьим малахаем на голове. – Сартовские товары?
Вовремя толкнул китайца Халил: тот уж было открыл рот, чтоб своими назвать. Лучше не надо… Халил надавил на бедро китайца локтем.
– Молчи! – шепотом подсказал он и тут же крикнул: – Алимбай, пусть солнце светит тебе всегда! Рад тебя видеть! Джалиловские, конечно.
– А чего так мало? – недоверчиво спросил Алимбай. – Боится торговать? Его товарам у нас всегда дорога открыта, – он ухмыльнулся, словно волк оскалился перед броском, – точно его?
Алимбай соскочил с коня и подошел вплотную. Поводил носом, словно вынюхивая, правда ли ткани везут. Затем подошел к завернутому в халаты китайцу. Тот сидел на верблюде, плотно замотав лицо повязками и платками. За долгий путь китаец замучался от мошкары, постоянного недосыпания и тряски настолько, что сидел на горбу уже не так ровно, как в Бухаре, – валился на бок. Он приоткрыл лицо и поклонился Алимбаю.
– У! – увидев лицо китайца, оскалился Алимбай. – Жукоед!
Стоявшие полукругом сарбазы хором рассмеялись, натягивая узды своих коней, чтоб те от неожиданности не рванули вскачь.
Халил по заранее оговоренной плате передал подготовленные ткани степняку, и Алимбай, еще раз обозвав китайца жукоедом, достал бурдюк с кислым молоком. Открыв его, он протянул напиток Халилу.
– Зачем этого с собой везешь? – спросил, косо посматривая на китайца. – Кто он? Ты же помнишь правила. Если мои узнают, что это жукоеда товары, то все заберут.
– К Джалилу торговать едет. Вроде дела у них аптечные. Травы да мази продавать будут.
– Травы? – подозрительно переспросил Алимбай. – Ну-ну… Халил… – Алимбай слегка наклонил бурдюк ниже, чтоб Халил нагнулся за ним, и сразу зашептал: – Что за груз, Халил, ты везешь? Сам хоть знаешь?
– Что-то для города, – сознался Халил, – какие-то бумаги. Тропицкий нанял.
– Странно все это, – покачал головой Алимбай, – предчувствие плохое. Не пропускать бы тебя…
– Не сейчас, Алимбай, – попросил караванщик, – в городе ждут. Вот-вот Хадиша должна родить.
– В Акмолинске скоро гроза будет. Тебя по-дружески предупреждаю. Уходи из города. Скоро начнется…
Остальные сарбазы, заметив, что у верблюда о чем-то шепчутся, стали сжимать круг. Алимбай, резко засмеявшись, выхватил бурдюк у Халила и закричал:
– Смотри, Халил! Скоро сам китайцем станешь. Небось, уже улиток кушал? Уходим! Алга! Джалил свою часть отдал.
Он вскочил на коня и, вдавив тому пятками бока, рванул обратно в степь. За ним вдогонку умчались остальные, поднимая клубы пыли.
– Надо было больше дать, – глядя на уезжающих вдаль сарбазов, предположил китаец.
– Зачем? – поднимаясь на верблюда, спросил Халил. – От этого только подозрение. Зачем больше давать?
– Дорога чтоб открыта была. В Бухаре дали. В Ташкенте дали. По Туркестану всем давали. Все тихо было! Через день опять бандиты придут.
– Не придут. Здесь не Ташкент и не Бухара. Покажешь, что товар так отдаешь, – всё заберут. А договорено раз об оплате всего пути, значит, договорено – никто не тронет!
Верблюд Халила, словно подтверждая слова своего хозяина, двинулся дальше, степенно вышагивая по еще не совсем сожженной июньским солнцем траве. Не выходили из головы слова Алимбая про грозу. Какая в Акмолинске гроза может быть? Зачем из-за нее уходить из дома, да и куда?
До Спасска по прямому Акмолинскому тракту добрались быстро. Пару раз их застал дождь, и тракт, превратившись в сплошное месиво грязи и соломы, стопорил верблюдов. Халил срезал через степь, идя вдоль Нуры.
Уже в Спасске, при торге с семипалатинскими татарами, Халил окончательно убедился, что ткани – лишь прикрытие. Видимость каравана, чтоб в дороге никто не лез с расспросами, зачем и куда идут. Поэтому китаец так легко раздавал драгоценную зандону на стоянках, потому и здесь отдал за бесценок остатки. Дальше без нее можно. От Спасска до Акмолинска никто не сунется к ним. Казачьи разъезды стоят через каждые пять верст. А как угольные залежи нашли, то и англичане с французами своих отрядов нагнали – не дорога, а крестный ход с огнями и свечками! Зачем уже лишнее везти – китаец все просчитал. Ладно, его дело, его и Тропицкого. Халилу до Хадиши быстрее бы добраться да черный тополь посадить, пока он корнями совсем не обсох.
Ровно через пять суток верблюды встали на небольшой речке, булаке Ишима – Чубарке. Халил с каждой дороги останавливался тут, разбивая последний лагерь.
В городе нужно появляться свежим, не показывать усталость. Так отец учил. «Помыться, выспаться, переодеться и потом только в город заходить. Тебя же ждут дома? Какого ждут? Живого, это понятно… А еще? Красивого или неумытого, грязного? Всегда нужно возвращаться, как будто праздник. Твое возвращение и есть праздник! Можешь сто раз с ног валиться, усталым да без настроения в дороге быть. А как к дому подходишь, чтоб родные только радость видели. Понял? А если понял, то и про подарки не забудь», – смеялся отец. Халил это на всю жизнь запомнил и уже грел в котелке воду для умывания. Ночь переночуют и брод перейдут. Китаец без задних ног спал, отказался мыться.
…Сквозь кваканье лягушек Халил спросонья услышал легкий шорох. Так и не поняв, кто это – выдра или дикий кот, он слегка перевернулся на циновке и почувствовал жесткое, хриплое дыхание у себя над головой. Внезапно кто-то накинул на его голову тряпку и крепко сжал пальцами горло, все сильнее и сильнее, выдавливая кадык наружу. Халил захрипел и что есть мочи дернулся ногами вверх. Бесполезно. Нападавший плотно придавил его к земле, перебравшись на грудь. И душил уже не сзади, а сверху. Халил со всей силы попытался отодвинуть его, но тоже безрезультатно. Руки уперлись в плечи, бей не бей, до лица не достанешь… Вдруг натиск душившего ослаб, сам он, словно тюк зандоны, завалился на правый бок, и что-то жидкое и липкое пролилось сверху. Халил, сорвав тряпку, вскочил с земли и ошарашенно стал озираться. Китаец с окровавленной головой валялся возле его ног, а чуть поодаль, возле потухшего костра, вытирал кинжал Кривой Арсен.
Халил прижал руки к горлу, пытаясь вернуть дыхание, и, присев на корточки, жадно глотал воздух.
– До Тропицкого к Карабеку-хаджи зайди. Он тебя ждет. Этого сам позже схороню.
– Ийх, – только и сумел выдавить Халил и зашелся глухим кашлем.
Глава 3. Литвин
Грудь сдавливало. Словно через плечи на нее надели тугой железный хомут, усыпанный десятками мелких шипов. Каждый вдох давался с трудом, и Литвин, свесив с кровати голову, перехватывал воздух отрывистыми, хриплыми глотками. Приступ «легочной» начался под утро – от сырости саманного дома, запаха плесени и чертовой пыли, забившей все бронхи. Последний раз он задыхался три года назад в Москве, когда «легочная» неожиданно (а она всегда не ко времени) настигла его на конспиративной квартире анархической группы Фрадиза. Перед подготовкой к акции вся группа сидела за столом, а он, с приступом, так же лежал на кровати и, задыхаясь, пытался отговорить товарищей от завтрашней операции.
– Карлов, – Фрадиз, приподнявшись над столом, с сожалением посмотрел на задыхающегося, – вы бы лучше силы поберегли. Маша, сделайте ему еще отвара!
– Не ходите, – тяжело от нехватки воздуха произнес Карлов, – без меня не справитесь.
– Милый Карлов, – Маша протягивала ему в железной кружке отвар чабреца с медом, – вы не беспокойтесь, нервничать вам нельзя! Мы справимся. – Она перевела взгляд на вытянувшегося за столом Фрадиза, и тот утвердительно кивнул.
Не справились.
В самый ответственный момент, когда требовалось перегородить дорогу и застопорить движение генеральской кареты, все пошло не так. Фрадиз, сидевший на козлах под видом кучера, наехал полозьями с разгону на сугроб и завалил возок на бок. И вместо неожиданной (в этом и состоял план) бомбовой атаки вышла кутерьма. Из дверей возка кубарем вывалились господа-анархисты, держащие в руках так и не зажженные фитили с гремучей смесью. Охране генеральской понадобилось меньше минуты, чтоб все они оказались вдавлены лицами в грязный снег.
– Молодые все, – генерал Алтурьев удивленно разглядывал девушку-анархистку. – Сергеев, убери колено, пусть встанет.
Машу подняли, и она, спокойно глядя в глаза Алтурьеву, сказала:
– За нас отомстят!
– Кто? – в очередной раз удивился генерал. – И за что? Впрочем, вы сами, наверное, не знаете… Уезжаем, Сергеев. – Он задумчиво покачал головой и пошел к карете.
«Легочная» прошла на третьи сутки, а на четвертые Карлов исполнил обещание Маши. Карета взорвалась в аккурат перед банями – так и не успел помыться генерал Алтурьев, сатрап и убийца свободных людей, анархистов и других революционеров. В тот же самый день, четвертый после приступа, Карлов стал Баргау сом и уехал на поезде в Санкт-Петербург, получать новое задание… Три года прошло, столько имен сменил, столько акций выполнил, за стольких людей отомстил, а «легочной» хоть бы хны – нет разницы, Литвин ты или Татарин, товарищ или господин. Задушит и не спросит.
К новому псевдониму привыкать долго не пришлось. В Омске документ состряпали, в ячейке легенду написали, и теперь он Литвин Артем Андреевич, мыловаренных дел специалист, направлен в Акмолинск по коммерческим делам. Литвин так Литвин, согласился он и через Петропавловскую ветку добрался до Акмолинска. Основным делом было, конечно, не мыло. Мыло так, для отвода глаз любопытствующих и жандармского управления. Да и не разбирался он в мыле особо: ну жир топят, варят, парят, к акие-то ароматы кладут, сушат, в этикетки красивые оборачивают, но на этом его знания и заканчивались. Не это важно, а дело основное – главное задание! Вот только приступить к нему никак не мог – «легочная», будь она неладна.
Литвин натужно выкашлялся и вытер рот. На тыльной стороне ладони алела полоска крови. Он достал из кармана платок и отер руку. Не хватало еще помереть здесь, на окраине империи. Сама империя жива, а он, столько сил и времени отдавший для борьбы с ней, помрет в богом забытом месте, посреди бескрайних желтых степей, самана и камыша, и что самое плохое, так и не выполнив задания ячейки.
В дверях показались тени, и сквозь висящую вместо двери штору он услышал голоса.
– Может, к Байдалину его, в уездную? – спросил хриплый голос. – Уколы какие… Хотя бы временно? Или лучше врача сюда. Помрет же! Денег с кассы возьмем. Почков пусть выдаст!
Собеседник хриплого немного подумал и шепотом произнес:
– До дохтора? Сойдет!
Литвин, правой рукой схватившись за спинку кровати, приподнял себя на подушку.
– Что за Байдалин? – строго спросил он. – Врач местный?
Занавеска в проеме сдвинулась влево, и в комнату, наклоняя головы под дверным косяком, зашли двое. Оба русые, плечистые, рубашки кушаками подвязаны, а поверх рубах – пиджаки. Первый, что с хрипотцой в голосе, в кулак откашлялся – кулак размером с кузнецкую наковальню. Второй за железную кровать схватился – чуть перекладину не вырвал, и не помеха ему, что на левой руке трех пальцев нет, как краб клешней держит. Литвин сам просил девок и студентов в помощь не давать, из рабочих лучше помощники. Вопросов мало задают, при деле пользы больше.
– Феодос, – беспалый кивнул на своего друга, – до дохтора предлагает. Вы ж тут того… А мы потым як? – Он не мигая смотрел на Литвина, словно оценивал, сколько тому времени отмерено еще жить.
– К доктору, конечно, – подтвердил хриплый, – с Нестором всё сделаем!
Литвин без сил сполз с подушки и лишь кивнул в ответ.
Доктора привезли быстро. Уездная больница, стоявшая со стороны Купеческого квартала, находилась недалеко, и Нестор бегом, не останавливаясь ни на минуту, успел получить деньги от Почкова и минут за десять до открытия больницы уже был возле дверей врача.
– Дышить дурно, – сообщил он доктору, – як жаба в грудях свистит!
Байдалин только и успел переодеться из халата в черный драповый костюм и захватить с собой медицинский саквояж, как Нестор уже заталкивал его в нанятую бричку.
– Спокойней, спокойней! Если так торопиться, то забуду чего-нибудь! – рукой приостанавливал его врач.
– Што там? – удивленно посмотрел на рыжего, с очень светлой, практически белоснежной кожей врача Нестор. – Сбегаю, если што! Помирает! Шибчей!
Больной и вправду умирал. Закончивший Томскую медицинскую академию земской врач Байдалин Темирбай Тулегенович еще раз прослушал грудь Литвина и переставил табурет ближе к окну. Вздохнул, вытер ладони о суконное полотенчико и, приподняв белесые брови, заключил:
– Чахотка, господа! Если я и могу быть в данном случае чем полезным, то не в Акмолинске!..
– А где? – нетерпеливо перебил его Феодосий. – Куда его?
– В Санкт-Петербурге на кафедре хирургии у профессора Мелчикова или хотя бы в военном госпитале Оренбурга… А здесь – увы и ах. Впрочем, лучшее, что вы можете сейчас сделать больному… – он посмотрел на двух сопящих перед ним людей, – это вынести его на свежий воздух. Здесь, в комнате, ему только хуже. Хотя какой у нас воздух. Ему бы в Пятигорск или в Ялту…
Нестор, выпучив глаза, смотрел то на лежащего в испарине Литвина, то на рыжего доктора, то на Феодосия, словно не понимая, о чем идет речь.
– Куды Ялта, – наконец выдавил он, – не доедеть!
Байдалин, захлопнув свой саквояж, задумчиво затеребил пальцами по бронзовому шпингалету замка.
– Не в моем праве советы такие давать, – прекратив барабанную дробь, сказал он и поднялся к выходу, – но раз других вариантов нет… Акулина, знахарка, в городе живет. Сам не знаю, не встречался. Но говорят, сильна… Впрочем, решайте сами. Я вам этого не говорил. Прощайте.
В дверях доктор остановился и слегка замешкался, будто хотел еще что-то добавить, но вместо слов раздались очередная барабанная дробь и невнятное бурчание.
Феодосий, расстегнув все пуговицы на воротнике, словно не Литвину, а ему было душно и жарко, присел на освободившийся табурет. Осторожно потрогал лоб Литвина и присвистнул – горяч, как печка!
– Во дела-то! – хрипло ругнулся он, добавив пару матерных слов. – Во дела… И что?
– Ялта?
– Да какая Ялта! Ты хоть знаешь, где это? У нас через три дня акция. Какая Ялта… – Уткнув лицо в ладони, Феодосий чуть ли не зарыдал. – Этот уже под городом стоит. С ним три десятка конных. Всем оружие раздали. Через три дня на город двинут. Какая, черт возьми, Ялта!
Нестор прищурился. Зажевал свой ус. Жевал, впрочем, недолго, перебирая вслух имена.
– Ага! Знаю тую Акулину, – он поднял свою клешню с двумя пальцами, – за шкирку приведу! – Схлопнув пальцы в кольцо, он показал, как сделает, и выбежал из дома.
В слободе к бабке Акулине относились по-разному. Кто считал ведьмой, кто сумасшедшей, кто блаженной, но сводились все мнения к одному: лечить она умела! Да и какая бабка – женщина еще. Ходит только как бабка. Платок туго на голове завяжет, черные юбки да платья с мелкими пуговками рядами застегнуты – не разберешь ни фигуру, ни возраст. Мужика у нее нет – значит, бабка, сколько лет бы ей ни было. Лечила Акулина травами, отварами да шептаньем. Лет пять назад появилась, когда с Вятки народ гуртом в степи повалил. С обозом пришла, как и где поначалу жила – непонятно. Но вскоре под Шубинской сопкой поселилась, в доме, где казак Савелий помирал. Ухаживала за ним. Выходила. Затем за другим казаком, за третьим… Все, правда, недолго жили после ухаживания, но разве кто это помнит. Лечит – и все тут! За все берется. Говорят, даже лепру может отшептать.
Феодосий от неожиданности вздрогнул, когда Нестор Акулину силком в комнату втолкнул. Та руки растопырила, платок с головы ее слетел, огненные волосы по всей комнате разлетелись – озарили стоящий полумрак, как кометы с неба посыпались искрами. И не бабка вовсе. Глаза злые, дикие. Нестор руку потирает, на пальце след от укуса. А Акулина на Литвина только взглянула, орать стала – точно ведьма!
– Ды не ори ты! – Нестор замахнулся на нее рукой. – От шаленая… Вишь, помирает!
Акулина, как лиса, спину выгнула, из-под бровей зыркнула на Литвина и коротко сказала:
– Сатану лечить не буду! Пусть издыхает!
– Ды яки сатана-то? – спохватился Нестор, по инерции вновь замахиваясь рукой. – Всю дорогу одно и то же. Сатана и сатана! Мыло варить приехал! Мыло! Чуешь?
– Сатанинское мыло? – усмехнулась Акулина. – Таким мылом черти в аду людей моют – с кожей, до костей чистит. Не буду лечить!
Феодосий, молчавший все время, внимательно разглядывал знахарку. Она даже показалась ему красивой – и зачем себя в тисках старческих зажатую держит? Глаза живые, вон как сверкают. И родинка на щеке как мушка держится. Не бабка совсем!
– Ты нам помоги, – вздохнул он, поднимаясь со стула, – товарищ живым нужен! Поможешь? Без него мы никто. Сатана он или черт, это тебе решать, для нас он старший друг. Понимаешь? Без него еще хуже будет, черти в аду ангелами покажутся.
Акулина подошла к Феодосию, доставая ему ровно до груди, и подняла взгляд. С минуту молча смотрели друг на друга. Затем знахарка наклонилась к Литвину, бледному, с дыханием, похожим на свист, и приподняла его веки. Глаза умирающего закатились далеко вверх, обнажая белые, без кровинки, глазные яблоки. Акулина взяла его руку и потерла запястье. Затем, сжав пальцами пульс, надавила другой рукой на грудь. Литвин прерывисто задышал и открыл глаза. Сквозь идущие из груди хрипы изредка вырывались чистые вздохи.
– Не смогу, – поджав губы, сказала она, – болезнь эту не смогу отшептать. Да и травы тут не помогут. На день смогу поднять! А дальше вашего сатану пусть земля забирает. Выйдите все из комнаты только!
Феодосий подтолкнул Нестора к выходу и задернул за собой занавеску.
Закурили махру, выпуская дым то вверх, то вбок, а то просто проглатывая, давясь горьким самосадом. Сразу за домом, где помирал Литвин, шла дорога от Грязного булака в город. По ней после Черного брода заезжали все обозы и оказии, идущие с севера. Дом Литвину взяли специально на выходе из города, не на самой окраине, а на дороге, чтоб при случае сразу уйти незамеченным. Вокруг стояли такие же саманные хаты с покатыми крышами, покрытыми накиданной сверху соломой.
Рядами, кривыми улицами застраивались переселенцы из Малороссии. На другой стороне селились, подпирая друг другу стены, тамбовские крестьяне. Эрзя с мокшей делили самый дальний край слободы – Мордовский. Там дома были посажены вперемешку: не разберешь, где улица, а где проход, где огороды пошли, а где порожек дома. Собьешься с дороги, во двор зайдешь, а там на тебя или пес с цепи кинется, или того хуже – с топором пьяный хозяин. Что Феодосий, что Нестор без нужды особо по Мордовскому краю не шастали – улиц мало, зато переулков много, и за каким тебя ждет напасть – неизвестно. Народу в слободе в последнее время набилось много. Черт пойми, кто и откуда. По говору тоже не всегда понятно. Вроде бы человек спокойный, а рожа убийцы! Кто в Акмолинск трудиться приехал, а кто от сыска беглый – не сразу в толк возьмешь.
– А коли не подымет? – раскуривая новую махорку, задумался Нестор. – Ей-то шо, щас скажет – день поживет, а потым ищи ее – рыскай! Если не подымет? А?
– Заладил! – Феодосий сапогом покрутил по земле, туша самокрутку. – Поглядим! Вон тот караван не Халила? – он показал на дорогу, по которой шли три верблюда. – Это он когда, давно же уходил?
– Халил, – подтвердил Нестор, – я с ним уже дважды беседы вел. Вроде бы он согласный за народ, а потым за старые песни.
– Эт ж какие? – нахмурился Феодосий. – «О Аллах»?
– Да не! – Нестор махнул рукой Халилу и прокричал: – С приездом! Вечором загляну!
– А какие? – не унимался Феодосий.
– Шибко он интяресный. То про какие-то деревья талдычит, то про луну над пустыней, то однажды сказал мне: ваша, мол, партия мне нравится, но больно колейка у няе узкая. Не все, мол, влезуть. Я, говорит, вот пока помещаюсь, вы рядом, а как уже станет тесно, дык в обочину скинете.
– Нужен он нам, – прохрипел Феодосий, – поговорю с ним. Через три дня его верблюды понадобятся. Посмотрим, какая у нас дорога с ним выйдет.
Акулина, снова умотанная в черный платок, вышла на улицу. Сложив руки на груди, сказала:
– Все, что могла, сделала. Сатана жить сутки будет. Дальше опять шептать нужно. Но с каждым днем ему будет хуже.
– Ты уж помоги, – Феодосий попробовал взять за руку Акулину, но не вышло: знахарка сурово взглянула на него и отдернула локоть. – Не может он долго в постели валяться. Дела у нас.
– Дела у вас… А он еле живет, – знахарка покачала головой. – Завтра приду. И к степному лекарю его надо везти. Я шептать долго не смогу. Сознание уйдет, тело останется – как кукла станет.
– А у тых што? – дожевывая самокрутку, спросил Нестор. – Свои какие зелья?
– Баксы! – кивнула она и, приподняв юбку чуть повыше, перешагнула через лужу. – От Северного выгона недалеко живет, он эту болезнь знает.
Феодосий взглянул ей вслед и в очередной раз сам себе сказал: «Красивая, чертовка».
Очнувшийся Литвин уже сидел за столом и что-то чертил на бумаге. На доводы Нестора и Феодосия отмахивался, то и дело толкая себя в грудь, словно поправлял в ней сбившийся механизм.
– На улице лежать не буду! Сколько глаз? Со всех сторон меня видеть будут! И так шороху навели. Врач еще этот…
– Того? Ликвидировать? – спохватился Нестор. – Я щас!
– Зачем? – поморщился Литвин, ненароком уже подумывая, что все же двоих рабочих он зря попросил, не мешало бы студентом эту дуболомость разбавить. – Зря его привезли. Деньги из кассы взяли. А эта? Знахарка…
– Акулина, – подсказал Феодосий.
– Сатаной меня все звала. Знает что?
– Сказали, мыло вы приехали варить, – в маленькой комнате Феодосий все никак не мог найти себе место и стоял в дверях, – причитала, что от этого мыла черти в аду веселятся.
– Даже так? – ухмыльнулся Литвин. – Занятная барышня. Бабкой притворяется. Беглая?
– Проверить? – снова предложил свое участие Нестор. – Я щас!
Литвин ничего не ответил, лишь на сухом скуластом лице заиграли шишки желваков.
– На ноги подняла и ладно! – Он пододвинул листок бумаги поближе к подслеповатому оконцу, затянутому бычьей пленкой. – Ничего не видно!
– Так ненадолго… – В голосе Феодосия зазвучала такая хрипота, что на миг показалось Литвину, будто его болезнь перекинулась на этого здоровяка и теперь его легкие сжимают стальные, острые как бритва обручи.
– На сколько? – Литвин в упор посмотрел на Феодосия. – Сколько у нас есть времени?
– Сутки! Дальше хуже станет.
Тяжелый удар ладони по столу чуть не опрокинул лампадку, прикрытую красным сукном. Лист бумаги, подлетев к подоконнику, прилип к бычьему пузырю.
– Не успеем подготовиться толком, – тихо сказал Литвин, – банк с наскока брать придется. С Имановым надо обсудить! На сегодня с ним встречу назначить нужно, до завтра определиться. Феодосий?
– В трех часах от города стоят. Если сейчас выйду, к вечеру приведу.
– Нестор, – Литвин оторвал листок от бычьего пузыря и, отодвинув лампадку, положил его на стол, – а мы тут с тобой план города накидаем.
Из-за проклятой хвори все летело в тартарары. На понедельник назначенная акция срывалась. Обложить банк бомбами и взорвать его – дело не одного дня. Без подготовки, без данных и плана отхода. Сумеет ли? А если нет? Рисковать или отложить акцию? Выбора нет, болезнь лишь корректирует действие, а не отменяет его.
Иманова вооружить он успел – не всех сарбазов, правда, а половину. Но тащить сотни верст ружья – это не муку на продажу к ярмарке поставить. Хорошо еще, сам Иманов от Тургая до Акмолинска дороги контролирует, обходы казачьих застав знает. А так бы на первой и погорели. Ясно, что казаки церемониться в степях не будут. Ружья – себе, курьера – в расход. На Кавказе дела, говорят, получше обстоят, абреки многие за демократов. Один Коба чего стоит с отрядами своими. А здесь… Здесь покамест только Иманов, на него ставку решили сделать. С другими не договориться – каждый свое одеяло тянет на себя. Да… Степь не Кавказ и не Поволжье даже. Подпалить чтоб, много мыла надо… Откуда все-таки Акулина про мыло узнала или так ляпнула?..
Глава 4. Пятничный намаз
В мечети было многолюдно, шумно. Жума – пятничный намаз – еще не начался, и мусульмане, ожидая второго азана[7], толпились во дворе небольшими группами. Вокруг невысокого человека, похожего на разукрашенный пузатый бочонок, собрались бухарские сарты. В пестрых полосатых халатах и с белыми тюрбанами на головах они напоминали сказочных рыб, плавающих возле затонувшего с богатствами пиратского корабля. Сарты то доставали из своих бездонных карманов какие-то бумаги, то вновь их убирали, то вдруг закрывали голову руками – причитали.
Человеком в центре круга был Джалил. Уже лет десять, как он был главой общины сартов в Акмолинске, совмещая этот пост с собственной торговлей и должностью главного смотрителя на городском базаре. Если последние два занятия приносили Джалилу доход и уважение в обществе, а также существенные вливания со стороны желающих торговать на хорошем месте в хороший день, то первый, выборный, пост (и не откажешься же) больше доставлял суеты и нервотрепки.
Вот и сейчас, когда с минуты на минуту имам поднимется на минбар[8] и начнет читать пятничную проповедь, он вынужден слушать споры и крики о долговых расписках: Юсуф не отдал Юсупу; Фаузайми просрочил день; Хасан убегает от Рахима. «О Алла, – Джалил закатил глаза, – дал ты мне наказание». Он в сотый раз подумал о том, что быть главой у сартов – сущий ад. Другое дело – у башкортов, или уйгуров, или тех же касимовских татар, на чьи деньги построена эта мечеть, да хоть у казанлы[9] – куда ни шло, но раз он сам сарт, кто даст ему стоять над казанлы? Хуже, наверное, только быть старшим в слободе! У тех вообще не принято решать вопросы в своем кругу, чуть что, на люди выносят – позор один. Орут, бегают, рожи красные, араком все дела решают. А пьяный какие дела решишь? Кого услышишь? Нет… лучше уж среди своих разбираться.
Джалил, взяв протянутую ему бумагу, пробежался по ней своими крупными, как у совы, глазами.
– Ну вот! Я сколько раз говорил? – он обвел всех взглядом.
Сарты, вмиг перестав галдеть, успокоились. Стали внимательно слушать.
– Говоришь вам, говоришь! Одно и то же! Зачем ты, – Джалил ткнул пухлым указательным пальцем со сверкавшим на нем рубином в высокого сарта, – зачем ты, Шахар, дал в долг ему… бухарскому, в долг! Да еще с распиской? – Он перевел палец в сторону еще безусого юноши в цветастом халате. – А ты зачем расписку с Ахмеда взял? Не знаешь его? Не видел никогда раньше? Ваши отцы не вместе сюда пришли? Лавки у вас не друг напротив друга стоят? Не один товар от Халила получаете? Стыд есть у вас? Раз харам не страшен…
Круг молчал. Шахар тоже молчал, виновато опустив голову.
– Вам некому больше давать в долг? – перешел на шепот Джалил. – В Акмолинске никого другого не осталось? Что молчите? И не бегайте больше ко мне… Если кто своим дает – не буду решать. Сами разбирайтесь!
– А кому давать? – Шахар наконец поднял голову и, сложив руки на груди, осторожно наклонился в сторону Джалила. – Казанлы с мишарями к нам не ходят, им касимовские помогают, и наоборот, башкорты не торгуют, а если нужда, то терпят. Кипчакам и аргынам опасно, могут не вернуть… – Шахар чуть слышно прошептал: – Чуть что – угрозы сразу! Со степи беспокоятся, в гости заезжают! Никто не хочет связываться.
Шахар повернулся в сторону круга.
Все замахали головами. Подтвердили.
– Так с кем работать? – задал вопрос Шахар. – Не с кем, выходит.
Джалил улыбнулся, кряхтя, вроде как по-отечески погрозил всем пальцем. Затем положил правую руку на плечо Шахара и развернул его в сторону Купеческого квартала, остановив как раз напротив громадного белокаменного собора. Не дожидаясь ответа, Джалил вновь повернул Шахара, но уже в сторону Казачьего стана, и опять перед глазами высокого сарта возникли купола, на этот раз чуть поменьше, монастырские.
– Их вам мало? – перестав улыбаться, спросил Джалил. – В этом году мокшей да эрзя под сто обозов пришли. С Вологды да Костромы народ появился. С кем-то познакомились? К то-то слышал про вас? Или и за них кто беспокоится? А?
В этот момент прозвучал второй азан, и сарты, быстро закивав в знак понимания, стали рассовывать свои бумаги по карманам широких халатов.
Через центральную арку с открытыми коваными воротами двор мечети заполнялся народом. Прошли быстрым, суетливым шагом, боясь опоздать, мишари. В черных длиннополых кафтанах из пестряди и в широких штанах – ыштанах, они самые первые зашли в мечеть, рассаживаясь поближе к михрабу[10]. За мишарями в зале мечети расположились башкорты, аккуратно подминая расписанные, праздничные еляны[11], надетые поверх двух, а то и трех халатов. За башкортами небольшой группой, в простроченных ватных чапанах, разместились уйгуры, они держались общим гуртом, не делясь на восточных и южных. Аргыны[12] зашли вместе с купцом Байщегулом, разбавляя входящих вместе с ними пестрых сартов однотонным синим цветом своих чапанов. Последними обувь перед мечетью снимали казанлы с касимовскими. Одеты были они одинаково – в легкие просторные джиляны. Только у первых джилян был без шалевых воротников.
На минбар поднялся имам-хаттыб[13] Карабек. Сегодня, в пятницу, вместо обычной полуденной молитвы зухр он прочтет хутбу[14] и, с перерывом перед второй частью, закончит пятничный намаз.
Остановившись на третьей ступеньке деревянного минбара, Карабек оглядел зал. В большой татарской мечети помещались не все мусульмане города, большинство осталось на улице и ждет оттуда начала проповеди. Карабек облокотился на искусно переплетенные, словно лоза, перила минбара… Красиво вырезал вятский татарин Гумер и двери мечети, и минбар, покрыл всю поверхность лаком да пропиткой. На полу гранитные срезы вперемешку с мраморными плитами лежат ровной гладью. Сверкает изнутри мечеть, в народе прозванная Татарской. Татарской – потому что на деньги купца Забирова построена. Зеленой – из-за крыши медной, крашенной под изумруд. Отсюда и название… Двадцать лет назад построили, вот и не вмещает сейчас всех. Столько людей в город приехало, и еще едут, и будут ехать…
А тогда, двадцать лет назад, когда Карабек еще в медресе мугалимом при старой Султановской мечети был, уговаривал он: надо новую строить! Каменную, да с минаретом высоким, михрабом на Мекку! Но у аргынов своя, Султановская, и их самих в городе мало, все в степях, при пастбищах, зачем им в городе вторая мечеть? Сарты? Уйгуры? Казанлы?.. Все промолчали, отворачивая глаза. Забиров взялся. Потом уж, конечно, совесть и казанских с касимовскими взяла. Смотрят, дело-то идет. Забор выше домов многих уже стоит… А где забор, там и сувал[15] скоро появится. Пришли, принесли деньги. Все до тиына по бумагам прошло. Перед всеми отчет был дан, куда потрачено и сколько. А как закончили строить – то уже не до старых обид, лишь бы места хватало. Время прошло, в Татарскую мечеть все ходят. Все молятся…
Карабек начал проповедь.
Тихо под сводами, не слышно даже вздохов. Лишь огромная камышовая стрекоза, залетев в зал, крыльями сечет по стеклу. Июньское солнце прогрело полуденный воздух, но в мечети прохладно и свежо. Так же должно быть светло от дум и дел своих. А иначе как? Зноем, жарой и пеклом в разуме чистоты не удержать! От гнева, гордыни и алчности не только мозги плавятся, но и дела растекаются, словно и не было ничего. Будет холодный разум – будет тебе спасение и твердый шаг в делах, а гордыня возьмет – как Кенесары о Шубинскую крепость разобьешься: кровь прольешь, а дела не выполнишь. Тихо в мечети… даже стрекоза успокоилась или шею себе о стекло свернула…
Карабек присел на минбар. Перерыв в хутбе нужен обязательно, а ему, девяностолетнему, сухому как жердь старцу с белой длинной бородой, вроде как и нет. Откуда силы берутся? Пальцы, правда, скручивает, левой рукой уже писать не получается, только правая калам[16] крепко держит. Ни грамма жира на теле нет. В день по пять намазов обязательно, спина гнется, колени слушаются. Но не это главное. Главное, чтоб разум чистый оставался. Разум, как и тело, тренировать надо. Глаза плохо стали видеть, значит, слушать больше нужно. Ни на минуту отдыха себе давать нельзя. Дашь отдых, считай, все – не ты, имам, джамаат поведешь, а тебя самого под руку водить будут.
Вон сидит надутый, как индюк, Джалил. Сюда пришел в грязных калошах да рваных шалбарах. А сейчас на каждом пальце по лалу, серебро да золото. Среди башкортов главный – Тагир-мырза, давно ли мырзой стал? Погрязли в земном, в дунье, в мечеть о душе ли идут заботиться? То-то и оно. Казанлы с хитрецой поглядывают на аргынов, вечно что-то делят! А что им делить? На одной земле живут, под одним Аллахом ходят.
Карабек сам из казанлы, еще до основания города здесь появился. Уже и не осталось тех, кто помнит его безбородым юнцом. Семьдесят лет назад в степи бежал, от царской охранки скрывался. И не будь аргынов, не было бы сейчас Карабека: волостной Уали Карабай укрыл беглеца, документы как на сына сделал – фамилию свою дал и имя новое. Бежал Шарафутдином, стал Карабеком. Был шакирдом[17] в Казани, против царя с другими учениками в медресе бунт подняли, а стал мугалимом[18] в Султановской мечети. Как сейчас Иманов против призыва воинского мятеж поднимает, так и они против службы взбунтовались.
Время идет… С Халилом, что сидит, смиренно склонив голову, возле входа (успел с дороги сюда, значит), одного возраста был. А сейчас? Сейчас сам старше всех в Акмолинске. Уже нет волостных султанов, нет и округа, уезд Омску подчиняется, станица в город переросла, а он, беглый татарин, до сих пор жив. Зачем? Самому неясно… Главное, отдыха себе ни на минуту не давать!
…Дружно все сидят в мечети, смирно и без злобы. Так и в миру надо жить. Гнать плохие мысли нужно. Не ставить себя выше других. Один у нас Всевышний. От этого и в молитве зовем его так, и в горе, и в радости. В одном доме живем. В городе одном. Кто в своем доме пакостит, кто смуту наводит, тому добра не будет. В доме как? Если чистота и порядок, если тишина и любовь, то и дом растет, потомство крепкое да дастархан богатый. А если ссора, если хвора, то и дом чахнет, задыхается. Брат на брата идет. Сын на отца руку поднимает! Сосед на соседа вилы точит… Дружно все сидят в мечети, смирно, без злобы… Только глаза прячут друг от друга… Аминь!
Как бы ни хотел в первую очередь оказаться Халил у дома и обнять Хадишу, попасть к Карабеку было важнее. Кривой Арсен у мечети встретил, верблюдов в загон поставил. Когда второй азан прозвучал, Халил занимал у входа в мечеть место для намаза.
Хутба заканчивалась. Карабек, читая проповедь, по обыкновению учит мусульман быть смиренными и почтительными, а между слов витает учение о дружбе и единстве. Последняя часть у Карабека всегда на арабском. Значений у каждого предложения много, язык двой ной, хитрый, чувствовать смысл нужно. Большинство сидящих молитвы вызубрили, заучили, а Халил в медресе учил, помнит, как не давались ему поначалу слова, как Сакен-мугалим заставлял его рот открывать и язык мял – пальцы в рот засунет и мнет, мнет… чтоб язык легче, податливей для арабского был.
Карабек так не делал: бесполезно, сказал, если в голове пусто, за язык дергать. Лопату в руки дал и огороды копать отправил. Не понял задания, не выучил – копай у Бибинур-апа. Сидишь, глазами хлопаешь, слова не понимаешь – к Салиме-ханум с лопатой идешь. Пока работаешь, в голове мысли появляются, думать начинаешь. Первый год Халил постоянно копал, убирал, чистил дворы. Зато за следующие три года все ясно стало: и русский, и арабский, и уйгурское письмо, и латынь легко дались.
Вот сейчас Халил сквозь слободу верблюдов вел – русский (Нестором кличут) рукой махал и привет передавал. Русский-то он русский, а говор рязанский. Из Тамбова когда пришли в Акмолинск обозы, все так разговаривали – гутарили, по-ихнему. Феодосий рядом с ним стоял. И его Халил знает, в каждом голенище по блуде[19] размером со свинокол воткнуто. Он уже по-другому говорит, окает. Значит, с Вологды. Русский на то и русский язык, всех выравнивает, всех одним слоем мажет – обезличивает!
И здесь так же начинается. Тому же Кривцу, помощнику Тропицкого, особой нет разницы: мишари или касимовские, булгарские или иштяки, ногайцы или сибиры, казанлы – все для него татары, даже кызылбашей татарами кличет. А те татары зачастую друг друга не понимают, как они могут одним народом быть? Кривой Арсен, что ночью спас от смерти, – иштяк. По-русски – барабинский татарин, значит. Для казаков или жандармов пустой звук – не задумаются, где эта Бараба и почему иштяк. Потому и проблемы в городе… Вот на этой мысли и Карабек сейчас проповедь закончил – каждого уважать надо, каждого чтить и понимать.
Халил поднялся с колен и, пропуская людей, боком встал у окна. Дождаться надо, пока Карабек с людьми поговорит, а потом выяснить, что сегодня ночью произошло. Откуда Кривой Арсен взялся на Чубарке, как прознал, что Халил там встанет? Китаец в камышах лежит, ивняком закиданный, не сегодня-завтра наткнется кто, дознаются, что за труп, – дорога к Халилу укажет. Нет, как ни хочется услышать Хадишу, сначала – слова Карабека…
– Чай, – мулла скрюченными от старости пальцами не спеша перебирал оранжевые четки, – сначала чай!
Служебная комната мечети, построенная сразу за минаретом, с левого крыла была небольшая: в самый раз помещаются два кресла, столик да коврик под ним. Карабек, сменив праздничный наряд (белая чалма, атласный кафтан с зеленой накидкой, вышитой золотыми узорами) на простую ежедневную одежду, сидел перед Халилом в тюбетее да рубашке, поверх которой был надет серый камзол с короткими, до локтя рукавами, на ногах – шалбары и мягкие ичиги. Еще недавно имам-хаттыб Зеленой мечети говорил своему джамаату проповедь, а сейчас пил чай как обычный старик в чайхане. Халил в очередной раз удивился, как быстро может Карабек сменить облик и превратиться из одного в другое. Только суть остается в нем та же, это как воду из кувшина в кувшин переливать: кувшины разные – вода одна!
– Откуда узнали? – увидев немой вопрос в глазах Халила, проговорил Карабек и сразу же ответил: – Алимбай тебя видел. Пока ты в Спасске торговал, новость и до нас дошла.
Халил маленьким глотком отпил чай.
– А какое дело Алимбаю до меня?
– Кто ж товары в Спасске сдает, а в город пустых верблюдов ведет? А? – Карабек достал из кармана камзола чехол с очками. – Арсен три дня дежурил, ждал. Алимбай про китайца сказал. Я хотел узнать, что за китаец такой. Узнал.
В очках Карабек стал похож на ученого-астронома из древности. Одной рукой четки перебирает, другой бороду гладит, от самого подбородка до груди пальцами ведет, как чародей сказочный.
– Никакой он не китаец! – заявил Карабек и достал из другого кармана фотокарточку. – Вот, смотри.
Халил взглянул на протянутую ему фотографию. С нее, сидя возле искусственной салонной пальмы, смотрел Асана-сан в военной форме. Внизу на вензеле было подписано: «Фергана. Ротмистр Асанов В. Х. 1904 г. Салон Стужева А.».
– То есть он китаец, конечно, – исправился Карабек, – но служит у царя. И ты в городе был ему не нужен.
От удивления Халил открыл рот, вертя фотографию в руках. Асанов – ротмистр? Так вот откуда русский без акцента. Вот почему не торговался, а торопился в Акмолинск. Но откуда Карабек это знает?
– Хаджи… И это Алимбай сказал?
Карабек, прекратив перебирать четки, поправил очки, затем молча приподнялся в кресле.
– Я стар уже, – выпрямляя спину, ответил он, – давно живу в этом городе… Очень давно… И ко мне разные люди ходят. Все знать тебе сейчас лишнее. Про Асанова никому не говорил?
– Кривой Арсен предупредил, – Халил никак не мог уловить смысл слов Карабека, – да и кому говорить? Но из управы обязательно спросят про него.
– Спросят, – загадочно подтвердил Карабек, – должны спросить. Ты про дорогу мне расскажешь? Про груз? Тебя Тропицкий почему выбрал?
Халил все честно рассказал, без утайки. Как встретился с уездным начальником в пекарне, как без помощников ушел в Бухару, как познакомился в караван-сарае то ли с японцем, то ли с китайцем – ротмистром Асановым, как пришлось его брать с собой.
Про обратный путь Карабек слушал особенно внимательно. Задавал вопросы, особенно когда Халил рассказывал про остановки и груз.
– Чувалы, – задумчиво ходил по небольшой комнате мулла, – два чувала. А что в них?
Халил пожимал плечами.
– И Асанов именно их взял, а не ящики с тканями. Интересно… На чувалах печати какие?
– Вроде Коканда.
– Все верно, – так же думая о чем-то своем, сказал Карабек, – кокандских ханов печати стоят.
Когда Халил рассказывал про чомолаковцев, Карабек интересовался их оружием.
– Такое же новое, как Иманов получил. С одного склада, значит. Понятно…
На рассказе про Алимбая замолк. Затем неожиданно произнес:
– Алимбай всю правду сказать не может. Сам, скорее всего, многого не знает. Но в Акмолинске гроза собирается, что-то назревает. – Мулла провел ладонями по седой бороде. – Уходить надо тебе с Хадишой на Джамалеевку. Там отсидись. К тебе могут сунуться, когда гроза начнется. Ты теперь всем нужен.
– Да кто сунется? – не сдержался Халил. – Какая гроза? Что происходит?
– Асанов этот никакой документ при себе не держал? Не показывал? – не обращая внимания на слова Халила, твердо спросил Карабек. – Кроме этих чувалов ничего не вез?
– Нет. Все, что было, на хамамах грузили. Часть ящиков осталась. При себе, кроме халата и туфлей, не было ничего. Чалму и то мою взял.
– Сегодня груз Тропицкому отдашь, – размышляя, продолжал Карабек, – а будет про своего человека спрашивать, скажи, что в Спасске остался. Раз чист ты, то отпустит. А нет…
В этот момент в дверь постучались, и в комнату заглянул невысокий, одетый в белый легкий костюм человек, держащий в руках круглую летнюю шляпу с узкими полями. Большелобый, с живыми, немного навыкате глазами и модными нынче усиками (подбритыми у губы), он был похож на сома.
Мулла кивком дал понять, что заходить можно. Поздоровавшись с Карабеком, человек в белом протянул руку Халилу.
– Садвакас. Учитель в школе. А вы?
– Халил. Караванщик.
Садвакас с интересом разглядывал Халила.
– Тот самый караванщик, значит! Ну-ка, ну-ка, я вас получше разгляжу! Красавец! Выжил, значит!
Халил, услышав последнюю фразу, сжал кулаки, напрягся.
Садвакас, словно поняв, что допустил оплошность, стал говорить еще быстрее, поглядывая то на муллу, то на Халила:
– Дорога дальняя. Я бы точно не выжил. Вы же видите, как я одет. В таком костюме и шляпе дальше Каркаралинска навряд ли доеду. А в холод и подавно. Карабек-хаджи про вас много рассказывал. Позвольте, – он, заметив лежащую на столе фотокарточку, взял ее в руки, – это же фотография, которую мне сэр Томас из Тоттенхема передал. Карабек-хаджи, помните, он еще сказал, чтоб я вам ее показал и про Халила напомнил? Значит, прав был сэр Томас, этот военный человек был опасен!
– Был? – переспросил Халил.
– Ну, раз вы здесь, – рассмеялся учитель, – значит, был!
Час от часу не легче, подумал Халил. Карабек недоговаривает, из города советует уехать. Учитель тоже без остановки болтает. Еще какой-то сэр Томас появился. Шел в мечеть с одним вопросом, уходит – с целым ворохом.
– Впрочем, – Садвакас провел по лбу платком, – не слушайте меня. Карабек-хаджи в сто раз умнее, и слушать надо его. А вас, Халил… Вы женаты, кстати? Вот если женаты, то обязательно жену с собой берите, у нас завтра вечером в училище спектакль. Называется «Волны счастья». Придете? Я в город ненадолго, на неделю всего приехал. Вы должны быть и посмотреть. Будет очень интересно!
Карабек снова сел в кресло и перебирал четки – все, что нужно, он узнал от Халила. Чувалы с кокандским сургучом необходимо отдать Тропицкому. Забирать их опасно, да и что с ними делать. Не сэру же Томасу, действительно, отдавать. Садвакас – человек от бога, поэт. Обмануть его, как ребенка, можно. Сказал ему англичанин, он и поверил… Эх… Лет тридцать бы скинуть сейчас, чтоб как тогда, когда мечеть строили, мог бы генерал-губернатору на его издевательский указ: «Строить мечеть разрешаю. Но без минарета» в лицо сказать: «Ты церкви свои без крестов строишь? Народ не гневи… Гроза будет!» А сейчас… Сейчас гроза неминуема, говорить уже никто не хочет… И никто уже не слышит друг друга!
– Халил! Тебя же Хадиша ждет! – невзначай напомнил Карабек караванщику про дом. – А мы с Садвакасом еще посидим. Если что, Арсен тебя позовет!
Попрощавшись с муллой и Садвакасом, Халил вышел из мечети и быстрым шагом направился к верблюдам. Через минут десять, пройдя по Большой Татарской улице, он будет дома, откроет зеленые резные ворота и наконец-то обнимет Хадишу.
Глава 5. Дача
На даче у Кубрина играли в городки. В очерченном «городе» стояла рюха «баба в окошке», а сбивал ее сам купец первой гильдии, глава городской думы Степан Константинович Кубрин. Купец в коротких брюках-бриджах и белом вязаном свитере походил больше на жокея, чем на достопочтимого и уважаемого мецената и думского главу. Аккуратная стрижка и тонкие усики резко отличали Степана Константиновича от остальных игроков. Егоров Иван Иванович – грузный старик с бородой лопатой; Силин Калистрат Петрович бровями мохнат, из ноздрей даже волос торчит; Байщегул – толстяк с бритой головой и клочком бороды на подбородке, глаза хитрющие.
На то и гильдии разные, подумал Тропицкий, слезая с возка, что все эти доисторические, из прошлого века люди – купцы второй гильдии, а модный, как английский бизнесмен, Степан Константинович – из первой. Разве что мясистые уши да нос широкий выдают в нем сибирскую, кряжистую породу. Видно, что не дворянских кровей. А кто сейчас на это смотрит? Сейчас больше за заслуги и пользу жалуют, чем за фамильные принадлежности. Кубрин ведь и на приеме у царя был. Трижды причем. В первую очередь, он поставщик двора его Императорского Величества. Муку двор только акмолинскую берет: белую, самого тонкого помола. Во второй раз за построенное на свои средства женское училище орден Святого князя Владимира первой степени получал. А третий раз… Вот по третьему сейчас и придется разбираться.
– Кто так рюху ставит? – замахиваясь битой, звонко прокричал Кубрин и метнул ее с кона, выбивая сразу все фигуры на площадке. – Тихон! У тебя не баба в окошке. Знаешь это?
– А кто? – к «городу» подбежал слуга Кубрина, Тихон, чтобы расставить новую рюху – «рак». – Всю жизнь баба в окошке была.
– Хрен в лукошке, – Кубрин увидел уездного начальника и покрутил битой в руке, – я только замахнулся, а она развалилась. Ставь нормально! Крепко!
От Ишима тянуло прохладой, на самом берегу меж выруб ленных полос камыша на искусственном пляже из завезенного с Алексеевского карьера крупного песка стоял столик с фруктами. Кубрин издалека махнул Тропицкому и сам пошел к столику. Тихон, поставив фигуру «рак», посмотрел на Байщегула. Тот поморщился и передал свою биту Силину.
– Эх… – Бита, перескочив «город», вылетела прямиком к даче, разбив оконце на веранде. – Ее-е-е!
– На ногах еле стоишь, – заметил Егоров, – иди лучше к бане, поспи. Тропицкий приехал! Ермухамет, бросай играть. Хватит!
Байщегул пожал плечами:
– Дурацкая игра. Я и не играю. Тихон! Уведи Калистрата Петровича спать и нам накрой у бани.
Тихон, взвалив на себя обмякшего купца, потащил его к даче, где уже были поставлены лавки для отдыхающих.
– Поговорят сами сначала, – Егоров поглядел, как уездный начальник садится за летний столик и как напротив него с битой в руке о чем-то задумался Кубрин, – потом советоваться будут. Обождем! Вчера англичанину крупно продулись. Калистрат до сих пор отойти не может – я векселя всадил, а он у сартов занял.
– Зачем сарты? Сами не могли?
– Степана не было. У меня все в товаре. Векселя заложил! Отыграюсь завтра! А Калистрата пьяного остановишь разве? Англичанин рот разинул, глаза выпучил, а он орет «еще, еще!» – вот к сартам и понесло. Ты-то ведь не ходишь! Боишься проиграть?
– Нам нельзя в азартные, – хитро улыбнулся Байщегул и подергал себя за бороду, – Карабек так говорит: «Играть в азартные игры – харам».
– Татарской мечети старик мулла?
– А знаешь, что он казанлы своим еще говорит? – вдруг стал серьезным Байщегул. – Что в карты своим между собой играть нельзя, а с русскими можно. Газават вроде бы как. Но проигрывать нельзя. Раз сел играть с иноверцами, то выигрывать нужно. Вот!
– Хитро, – согласился Егоров, выглядывая из-за бани, как обстоят дела у столика, – хитрый у вас мулла.
– Да он не наш, – беря с подноса стакан с водкой, сказал Байщегул, – надоел всем. За здоровье!
– Угу, – подхватил Егоров и смачно закусил соленым огурцом.
Кубрин, слушая Тропицкого, смотрел на свою дачу. Строил долго, каменную, с длинной верандой из темного толстого стекла. Хотел, чтоб как на Волге видел: дача с чердачком, белым цветом покрашена, а с дачи выход на речку сразу, пирс. Рядом с пирсом баня рубленая. Так и вышло. Стоит дом со входом при колоннах, с верхними поясами и угловым рустом по всем сторонам. Перед входом газонная трава, вдоль реки пляж. Можно бы в бадминтон или теннис играть. А получается только в городки. Силин еле на ногах стоит, приехал за помощью денежной, да Егоров бородатый с Байщегулом рядом всегда крутятся, играть не играют, а слушать любят… Но такое, как сегодня, не для их ушей – Тропицкий дело говорит, ротмистра Асанова с караваном нет, а это значит, что с секретным документом могут начаться большие проблемы!
– И выходит посему, – заканчивал Тропицкий, – Василий Христофорович либо сам сбег, либо убит. Но об этом узнаем, когда караванщик ко мне в управу придет.
– Караванщика как величать?
Кубрин наконец-то оторвался взглядом от дачного дома и, взяв графин, разлил по фужерам ягодное вино.
– Документы как должны были передать тебе?
Уездный начальник пригубил вино.
– Халил. По договоренности ротмистр должен был… – Тропицкий слегка замялся, – убрать Халила и сам документ к вам на дачу доставить. А зашел только Халил и…
– И?
– И три верблюда.
– А почему три? – Кубрин тоже отпил из фужера. – Зачем ему для одного документа целых три верблюда?
– Прикрытие, – Тропицкий закинул ногу на ногу, – Асанов, опять же, страховался по дороге. Мало ли что.
– Дела!
– Дела! – повторил за Кубриным Тропицкий. – Дела-а…
– И как решать эти дела? – Степан Константинович вопросительно взглянул на Андрея Ивановича. – Ты вот сам говоришь, что вместо одного документа два вьюка привез бумаг.
– Во-первых, – Тропицкий зажал мизинец, – Кривца, помощника своего, за Халилом отправлю. Во-вторых, – он зажал сразу безымянный и указательный пальцы, – если Асанов и вправду сбег или убит, то выпытаю у Халила, где это случилось, ну и, в-третьих, разворошу вьюки, найду что треба.
Кубрин сжал биту так сильно, что костяшки пальцев побелели.
– А если затерялся документ в туркменских мешках? Зачем этого Халила убирать нужно было? Нельзя все по-нормальному делать? Привез, доставлен документ, караванщика на покой… А теперь, я уверен, ни от Халила ничего не узнаем, ни ротмистра нет! Ты, Андрей Иванович, не засиделся ли на своем месте? А?
Тропицкий выпрямился на стуле, хрустнул шеей.
– Считаете, не справляюсь с обязанностями? Воля ваша! Сегодня же рапорт на стол положу-с. Но, прошу заметить, доставка секретных документов не входит в обязанности уездного начальника! Город – да! Порядок в городе за мной. А вот игры шпионские, это увольте. Убийство Халила не моя прихоть, на нем настаивал ротмистр. С документом секретным я тоже не ознакомлен. Вы поручили найти способ доставки, я нашел. Как вы знаете, в долгу-с у вас, за помощь с лечением Матрены Павловны. Вы попросили, я отказать не мог. Но давить и шантажировать меня этим не дам!
– Будет! – миролюбиво ответил Кубрин. – Сгоряча! Полно, Андрей Иванович… Я же сказал, документы прибудут – никаких больше долговых тем. Да и Матрена Павловна, упокой господь ее душу, мне не чужая была, так что от чистого сердца тогда помогал. Жаль, конечно, что не помогло. – Не отпуская биту, он шепотом продолжил: – Ты пойми, – он прочертил битой у шеи, – вот где сидят эти бумаги. Там же, в столице, не слезут. Каждый день теребят по телеграфу. Ну как, Степан Константинович, ну что, Степан Константинович, ну когда, Степан Константинович… И это еще мягко давят. А бывает, что душить начинают. Как им откажешь? Вчера намекнули, не дашь ответ – с поставками муки можешь не торопиться. Про обещанный в Санкт-Петербурге торговый ряд с гостиницей тоже забудь. Каково? Ты думаешь, один за город печешься? А вот представь, что будет с городом, когда муку продавать не сможем да в столице ряды не получим? Кто в городе училища да театры строить будет? Эти? – Кубрин, не оборачиваясь, кивнул в сторону стоящих у бани купцов. – Эти да, эти настроят. Правда, в тех постройках кроме водки да требухи жареной ничего на продажу не будет. Так что, ты не серчай, я тоже в заложниках у ситуации. Бумагу найти надо. И передать ее от греха подальше в столицу. Согласен?
– Найдем, – твердо заверил Тропицкий и залпом осушил фужер приторного ягодного вина, – сам все перерою. Вам не говорили, в чем суть бумаги?
– Документ, переданный царем хану Кенесары, – деловито произнес Кубрин, – Асанов то ли выкрал его у Коканда, то ли купил. И этот документ, ни больше ни меньше, может изменить ход вой ны. Там очень плохо дела обстоят. Немец давит, и свои анархисты не хуже немца. И если этот документ окажется не в тех руках, то хана России.
– Так уж и хана? – приподнял брови от удивления Тропицкий.
– Не всей, конечно, – согласился Степан Константинович, – но нашей степной части точно хана. Хочешь честно? Меня лично предупредили: не доставлю бумагу – могу попрощаться не только с должностью, но и с торговлей. В банк уже распоряжения пришли, приостановить выдачу денег для дел Кубрина. Знаешь, что это такое?
– Найдем, – не ответил на вопрос Тропицкий, – Россия без Степного края – как гусеничка без лапок, кто ее толкать-то будет?
– Вот-вот. Точно, гусеничка, она и есть. А без банка купец первой гильдии Кубрин Степан Константинович тоже гусеничкой станет. Длинной и мохнатой. И каждый петух склевать захочет.
– У банка вчера свет горел ночью, – вспомнил Тропицкий. – Я наряд отправил. Говорят, ревизия. Документ за вашей подписью показали. Степан Константинович, я поначалу удивился, ревизия – и ночью, но теперь понимаю. Надо-с!
– Глазастый, чертяка, – Кубрин потрогал свои усы, сбивая налетевшую пыль мизинцем, – вынужден был проверить все остатки, чтоб, не дай бог, на нас ничего потом не списали. Эй… Ермухамет Валиевич, Иван Иванович, айда к нам. Давай, Андрей Иванович, налегай!
За столом уже колдовал Тихон – составлял тарелки с подноса. Тощий как жердь, с длинными волосами, обрамленными цветастой повязкой, и в расшитой красной рубахе – по мнению Кубрина, на даче слуга всегда должен был так одеваться. Тихон – свой человек, лет двадцать служит. Что ему пьяные купцы? И до всякого другого глух и нем. Стол накроет, в сторонку отойдет, в бане дровишек подкинет. Опять же, на Волге такого официанта видел, тот стерлядь ему подносил. На Ишиме стерляди нет, но Тихон и тут найдет, чем удивить – чтоб по-дачному, без вычурности. На столе одно за другим появлялись заготовленные на обед блюда: отварные щучьи головы, залитые густым, жирным бульоном с перетертым чесноком; жареные караси на скворчащей сковороде, обсыпанные молодой подваренной крапивой; вяленый золотистый лещ-горбач, размером с небольшой зонт; копченые лини, раскрытые по хребту и сложенные стопками друг на друга; в суповой глубокой тарелке дымилась уха, только что снятая с костра, и аромат черного душистого перца, запах лаврухи и петрушки сводил с ума не только собравшихся возле стола людей, но и пчел, которые дружно атаковали Тихона, разливавшего уху по тарелкам.
Ели молча. Кубрин, отложив биту под плетеное кресло, густо загребал баской и дул на уху, выжидая, когда остынет. Байщегул с Егоровым повторяли за ним, но старались растянуть уху в своих тарелках – неизвестно, что после еды ждет! Тропицкий же ел быстро, не дул. Ложка у него была расписная, хохлома, оттого, наверное, и пчел у рта кружило много, как у цветка собирались нектар взять.
– Проглотил, – изумился Кубрин, – Андрей Иванович, ты ж пчелу проглотил! Егоров, ты видал?
Егоров закивал в знак согласия, хотя ничего не видал, кроме своего красного носа и ложки с ухой под ним.
– Переварится, – согласился Тропицкий. – Я однажды воробья проглотил! А тут пчела!
Всем стало не до ухи. Смеялись долго, то хлопая в ладоши, то отгоняя полотенцами пчел. А Тропицкий все рассказывал, как тот воробей сдуру залетел к нему в рот, а он, нет чтоб выпустить его, взял и сглотнул…
– Не знал бы тебя, – вытерев руки о полотенце, сказал Кубрин, – не поверил бы! Иван Иванович, что, вчера игра была? – неожиданно обернулся он к Егорову. – Силин много задолжал?
– Много, – подтвердил Егоров, – уйму.
– Джалилу?
– Да, – встрял в разговор Байщегул, – англичанам как не отдать. А этот хитрец всегда рядом. Вот Калистрата и понесло.
– Андрей Иванович, из казны возьмите за Калистрата и Джалилу отдайте. Как отрезвеет, начнет отдавать, – защелкал пальцами Кубрин. – Силин – дурак, конечно, но быть у сартов на поводу не годится. Сам ты, Иван Иванович, при своих остался?
– Так-то да, – отодвигая от себя тарелку с ухой, произнес Егоров, – я к сартам ни ногой.
– А векселя? – уточнил вопрос Кубрин. – С векселями что делать будешь? Городские расписки же. Неделю срока вроде ты давал.
Егоров угрюмо насупился и пробурчал:
– Степан Константинович… Векселя выкуплю в крайнем случае. Товаром перебью, если надо будет! Лошадей отдам!
– А обязательство? Какое закрепил в них?
– Городской парк!
Кубрин усмехнулся:
– Силен! Точно выкупишь? Может, помочь?
Егоров замотал головой и, схватив щучью голову, разломил ее надвое.
– Я этих инженеров сегодня же обыграю. Голышом уйдут из города…
Словно потеряв к Егорову интерес, Кубрин повернулся к Байщегулу:
– Ермухамет, дела как обстоят?
Байщегул, насаживавший на вилку карася, отложил ее в сторону и вытер салфеткой губы.
– Учителям денег даем. Биям даем. Среди имановских людей своих имеем. Хорошо бы муллу убрать, как кость в горле застрял, – он пальцем показал на разломанную Егоровым щучью голову, – вечно народ баламутит. С поэтом о чем-то постоянно беседует. Театр задумали на днях устроить. Всех приглашают. Говорят, первая народная пьеса. Ой, не к добру оно, не к добру. Разом бы их там всех и грохнуть: болтунов и смутьянов. Не знаю… По мне, вот я бы, Степан Константинович, бомбу туда кинул и все. Чтоб не видеть больше их. А вы все либеральничаете.
– Бомбу? – Кубрин потрогал свои усики. – Жестоки вы, однако. Вы что ж, убить всех предлагаете?
– Не мы, так они нас, – твердо ответил Байщегул, – в беседах мулла с этим поэтом говорят…
– Садвакасом? – Тропицкий, отмахиваясь от роя пчел, переставил поближе к Байщегулу стул. – Они о поэзии говорят.
– Какая поэзия! – воскликнул Байщегул. – Ты, Андрей Иванович, совсем ничего не видишь? Не сегодня-завтра война в степи начнется… а ты о поэзии. Слушай… Я на казахском прочитаю!
- Сені ойлап күні-түні туған жер,
- Қаны қашты һәм сарғайды ет пен тер.
- Бие байлап, қымыз ішіп қызған соң
- Азаматтар мәжіліс құрған мезгілдер.
- Өзен өрлеп, суға қармақ салғаным.
– Это не просто поэзия, Андрей Иванович, – Байщегул перевел дух и заговорил на русском языке, – это призыв. А вы его не слышите. Почему?
Тропицкий ухмыльнулся.
– Почему?
– Да потому, что ни ты, ни твои жандармы не понимают языка. А кто понимает? Правильно, Карабеки всякие. Вы их – казанлы, башкортов и других – переводчиками берете. У тебя сколько казахов при службе? Трое? Двоих из них ты по аулам гоняешь, по призыву народ собираешь. А одного писарем у себя держишь. Кто, по-твоему, эту поэзию разбирать будет? А у этих анархистов да эсеров каждый знает язык, каждый готов выслушать и поговорить. К кому народ пойдет? К тебе, что ли? Того же Карабека если дернуть, столько информации посыпаться может, всю свою каталажную заполнишь, да еще на улице останутся. В городе, кого ни тронь, все всё знают. Один ты ни сном ни духом. Иманов где?
– А где Иманов? – закрутил бородой Егоров. – Разве не у себя в Тургае?
Кубрин тоже прищурился и внимательно посмотрел на Тропицкого.
– По моим сведениям, где-то в районе Атбасара. Сведения собраны с казачьих застав. – Тропицкий встал со стула и вытянулся во весь рост. – А по твоим? Чего молчишь?
– Молчать поздно, – с горечью сказал Байщегул, – под городом Иманов. Бойцов с ним около тридцати. Все при оружии. Стоят уже дня три… чего-то ждут…
– Казаков в городе больше тысячи! – уверенно произнес Тропицкий. – Куда соваться им?
– Говорят, через три дня начнут! – Байщегул, взяв вилку, ткнул ею в карася. – Откуда я знаю, зачем на рожон лезут. Это, Андрей Иванович, твоя епархия. Что-то нужно бишаре[20], значит!
– Час от часу не легче, – присвистнул от удивления Егоров, – выгнать взашей эту свору. Ты откуда знаешь-то?
– А деньги мы из общей купеческой казны кому платим? Они и говорят. Вот этих поэтов гнать с Карабеком нужно! – Байщегул замахал от возбуждения руками. – Иначе завтра сто Имановых будет, и денег у нас не хватит на всех. Казахи пока по нашим аулам спокойные, тут тургайские воду мутят. А если местные начнут? У меня не сто жизней. Часть аулов уже снялись и уходят в Китай. А это, между прочим, наши с вами деньги. На ярмарках без лошадей не жирно будет. На одной муке каравай не такой большой… Мне вот в Китай неохота только лишь потому, что кто-то там, – он указал пальцем вверх, – в столице, придумал казахов на войну брать! Казахов на вой ну! Им никто подсказать не может, что от этого приказа только хуже в степи будет? На вой ну эту не пойдут, зато здесь войну устроят! Куда мне бежать, если кровь начнет литься? К халха? Не хочу к ним!
– Я тоже. – Егоров не удержался и отлил из графина водку. – В слободе вообще непонятно кто живет. Народу набилось тьма. И у каждого рожа – во! – он поднес руки к щекам и растопырил пальцы. – Ты сам, Степан Константинович, чего молчишь?
Кубрин вздохнул и, достав из портсигара белую длинную папиросу, прикурил ее.
– Иманов стоит у города. В слободе рожи. Силин проиграл англичанам. Поэты и муллы читают стихи и устраивают театры. Мы играем в городки. Аулы бегут в Китай. Тропицкий все проспал. Все верно?
Андрей Иванович закашлялся от идущего на него дыма.
– В столице, в Санкт-Петербурге, тоже зыбко. Партий много. Мартовы, Троцкие… Вой на. – Затянувшись, Кубрин кольцами выпускал дым. – Можно, например, покататься на катамаране, – он кивнул в сторону пирса, к которому был привязан покрашенный в желтую краску железный катамаран с большим зонтом между сидений, – отвлекает от дум! Андрей Иванович, записку возьмите.
– Эх! – раздался громкий крик, и заплывшее жиром голое тело проскочило мимо столика, со всего размаху грохаясь в воду. – Е-е-ей!
– Или как Силин – нажраться, – подытожил Кубрин, делая знак Тропицкому, что тот может ехать заниматься своими делами. – Ермухамет Валиевич, Иван Иванович, спасайте Калистрата, а то Джалил с горя повесится!
Тропицкий показал кучеру пальцем вверх и, захватив записку и стопку стоящих рядом с ней копченых линей, пошел к возку. Время намаза уже закончилось. Пора заниматься делом!
Уже в возке, на выезде через дачный охранный пост, уездный начальник развернул письмо Кубрина. На бумаге было написано всего два коротких предложения: «В театре непременно быть. Муллу убрать».
– В управу, – вытирая пот со лба, произнес Тропицкий, – живее, Михаил Саныч, живее!
Глава 6. Дорога в острог
По Большой Татарской улице шел караван. Халил, отгоняя палкой собак, здоровался с соседями, обещая зайти к каждому и рассказать о дороге, о Бухаре, о товарах. Верблюды, завидев дом, важно вытянули шеи вверх и раздули мокрые от соплей ноздри. Стайки уток и гусей, переполошенные шумом, перебегали дорогу, пытаясь не попасть под ноги прохожим. Низкие, густые, как пена на сорпе, облака, казалось, достают до дымоходных труб, и от этого улица была похожа на бурлящий котел, внутри которого клокочет и шипит весь этот родной и знакомый Халилу мир. Пыль из-под ног верблюдов поднимается вверх, оседая на пятничные, праздничные костюмы жителей Татарского городка; на заборы, разукрашенные цветными, как персидские ковры, узорами; на зубах тех, кто, завидев караван, пытается первым узнать про товар.
– Узум привез? Узума в городе нет! – кричит Салават.
– Шая нет! Кок шай привез? – уже с другой стороны улицы, перекрикивая Салавата, спрашивает бородач Касым.
– Отстаньте от человека! – облокотившись на палку, грозно говорит старик Ахмат-абзы. – С дороги пусть хоть отдохнет. Уу-у-у! – показывает он кулак всем соседям. – Совсем совести у вас нет!
– Всё привез, – радостно отвечает Халил, – ко всем зайду!
Улица тянется от Ишима через центр Акмолинска, через ряды мантышных и торговых лавок к Северному выгону, где на самом краю стоит дом Халила, огороженный от степи высокими деревянными палями. Отец поставил дом так, чтоб верблюдам спокойно было поодаль от не умолкающей ни на минуту татарской шумной жизни.
Пройдя закрытую по пятницам мантышную Джалила, верблюды вдруг остановились. Халил, шагавший позади каравана, выглянул и увидел Кривца, рядом с которым стояли два конных казака в синих черкесках и шароварах с малиновыми лампасами. Фуражки не местные, не Сибирского вой ска, тульи не зеленые… Донские или уральские? Что они в городе забыли?
– Тпру-у-у, – один из казаков соскочил с коня и, схватив верблюда за шею, потянул его вниз, – тпру, бесовская скотина!
– Отпусти! – Халил, прибавив шагу, обошел караван и вышел к Кривцу. – Чего надо?
Кривец провел по висячим усам ладонью, доставая из служебного планшета бумагу.
– Отпусти, говорю, – Халил обернулся к казаку, тянувшему верблюда к земле, – свою бабу трогать будешь!
Казак изумленно взглянул на Халила, но верблюда не отпустил.
– Сашко, – окликнул он второго казака, – никак, сопротивление власти?
Сашко, сидя на коне, вытянул из голенища нагайку и положил ее перед собой на седло.
– Халил, – Кривец настойчиво протягивал ему бумагу, – ты же грамотей. Пятком языков ворочаешь. Читай, значитца. Читай, чтоб опосля не гоношился.
– Пусть отпустит! – зло произнес Халил.
– Отпусти! – Кривец махнул рукой казаку. – Без нужды не надо, значитца.
Казак нехотя отпустил шею верблюда и встал сразу за спиной Халила.
Неужто про Асанова узнали, подумал Халил, беря из рук Кривца документ. Но как успели? С утра нашли труп? В мечеть не сунулись, побоялись, а по дороге к дому решили арестовать? Нет… Быстро выходит у них, не успели бы!
Внимательно прочитав документ, Халил понял, что Асанова не нашли. Но от этого не легче. По приказу верблюдов нужно отдать. Так и написано: «Согласно Указу “О реквизиции инородцев на тыловые работы” от 25 июня 1916 года, а также постановлению об изъятии живой тягловой силы в виде лошадей и верблюдов на нужды фронта приказываю реквизировать в г. Акмолинске и аулах уезда покибиточно и по дворам тягловых животных. В случаях отказа со стороны туземцев производить аресты отказников и принудительно забирать скот для фронта. К исполнению. Для служебного пользования». Подпись – «Командующий вой сками Омского округа. Наказной атаман Сибирского казачьего войска, степной генерал-губернатор Сухомлинов Н. А.».
– Ну что, туземец, – стоящий позади Халила казак толкнул его в спину, – грамотный? Читать умеешь? Иль подсобить? Окуляры настроить?
Так вот откуда в городе взялись чужие казаки. Своих, из Сибирского казачества, на реквизицию никто не поставит. Те, кто в городе живет, давно уже в делах погрязли да от местных мзду берут. Хочешь караваны водить – води, но, помимо подати, и нам дай! Хочешь торговать – торгуй, с Джалилом и с нами договорись только. Везде, по всей степи такое. В Акмолинске, в Семипалатинске, в Каркаралинске и Петропавловске, везде!
– Толкаться у себя в казарме будешь, – не оборачиваясь, сказал Халил, – верблюдов не дам!
– Сашко, – радостно произнес казак, – точно, сопротивление! Эх, попервам проучить треба! Огрей хлопца по мордасу! Как калмыков учить надо!
Уральские, понял Халил и, не дожидаясь, когда Сашко взмахнет нагайкой, ударил первым. Врезал локтем в стоящего позади него казака в живот. Тот, согнувшись пополам, грохнулся на землю. Фуражка, слетев с головы, шлепнулась в грязь и торчала козырьком вверх.
– Не дуркуй, Халил, – Кривец сделал шаг назад и резко снял с плеча ружье, – Андрей Иваныч разберется! Давай без стрельбы, значитца.
Сашко, сидя на коне, никак не мог пробиться через стоящих перед ним верблюдов и махал почем зря нагайкой по воздуху.
– Домой вернуться дай! – Халил перешагнул через валявшегося на земле казака. – Что за спешка такая? Чувалы здесь, – он похлопал по тюку, висевшему на горбу верблюда, – из дома сразу в управу привезу!
– Велено, значитца, сразу в управу, – Кривец навел ружье на Халила, – ты же меня знаешь. Приказ!
– Да чей приказ? – не сдержавшись, закричал Халил. – В Омске только до меня дело есть, что ли? Этих двоих зачем с собой привел? Я бандит? Украл? Убил?
В этот момент Сашко наконец-то понял, что через верблюдов ему на коне никак не протолкнуться, и спрыгнул на землю. Замахав нагайкой, он со всей силы огрел стоящего перед ним верблюда, и тот, дико заревев, харкнул в лицо Сашко густой зеленой жижей.
– Разберутся. Я обещаю! – утверждающе сказал Кривец, держа Халила на прицеле ружья. – Сашко, руками, значитца, не три, чтоб в глаза не вошло, – ослепнешь! Гришка, подымайся, чего разлегся. Халил, я тебя прошу, давай без баловства. Тропицкий ждет!
– Забирайте, – пошел на хитрость Халил, зная, что ни один верблюд без его слова шагу не сделает. – Вам верблюды нужны? Забирайте! А я домой! Сами разгрузите. За расчетом позже приду!
Он развернулся и погладил одного из верблюдов по шерсти. Неожиданно Гришка, еще секунду назад валявшийся на земле от боли, возник за спиной Халила и чем-то острым уперся ему в спину.
– Ты бесовских животных сам поведешь! – прошипел Гришка. – И за все мне ответишь! Думаешь, я тебя не вижу? Живо руки за спину!
Сашко, оттерев лицо, быстро достал веревку и, схватив руки Халила, намотал ему на запястья.
– Давай без глупостей, – предупредил Кривец и дулом ружья указал дорогу в сторону управы, – прикажи своим горбатым!
– Бура! Буй! Бой! – прикрикнул Халил на верблюдов.
Из окон, из-за ворот уже высунулись соседи и, заметив связанного по рукам Халила, возмущенно кричали на Кривца и казаков.
– Разберемся, значитца, – успокаивал их Кривец, – ну, чего кричите? Приказ! Или тоже хотите? Эй, куда! Халил, куда они пошли? Эй, стойте!
Халил тихо усмехнулся, глядя, как два казака пытаются удержать верблюдов, которые после его приказа двинулись прямиком домой.
Ясно, что Кривца послал уездный начальник, прикрывшись бумагой из Омска. Если на то пошло, то всех на улице нужно к фронту забирать! А как всех? В городе, кроме слободы, забирать некого! У каждого есть что отдать в полицейский участок или городовому! У каждого на такую бумагу в руки Кривца конверт найдется! Только к нему с казаками наряд отправили, значит, откупиться не получится. Значит, дело не только в верблюдах и чувалах! Нужен и он сам! Зачем только? Асанова искать будут…
– Я с тебя шкуру сдеру, – яростно заорал Гришко, – слышишь, туземец?
Халил обернулся на крик. Сашко, с ног до головы обхарканный верблюдами, вслепую махал перед собой шашкой.
– Сам нарываешься, – предупредил Кривец, – по-хорошему к тебе пришел. А ты то драться, то верблюдов разогнал. Нарываешься, значитца!
– Домой нужно вернуться, – объяснил Халил и, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону управы.
Шли через Купеческий квартал, напрямик через базарную площадь и собор Невского. Казаки то и дело догоняли на конях, кружили вокруг Халила, угрожая скорой встречей. Прохожие, завидев, что Халил идет связанным, останавливались, спрашивали, что случилось. Кривец всем говорил одно и то же – «не ваше дело». Это, однако, мало помогало, и вскоре за ними увязался приличный хвост из любопытных жителей города. Возле самой управы шествие закончилось. Кривец забежал в здание и вернулся с двумя солдатами. Те, взяв Халила под руки, завели его на крыльцо. Дверь закрылась, и до Халила донесся голос Кривца:
– Расходитесь! Колыван, тебе на кой черт этот Халил нужен? Иди домой. Джамбулат, тоже иди. Не создавайте ажитацию! Архип, ты и так на учете, от греха иди домой!
– За что караванщика арестовали? – спросил хриплый голос. – Сделал что-то?
– Всё узнаете! Расходитесь! – повторил Кривец и тоже зашел в управу.
В коридоре было душно и суетно. Солдаты в пропахших потом гимнастических рубахах сновали из кабинета в кабинет с толстыми кипами бумаг. В одной из комнат ругались матом, доказывая кому-то, что приказы надо выполнять, какие бы глупые они ни были. Два казаха, одетые в жилетки, тащили по полу огромный мешок, забитый доверху документами. Халил прислонился к стенке, чтоб пропустить их. Кабинет Тропицкого был закрыт, и Кривец, постучавшись, дождался ответа с разрешением войти.
– Доставлен, ваш благородие, – отчеканил он, – оказал немного сопротивление. Но не сильно. У Григория Майкудова ребра сломаты, значитца. Прикажете заводить?
Андрей Иванович кивнул и убрал со стола красную папку, предварительно вложив в нее небольшую записку.
– Сопротивление? Халил? – Показывая рукой, что можно сесть, Тропицкий поздоровался с караванщиком. – Ты же не бандит какой-то. Зачем казаку ребро сломал?
Халил хмуро ответил на приветствие и решил постоять, не присаживаться на предложенную уездным начальником низкую стулку. Сидеть снизу, когда на тебя смотрят свысока, – занятие неприятное, как будто в лупу рассматривают. Лучше постоять.
– Ну-ну, – заметив, что Халил не стал присаживаться, Тропицкий развел руками, – тогда давай сразу к делу. Ты груз доставил?
– Как и договаривались, – ответил Халил и, изогнувшись спиной, показал свои связанные руки, – только вместо расчета получил это.
– Кривец говорит, приказа ослушался. Пришлось связать. И где он?
– Там, где и должен быть при доставке, – на верблюдах, на горбу!
Тропицкий поднялся со стула и подошел к шкафу, достал из него графин с водой. Наполнил стакан и залпом осушил его. Вытерев рукавом рот, понял, что пауза ничего не решила, караванщик в упор смотрит на него и молчит.
– Мне из тебя каждое слово тянуть? Верблюды где?
– Так дома! Где же им быть. Груз на горбах. Меня зачем сюда привели? – спросил настойчиво Халил. – Я, Андрей Иванович, свой уговор выполнил. А вы?
– Я тоже, – мрачно сказал Тропицкий и неожиданно спросил: – Где Асанов?
Началось, понял Халил. Асанова не нашли, а ждали. Халила в городе увидели, а ротмистра своего – нет. Прямиком Халилу ничего нельзя предъявить ни про Асанова, ни про мнимого Асану-сана, ни про ротмистра пограничной службы… А спросить надо! Что делать? Хватать под любым предлогом караванщика и вести в управу. Верблюды им не нужны, Халил на фронте тоже малоинтересен, а вот куда подевался Асанов – вот это и есть настоящая причина, из-за этого Кривец документ для служебного пользования ему в лицо и тыкал. Небось, никому еще не показывали, иначе в городе шум поднялся бы. Кто просто так русскому царю лошадь отдаст?
– Какой Асанов? – поднял брови вверх Халил. – Андрей Иванович, вы мне расчет по деньгам дайте, мне домой надо.
– Ты брось дурака валять, – пригрозил пальцем Тропицкий, – брось! Я тебя, Халил, по-дружески прошу, лучше расскажи. Расчет сразу дадим, верблюдов и тебя трогать не будем. Вот тебе крест, – уездный начальник размашисто перекрестился, – хоть ты и магометанин, но все равно! Скажешь?
Халил пожал плечами.
– Не хочешь, значит, по-хорошему? – Тропицкий засопел, о чем-то задумавшись. – Не хочешь… Так и я по-плохому не хочу, вот в чем дело. Могу тебя сейчас казакам пришлым отдать. Они живо все прознают, все данные снимут с тебя… Правда, с кожей снимут. Сечешь? Асанов какой, спрашиваешь? А тот японец, который тебя в Бухаре ждал. Это ротмистр Асанов. Скажешь, не знал? В Спасске вас вместе видели, а в город ты один зашел! Это как понимать?
Не только у Карабека уши в степи, и у уездного начальника узын-кулак налажен. Видели вместе в Спасске… Что с того? А то, что от Спасска до Акмолинска, действительно, этому Асанову деваться некуда. Разве что рыбачить на Нуре остаться или кумыса на Ниязовских горах мертвецки упиться и от каравана отстать. Тропицкий пристально в глаза смотрит, с прищуром нехорошим, понимает, что недоговаривает Халил, скрывает…
– А… – Халил хотел хлопнуть в ладоши, но лишь дернулся, руки, связанные за спиной, онемели без крови, – Асана-сан. Так он в Спасске и остался. С этими… англичанами, играть в бридж.
– С англичанами? – недоверчиво спросил Тропицкий. – Играть в бридж?
– Ну да. Товар когда продали… зандону татарам на Ирбит, то на выручку он и остался играть. А я ему, Андрей Иванович, говорил, с этими англичанами не играть. Они и в Бухаре мухлюют, и в Туркестане, и до нас уже добрались. Там мухлеж такой, значит… С карты, когда передергивают, то третью снизу рубахой вверх кладут…
– Хватит! – громко хлопнул ладонью по столу Тропицкий. – Какая игра? Асанов в город должен был приехать с тобой. Ни с какими англичанами играть он не мог. Это царский офицер, а не шулер! Груз он должен был мне передать. Понимаешь?
Халил решил пока ничего не говорить и лишь кивать в ответ, пока сам Андрей Иванович не расскажет, в чем тут дело. Надо дать ему выговориться…
– Ты хоть понимаешь, какие это документы? Кто с такими документами за стол сядет играть? Тебя наняли не только их доставить, а и ротмистра. Ты есть. Асанова нет. Если ты думаешь, что я тебе поверю, что русский офицер на задании садится играть в карты с англичанами, то ты дурак, Халил. Живо рассказывай, или я тебя, ей-богу, казакам отдам, а они…
Тропицкому не дал договорить стук в дверь. Хозяин кабинета не успел ответить, как дверь приоткрылась и в образовавшийся проем сначала просунулась нога в отлакированном до блеска штиблете, затем показался клетчатый твидовый пиджак, и в самом конце появилось бледное, с кудрявыми бакенбардами лицо, с носом, похожим на перезревшую трухлявую редиску.
– Господин Тропицкий! Добрый день! – произнес с акцентом человек. – Я сорри, прошу просчения… Вэксел купетц Эгоров… Вы заняты? Сорри… Тудэй… Сегодня вечером плэй…
Человек заметил стоящего у стены Халила.
– Сорри… – повторил он и закрыл за собой дверь.
Тропицкий взглянул на Халила и неожиданно рассмеялся, закрывая лицо ладонями. Смех Андрея Ивановича с каждой секундой становился все громче и громче, пока наконец не превратился в сплошной тихий хрип, а затем, перейдя в кашель, затих. Уездный начальник убрал ладони и расстегнул ворот, водя шеей по сторонам, как гусак, завидевший чужую стайку. Лицо его стало пунцовым, глаза превратились в мелкие щелочки, а набухшие веки, как лошадиные шоры, свисали над ними по бокам. На месте, где еще минуту назад перед Халилом сидел грозный и статный уездный начальник, оказался ярыжка, проснувшийся только что от глубокой пьянки.
– Видишь, брат, какое дело, – неожиданно произнес Тропицкий, – а вдруг и вправду этот Асанов сел с англичанами играть? А? И ты не врешь!
Халил вновь промолчал, не понимая, куда ведет разговор уездный начальник. То, что вошедший был англичанином, понятно по акценту и пиджаку. Кто в степной пыли твид наденет на улицу? Его же чистить потом полдня. Англичанин наденет, наш – нет.
– И в Спасске в загул ушел?
Тропицкий поднялся и, открыв окно, вылил из графина остатки воды на улицу. Затем достал из шкафа бутыль, перелил из нее в графин жидкость. По комнате сразу разнесся запах спиртного.
– Долго ли в загул уйти? Недолго. В карты заиграть тоже недолго. Но Асанов-то не Егоров и не Силин. Сколько труда стоило эти бумаги получить… и надо же, в карты сел играть. Или все-таки ты врешь?
Налив водку в стакан, Андрей Иванович молча выпил ее и снова налил из графина.
– Вот ты молчишь… а я думаешь не знаю, о чем думаешь? – задумчиво спросил он и сразу же ответил на свой вопрос: – Знаю! Думаешь, как расчет получить! Угадал? Ну… Халил… Угадал же? Как тебя по батюшке? Хабибулаевич ты вроде. Так вот, Халил Хабибулаевич. Я, как русский офицер, обещаю тебе, деньги ты все получишь. Но только после того, как я в Спасске найду Асанова. Поверю сейчас тебе на слово, что он в Спасске остался, и запрос туда дам на розыск! А за документами Кривца к тебе домой отправлю. Раз верблюды… Как там у вас с горой? Магомет идет сам! Я вот сегодня, значит, Магомет, а ты гора!
– Со мной что? – поинтересовался Халил.
– С тобой? – постучал костяшками пальцев по столу Тропицкий. – А что с тобой? Посидишь до новостей в остроге. Отпустить я тебя не могу. Поверить – поверил, а вот отпустить – по службе не дозволено. Верблюдов твоих не трогаю. Бумаги сами на повозке заберем. Ты, кстати, напиши расписку, чтоб твои отдали без ругани их. Жена вроде дома ждет. Как она? Хотя да… у вас же таких вопросов не задают. Какое, мол, тебе дело до моей жены? Так ведь!
– Так, – побагровел Халил.
– Ну, значит, и я не буду. Давай так! Сидишь тихо, не буянишь. Если твои слова подтвердятся, то я сразу тебя отпускаю, перед народом лично выйду и расскажу, что и почему. Хорошо?
– А если не подтвердятся?
Тропицкий махом выпил стакан и громко крикнул:
– Кривец! Живо ко мне!
Фельдфебель будто подслушивал около двери – в ту же секунду открыл ее и вошел в комнату.
– В острог. До распоряжения! И расписку с него возьми, чтоб тюки отдали. И потом сразу к нему домой за грузом.
Халил молча развернулся и, не давая себя вести под руки, вывернулся от Кривца в сторону.
– Сам пойду! – буркнул он и вышел из кабинета.
– Ну, сам так сам, – поправил Кривец на плече сползающее ружье, – уговаривать не буду, значитца.
Оставшись один в кабинете, Тропицкий долго сидел, молча уставившись на стеклянный графин, закрытый бумажным кляпом. Затем вытащил кляп, развернул газету и расправил ее по углам.
«Газета “Казах” от 23 марта сего года сообщает, – прочитал он отрывок вслух, – что Алихан Букеханов в своей программе “Письма из Петрограда” отвечает на многие вопросы, поставленные мусульманской фракцией в Государственной думе, и считает, что ни один из них не отражает настоящей повестки дня, а именно: земельный вопрос в казахских степях рассматривается властями как не имеющий важности во время вой ны; продолжается обсуждение призыва инородцев в армию, а ответ на него уже дан автором в предыдущих статьях – казахи не способны служить в пехоте и не выдержат казарменных условий. Казахи годятся только для службы в казачьих вой сках…»
Тропицкий, снова скомкав газету, воткнул ее в графин и тихо сказал, запрокинув голову:
– А если не подтвердятся, то уже к казакам…
Глава 7. Казацкая степь
Феодосий, как и обещал, вернулся в город до наступления темноты. Пастухи только коров в город повели, как он через Северный выгон проскользнул на кривые улочки Рабочей слободы. Успел, пока заставы казачьи на ночные смены еще не зашли – не сковали Акмолинск ночными пропусками.
С начала волнений в степи, с весны, по уезду обязали казачьи караулы по ночам дежурствами стоять. После приказа о мобилизации новые силы нагнали, опасались бунты пропустить. Из Омска что ни день, то новости одна за другой прилетают. Сухомлинов не зря хлеб ест, не зря должность губернаторскую занимает: по всему уезду, как слепней у хвоста коровьего, казачьих отрядов развелось. Раньше они по станицам сидели, в степи не лезли. Да и зачем? Одни у других баранов увели? Барымтой промышляют отдельные аулы? На это у них свои бии есть. Бий как скажет, так и будет. Решит, чтоб конями возместили ущерб, – отдадут, решит, чтоб пастбищами, – перекочуют в другое место, свое отдадут. Казаков туда гнать незачем, своих дел хватает.
Сегодня с Кашгаром мир, Бухара с Хивой носы высоко не задирают – боятся, чтоб как с Кокандом не получилось. Кокандского ханства уже нет – разрушил тридцать лет назад крепость Махрам генерал-адъютант Кауфман, и все ханство в область Ферганскую уместили. С ханствами сейчас тишина. А если ихэтуани в Китае проснутся? Завтра полк на помощь семиреченским или в Маньчжурию отправят… Кто за хозяйством смотреть останется, кто на линии стоять будет?
Степь на то и степь, что баранов друг у друга воруют, пока станицы крепко стоят, а как роты уведут с выселок и линию обескровят – все! Начнут заново белую кошму искать да ханов на ней поднимать. И вновь запылают города да аулы, как при Касымове горели. Сколько лет прошло, а до сих пор гарь стоит от того пожара. До сих пор тлеют угольки, сколько по ним казачьими подковами ни топчись – не тухнут. Из Сибирского войска восемь полков на фронт ушли. Турков громить да австрияков рубить, если надо будет, еще казаков дадут, но из степи совсем уходить нельзя! Нельзя…
Феодосий обернулся и взмахом руки указал следовавшему за ним всаднику в борике с желтым мехом, где привязать коня. Всадник кивнул и, ловко спрыгнув с седла, бросил поводья рядом со столбом.
– А уйдет? – поинтересовался Феодосий. – По городу бегать за ним будешь?
– Не уйдет!
– Смотри-ка, – закачал головой Феодосий и, перешагнув лужу, постучался условным знаком в дверь.
Литвин с интересом разглядывал Иманова. Черное обветренное лицо степняка с волевым твердым подбородком, на котором клином вытянулась небольшая бородка. Движения резкие, быстрые, словно коня то пришпоривает, то дергает за удила. Большие, без монгольской раскосости глаза внимательно изучают Литвина. Что ж… Ты его, а он тебя. Всё по-честному! В центре сказали: Иманов – местный конокрад, барымташ по-степному, и значит, ухо с ним нужно держать востро. Чтоб не вышло, как в Бессарабии, когда такому же, как Иманов, налетчику помогли с оружием. Через неделю это же оружие на партийную кассу нацелено было. Хорошо, хоть образумили через одесских товарищей, припугнули! Отдал, извинился!
Иманов глазами бурит, сверлит, щупает. Поймет, что у нас, кроме него, никого здесь нет, поднимет своих да уйдет по степи гулять, грабить. В кого стрелять будет? Разбираться в степных обычаях и нравах Литвину некогда. Нет времени на родовые деления, кто какого племени, кто за кого. Сказали, Иманов среди кипчаков известен, кипчаки – это род такой, их много, и большинство – бедные. Значит, подходит!
– Здравствуй! – по-дружески произнес Литвин, протягивая руку степняку. – Будем знакомы!
– Будем, – сухо ответил Иманов и снял с головы лисий борик. – Зачем вызвал?
Говорил он практически без акцента, что редко бывало у степняков. Путал только род иногда, как всякий тюрок, неблизко знакомый с русским языком. Литвина это волновало меньше всего. Он вообще не различал особенностей того или иного народа. Главной для него была цель, которая могла объединить внутри себя хоть черта с ангелом, если этого требовала партия.
– Зачем позвал? – повторил свой вопрос Иманов. – Мои жигиты у Каражалы стоят. Третий день когда настанет, ждут. Тогда ночью выступим! Такой уговор был. Ты через Феодосия оружие мало нам передал. Партия больше обещал. Мне из партии говорили – тысяча! А ты тридцать привез! Как я с тридцать винтовок города возьму? Как казаков убью?
Литвину понравилась прямота Иманова, и он решил не лукавить с ним.
– А как я провезу тысячу винтовок? Как?
Иманов закрутил борик в руках, резко взбивая на нем мех.
– А как я город твой брать буду? Зачем он мне, если оружия нет! Как удержу? Как русских собак с купцами резать буду?
Вот тебе и на… Литвин чуть не открыл рот на такие слова Иманова. Резать? Русских? Купцов? Собак?
– О чем ты? – с тревогой спросил он. – Каких еще собак?
Иманов взбил наконец-то свой борик и отложил его в сторону.
– Как дед мой Иман!
– Какой дед? – в предчувствии беды изумился Литвин. – Ты что, собрался штурмом город брать? Твоя задача – навести шороху у города, пальбу устроить и сделать задание. Никаких штурмов!
– Это твой задача, – повысил голос Иманов, – мой задача – взять город, как Кенесары! Вырезать всех шакалов и вернуть свою землю!
На крик в комнату забежали Нестор с Феодосием. Литвин жестом остановил их в дверях. Он наконец-то догадался, что происходит. Центр, думая, что Иманов понимает задачу, даже не проверил и не узнал, что на уме у этого человека. Передали через посыльного информацию, получили согласие – и все! А уж как там – что понял и как понял… это уже не их дело. Да и что центру? Как может Дед, сидя в Цюрихе, понимать этого барымташа из рода кипчак?! Литвин и тот, находясь здесь, с трудом понимает его. А там?.. Вырежет он город и не моргнет. Сидит, мускул на лице не дрогнул… Как дед Иман. Иманов поэтому, что ли?
– Иманов в честь деда? – спросил Литвин, махнув рукой, чтоб Феодосий и Нестор вышли из комнаты. – Дед воевал здесь?
Прищурив глаза, барымташ ответил:
– Прям здесь, – он топнул ногой в сапожке по полу, – толенгутом[21] у Кенесары был. Многих тогда казаков вырезали, Ишим красным стал! Шубина из крепости выбить не смогли, ушли в степь! Воевал не то… слово, Литвин! Свое забирали они, – чуть тише сказал Иманов, – ты не думай, что я дурак или слепой. Тебе земля эта нужна! Моя сила нужна, мои люди. Думаешь, только вам нужен?
– Нет! – согласился Литвин. – Кадетам тоже. Монархистам еще.
Иманов неожиданно рассмеялся звонким, прерывистым смехом.
– Может, у англичан и есть такие партии, а у китайцев с немцами точно нет, – подняв брови вверх, сказал он. – Вы, русские, думаете, что, кроме вас, никого нет?
Вон оно что, задумался Литвин, удивленно поглядывая на этого с виду простого кочевника. Раскрывает карты. Мол, не вами одними сыт могу быть, есть и другие силы. Интересно, а что обещали ему англичане с китайцами? Землю отдать, которую царь к империи пристегнул? Вместо казаков и солдат – гарнизоны британских стрелков? Наместники по уездам?
– И почему не взял у них?
– У китайцев? – вновь расхохотался Иманов. – Жукоеды хуже вас! Вам земля для империи нужна, людей у вас мало, точками ставитесь, всё не трогаете…
– А им? – поинтересовался Литвин.
– А им, – сжав зубы, произнес Иманов, – а им всё нужно! Всё заберут.
– И британцы?
Иманов на это ничего не ответил, лишь дернулся, как будто его кто-то уколол шилом.
Бычий пузырь на окне стал темным, и Литвин зажег лампадку. Отсвет пламени заиграл острыми язычками на стене, перебрался к двери и высветил лица людей.
– Болеешь? – Иманов обратил внимание на нездоровый, бледный, как у разваренной рыбы, цвет лица Литвина. – Поэтому завтра?
– Не только! – Литвин пододвинул к лампадке карту города, начерченную Нестором. – Вот здесь мы динамит заложим, – он пальцем указал на прямоугольный квадратик, – как рванет, я и Феодосий будем вот здесь. Это уже банк. Там сделаем акцию и уходим обратно в слободу. В городе будет шум, а ты в это время… – Литвин поднял голову и увидел, что Иманов достал от куда-то очки и, надев их на нос, внимательно рассматривает карту, – ты со своими начнешь отсюда…
– Лучше отсюда, – передвинув палец Литвина, Иманов указал на место без обозначения, – здесь казачий стан, они отсюда ждать удара не будут! Какая задача акции?
– Деньги из банка! – сказал Литвин. – Касса нужна!
Иманов хмыкнул, и Литвин напрягся. Или да, или нет!
Если нет, то нужно дать Феодосию знак, чтоб решал сразу с Имановым… Желательно без шума!
– Вот поэтому англичанам я отказал, – вскользь сказал Иманов и развернул карту вверх ногами, – до банка я через управу пройду!
– Зачем? – Литвин посмотрел на дверь и решил, что Иманова уберет сам, Феодосий не нужен. – Зачем тебе управа?