Читать онлайн О Христе по-другому. Подлинный смысл Страстей Христовых бесплатно
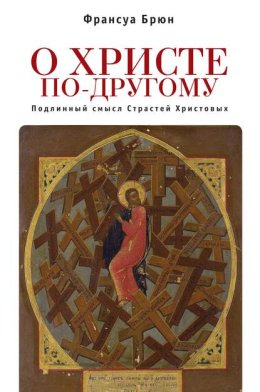
Предисловие
Это уже третья книга отца Франсуа Брюна, которую мне выпала честь переводить. Первые две также вышли в издательстве «Алетейя»: это его бестселлер «Расслышать умерших» (2015) (о христианском отношении к смерти; о возможности общения с теми, кто уже перешел черту; о том, что смертью все не кончается) и книга «Христос и карма. Возможен ли компромисс?» (об открытости христианства к диалогу с другими религиями).
Все книги отца Франсуа похожи на гостеприимный дом с распахнутыми дверями, в который может зайти на огонек каждый встречный: будь то буддист или индуист, или же убежденный атеист, верящий в прогресс и науку и считающий религию детскими сказами, или же тот, кто только-только задумался о смысле жизни и возможности веры. Здесь каждого примут всерьез и покажут, что у нас общего: уважение к традиции буддизма и других восточных религий, доверие к науке или уверенность в правомерности вопросов о смысле жизни. Общее пространство можно найти с каждым собеседником. Но затем на этом общем пространстве разворачивается оживленный спор. Франсуа Брюн – непревзойденный мастер спора, он горячо отстаивает уникальность христианского ответа на все вопросы и вызовы как нашего времени, так и всех предшествующих и будущих времен. Он не боится задавать самые острые вопросы, выдвигать гипотезы, приводить доводы. С ним не всегда можно согласиться, да он, кажется, и не ждет согласия по всем пунктам, для этого его книги слишком провокативны. Но автор ждет ответной мысли читателя навстречу, он втягивает того, кто откроет книгу, в увлекательный поиск собственных ответов на самые острые вопросы жизни и смерти, общения и одиночества, веры и безверия, смысла жизни и человеческого призвания в мире. Удивляет и само умение автора спорить: не принижать противника, уважать другую точку зрения, оставлять возможность остаться при своем мнении или найти другие ответы. И при всем при этом позиция автора всегда четко и определенно очерчена, он говорит с точки зрения христианина, из убежденности в том, что только в христианстве можно найти не просто ответы на вопросы, но путь жизни, и, главное, он говорит из опыта личной и бесспорной встречи со Христом. Это «знакомство» автора со Христом чувствуется на всем протяжении текста: постоянное вслушивание в Евангелие, по которому сверяется собственная жизнь, доверие к мистикам и еще, при трезвенной констатации всех проблем современного мира и даже современной церкви, удивительная убежденность в том, что мы любимы Богом, что нужно лишь начать любить в ответ, откликнуться на призыв, что никогда, даже после смерти, и уж тем более при жизни – никогда не поздно начать любить, думать, спрашивать, верить, делать первые шаги к Богу, спасению, а значит – и друг к другу, потому что любовь к Богу неотделима от любви к ближнему и никто не спасется в одиночку. Этот призыв к любви и напоминание о том, что мы уже любимы, что мы не оставлены и не забыты – может быть, самое поразительное в этих текстах.
В той книге, которую вы держите в руках, задается еще один из тех «провокативных» вопросов, которые касаются каждого из нас: в чем смысл страдания? Почему мы страдаем и что делать с нашими страданиями? Автор горячо спорит с расхожими представлениями о Боге, который «сам терпел и нам велел», о жестоком боге, требующем от человека страданиями искупить свои грехи. Он пристально всматривается в тайну Страстей Христовых, поскольку знает, что это не случайное привнесение, а сердцевина христианства, центральная точка нашего спасения. Как совместить Страсти Христовы, Крест и человеческое страдание – с убежденностью в том, что мы уже любимы Богом, с пасхальной, ликующей радостью воскресения? Откройте эту книгу и начните думать вместе с автором, или же возражая ему, или, лучше всего, навстречу его мысли.
Наталья Ликвинцева
Введение
Христианская вера сродни безумию! Верить в то, что Творец стольких миров, галактик и планет, темной материи, невидимой человеческому глазу, пространства, измеряемого тысячами световых лет, и миров, существование которых исчисляется миллионами лет, может всерьез заинтересоваться тем, что происходит на какой-то крошечной планетке, да и на ней-то – в течение какого-то мизерного отрезка времени (на шкале вселенского времени наш с вами род существует всего-то какие-то жалкие мгновения), – все это совершенно немыслимо! Уже закончилась эпоха, в которую Паскаль мог сказать: «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает». Вселенная, приоткрывающаяся нашему взгляду, уже не имеет ничего общего с той, которую знавал автор «Мыслей». Сегодня полагают, что возникла она где-то 15 миллиардов лет тому назад. Вы, конечно, уже не преминули посмотреть тот или иной из множества документальных фильмов, где показаны туманности отдаленных галактик, прекрасные образы сталкивающихся друг с другом миров. Наша галактика насчитывает, кажется, миллиарды звезд. Миллиарды! Галактика Андромеды «состоит из сотен и сотен миллиардов звезд, подобных нашему Солнцу… А сколько их, таких галактик? – задается вопросом современный канадский астрофизик Юбер Реев. – Миллиард миллиардов миллиардов… миллиардов? Еще больше. Каждый раз еще больше»1.
Среди этого необъятного пространства наша планета выглядит меньше, чем песчинка на поверхности всей нашей земли. Итак, утверждать, что сила, задумавшая и сотворившая все эти миры, заинтересуется судьбой нашей маленькой планеты, – уже неслыханная дерзость. Утверждать, что Творец не только не оставляет вниманием эту точка Вселенной, но еще и интересуется тем, что мы на ней делаем, – это значит вдруг низвести Его до уровня наших жалких и мелких историй, принизить, счесть за кого-то вроде древних обитателей Олимпа. Если только не… если только все не будет с точностью до наоборот, и мы вдруг не угадаем в Нем – Сознание, Познание, Судьбу, бесконечно превосходящие собою все то, что наше представление о Вселенной позволяет нам предположить. Потому что любовь Бога бесконечно превосходит даже Его творческую мощь, Любовь к каждому из Своих творений, от наименьших и самых слабых до величайших и самых совершенных, тех, кто больше всех способен ответить на Его Любовь. В самом деле, стоит это признать, такое утверждение звучит еще более безумно, чем все предыдущие. Что Творец всех миров любит меня, лично меня, что Он ждет от меня какого-то ответного чувства, моей жалкой и маленькой любви! Разве возможно в такое поверить?
Но в христианской вере безумие заходит еще дальше. Мы не сумели ответить на Его Любовь, мы удалились, отвернулись от Него. И тогда Бог пришел и стал одним из нас, чтобы вернуть нас к Себе, чтобы нас спасти. Его единственный Сын стал человеком. Хорошо, до этого момента еще хотя бы можно было следовать за этой мыслью, попробовать угадать, кем же Он стал на нашей земле, как Он здесь проповедовал, учил, пытался нас обратить, научить нас любить, любить Его Отца, нашего Творца, научить нас любить друг друга, ну, хотя попытку эту вряд ли можно признать удавшейся. Но тут мы подходим к самой сердцевине тайны, к чему-то вовсе неслыханному, абсурдному, к чему-то, вступающему в полное противоречие с тем, что вроде бы должно было быть: ради нашего спасения Сын добровольно пошел на мучение и был казнен, как последний преступник.
Это уже какая-то совсем сумасшедшая история. Зачем странный Сын Божий выбрал такой странный способ? Если бы нам удалось это понять, то, возможно, у нас появился бы ключ к разгадке смысла нашего существование на этой земле. Как в волшебных сказках, возможно, ключ этот откроет дверку, а за дверкой мы узнаем, почему мы так далеки от Бога и что нужно сделать, чтобы обрести Жизнь и Любовь Бога.
Церковь вроде бы нашла причину этой ошеломляющей нас смерти Сына Божьего, ставшего одним из нас. Она вроде бы разработала на этот счет целую теорию, в которую сама верила и которую проповедовала более 2000 лет. Но вот какое-то время назад она вдруг обнаружила, что эта теория сомнительна и бездоказательна. И тогда она застыла в недоумении, какой же смысл тогда у Страстей Христовых, и с этим недоумением и связан кризис церкви. В этой книге я хочу вам показать, что западная церковь просто взяла не тот ключ, что она не поняла до конца смысл этой странной смерти, но что это еще не повод не доверять свидетельствам апостолов. Есть другой ключ, другая традиция, внутри той же самой церкви, и она позволит нам понять подлинный смысл Страстей Христовых, страдания и смерти Сына Божия2. Но дело в том, что ключ этот был, и правда, хорошенько запрятан, искать его пришлось в самых глубинах человеческих сердец, в тайне их жизни, потому что жизнь каждого из нас – уже тайна сама по себе.
Отправимся же на поиски, пойдем медленно, шаг за шагом. Начнем с разговора о кризисе церкви, чтобы вы поняли, что уже невозможно удовлетвориться тем, чтобы просто стряхнуть вековую пыль, усовершенствовать церковную администрацию или вернуться к старым теориям, лишь слегка их подновив в угоду современным краснобаям, или к красивым обрядам в прекрасных облачениях. Уже невозможно…
Глава 1
Кризис Церкви
Церковь, та самая, которую многие из нас знали и любили, у нас во Франции исчезает почти на глазах и вот-вот исчезнет совсем. Вы и сами это заметили. Она все больше и больше раскалывается на два непримиримых течения, причем каждое из них лишь наполовину хранит верность требованиям Евангелия.
С одной стороны, мы видим тех, кто продолжает глубоко и убежденно верить в великие тайны вероучения: в тайну Боговоплощения, явленную во Христе, в тайну Троицы, в тайну Евхаристии и т.д. Христиане, примыкающие к этому направлению, верят в подлинность общения со Христом, с Богородицей и другими святыми. Они верят в ангелов и чудеса. И я глубоко убежден, что в этом они совершенно правы. Но при этом, к сожалению, они проявляют такую нравственную суровость, которая часто вообще ничего общего не имеет с Евангелием, скорее, напоминает психоанализ и из поколения в поколение наносит людям психологический ущерб. Это направление абсолютно предано всем указам, исходящим из Рима. Они вполне соответствуют линии Бенедикта XVI-го, не только его богословию, но и морали. Но бывают и тут настоящие христиане, такие как аббат Пьер или сестра Эммануэль, которые, несколько дистанцировавшись от Рима, пытались свидетельствовать о Божией Любви.
Другое направление сумело понять, что верность воле Божией и Христу вовсе не подразумевает обязательной зацикленности на священстве и целибате, нетерпимости к повторным бракам во всех без исключения случаях, абсолютного запрета на противозачаточные средства, немилосердного осуждения человеческих слабостей и т.д. Но, к сожалению, представители этого течения очень часто позволяют себе пересматривать все великие тайны веры, лишая их при этом самой их сути, отрицают присутствие и действие Бога в этом мире, не верят в возможность общения со святыми, в чудеса, вообще не верят в сверхъестественное… К этому направлению принадлежит большинство богословов, профессоров семинарий и католических институтов, наставников, воспитывающих послушников и семинаристов… И тут тоже Рим встает на защиту веры против этих богословов. Мне даже кажется, что у нас не очень-то осмеливаются публиковать рассуждения и идеи сторонников этого революционного богословия. Но при этом их мнения уже довольно широко распространились, и сторонниками этого течения являются большинство священников, даже если они и не рискуют публично признаваться в своих взглядах.
Конечно, речь здесь идет не о двух гомогенных блоках. Внутри каждого из обоих течений мы найдем целый спектр оттенков, и взгляды рознятся от одного богослова к другому. Но в целом, мне кажется, налицо действительно драматическое состояние современной церкви, тот факт, что люди все больше и больше из нее уходят. Я очень надеюсь, что своим анализом вовсе не подстрекаю тех, кто еще внутри, тут же все бросить, и веру, и церковь. Нет, мне хотелось бы, наоборот, помочь людям лучше понять все происходящее не на поверхности, а на глубине, объяснить то, что, как правило, никто им не объясняет.
Верующие обычно не анализируют подробности сложившейся ситуации, но при этом чувствуют, пусть смутно, все внутренние нестроения, замешательство клира, когда старые священники продолжают отстаивать веру своей юности, даже если она давно уже стала достоянием прошлого, а «молодые» утешают свою паству напоминаниями о том, что сами-то они «переросли свою Манту»3 и во все эти древности уже давно не верят. Но хуже всего появившиеся с недавнего времени совсем еще юные священники, отличающиеся узколобым фундаментализмом и недалеким морализмом. Будущее церкви, конечно, на за ними.
Результат предсказуем: церкви опустели. Большинство французов этого даже не заметили, поскольку сами-то они в эти церкви ни ногой, разве что зайдут иногда на официальные торжества, на свадьбу или похороны, когда собирается множество народы – по большей части, правда, из вежливости или светских манер, а не по убеждениям. И тогда, конечно, на таких торжествах церкви ненадолго наполняются народом. Но даже не вздумайте предлагать этим людям действительно принять участие в литургии. Они давным-давно знать не знают ни Символ веры, ни Отче наш.
И даже странно, что при этом церковь во Франции все-таки продолжает в социальном плане играть немаловажную роль, несмотря на свою малочисленность. Здесь она, благодаря своему славному прошлому, вроде бы по-прежнему занимает в обществе престижное положение (сколько это еще продлится?), которое, правда, сегодня уже ничем не удостоверено. Конечно, есть тут и исключения, несколько церквей и приходов, где и в самом деле бурлит жизнь. Но, помимо благоприятных впечатлений от таких живых мест, в целом, цифры не лгут. Мне кажется, что нужно вас с ними познакомить. На последней ассамблее католических епископов Франции в Лурде в 2009 кардинал Барбарен, архиепископ Лиона признавался: «Я рукополагаю двух священников за год, а хороню двадцать»4. Но взглянем на эти события в более общей перспективе.
Цифры
В 1901 году во Франции было 55 000 священников при численности населения 40 710 000 жителей. В 1950 их было уже не более 43 000. В 1965 – 40 995 приходских священников, без учета количества монахов. Пять лет спустя, в 1970, 37 555, все также без монашествующих. В 1995 мы насчитываем уже всего 28 780 священников, и на этот раз уже с учетом монашествующих, а в 2007 году – только 20 000. В 2009 их становится уже не более 19 640, включая монахов, причем половина их них – люди, которым за 75 лет. Мы видим, что к 2020 году количество священников сократится до 6 000. Какие бы новшества ни вносились в управление приходами и епархиями, какие бы права не доверялись мирянам, эти цифры говорят о том, что людей в церкви становится все меньше и меньше. Вы видите, что эта тенденция даже нарастает. Ни плодотворная деятельность Иоанна Павла II, ни Всемирные дни молодежи, не смогли остановить это снижение численности. И это при том, что Ватикан следит за тем, чтобы общее число католических священников в мире, в целом, оставалось неизменным. Католическая церковь, говорят нам, продолжает успешно развиваться в «развивающихся странах», что в статистическом плане вроде бы уравновешивает падение численности в странах христианской традиции. Но неизменная численность в мире, население которого с каждым годом заметно увеличивается, это уже шаг назад. Кроме того, утрата влияния во всех странах в сфере образования вряд ли может считаться признаком жизнеспособности или приметой будущего. Стоит еще отметить тот факт, что в Латинской Америке, от Мексики до Аргентины, католичество все больше и больше вытесняется евангелическими церквями, и тенденции эти лишь ускоряются5.
Во Франции, если мы возьмем за точку отсчета рукоположения священников, статистика будет еще более красноречивой. В 1830 году было рукоположено 2 357 новых священников при населении в 33 миллиона человек. В 1901 – 1 733 на 40 миллионов французов. Посмотрите, как неуклонно падает численность в последующие годы: 850 в 1955, 646 в 1965, 161 в 1975, 96 в 1995, 83 в 2010. В тот год 45 епархий вообще не получили новых священников. Не нужно быть медиумом, чтобы предсказать, что при нынешнем положении дел в церкви в следующем году не будет слишком много желающих поступить в семинарию. Сегодня таких желающих едва наберется сотня в год, и это при том, что общее число населения нашей страны в метрополии сегодня около 62 миллионов человек, и более 50 миллионов из них – из семей католической традиции. Франция, прежде занимавшаяся экспортом священников, теперь практикует импорт. Около 1 500 иностранных священников несут служение во Франции. С небольшим опозданием «развивающиеся страны» догоняют ее в той же самой эволюции.
К сожалению, нашим епископам все еще не приходит в голову рукополагать женатых, как это с самого начало принято в православной церкви, и это при том, что Сам Христос избрал св. Петра быть главой Своей церкви, а ведь Петр был женатым главой семейства, как, видимо, и большинство апостолов. Но нет! Пирамида Римской церкви столь совершенна, что никакие изменения не могут в нее просочиться, если только они не идут от самого Рима. Иоанн Павел I попытался было что-то сделать, но не вышло: почти сразу его убили6. Последняя версия (весьма нелепая, кстати), гуляющая по Риму, объясняет эту смерть тем, что Папа якобы понял, что Святой Дух ошибся, избрав его, и ему стало ясно, что бремя такой власти для него самого слишком тяжело. И тогда он сознательно отказался от приема лекарств, которые для него были жизненно необходимы. В целом, произошло что-то вроде пассивного самоубийства – по ватиканским законам человека, совершившего такое, нельзя даже отпевать.
Тот же механизм мы наблюдаем во всех тоталитарных режимах. Пока Папа будет сопротивляться рукоположению женатых, надеяться не на что. И вот наши господа епископы, избранные Римом за свою проверенную в испытаниях ученость, учено ведут церковь к исчезновению. После того, как какое-то время они пытались модернизировать административно-территориальное управление приходами, в итоге было решено, что деление страны на приходы – это вчерашний день. Теперь они уже не пытаются официально назначать священников в каждый приход, потому что в некотором количестве приходов, в 25, 30 или 40, такое назначение все равно будет чистой фикцией. Теперь они задумали создавать «миссионерские подразделения», небольшие группы из священников и мирян, которые должны излучать свет христианства на пространные регионы.
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что, к несчастью, также стремительно падает и количество верующих. Согласно епархиальному опросу, количество воскресных причащений в Париже с 1962 по 1975 уменьшилось в среднем на 62 процента. В некоторых приходах даже на 72 процента, высшая планка – на 43 процента. Так в приходе Сен-Сюльпис в Париже за 13 лет количество прихожан сократилось с 6200 до 2400. По данным на 2010 год регулярно по воскресеньям причащаются около 4,5 процентов от общего числа «католиков».
Кризис современной церкви гораздо серьезнее того кризиса, в который ввергло церковь арианство в IV веке. Даже кризис Реформации не столь серьезен. Ведь он не угасил сердце христианства. Протестанты не оспаривали ни божественность Христа, ни тайну Троицы. Сегодня под угрозой сама сущность христианства, от нее отворачиваются даже многие богословы. Бенедикт XVI прекрасно осознал серьезность положения и попытался обратиться напрямую к верующим, через головы богословов, экзегетов и даже епископов, по старой профессорской привычке взявшись за перо и написав прекрасную книгу, защищающую божественность Христа7. И это положительная сторона этого последнего понтификата (при стольких, увы, отрицательных!).
Я бы тоже хотел попытаться защитить, своими скромными силами, самую суть христианства. Порой я буду тут ссылаться на свои мысли, изложенные в предыдущих моих книгах, хотя здесь они продуманы глубже и, я надеюсь, изложены более убедительно.
Глава 2
Богословие, которое нередко оказывается сомнительным
Святая Римская католическая церковь, в том виде, в каком она есть, мы это видели, стремительно катится к исчезновению. И хотя я остаюсь по-прежнему священником этой самой церкви, спешу вас сообщить, что само по себе это исчезновение не такая уж и серьезная проблема. Вот что здесь серьезно – это Бог. А церковь – это лишь средство. У нас ведь всегда останется Евангелие. К сожалению, у большинства уходящих из церкви людей просто нет ни времени, ни дерзновения, ни сил, чтобы начать искать Бога самим. И вот тут для меня корень драмы.
Вот в этом отношении мне и кажется важным провести разграничение. Большинство верующих просто не осмеливаются это сделать, поскольку чувствуют себя неспособными составить самостоятельное суждение о том, что соответствует учению и воле Божьей, а что нет. Правда и то, что церковь приложила максимум усилий, чтобы убедить их в том, что такое суждение относится к области гордыни и представляет собой страшную опасность их сползания к бунту против церкви и против Бога. «Свобода суждения», которая так высоко ценится у протестантов, здесь формально подлежит осуждению. При всем при этом сегодня, хотим мы того или нет, уже невозможно слепо подчиняться учению, по той простой причине, что само это учение стало сомнительным и неопределенным, так что уже далеко не всегда понятно, в чем конкретно оно состоит.
Эта книга посвящена вопросу, существенному для христианского вероучения и сегодня нередко подвергающемуся сомнению: роли Христа как Спасителя. Возможно, вы сразу даже не поверите, что и в этом вопросе в вероучении отсутствует определенность. В этой главе как раз и предпринята попытка показать, в каких случаях церковь, к сожалению, совершила ошибки, и в каких она даже сама успела их осознать, даже если и не признала, к сожалению, это на официальном уровне. Вечно этот страх – что признание ошибок ведет к потере авторитета! Но долгая и объемная история церкви, ее традиция, как раз и состоит из многочисленных заблуждений, споров, размолвок, неудавшихся попыток, кризисов, новых попыток. Богословие церкви – не спокойный поток с протяженным руслом, нет. Оно не раз знавало развитие тех или иных положений, возвращение вспять, исправления. Возьмите, например, просто чтобы убедиться, что я не просто из вредности пытаюсь посеять сомнения в вашей вере, возьмите книгу отца Винсента Ользера8. И чтобы вам легче было понять тот факт, что церковь вполне могла ошибиться даже в таком центральном для христианства вопросе, как наше спасение через Христа, я вам покажу сначала две других, еще более очевидных и бросающихся в глаза ошибки, укоренившиеся в церковном сознании.
Но, пусть и невозможно сейчас слепо доверять авторитету церкви, это еще не значит, что нужно отвергнуть без разбора все сокровища мысли прошедших веков, все то, что нам может дать опыт святых. Наоборот, там сокрыто настоящее сокровище, которым, к сожалению, Западная церковь так и не сумела сполна воспользоваться. Речь идет о своеобразном зрении, о таком взгляде на мир, когда мы видим его глубже и в гармоническом соответствии с последними научными открытиями, и в то же время он оказывается при этом гораздо более мистическим. В сфере богословия переход к такой оптике сродни той революции, которую совершили теория относительности или квантовая физика в науке. В свое время мы увидим, почему это так, пока же только возьмем на вооружение.
Итак, вот те два случая, в которых церковь сама пересмотрела и опровергла свои прежние взгляды (хотя и не спешит в этом признаваться).
Лимб
У этого слова два значения: 1) место, в котором пребывают души всех, умерших до пришествия Иисуса Христа и ожидающих появления Спасителя. Но не это значение нас с вами сейчас интересует.
2) Место, куда попадают души младенцев, умерших некрещенными. Вот это представление мне и хотелось бы здесь кратко изложить.
Для блаженного Августина, одного из величайших «учителей Церкви», тут все ясно. Единственный способ достичь блаженного состояния, или, говоря проще, рая, это крещение. А значит все дети, умершие, не успев получить крещение, попадают в ад. Под конец жизни, поскольку его не раз упрекали в том, что такая концепция слишком неумолима по отношению к родителям, потерявшим детей, он, в конец концов, немного уступил и согласился, что, если дети согрешили лишь общечеловеческой причастностью к первородному греху, то для них ад будет наиболее легким, но все же это будет ад, «cum diabolo», «с дьяволом». Некоторые современники Августина, кого такая теория уже успела шокировать, попытались «выкроить» для этих детей место где-то посередине между адом и раем. Но на Карфагенском соборе в 418 Августину удалось провести публичное осуждение такого решения проблемы.
Это учение стало прямым следствием двух богословских ошибок: первая – это то, что все люди, рождающиеся в этот мир, уже виновны в том, что причастны к Адамову грехопадению, – идет такое мнение от неправильного прочтения одного текста апостола Павла, текста, написанного по-гречески, на том языке, который Августин знал не очень хорошо9. В представлении блаженного Августина свежий и розовый, только что родившийся младенец, никому еще не успевший причинить никакого зла, вполне справедливо заслуживает вечного осуждения лишь этой своей загадочной причастностью к грехопадению Адама. Подчеркнем здесь лишь тот факт, что православный Восток никогда не соглашался с этим утверждением Августина.
Вторая ошибка – это то, что в крещении дается вера, вплоть до того, что для Августина младенец, которого только что крестили, уже обрел веру, получил ее в самом этом таинстве крещения. Вера несмышленого карапуза, спокойно сопящего во сне!
Сожалею, что приходится неучтиво настаивать, но вы ведь и сами видите всю нелепость подобных аргументов. И ни нимб святого, ни престиж звания «учителя Церкви» не могут сделать подобные утверждения менее нелепыми. Нужно называть вещи своими именами. И не нужно тут говорить, что все понимается только в контексте, и что я со своим менталитетом XXI века не имею никакого права судить богослова V века. Я ведь вам уже сказал, что идеями блаженного Августина на этот счет были шокированы даже некоторые из его современников. Почему же их не послушали!
К сожалению, с такими дикими представлениями Запад целые столетия блуждал в потемках. Когда мысль снова стала возможной, у новых богословов была лишь одна забота: свериться с великими авторитетами прошлого. А самый великий из них (о троекратное увы!) – это, конечно, Августин. А исправлять столь авторитетного мыслителя, конечно, невозможно. Поэтому пытались лишь по возможности минимизировать ущерб.
Папа Иннокентий III, правивший с 1198 по 1216, настаивал на том, что эти умершие некрещеными дети не страдают. Но при этом они все же лишены возможности видеть Бога. Св. Фома Аквинский прибавил, что даже эта невозможность не ощущается ими как настоящее страдание, как мы с вами, например, не страдаем оттого, что не можем летать, как птицы.
Уточним, однако, что эта доктрина никогда, ни на одном Соборе не была принята в качестве догмата, и что поэтому официально она никогда не была неотъемлемой частью католической веры. Но при этом это было общепринятое учение, никто из иерархии или из клира не спешил сообщить родителям, что они вольны вовсе не верить в эту теорию.
Так и была разработана теория «лимба», то есть идея, что огромная часть человечества была сотворена не для того, чтобы участвовать в жизни Бога, а лишь для того, чтобы довольствоваться «естественным блаженством». Именно такова позиция кардинала Шарля Журне в книге, опубликованной им в 1958 году10. Еще в 1960 году профессор догматического богословия в Католическом институте в Париже говорил нам на лекциях, что души таких детей наслаждаются «фрагментарными истинами» и тем самым «насыщают свой ум».
В 1984 году кардинал Ратцингер, в то время префект Конгрегации вероучения, признал, что идея лимба – всего лишь гипотеза, без которой вполне можно обойтись. В 2005, став Папой, он созвал Международную богословскую комиссию, чтобы обсудить этот вопрос. В 2007 эта Комиссия подтвердила, что умершие некрещеными будут лишены возможности лицезреть Бога, но добавила к этому, что «у нас есть серьезные основания надеяться, что Бог заботиться о спасении таких детей, именно потому, что не было возможности их крестить».
Католическая церковь всегда стремится дать всем понять, что она не может ошибиться, и что и в прошлом она никогда не ошибалась. Отсюда это вечное упорство и нежелание признать собственные ошибки. Комиссия, похоже, так и не решилась четко и официально заявить, что никакого лимба никогда не существовало, что это просто выдумка богословов. Но при этом, она попыталась успокоить публику общими и расплывчатыми заявлениями. Так, она не утверждает, что эти дети насладятся «лицезрением Бога», а лишь успокаивает, что Бог, возможно, обеспечил им «спасение».
Добавим к этому лицемерное утверждение, что без крещения невозможно «лицезреть Бога», притом, что богословие, постепенно, шаг за шагом, признало уже и «крещение желания», и даже «крещение имплицитного желания»11! Это гениальное словарное изобретение позволяет утверждать, что все взрослые, прожившие достойную и добродетельную жизнь, будут спасены, даже если физически, материально, никакой священник их так и не крестил, – они все равно были, оказывается, крещены, но «имплицитно», сами того не зная!
Еще не так давно родителям маленьких детей советовали на ночь возле новорожденных малюток оставлять горящую свечу, чтобы, если она вдруг погаснет, успеть быстро вмешаться и совершить самим «малое крещение». От такой расторопности и зависела вечная судьба этих малюток. Еще в 1951 Пий XII призывал к такой мудрости женщин-итальянок.
Веками Западная церковь столь безжалостно относилась к родителям умерших детей и сверх горя наделяла их еще и виной, и все это лишь на основании обычной теории, придуманной богословами. Ей понадобились целые 2 000 лет, чтобы признать, наконец, что Бог все же не настолько глуп, чтобы поставить вечное спасение невинных младенцев в зависимость от совершения ритуала, который, чисто хронологически, часто просто не было никакой возможности совершить. Ведь заключительный текст этой Комиссии в самой эмоциональной тональности своей разве не признает, что такая гипотеза была ошибкой? Ведь она теперь считается гипотезой, которую лучше отбросить. Просто им слишком трудно было произнести фразу о том, что церковь совершила ошибку.
Не следуйте слепо за этой церковью во всем. Сохраняйте собственный здравый смысл, тем более что у богословов он нередко уже утрачен. Не читайте тексты Евангелий буквально, цепляясь к отдельным словам и вырвав фразы из контекста. К сожалению, именно так обращается с Евангелием отец Конгар в своей книге 1966 года, в главе, посвященной «умершим до рассвета разума»12. При этом, в отрывке, посвященном Николаю Кавасиле, греческому богослову XIV века, он признает, что тот, хоть и читал те же самые тексты Писания, сделал из них совсем другие выводы. Согласно этому православному богослову, Христос Сам крестил тех, кого церковь крестить не сумела. И копты, отделенные от Рима, замечает в примечании отец Конгар, устраивали обряд крещения всего три или четыре раза в год. Что же касается младенцев, то, «если они умирали до крещения, считалось, что они спасены; об их судьбе не беспокоились».
Поступайте также, как эти восточные христиане: берите всегда за точку отсчета утверждение, что нужно понимать тексты, исходя из бесконечности Божией любви к каждому из нас. Буква убивает, дух же животворит.
Ад
Ад довольно рано появляется в разных формулировках исповедания латинской веры, но авторитетом Собора такое исповедание оказалось освящено только на Латранском соборе 1215 года, т.е. уже после разделения Восточной и Западной церквей. Катехизис Католической церкви гласит: «Ад заключается в вечном осуждении тех, кто умирает по своему свободному выбору в смертном грехе. Главная адская мука – вечная разлука с Богом, тогда как в Нем одном человек обретает жизнь и счастье – то, ради чего он был сотворен и к чему стремится. Христос говорит о реальности ада следующими словами: ”Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный” (Мф 25: 41)»13.
Несмотря на стилистику этого текста, упрощающую мысль, саму эту мысль понять все же не трудно. Кардинал Ратцингер, будущий папа Бенедикт XVI, стоявший тогда во главе редакционной коллегии, готовившей данный Катехизис, выразился еще яснее, в 1977, когда пояснил, что существование ада относится к сфере «догмы»: «Догма покоится на надежных основаниях…, когда утверждает существование ада и вечных мук»14. И все же, отмечает Жак Дюкесн, Второй Ватиканский Собор ни разу не использует слово «ад». Хотя «Догматическая конституция о Церкви», ее 7-я глава «О эсхатологической природе странствующей Церкви и о ее единстве с Церковью небесной» предоставляет для этого удобный повод. В 49 статье, в которой речь идет о нашем ожидании пришествия Господа «во славе», в числе ожидающих в тексте упомянуты и те, что еще «странствуют по земле», и те, кто уже прославлены в Раю, и «другие», те, которые, «окончив эту жизнь, очищаются», – и тут совершенно очевидна аллюзия на Чистилище. Об аде при этом не сказано ни слова. От таких утверждений легко можно перейти к предположению, что ад возникнет лишь после Страшного суда. Но такое предположение все-таки можно было бы и озвучить, в этом тексте, например, или же в каком-нибудь другом. Но во всех деяниях Собора оно ни разу не прозвучало, ни разу!
Но в 1994 году, то есть два года спустя после публикации Катехизиса, Иоанн-Павел II очень осторожно высказался даже не о самом существовании ада, но о его обитателях: «В Евангелии от Матфея Он (Христос) явственно говорит о тех, кому уготованы вечные муки. Кто они? Церковь никогда не пыталась ответить на этот вопрос. Тут непроницаемая тайна, зазор между святостью Бога и человеческим сознанием. Молчание Церкви в этом вопросе – единственно приемлемая позиция»15. Но увы, Святая церковь иногда не ленилась и уточнить, кто же все-таки отправится в ад. На Флорентийском Соборе 1439 года (XVII Вселенском Соборе), при неудачной попытке унии с восточными церквями, было заявлено, что язычники, евреи, еретики и раскольники не имеют никакого права на вечную жизнь, но пойдут в ад, «уготованный им дьяволом и его ангелами»; и даже не забыли при этом уточнить, что «никто, даже тот, кто щедро раздавал милостыню, даже тот, кто пролил кровь свою во имя Христово, не может спастись, если не пребывает внутри и в единстве с Католической церковью»16.
Вполне очевидно, что сегодня с таким утверждением уже никто не согласится. Даже центристы из центристов ограничатся тем, что откажут раскольникам в полноте вечного блаженства, не отправляя их при этом к «дьяволу и его ангелам».
В действительности, многие богословы давно считают, что следует поддерживать идею существования ада, но что при этом вполне себе можно считать, что ад этот останется пустым. Это, например, мнение многих мистиков, предававшихся мрачным описаниям, которые совершенно невыносимо читать в наши дни. «Совершенно определенно наблюдается тенденция, – подводит итог отец Жозеф Муанж, – все меньшее значение придавать угрозе ада, признанию его возможности или реальности, и в этом мне видится лучшее и разумное доказательство откровения Божественной любви»17.
И все-таки и сегодня некоторые богословы продолжают настаивать на существовании ада и на том, что такая утрата Бога совершенно «невыносима»18. Мне во всем этом интереснее всего, как вы правильно поняли, даже не выяснить, как оно на самом деле, существует ад или нет. Это важный вопрос, но сейчас не время о нем спорить. На примере этих нескольких цитат я лишь хотел вам показать, что позиция церкви по этому вопросу существенно менялась в ходе веков. И при всем при этом и в наши дни церковники продолжают вовсю эксплуатировать страх перед адом, и с помощью слов, и с помощью изображений, и это длится веками. Думаю, что не будет никакой пользы от антологии подобных утверждений. Все и так помнят знаменитые картины Босха или Брейгеля, или же ужасные описания некоторых мистиков. Добавим к этому, что в Средние века в существовании ада не сомневался никто, даже дорожные разбойники, и что дороги от этого не стали безопаснее. Страхом не поможешь людям найти Бога.
Глава 3
Неприемлемые толкования Страстей Христовых
Традиционное западное богословие
Но есть и кое-что похуже учения о лимбе, – это частые в западном богословии попытки объяснить, как именно Страсти Христовы участвуют в нашем спасении. Таких текстов великое множество, уже в апостольских посланиях жизнь Христа и в особенности Его Страсти представлены как спасающая нас жертва, как то, что может вырвать нас у смерти и одновременно обещает вечную и блаженную жизнь в дружбе с Богом. Таких утверждений великое множество, и они не подвергаются сомнению. Но при этом нигде в текстах Нового Завета не предпринято ни одной попытки объяснить, как именно эта жертва в реальности может нас спасти. В этих текстах мы найдем лишь образы, разрозненные, упомянутые словно мимоходом, словно каждый раз автор не настаивает на одном из них, словно тот из них или другой заранее соответствует какому-то «механизму», с помощью которого эта жертва оказалась действенной. Мы часто встречаем метафору «искупления», напоминающую выкуп, который платят, чтобы освободить узников. Но нигде в текстах не уточняется, кому же именно заплатил Христос этот выкуп.
Своем Отцу? Сатане, как предполагали некоторые богословы уже в первые века христианства? Вот, например, святой апостол Павел: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал 3: 13)19. Но закон – не человек, а абстракция, ему ничего нельзя заплатить. Он сделался «проклятием» за нас. Но как? И от чего нас это избавило? Или вот, в тексте святого апостола Петра: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Пет 2: 24). Хорошо, пусть так, но какой точно смысл у этого текста? Как можно понести грехи другого?
Не будем множить примеров. Все эти тексты ясно говорят о том, что через Крест Христос нас спас. Но они не пытаются проникнуть в тайну того, как именно осуществилось это спасение и в чем оно состояло. Такую задачу не ставили себе ни авторы этих текстов, ни их читатели или слушатели. Гораздо позднее это станет задачей богословов – попытаться понять, «как именно» и «в чем». Не факт, что ответ на этот вопрос приведет нас к Богу. Но само желание знать ответ тут тоже вполне законно. Ведь теорий таких создано множество, и понятно, что подобные умственные построения могут стать либо препятствием для веры, либо же, наоборот, чудесным углублением и обогащением ее.
И в итоге вышло так, что разработанная на Западе теория, долгое время принимавшаяся без возражений, в конце концов обернулась скандалом, так что многие верующие из-за этого ушли из церкви, а некоторые вообще решили не иметь ничего общего с Богом.
Повсеместно принятая на Западе схема, с небольшими вариантами, представляет собой примерно следующую цепочку рассуждений:
Наши грехи оскорбляют Бога, разрывают дружбу с нашим Творцом. Присущая Богу справедливость, несмотря на всю Его любовь, не может избавить нас от возмездия, от наказания. Из-за непомерности греха, ни один человек не может быть настолько чист, чтобы суметь принести необходимую жертву. Поэтому вместо нас и за нас ее приносит Бог и Его Сын, ставший человеком. Такой механизм предполагает два момента:
1) Тогда Страсти Христовы понимаются как наказание, которого потребовал Отец; в некоторых, не столь крайних, версиях Отец предстает заложником собственной справедливости; в других, звучащих более беспощадно, Страсти нужны затем, чтобы отомстить за честь Отца и смягчить Его гнев.
2) Жертва Христова нас спасает потому, что Отец соглашается на то, что платить приходится Сыну вместо настоящих виновников, то есть нас с вами. Связь между Страстями Сына и нашим спасением оказывается тогда чем-то вроде юридического варианта замещения, на это соглашается Отец, избавляющий нас от заслуженного наказания. Получается, что люди добывают себе спасение совершением преступления, еще более ужасного, чем все их предыдущие прегрешения! Забавный метод!
При этом совершенно непонятно, в чем же именно справедливость оказалась тут уважена, если, конечно, мы не удовлетворимся совершенно невыносимым формализмом.
Кроме того, при таком подходе подразумевается, что для входа в Рай, врата которого нам вновь открыла жертва Сына, не требуется никакого внутреннего изменения грешника, преображения, после которого он вновь будет достоин дружбы с Богом. Чтобы избежать такой неловкости, некоторые авторы предлагали другую версию событий: что идея искупления Христова возвращает нас к Божественной благодати, предварявшей грехопадения человека. И в наших силах воспользоваться этой благодатью для того, чтобы добровольно вернуться к Богу. Но тогда нужно признать и отправную точку такого рассуждения, утверждение, что первое внутреннее изменения человека, восстановление его способностей и воли в их первозданном виде, будет всего лишь последствием дара свыше, «благодати», выданной нам как бы извне, через Страсти Христовы.
Исторический экскурс
Кажется, первым из всех, Тертуллиан в начале III века умудрился проанализировать жертву Христову в терминах римского права. За ним следом шли св. Амвросий и блж. Августин, а уже за ними св. Ансельм Кентерберийский и св. Фома Аквинский, Лютер, Кальвин, Боссюэ, Бурдалу, отец Монсабре… Тексты всевозможных проповедников, катехизисов, богословов многочисленны и образуют бесконечную цепь, не прерывавшуюся с III века вплоть до середины ХХ-го, до доминиканца о. Брукбергера.
Мне кажется, что нужно вам представить несколько образчиков подобной литературы, чтобы вы смогли своими глазами убедиться в нелепости и абсурдности такого богословия. Итак, вот отрывок из проповеди Боссюэ перед королевским двором в страстную пятницу 1660 года. Речь идет о Боге-Отце: «Он [Бог-Отец] оттолкнул Своего Сына и распростер нам объятья; на Него Он посмотрел в гневе, а на нас кинул взгляд, полный сострадания… Его гнев прошел, разразился и утих, ударив при этом по Его невинному Сыну, боровшемуся с гневом Бога. Вот что свершилось на Кресте; вплоть до того, что Сын Божий, прочитав в глазах Отца, что Тот теперь сполна умиротворен, увидел наконец, что пришла пора покинуть этот мир». Список авторов, продолживших эту линия богословия, окажется бесконечным20. Однако, не могу отказать себе в удовольствии процитировать вам еще одну проповедь, великопостную, отца Монсабре, произнесенную в Париже в 1881. Проповедник, как мы видим, проникся смыслом происходящего и глубоко вошел в роль, попеременно, и Бога-Отца, и Его народа:
«Бог видит в Нем как бы живой грех… При этом, божественная справедливость забывает вульгарное стадо людей, она смотрит лишь на этот странный и ужасный феномен, в котором ей предстоит найти удовлетворение. Пощадите Его, Господи, это же Ваш Сын. – Нет, это грех, а грех должен быть наказан»21. С высоты кафедры в Нотр-Даме, это, должно быть, звучало, грандиозно!
И вот вам о. Р. Брукбергер, и это уже середина ХХ века:
«Пути чести истекают кровью. У чести своя собственная логика… в которой кровь вызывает кровь. Даже самому Богу пришлось подчиниться этой диалектике, вот почему лучший из сынов человеческих был казнен… Историк может еще раз пересмотреть, как проходил суд над Иисусом, выявить причины, по которым Он был осужден на смерть… мы при этом знаем, что Распятие Христа было связано с делом о чести Бога. Грех – не столько непослушание правилу, сколько оскорбление чести Бога, и это оскорбление было смыто кровью Иисуса»22.
Однако в 1931 отец Жан Ривьер признал, после долгого и пристального изучения подобных теорий, что «представление о Боге, предполагаемое таким богословием, оказывается шокирующим»23. Но, как мы успели уже заметить, его собратья не торопятся последовать в этом его примеру: ко Второму Ватиканскому Собору богословы римской курии разработали схему Искупления, заранее разослав ее всем епископам, и тут вновь мы видим все те же юридические термины24. Вы знаете, что «отцы» этого Собора отказались быть всего лишь регистрирующим разные мнения механизмом и потребовали, чтобы все схемы свободно обсуждались на самом Соборе, не очень оглядываясь на тексты, предварительно разработанные курией.
Кардинал Ратцингер, будущий папа Бенедикт XVI, признавался, что схема эта действительно содержала в себе «самую распространенную христианскую идею искупления»25 (позволю себе заметить, что распространено оно у западных христиан, а не у восточных). К тому же, такое объяснение механизма искупления никогда не было принято в качестве догмата. Это всего лишь, как верно заметил Ратцингер, «распространенная … идея искупления», что тоже весьма серьезно, ведь насаждалось оно веками и очень глубоко вошло в сознание и подсознание миллионов верующих.
«Катехизис для взрослых», опубликованный епископами Франции за год до общего катехизиса, поддержал ту же идею: «Жертва Христа – “искупительная” жертва. Термин искупления подчеркивает роль страдания в такой жертве и необходимость восстановить то, что было разрушено грехом»26.
Схема эта не до конца забыта и в новом «Катехизисе Католической церкви». Речь тут не о настоящем богословском синтезе. Этот сюжет всплывает часто в разных главах и параграфах. Тексты напичканы цитатами из Писания, из Ветхого и Нового Завета, но цитаты эти часто выдернуты из контекста, и потому их смысл часто понимают совсем неправильно. Метод этот довольно сомнительный, потому что в итоге получается разноголосица противоречивых суждений по каждому вопросу. Но сама эта разноголосица позволяет аккуратно проскочить некоторые трудные места и неудачные прошлые формулировки, и в итоге остается впечатление, что церковь никогда не признается в своих ошибках. Римо-католическая церковь может принять дополнения, изменения в расстановке акцентов, но никогда не согласится признать, что была не права. Если бы Жанну де Арк судила римская церковь, то ее бы никогда ни реабилитировали, ни канонизировали. Итак, вот одна из таких формулировок, об искупительной роли Страстей Христовых:
«Своим послушанием до самой смерти Иисус стал страждущим Отроком, Который поставил Себя на наше место, ”принес Свою жизнь в жертву умилостивления”, чтобы ”оправдать многих и принять на Себя их вину” (ср. Ис 53: 10–12). Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи»27.
Итак, идея «удовлетворения» Отца так и не была забыта, она все также присутствует в официальном богословии Католической церкви, также как и идея «постановки Себя на наше место». Новый Катехизис широко распахнул двери новым толкованиям механизма Искупления, но ни одному из них не отдал предпочтения и, что самое прискорбное, не признал ложным то толкование, которое церковь поддерживала веками. В 1992 году церковь вполне официально поддерживает то, что, как признавался отец Жан Ривьер, еще в 1931 «шокировало» большинство верующих. Оставим недомолвки: в 1992 году и далее, пока этот текст не будет признан ложным, «святая Римская католическая церковь» продолжает призывать верных поклоняться чудовищному Богу.
Тут стоит пояснить, что христианский Восток никогда не разделял такой взгляд на крестную жертву. Св. Григорий Богослов еще в IV веке утверждал: «…по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого отцом…»28 Правда, попадались в конце XVIII ‒ начале XIX вв. среди русских и украинских богословов такие, кто пытался развивать подобное юридическое богословие, используя для этого термины «совершенного удовлетворения правосудию Божию». Но подобные попытки всякий раз вызывали бурную реакцию, живое негодование со стороны других русских православных богословов29.
Конечно, верно то, что большинство западных богословов, пересказывая мысли отцов церкви раннехристианского периода, надеются найти у них всего лишь подтверждение собственных богословских теорий. Но поскольку интеллектуальный универсум греческих отцов радикально отличается от их собственного, то они просто не замечают, просто не видят в буквальном смысле этого слова, в чем и до какой степени он разнится с нашим латинским богословием. Он слишком мистичен для наших западных богословов, и они инстинктивно пытаются его свести, даже в переводах, к терминологии, принятой в латинской среде, как я уже показал на многих примерах в своей книге «Чтобы человек стал Богом».
С самого начала существовала совсем другая форма христианства, та, которую вплоть до наших дней поддерживают и развивают православные церкви, несмотря на арабские завоевания, коммунистический режим и попытки прозелитизма со стороны католической церкви, выразившиеся, например, в создании униатских церквей. Но саму эту богословскую традицию западные церкви (католические и протестантские) при этом даже не столько отвергают, сколько просто не знают, она прошла мимо них.
Эти богословские теории уже остались в прошлом
Однако, на самом деле, такой подход к механизму нашего спасения, когда его понимают в терминах замещения и удовлетворения, остался в прошлом: большинство богословов второй половины ХХ века уже совсем его не разделяют. Но происходил этот разрыв постепенно, в несколько этапов. Так, например, в «Голландском катехизисе», вышедшем в 1966 году по инициативе епископов Нидерландов и с их благословения, говорится, в частности: «Иисус отдал свою кровь не Отцу, требовавшему наказания: Он отдал ее нам». Вся терминология наследует Преданию, укорененному в Писании, и вовсе «не подразумевает, что Отцу нужно было страдание Сына, чтобы наказать Его вместо нас»30. Но Ватикан сразу отреагировал на новый катехизис, созвав комиссию из шести кардиналов, которая отредактировала новые формулировки, уточнив, что Христос, «конечно, никоим образом, не подвергал Себя наказанию, наложенному на Него Отцом, но, подчинившись с сыновней любовью воле Отца, ради своих братьев-грешников и будучи их посредником, вольно принял смерть, которая стала для них спасением от греха. Через эту святую смерть, которая в глазах Бога щедро уравновесила грехи мира, благодать Божия была восстановлена в человеческом роде, как благо, заслуженное его Божественным главой». Т.е. уравновесить грехи мира – это было не требование Отца. Это уже прогресс! Но это все те же наши грехи, которые за нас должен исправить своей смертью Христос, по какому-то таинственному закону, против которого бессилен даже Бог-Отец. В 1977 «Католический катехизис Фульды», изданный германоязычными епископами, подтвердил лишь, что Христос вольно принял страдание и смерть из послушания и любви к Отцу и из любви к нам. И ничего, совсем ничего не было добавлено, чтобы объяснить, как именно это страдание и эта смерть могут нас спасти.
В этом конкретном случае напряжение и разногласия между разными направлениями не удалось скрыть. Прогресс налицо, но он так мал, что еще почти не заметен. В последующие десятилетия богословская эволюция сделала рывок и ушла далеко вперед, порой даже слишком далеко. Итогом такого разрыва с прежним богословием стал тот факт, что Западная церковь сегодня уже не может предложить никакой теории, способной объяснить, в чем и как именно Страсти Христовы стали спасительными для нас.
Это полный тупик.
Новые варианты богословия Искупления
Переформулировать все богословие
Прежде чем изложить вам все, что случилось в дальнейшем, мне бы хотелось привести доказательства того, что я не преувеличиваю серьезность кризиса. Вот, в нескольких словах, речь отца Гийома де Мантьера, преподавателя в Школе собора Нотр Дам в Париже, высшем учебном заведении, готовящем будущем столичных священников:
«Действительно ли мы заметили, до какой степени в ходе ХХ века изменилась сама логика изложения нашей христианской веры? Откуда это пришло, почему стало возможным представлять себе христианство в почти беспросветном тупике мысли о реальности спасения? Иисус отныне стал всего лишь вестником любви, компаньоном человечества, или Он все еще воплотившийся Сын Божий, умерший и воскресший, нас ради человек и нашего ради спасения? Не поменяли ли мы религию? Те понятия, которые были существенны для веры наших отцов (рай, чистилище, ад, заслуга, жертва, исправление, душа, искупление, суд…), словно претерпели какое-то странное затмение в обыденной христианской мысли и проповеди. Чем стали они для нас сегодня: всего лишь свидетелями архаического религиозного мира? Или сохранили хоть какую-то значимость и в наши дни?»31 Увы, все обстоит именно так. Драма обострилась и дошла ровно до этого места. Да и многие верующие успели понять и почувствовать, что все так и есть.
И речь тут идет не просто о впечатлении, а о революции в богословии, перевернувшей то направление богословской мысли, которого сознательно придерживалось большинство религиозных мыслителей вплоть до конца прошлого века. Вот вам несколько примеров, взяты они, как правило, из богословских сборников, что говорит лишь о том, что и другие богословы и соредакторы каждого сборника не были шокированы теми мыслями и утверждениями, которые вы сейчас прочтете.
Тавернье в главе «Итоги и задачи христологии» дает вполне определенный подзаголовок параграфа: «К современной формулировке тайны Воплощения». Он пишет: «Сначала робко в 19 веке, затем более уверенно сегодня, католические и протестантские богословы постарались внести в христологию все то, чем сегодня обогатилось наше представление о человеке. Процесс этот шел трудно, часто на самой границе ортодоксии, иногда с анафемой со стороны церковного начальства: но без этого нам уже не обойтись, если мы хотим говорить об Иисусе Христе языком сегодняшнего дня»32.
Робрехт Михьельс (Robrecht Michiels), заявив, что темой его исследования будет «Откровение и Обетование», поясняет уже во вступлении: «дабы избежать недопонимания, стоит сразу предупредить, что перспектива и основания мысли в данном исследовании не совпадают с тем, что в современном богословии уже принято называть “прежней” перспективой и “прежними” основаниями богословской и христологической мысли, еще не учитывающими тех результатов, которых добились критическая, литературная и историческая экзегеза сегодня»33.
Отец Эдвард Шиллебиикс (Schillebeeckx), доминиканец, профессор догматики в Университете Неймегена и эксперт голландского епископата на Втором Ватиканском соборе, приводит аргументы того же рода: «Центральной проблемой сегодняшнего дня стало, таким образом, значение веры в совершенно новом и отмеченном секуляризмом мире… Это первое. Второе – проблема переосмысления догматов, одного за другим, но и в их целокупности тоже… такое усилие предполагает, что, выраженная этим новым языком, вера останется при этом прежней»34.
Стоит сразу пояснить, что, в целом, я разделяю это мнение. Церковь не может ограничиться повторением и пережевыванием старых формулировок. Для передачи веры, она должна найти слова и категории, соответствующие своему времени. Но проблема заключается в том, чтобы при этом, действительно, вера оставалась «прежней», тогда как в этих новых исследованиях постепенно накапливаются изменения и отклонения, которые чаще всего приводят уже к потере веры. Здесь не место рассказывать историю такой эволюции. Многие разнородные элементы привели к такому результату, различные подходы к проблемам и исследовательские установки, критическая экзегеза, новый уровень общественных наук, новые течения в философии… Но в действительности под этими различными формами скрывается последовательная утрата веры в большей части современного общества, утрата чувства сакрального и сверхъестественного. Демифологизация и атеистическая критическая экзегеза стали лишь крайними проявлениями все того же общего процесса. Зло проникло гораздо глубже. Я не раз уже писал об этом в своих прежних книгах35.
Христос – просто образец
Чтобы выйти из того тупика, который мы очертили выше, следовало бы найти другое, по возможности верное объяснение роли Христа как Спасителя. К сожалению, вместо того, чтобы углубить тайну нашего спасения, большинство богословов предпочитают просто уйти от проблемы, даже не дав ей ясного и четкого объяснения, даже не упомянув о таком уходе.
Так начало формироваться новое объяснение у некоторой части мыслителей, прежде всего, у голландских богословов. Согласно этому направлению мыли, Христос нас спас, просто указав нам путь к спасению. Это уже стали называть «богословием спасения по примеру». Вот что говорит по этому поводу отец Шооненберг, иезуит, доктор богословия и профессор догматического богословия в Неймегене, в Голландии:
«Что же касается Христа, тот тут все дело в примере, образце, не просто в ”хорошем примере” в нравственном смысле этого слова, но в таком примере, который затрагивает глубину жизни и идет от личного общения. В Иисусе мы видим, как в мир пришел человек, который оказался самым человечнейшим человеком из всех людей…
Именно в этом смысле я и говорил вам о “сотериологии по примеру Иисуса”. Сегодня мы гораздо лучше осознаем спасительное дело Иисуса как Служителя и как пример для нас, и гораздо меньше думаем о жертве и удовлетворении…
Наша вера учит, что Он для нас исключительный и непреходящий образец… Сегодня стоит переформулировать по-новому богословские положения о трансцендентности Христа, или даже значение Его спасительной миссии, Его последнего Обетования»36.
Очевидно, что при таком подходе Христос нас уже не «спасает». Он просто показывает нам путь спасения, то, что нам самим нужно сделать, чтобы спастись. И это вовсе не одно и то же. Он больше вообще не «Спаситель». Все самое существенной в христианской вере тут оказалось забыто, и, чтобы сыграть эту роль выдающегося образца, Ему нет никакой надобности проявлять себя «вочеловечившимся Богом». Вот почему, хотя это и не было никогда заявлено открыто, в таком богословии постепенно сходит на нет идея Боговоплощения и Слова, ставшего плотью, и возникают все новые и новые формулировки, более подходящие для той новой (уменьшенной) роли, которая отныне отводится здесь Христу. Такие попытки затронули и поставили под сомнение следующие выражения: во Христа уже больше не верят, как «в иже от Отца рожденнаго прежде всех век, света от света, Бога истиннаго от Бога истиннаго», как говорится в Символе веры. Он стал всего лишь «человеком, в исключительной степени наделенным благодатью» (А. Хальсбох (A. Hulsbosch)), или же «человеком, в Котором Бог присутствует самым глубоким и сокровенным образом» (Ф. Хаарсма (F. Haarsma)). Шиллебиик тоже выражается похожими словами: «Фигурой откровения Бога стал человек Иисус… Человек Иисус сам есть Божие присутствие». Или вот еще вариант формулировки: «Иисус из Назарета для нас и для мира стал в совершенстве, то есть в превосходной степени, так, что превзойти это уже никак невозможно, проявлением и видимым образом Бога в человеке, ставшей образцовой эпифанией Бога, решающим и высшим самооткровением Бога в человечестве… Иисус – человек, в котором Бог явил Себя исключительным образом…»37
Я не первый и не единственный, кто взял на себя труд проследить этот упадок мысли, об этом уже писал отец Ж. Гало38.
Но тот тупик, в котором оказалось западное богословие в вопросе о спасительной роли Страстей Христовых, должен был привести к тому, что постепенно большинство западных богословов присоединится к этому направлению, утверждающему спасение по примеру и образцу.
Христос как политический образец
Отец Христиан Дюкок, доминиканец и профессор догматического богословия, читавший курс христологии в Католическом институте Лиона, заметил, что все наши интерпретации Страстей Христовых вплоть до сегодняшнего дня основывались на «юридической мнимости». «Сегодня мы уже чуть меньше подвержены соблазну заимствовать наши понятия из юридической терминологии», – признает он. Мы начинаем понемногу обращаться к другим, более современным схемам мысли. Его книга вышла в 1972 году. Следовательно, продумывал и писал он ее чуть раньше, примерно тогда же, когда произошли памятные «события» мая месяца 1968-го года. Итак, он продолжает:
«Все больше и больше места отводится политическим рассуждениям. Поэтому неудивительно, что в политических терминах пытаются осмыслить даже смерть Иисуса… Вопрос, которым многие задаются внутри себя, но не решаются сформулировать его вслух: “В чем разница между смертью политических лидеров, таких как Сократ или Че Гевара, и смертью Иисуса?”
Правосудие Божие состоит не в том, чтобы довольствоваться компенсацией или потребовать ее, но и не в том, чтобы извне вручить человеку свободу. Оно состоит в том, чтобы сделать человека участником собственного освобождения, начиная с его падения и его неизбежных последствий…
Иисус был революционером, Он умер, чтобы изменить существующий порядок, но вызов, который Он бросил, продолжает жить в веках. Его смерть не погасила огонь Его слова».
И в итоге воскресает Христос не потому, что, по словам апостола Павла, «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2: 9), нет, Его воскрешает Отец, показав нам, что и нам следует идти тем путем, которым идет Иисус. И тогда, вполне в логике своего рассуждения, отец Дюкок подменяет термин «спасение» термином «освобождение»:
«Вот почему Страсти и Смерть Христа стали подлинными символами борьбы за справедливость и выражением любви Бога: Иисус отказался от собственного “освобождения”, потому что ”освобождение” другого было для Него гораздо важнее собственного. Вот поэтому Он нас освобождает, поэтому Он освободитель. Так Он победил смерть, так Бог Его воскресил, сделал Господом и Христом, подателем Духа»39.
Итак, Христос тут понимается уже не как подлинный наш Спаситель, а лишь как Освободитель. Заметьте, как постепенно идея внутреннего освобождения, борьбы против нашего собственного эгоизма, злопамятства, ненависти, т.е. личного обращения, хоть и не исчезает совсем, но полностью уходит на задний план. Речь уже идет о революционной борьбе за мировую справедливость. Автор словно бы и не подозревает, что изменение мира должно непременно начаться с изменения каждого из нас.
Стоит подчеркнуть, что и при таком подходе Христос «освобождает» нас своим примером, а не непосредственным действием. Иными словами, здесь Он не больше «освободитель», чем был «Спасителем» в голландской версии нашего искупления. Каждый раз Он делает лишь то, что необходимо, чтобы показать нам, что мы сами должны сделать, чтобы спастись или освободиться.
Перемена весьма примечательна. Хоть и незаметно, но христианская вера осталась где-то далеко позади. И ведь речь идет каждый раз о священниках, монахах, докторах богословия, преподавателях богословских учебных заведений, получивших благословение у церковной иерархии на то, чтобы учить и воспитывать будущих священников. Речь идет не просто о дерзких помыслах, посетивших того или иного конкретного священника, и не о какой-то слишком личностной мысли одного человека. Речь идет о текстах, напечатанных большими тиражами и распространяющихся в лучших духовных библиотеках и магазинах духовной литературы, и все это с согласия, хотя бы эксплицитного, епископов…
Но моды проходят…
Христос как образец мудрости
Сегодня (особенно на Западе) акцент делается уже не столько на революционности Христа, сколько на притягательности Его учения, Его мудрости, всего того, что позволяет поставить Его в один ряд, скорее уж, с Буддой, Конфуцием и даже Магометом, чем с Че Геварой. Книги этого направления все множатся и множатся: «Сократ, Иисус, Будда: три учителя жизни»40 (уже сам этот ряд имен позволяет заметить, какую малую роль автор книги отводит Страстям Христовым); «Христианско-буддистские параллели»41; «Потаенная красота религий»42.
Сдвиг этот произошел незаметно, так, чтобы верующие ничего и не заметили. Одна французская мирянка показала, как происходит такая подмена, на примере «Канадского катехизиса». Но, по собственному опыту наблюдения за детьми, изучавшими французский катехизис «Живые камни», могу вас заверить, что и здесь налицо тот же самый процесс. Лично я этот катехизис не читал. То есть сужу я здесь вовсе не какой-то конкретный текст. Меня интересует сам прием, с помощью которого можно совершенно новое учение выдать за старое, да так, что почти никто из верующих и не заметит его новизны.
Итак, вот что пишет по поводу Канадского катехизиса Дениза Нуайа:
«Все вышеприведенные рассуждения ведут нас к следующему утверждению. Канадский катехизис передает вовсе не католическую веру. Он использует слова привычного религиозного языка, но утверждает при этом какую-то другую религию. Второй Ватиканский собор ставил перед собой задачу – начать диалог с миром, – в поисках нового языка, способного передать более понятным и современным образом сокровища из многовекового наследия католической веры. Но, к сожалению, привело это к ужасной подмене. Теперь, вместо того, чтобы использовать новый язык для научения старой вере, многие стали использовать традиционные термины для передачи совершенно другого учения, заново переосмыслив эти термины, не уточнив и не определив при этом их нового содержания».
Мне остается к этому добавить лишь то, что прием этот известен давно: им воспользовался еще св. Фома Аквинский в своей «Сумме теологии». Например, когда он говорит о нашем положении сынов Божиих, то сначала объясняет, что наше сыновство причастно сыновству самого Сына Божия во Святой Троице. Для этого он приводит целый ряд цитат из греческих святых отцов, объяснявших эту мысль в ясных и внятных терминах, как уже не умеют объяснять. А затем добавляет свои рассуждения, которые вроде бы должны помочь нам лучше понять приведенные тексты. Для этого он поясняет, что бывают разные виды «причастности». Он приводит разные примеры, от сильной причастности как тесной связи до слабой и отдаленной. И оказывается, что та причастность, которой нам следует держаться, самая слабая: по аналогии. То есть, как во Святой Троице у Отца есть Сын, так и мы все являемся сынами Святой Троицы. Иными словами, тут уже нет речи ни о какой подлинной причастности собственно к сыновству Сына. Осталась всего лишь аналогия. В итоге можно привести прекрасную подборку текстов святого Фомы, остановившись там, где начинаются подобные рассуждения, и никто из читателей даже не заметит, что здесь он выворачивает наизнанку мысль своих предшественников-греков, выхолащивает ее подлинный смысл. И к такой подмене он прибегает довольно часто.
А вот другой пример подобной подмены, не столь давний и чаще встречающийся: как изменилось значение слова «спасение». В настоящем христианстве слово это означает то, что совершил Христос, в частности, своими Страстями, ставшими важнейшим моментом Его служения, чтобы вырвать нас из бездны греха и смерти. Христос – «Спаситель». Но можно ведь придать слову «спасение» и гораздо меньшее, слабое значение. И тогда окажется, что Христос лишь показал нам путь для устроения мира чуть более дружественного и братского.
Фредерик Ленуар, главный редактор журнала «Лё Монд де релижьон» (Мир религий) совершенно прав в своем отказе принять старую схему нашего искупления, согласно которой страдания Сына понимались как единственный способ умилостивить гнев Отца, вызванный нашими грехами. Но в итоге, в качестве альтернативы, он оставляет за Страстями Христовыми жалкое и слабое значение. Крест для него уже больше ни «спасительный», ни «спасающий». Он умело играет словами. «Если смерть Иисуса и оказалась спасительной, то отнюдь не потому, что она доставила удовольствие Отцу, а потому, что была предельным, радикальным свидетельством истинности Его любви к людям». Тут мы находим и термин «спасение», но вылившийся в наиболее слабое из однокоренных с ним слов: «спасительный». Смысл Креста при этом полностью меняется. «Что же касается страдания, – продолжает Лену-ар, – то само по себе оно совершенно бесполезно. Более того, Иисус показывает, что оно чудовищно. Перед лицом проблемы существования зла, Он не дает ни рационального, ни богословского ответа. Он просто делает жест: сам лично пересекает загадку зла. Но свободно приняв то, чего нельзя избежать, Он показывает верующим, что есть способ принять неизбежное – болезнь, потерю близких, горе, приближение смерти, – так, чтобы при этом расширить сердце человека, открыть его для понимания, любви и сострадания, не зависящим от внешних обстоятельств. Иисус не пытается устранить трагедию бытия. Он принимает ее в полноте. Он весьма далек от восхваления страдания, от мазохистской установки тех, кто добровольно ищет страданий и смерти, думая тем самым уподобиться Христу»43. Опять нам пытаются доказать, что Христос всего лишь пример, жизненный образец: мы можем у него научиться, как достойно переносить те жизненные испытания, которых мы не в силах избежать.
Но, если мы утверждаем, что Христос, не сумев избежать Страстей, в итоге принял их добровольно, то тем самым, имплицитно, мы уже соглашаемся с тем, что Он всего лишь человек наподобие остальных, и уж точно не «Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный…». При этом Христос ведь ясно говорит в Евангелии, что, лишь захоти Он, и Бог пошлет «двенадцать легионов Ангелов», которые избавят Его от рук иудеев и римлян (Мф 26: 53). Но верно и то, что в последние годы Евангелие все чаще и чаще воспринимается всего лишь как поздние тексты, написанные спустя много лет после смерти Христа и не имеющие ничего общего с Его подлинной жизнью и словами. Однако в последнее время начала появляться новая тенденция, причем со стороны высококлассных специалистов, пытающаяся противостоять моде, в корне подрывающей авторитет Евангелия. Я не раз уже говорил об этом в своих книгах44. Но, к сожалению, слишком поздно. Мода успела нанести нашей вере ущерб, и немаленький.
Тайна зла, обойденная стороной
Помимо всего прочего, это направление мысли с необъяснимой легковесностью относится к тайне зла. Фредерик Ленуар, видимо, даже не подозревает, что может существовать хоть какая-то связь между торжеством зла в мире сем и Страстями Христовым. И он, видимо, точно так же верит и в то, что все святые и мистики, приобщившиеся к Страстям Христовым, сами этого захотели, и виной тому лишь присущий им мазохизм и любовь к страданию. И тут снова предается забвению важнейшая составляющая христианской традиции. Да, конечно, бывали такие монахи, которые сильно преувеличивали идею умерщвления плоти, в надежде аскезой и волевым усилием добиться святости, иногда при этом болезненно переоценивая значение страдания, – это можно признать и без всякого психоанализа. Но не знать или не желать признать, что нередко Христос Сам просил верных Своих последователей разделить с Ним Страсти, – это уже равноценно отказу от самой традиции христианской святости. Но вот отец Дюкок, похоже, все-таки понял, какая связь между Страстями Христовыми и мистическим опытом, вот только понял это с точностью до наоборот: «”Мистическое” сравнение остается сравнением: психологическое чувство оставленности, пережитое Христом, объясняется сведениями, позаимствованными из религиозного опыта избранных душ. При этом не объясняется, в чем же причины такой оставленности»45. Иными словами, отец обвиняет некоторых богословов в том, что они, на основании мистического опыта избранных душ, придумали какое-то психологическое чувство оставленности, которое якобы было у Христа, и при этом не смогли подобрать для этого подходящие рациональные объяснения. Если продолжить и дальше рассуждать в той же логике, то можно дойти до того, что мы заподозрим Христа в том, что Он отдал Себя на распятие лишь из подражания тем, кто носит стигматы. Но это немыслимо! Похоже, отцу Дюкоку даже не пришло при этом в голову, что тут именно опыт богооставленности, переживаемый мистиками, соотносится с опытом Христа, при том, что сами мистики четко осознают и говорят о том, что сам Христос им это открыл и внушил.
Но отец Дюкок все-таки хотя бы уважительно относится к мистикам, называет их «избранными душами». Может быть, тогда ему стоило бы сделать еще одно усилие и попытаться понять, в чем же состоит такая избранность. Возможно, это вывело бы его к новым горизонтам понимания тайны Страстей Христовых. Для Ф. Ленуара же все гораздо проще, так как мистики для него – всего лишь образчики патологии. Этот автор, хорошо осведомленный в области истории и социологии, благодаря верному выбору соавторов для редактируемого им сборника, о христианстве имеет лишь поверхностное представление. Очевидно, по-гречески он не читает46. А значит, он не читал в оригинале ни тексты Нового Завета, ни греческих отцов, которые, хотим мы того или нет, заложили основания христианского вероучения. Да и о мистическом опыте у него лишь поверхностное, психоаналитическое представление.
И, однако, именно мистики больше других могут на собственном опыте приблизиться к опыту Христа. Отказ следовать за ними равнозначен топтанию на пороге тайны, когда Страсти Христовы априори рассматривают на уровне обычных событий мира сего. Что и делает, например, Карра де Во Сен-Сир, доминиканец, профессор Семинара Эвё монастыря в Л’Арбрель, когда пытается дать свое понимание «Богооставленности Христа на Кресте». Перво-наперво он утверждает, что сама мысль о Богооставленности Христа на Кресте возникла в экзегезе и богословии лишь в XIV веке в трудах Таулера, и лишь затем ее подхватили оттуда разные мистики, в числе прочих и святой Иоанн Креста. Из чего он делает вывод, что речь здесь идет всего лишь о позднем изобретении, ничего не удостоверяющем. «Остается выяснить, до каких крайностей доходит это отождествление тоски и покинутости Господа с мистическим испытанием, по мысли все тех же авторов?» Ниже мы увидим, что такое краткое изложение истории богословской мысли применимо, хоть и с натяжкой, к Западу, но совсем неприменимо к христианскому Востоку, хотя наш доминиканец думает, что все ровно наоборот. Для него главный момент Распятия, переданный евангелистами, будет всего лишь очень человеческим криком отчаяния: «Прежде всего, Богооставленность здесь не имеет ничего общего с тем, что мистики переживают как “испытание”: это горе праведника, обреченного на преследования врагов, о котором Бог, как представляется, позабыл, раз Он не вмешивается в ситуацию»47. Ганс Урс фон Бальтазар, один из крупнейших католических богословов прошлого века, в конце жизни назначенный кардиналом, назвал такую точку зрения «непростительной поверхностностью»48. Но отец Дюкок не согласен с такой оценкой и считает, что она «вызвана “мистическими” симпатиями Ганса Урса фон Бальтазара». Вот тут-то и кроется основная проблема восприятия Страстей Христовых, да и всей жизни Христа. Должны ли мы постигать их только с помощью привычных нам подручных средств историка, социолога, психолога…, как мы делаем со всеми прочими обыденными событиями мира сего, или стоит дерзнуть помыслить, что здесь кроется более глубинная тайна, не поддающаяся обычным исследовательским методам, и что вместе с ней мы приоткроем и скрытый смысл, который сможет подвести нас ко всей жизни Христа и даже к смыслу жизни вообще?
Но не делайте отсюда вывод, что именно по этому пути и пошла Католическая церковь. Вот, например, слова пастора Альбера Гайяра, из Реформированной церкви Франции, сказанные им в 1974 на коллоквиуме «Коммунисты и христиане», организованном в Бегле, близ Бордо: «Среди серьезных и верующих богословов очень мало кто, поразмыслив, и в самом деле утверждает, что Бог – личность, обладающая разумом и волей. Мир иной не представляется ли нам всего лишь, как утешительное алиби, как способ избежать тоски?» Затем оратор относит на свой счет следующее утверждение: «Вечная жизнь – это определенное качество земной жизни». А из этого он делает вывод: «Неверующие христиане не отрицают того, что в вере главное. Вера ни философия, ни теизм. Это безумное пари о личности Иисуса, восставшего на всех античных богов и придавшего окончательный смысл истории и человеческим отношениям»49. Здесь, по крайней мере, с Богооставленностью все понятно; она не уничтожена словесными хитросплетениями. И все же поясним, что пастор Гайяр озвучил здесь мнение, которое отнюдь не все его собратья-протестанты поспешат с ним разделить.
Что останется от Христа?
К Христу теперь обращаются только ради Его учения или как к возвышенной модели универсальной любви. Он превращается в великого предшественника гуманистического языка и толерантности. Конечно, Он и все это тоже, но все-таки ведь гораздо больше, чем только это. Он и в самом деле «Спаситель». Но, чтобы это понять, нужно согласиться на мистическое видение мира, Истории Человечества и жизни каждого из нас. Неприятие этого «мистического» измерения Страстей Христовых и всей жизни Христа ведет, помимо всего прочего, и к отказу от идеи «Бога, ставшего человеком», а значит к упрощенному взгляду, видящему в Нем всего лишь человека, одного из людей. А это уже полный отказ от христианской веры.
Сегодняшние экзегеты и богословы, в огромном большинстве, подходят к словам и поступкам Христа, не желая учитывать тот факт, что Он не просто человек, но Бог, ставший человеком. Они даже не признают за Ним тех даров, которые обычно щедро приписывают медиумам. Если, например, в Евангелии от Луки говорится о том, что Иисус предсказал падение Иерусалим (Лк 19: 41–44, 21: 20–24, 23: 28–31), то эти экзегеты тут же делают вывод, что все это потому, что Евангелие от Луки было написано уже после того, как все случилось, и что предсказание Иисуса Лука просто присочинил. Для них Иисус просто не мог знать этого заранее. Он ведь не был медиумом, да к тому же все и так знают, что и медиумов тоже не бывает50.
Для них смысл того, что говорил и делал Христос, можно понять, только основываясь на психологии очень среднего человека, живущего в определенных условиях, далеко не лучших, в Палестине того времени. Это признает и папа Бенедикт XVI: «Основным критерием для подобного рода толкований является вопрос о том, чего окружающие могли ожидать от Иисуса в Его конкретных жизненных обстоятельствах и в Его конкретной среде с ее конкретным уровнем развития. Похоже, не слишком многого. Слова о великих деяниях, о великих страданиях к Нему как будто неприложимы. Единственное, с чем Его еще хоть как-то можно было “увязать”, – некоторое апокалиптическое ожидание, которое скрытно присутствовало в обществе, – вот, пожалуй, и все. Но ориентация на “окружающую среду” и ее ожидания не дает представления о мощи и масштабе события, именуемого Иисус»51.
Если уж папа Бенедикт XVI, несмотря на всю тяжесть папских обязанностей, вновь, по старой профессорской привычке, взялся за перо, то это лишь потому, что он ясно понимает, что, защищая божественность Христа, он остался в собственной церкви в меньшинстве. «Чего окружающие могли ожидать от Иисуса…? Похоже, не слишком много», – признается он. В такой перспективе, действительно, к столь обычному, среднему человеку «Слова о великих деяниях, о великих страданиях … как будто неприложимы», ну разве что можно с ним увязать «некоторое апокалиптическое ожидание, которое скрыто присутствовало в обществе»! Иными словами, Бенедикт XVI сознает и признает, что для большинства современных богословов и экзегетов Христос перестал быть «Богом, ставшим человеком», а остался просто человеком, таким же, как множество других, даже не самым умным из них, узником тех идей, которые были продиктованы его социальной средой, пространством и временем, в которых ин жил. Простите мне эти неудобоваримые выводы, но они напрашиваются сами собой: это значит, что для большинства наших богословов и экзегетов традиционная христианская вера уже перестала быть фоном и отправной точкой их размышлений. И папа это знает. И если папа написал эту книгу, зная, что, благодаря его высокому положению, ее сразу переведут на множество языков, то сделано это было в надежде обратиться, через головы таких богословов и даже многих епископов, непосредственно к народу, к верным и верующим людям. Он пытается спасти веру своей церкви вопреки этой церкви! Можно ли представить более трагическую ситуацию! Виктор Гюго сделал бы из такого сюжета ошеломительную драму, а Верди написал бы трагическую оперу. Реальность же еще трагичнее. Теперь вы видите, что я ничего не придумываю. Она оказалась в этом положении, вместе со своим непогрешимым папой, Святая Римская католическая церковь. Заметим тут еще раз, что, к сожалению, защитники традиционной веры, самого существенного в ней, оказываются в то же самое время и теми, кто отрицает саму возможность перемен во всех сферах.
А заодно заметим, что в православии никто не считается непогрешимым, но вера не умирает.
Именно на этом пункте, касающемся божественности Христа (и на некоторых других) традиционалисты и интегристы вполне могли бы сосредоточить всю свою критику церкви и тех перемен, которые с ней произошли; а вовсе не на вопросе, использовать или нет латынь; поскольку именно с этим вопросом связаны гораздо более опасные перемены, протекающие не так заметно. Стоит, конечно, отметить и предпринятые под влиянием Иоанна-Павла II и Бенедикта XVI попытки заново защитить Христа как Бога, ставшего человеком, и как Спасителя. И все же, насколько я могу отдать себе в этом отчет, у нас так и не появилось новых интерпретаций тайны нашего спасения. Примечательно, что в книжных магазинах можно найти лишь переиздания книг великих богословов прошлого века: Карла Ранера, Анри де Любака, Ганса Урса фон Бальтазара, Ива Конгара, Луи Буйе… и, конечно, Ратцингера. И не я один это заметил. Недавно этот факт отметил и отец Анри-Жером Гажей в статье, озаглавленной «Куда делись великие богословы?»52 Автор статьи задается вопросом, почему эти великие богословы не оставили последователей, и приводит свои соображения по этому поводу. Вероятнее всего, что следующее за ними поколение богословов уже не чувствует себя свободными. Кристиан Соррель приходит к такому же заключению, сопоставив целый ряд авторитетных высказываний по этому вопросу, он приводит слова Жозефа Доре, Пьера Валлэна, доминиканца Люка-Фомы Сомма. Все они признают это «молчание», этот «откат», это «увядание» франкоязычного богословия, и даже пишут о том, что ситуация вызывает у них тревогу. И Кристиан Соррель, анализируя причины этого феномена, вычленяет главнейшую из причин: отсутствие свободы53. Что касается меня лично, то я давно уже это чувствую, но издалека, поскольку никакой официальной должности в церкви не занимаю. Но вот что недавно отметил почетный епископ Пуатье Альбер Руэ: «Я признаю, что слово как будто подморозили. Теперь любое вопрошание о положениях экзегезы или этики сразу кажется кощунственным. Уже не принято задаваться вопросами, и это жаль. При этом в церкви царит климат зловещей подозрительности. Институция ориентирована на римский централизм, опирающийся на целую сеть доносительства. Целые ответвления в ней заняты тем, что изобличают позицию того или иного епископа, составляют досье на такого-то и хранят компромат о таком-то. С появлением интернета такие издержки лишь усугубились»54.
Но у такой доктринальной бдительности было хотя бы одно преимущество: она пресекала публикации тех, кто постепенно разбазаривал самую суть веры под тем предлогом, будто бы они ее оживляют, а на самом деле лишь теряя ее окончательно. И это настоящая трагедия. Я могу лишь отнестись с уважением к их эволюции, часто болезненной, не разделяя их взглядов. Я привел конкретные примеры, как такая незаметная эволюция совершается постепенно с друзьями-священниками в своей книге «Бог и Сатана»55.
Большинство наших богословов и экзегетов уже больше не верят в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, поскольку их разум не может вместить эту тайну. Тайна, по определению, это нечто истинное, но бесконечно превосходящее границы нашего разума. Они же предпочитают строить системы, отдающие должное выдающейся исторической роли Христа, но системы рациональные. Их экзегеза евангельских текстов, как и интерпретация догматов, с самого начала оказывается за пределами христианской веры. Тут не место для исторического экскурса, как же произошла такая подмена. Мы бы нашли в нем великие имена немецких философов, их определяющее влияние на богословие Карла Барта и на экзегезу Бультмана, и еще последние открытия в психологии. Но замена Аристотеля подобным коктейлем тоже не даст хороших результатов. До тех пор, пока Запад будет в своем богословском размышлении опираться на профанный анализ мира, он не сможет подойти к тайне Боговоплощения. Тогда как на Востоке подлинные богословы укоренены в мистике этой тайны.
Меня радует тут лишь то, что и эти авторы уже почти не звучат и уходят в забвение, но в этом вопросе я еще не совсем спокоен, потому что те, кого уже вовлекли в это направление мысли, не перестали мыслить. Они продолжат все тот же путь эволюции, все дальше уходя от веры, не осмеливаясь заикнуться об этом в церковной ограде. Они сойдутся в этом со светскими мыслителями, называющими себя христианами, не подозревая о том, что давно уже отбросили все самое существенное в вере, как уже упомянутый Фредерик Ленуар. Но в том же лагере окажутся и философы, как Андре Комт-Спонвиль56 или Люк Ферри57. По крайней мере, на сегодняшний день эта линия мысли берет верх над остальными. Отошлю вас в этом вопросе к терминологии отца де Мантьера. Он видит здесь не просто одно из многих направлений мысли среди других течений, хотя опасное и требующее разоблачения. Нет, он считает, что нынешние богословы, по крайней мере, большая часть их, полностью перевернули представление о вере и пришли к чему-то радикально новому. «И ведь почти никто и не заметил, до какой степени изменилась сама логика изложения христианской веры в течениях мысли ХХ века. Мы что, поменяли религию?»
И все же, не нужно мешать этим богословам думать и писать. Нужно просто предложить кое-что другое, другое богословие, сохранившее верность евангельской вере, но способное ответить на интеллектуальные и духовные запросы, присущие современному человеку. Но для этого нужен определенный климат, не лишенный свободы.
Возврат к старому богословию
На самом деле, конечно, только неоконсерваторы и чувствуют себя полностью вправе публиковать свои мысли и труды. Они хотя бы сумели сохранить самую суть христианской веры. Могу только порадоваться этому и заверить их в своей признательности. Но, к сожалению, выражают они эту веру при помощи устаревших и переставших звучать объяснений. Они пытаются сгладить этот эффект некоторыми языковыми ухищрениями, но сама структура и система их мысли не изменилась, и вполне понятно, почему сегодня она вызывает отторжение. Речь идет о простом возврате, движении вспять. Они оказываются все в том же тупике, к вящей радости Св. Августина и Св. Фомы Аквинского. Как Сизиф, они снова и снова поднимают камень на все ту же гору, и камню не остается ничего другого, как опять оттуда упасть, рано или поздно.
Доминиканец: М.-Д. Молинье
Среди таких современных богословов-консерваторов, продолжающих печататься без опаски, мне хотелось бы обратить ваше внимание на статью отца-доминиканца М.-Д. Молинье, вошедшую в сборник, посвященный «Тайне зла». Он, без всяких сомнений, уверен в божественности Христа, но на 30 страницах своего текста об Искуплении он ни разу не называет Его «Спасителем» и ни разу не упоминает, что Он нас спас. К счастью, он не прибегает и к мысли о том, что Сын своими Страстями умилостивил гнев Отца за наши грехи. Он ярко и хорошо объясняет нам, что Христос не в буквальном смысле понес на Себе тяготы грешников, чувствующих себя отпавшими от Бога, но что Он прочувствовал это как бы взаимопроникновением, через «эмпатию», как сказали бы психологи: «Любовь, Красоту и Святость Бог испытывает, поскольку Он и есть Любовь, а ужас и несчастье отпадения от Любви… просто потому, что любовь делает друга своим alter ego и испытывает несчастье друга, как свое собственное… Бог и Христос испытывают этот ужас, как собственный, следуя тайне alter ego, и Они испытывают его даже сильнее, чем сам грешник». (И тут мы уже ушли далеко от Бога как «чистого действия» у Аристотеля и Фомы Аквинского).
И все же я не вижу здесь, каким «способом» эта эмпатия может спасти грешника, потому что идет она от грешников ко Христу, а не наоборот. Во всей этой цепочке богословских рассуждений мы вообще не видим, чем и как служение Христа, Его Страсти и смерть могут хоть что-то изменить в нас самих. Христос тут всегда воздействует только на Отца, как в старой схеме: «Искупительная благодать – это плод … смерти Христа». Т.е. опять именно смертью своей Христос добывает нам у Отца «искупительную благодать».
Но, как мне кажется, наше спасение состоит не только в избавлении от смерти. Оно должно быть в том, что находятся средства, как нам стать лучше, как оказаться способными разделить Божию Любовь. В этом богословском рассуждении вовсе не Христос дает нам напрямую силу любви, необходимую для нашего обращения. Он лишь добывает, своею смертью, Милосердие Отца, «искупительную благодать». Т.е. мы остаемся в старой схеме, где все зависит от доброй воли Отца, а вовсе не от воздействия на нас Христа. Нам остается лишь, с помощью благодати, которую Христос обеспечил нам свею смертью, стать «хорошими» и даже «совершенными» «подражателями Христа». Но тогда возникает вопрос: почему Отец не может дать нам эту «искупительную благодать» без Страстей Сына? Мы возвращаемся здесь к знаменитой проповеди Боссюэ перед Двором. Какая степень страдания, какая мучительность агонии Христа надобна Отцу, чтобы наконец решиться дать нам эту «искупительную благодать»?
Старое объяснение через физическое страдание Христа неприемлемо, невыносимо, ужасно. Но если мы заменим это физическое страдание милосердием Христа, приснопамятной эмпатией, то это ничего не меняет в проблеме. Это опять оказывается Отец, Который почему-то не может или не хочет уделить нам эту «благодать» без предварительного Распятия Сына. Такое богословие всегда упирается в ужасный образ Отца. Отец Молинье предпочитает даже отказаться от мысли о том, что спасает нас Христос. В действительности в его статье описываются два агента нашего спасения: Отец, уделяющий нам благодать, и мы сами, кому остается лишь «подражать» Христу, взяв Его за совершенный образец. Христу же отводится двойная роль: достать благодать у Отца и служить нам примером. Но нет такого момента, в какой Он мог бы нас спасти. Видимо, поэтому отец Молинье и не обмолвился ни разу о том, что Христос нас спас58.
Богословское популяризаторство: Гюи Буасар
Я попробовал прочесть еще одну книжку из числа добротных популяризаторских богословских изданий. Автор ее вовсе не техник богословия, а мирянин. Гюи Буасар, попытался представить христианскую веру, свою веру, так, чтобы она была более доходчивой, в частности, для молодежи. Но этот мирянин – секретарь редакции журнала «Nova et Vetera», возглавляемого кардиналом Жоржем Коттье, богословом из окружения Иоанна Павла II. И снова разочарование! Традиционную веру здесь сохранить удалось, но все в тех же старых категориях, и более понятными для молодежи ее пытаются сделать лишь с помощью нескольких языковых ухищрений. Судите сами:
«Бог хотел, чтобы человек очистился в Его глазах… В итоге, поскольку для этого нужно стать святым, человек, благодаря благосклонности Бога, полученной через Страсти Его Сына, получил возможность стать святым». Здесь все та же картина: Страсти Христовы не оказывают на нас, на нашу свободу никакого прямого воздействия. Возможность стать святыми мы получаем только от благосклонности Бога-Отца. А вот тут все еще яснее:
«Для полной реабилитации человечества нужно было, чтобы от него поднялось к Богу почитание такой силы, чтобы она смогла сравниться с силой грехопадения, при том что последняя бесконечна, поскольку задевает бесконечную любовь Творца. Ни один человек не в состоянии принести жертву такой силы. Бог, воплотившийся в Иисуса, Сам принес Себя в жертву ради искупления человечества. Искупить – значит принять на себя всю сумму долга. Слово “Искупление”, которым обозначают эту тайну… предполагает значение выкупа, даже в рыночном смысле слова»59. Прибавим сюда, что этот автор еще и убежден в историческом существовании наших «прародителей».
Но до кого можно донести подобное богословие? Мы возвращаемся здесь все к той же юридической подмене, когда Христос занимает наше место и за плату, в качестве возмещения причиненного ущерба Отцу…! Опять этот жуткий и отталкивающий образ Бога!!!
Профессор кафедральной школы при соборе: Гийом де Мантьер
Я предпринял третью попытку оценить современное богословие. Для меня тут речь идет о прекрасной книге, говорю это без иронии, поскольку в ней содержатся прекрасные умозаключения, перед лицом которых душа моя приходит в гармоническое состояние. Написал ее один из профессоров парижской Кафедральной школы при соборе, то есть один из тех, кто готовит будущих священников столицы Франции. Автор является к тому же одновременно и приходским священником, что помогло ему обрести стиль, доходчивый и внятный для верных чад церкви. Итак, в этой книге отец Гийом де Мантьер обращается к интересующему нас сюжету. Он очень настоятельно напоминает о том, что Христос любит и Отца, и нас с вами. «Так что спасает нас не физическая смерть Христа, а Его сыновняя и братская любовь, знамением которой и оказываются Страсти… И Богу в этих Страстях нравятся не страдания Сына, но та любовь, с какой Христос добровольно переносит эти страдания ради нашего спасения». Итак, тут мы совсем отошли от старой невыносимой логики, по которой страдания Христа нужны были для того, чтобы умилостивить гнев Отца или отомстить за Его оскобленную честь. Уф!
Но вопрос при этом остается: зачем же нужны эти страдания? Я приведу вам ответ отца де Мантьера: «Своим милосердием (невидимая жертва) Христос удостаивает нас божественной дружбы. Своими страданиями (видимая жертва) Христос удовлетворяет и восстанавливает порядок справедливости». А еще чуть раньше этот же автор еще яснее высказывается о подлинном смысле этих же самых страданий: «Как и грех, который оно призвано упразднить, искупление должно нести в себе и элемент наказания, и элемент нравственности. Страдания Христа образуют элемент наказания, а добродетели Христа – элемент нравственности в искуплении, действующем как зеркальный ответ на действие греха»60. Значит, речь снова идет о том, что нас чего-то удостаивают, что-то сваливается на нас с неба. На этот раз это не благодать, а «божественная дружба», но с этим багажом мы оказываемся все в той же точке, по-прежнему, не очень удовлетворительной. Кроме того, почему Сын должен дать Отцу доказательства абсолютной любви через такое жуткое испытание, неужели только так Отец может нас полюбить? Он, сотворивший нас, как говорят, из любви, неужели не мог возлюбить нас еще раз и простить нас без того, чтобы прежде Его возлюбил Сын такой ценою? «Своим милосердием … Христос удостаивает нас божественной дружбы». Действительно, любит Он нас не больше этого. Но тогда и не нужно было нас творить! Для Его Сына это было бы даже лучше… (и для нас тоже!)
Что же касается меня, мне не верится, что Бог любит нас столь мало. Я, наоборот, убежден, что Он любит нас всех, грешников или нет, бесконечной, безусловной любовью, как хорошо прочувствовали многие из тех, кому довелось перешагнуть на время черту смерти, а потом снова вернуться к жизни: они почувствовали это и свидетельствовали потом об этом до конца своих земных дней. Если прощения Бога недостаточно, то это потому, что есть что-то еще.
Но, конечно, физическое страдание Христа действительно имело место, и у него должен быть смысл. Итак, нам говорят, что нужно оно было для того, чтобы «упразднить» грех. Автор не утверждает, что требование страдать исходит от Отца, и тем самым избегает самого немыслимого аспекта подобной системы взглядов. Но все-таки, для чего же было надобно это страдание? Кого Он «удовлетворил», если не Отца? И нужно ли восстанавливать этот «порядок справедливости» любой ценой? Автор настаивает на все той же идее, что любой грех требует наказания, а долг платежа. Но откуда же появилась та изначальная идея, на которой и строятся все подобные системы? Ее никто не объясняет, не проясняет, не обосновывает, только утверждают. Кто придумал, что не бывает прощения без наказания?
Идет ли речь лишь о дальнем отголоске закона возмездия? Око за око, зуб за зуб! Это та дань, которую побежденный должен уплатить победителю, вассал сеньору? Дело чести, как считает отец Брюкбержер? По поводу богословия св. Ансельма, отец де Мантье подхватывает мысль, которую можно найти еще у св. Фомы, что величина нанесенного оскорбления пропорциональная достоинству оскорбленного: «И поскольку достоинство Бога бесконечно велико, то и тяжесть оскорбления, нанесенного грехом, тоже бесконечно велика»61. Отсюда, конечно, вывод, что только Христос смог смыть подобное оскорбление. Пьер Бюрней в статье, опубликованной в 1971, заметил, что «мысль эта, идущая от Аристотеля через св. Фому, становится теперь стереотипной и бессодержательной на деле формулой, поскольку больше не соответствует ментальным, юридическим и социальным структурам современного Запада. Потому-то мы и не находим ее больше у наиболее значительных и оригинальных богословов. Но зато этот аргумент был совершенно общепринятым при старом режиме, когда наказание напрямую зависело не только от величины ущерба, но и от социального и иерархического статуса жертвы: “Оскорбление возрастает с оскорбленным”, считал св. Фома»62. Заметим к этому, что говорить о «достоинстве» Бога, по меньшей мере, смешно; это значило бы сравнивать Его с нами, подгонять Его под наши суждения, принижать Его до уровня наших социальных категорий.
И вот мы снова оказались прямиком внутри реставрации старого уклада, если только речь не зайдет вообще о подобии космического закона, метафизического порядка, взбаламученного грехом, такого, что даже Богу приходится ему подчиниться.
«Христос удовлетворил и восстановил порядок справедливости». Но в чем состоит этот «порядок справедливости»? Идет ли тут речь о законе, установленном Творцом, но так, что бразды правления упущены и его уже не изменить? Почему? Из страха критики, из страха, что придется пересмотреть все Творение ради изменения законов? Или налицо что-то вроде метафизического закона, вроде закона непротиворечия, который существует сам по себе, не сотворен, не по воле Бога, как бы поверх самого Бога, как бы врученный Ему?
Пастор Узьо предлагает тут свой вариант, который уже не апеллирует к понятию греха, а только к равновесию между счастьем и несчастьем, удовольствием и страданием. За годами тучных коров должны последовать года тощих коров, как во сне фараона, истолкованном Иосифом (Быт 41: 1‒26). Кто слишком много пьет, того наутро подстерегает похмелье, кто слишком много курит, того может настигнуть рак легких. Речь идет о разновидности равновесия, а не о настоящем наказании. Но, задает он сам себе вопрос, кто же устанавливает «эту логику компенсаторности? И какова та сила, которая должна эту логику задействовать и применять? Можно подумать, что это сама природа, часто обожествляемая…, но можно также рассудить, что такой принцип справедливости и регуляции – это сам Бог. Тогда Бог рассматривается как персонификация закона Справедливости и мудрости Природы. И здесь тоже не нужно торопиться поскорее оставить такую точку зрения». Но из всего вышесказанного он делает выводы: «Повторять неустанно и навязчиво, что Бог есть любовь, напоминает метод Куэ, потому что не из чего этого не видно и ничего это не объясняет, и тем более не объясняет страдание»63. По крайней мере, здесь все ясно, хотя мы опять оказались далеко от свидетельства мистиков.
Какие бы нюансы ни отличали этот закон, очевидно, что закон этот столь абсолютен, что даже сам Бог-Отец ничего не может против него предпринять, вплоть до того, что Ему приходится мириться с агонией, муками и смертью собственного Сына, чтобы суметь наконец нас простить? Все узловые точки предложенной системы тут. Вместо еще одной попытки все объяснить, отец де Мантьер, не стесняясь, приводит цитату из Мадлен Дельбрель, что смерть Христа нужна была для нашего спасения. Все это затем, чтобы успокоить наше любопытство касательно этого вопроса и заставить нас проглотить тупик мысли, не протестуя.
Я с трудом могу себе представить, как отец блудного сына вынужден сначала выпороть старшего, чтобы суметь простить младшего. Тогда, от одного только этого нюанса, вся история из чудесной и потрясающей превратится в жуткую. Когда Христос говорит блуднице, которую хотели побить камнями: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8: 11), то Он не требует для нее никакого замещающего наказания, менее жестокого, но восстанавливающего «порядок справедливости». Он освобождает вполне и всецело от всех кар. Прощение полное, щедрое и окончательное. То же относится и к грешнице, возлившей миро на ноги Его и вытершей их волосами: «Прощаются тебе грехи» (Лк 7: 48). То же самое происходит и с расслабленным: «Прощаются тебе грехи твои: … встань, возьми постель твою, и иди в дом твой» (Мф 9: 2‒7; Мк 2: 5).
Когда просят грешника не только попросить прощения, но, по возможности, возместить ущерб тому, кого он обидел, это нормально, это справедливо. Сюда слово «справедливость» вполне подходит. Духовник, исповедник обычно настаивает на этом, и это естественно. Но когда речь идет об отношениях с Богом, наложенная исповедником «епитимья» не очень подходит. Ведь на самом деле речь идет не о наказании. Ведь дело не в том, чтобы возместить Богу, пусть на уровне каждого отдельного грешника, последствия ущерба от наших грехов. Цель «епитимьи» в том, чтобы подвигнуть нас к пробуждению совести, через жесты или слова, помочь нам исправить в себе то, что отдаляет нас от Бога. Так после несчастного случая, чтобы вылечить вашу раненую руку, врач просит делать ею то или иное движение, даже если оно причиняет боль. Но это не для того, чтобы наказать вашу руку, а чтобы ее укрепить. Если вы будете выполнять это движение другой рукой или попросите об этом кого-то другого, то все будет напрасно.
Когда Христос говорит, что нужно прощать не до семи даже, а до семидесяти семи раз, Он не уточняет, что сначала нужно потребовать возмещения ущерба, дабы восстановить порядок справедливости. Но, когда речь заходит о наших отношениях с Богом, все перемещается в совсем другой план. Речь уже идет об отношениях не между родственниками или соседями, но между Творцом-Спасителем и Его спасенным творением. Он просит нас только об искреннем покаянии и подлинном изменении поведения, иначе говоря, о духовной эволюции, которая сделает нас снова достойными Его любви. Ведь без этого Его прощение останется бесплодным. Но больше ничего! Когда после тройного отречения Петра, Христос вводит его в союз апостолов, Он не назначает ему никакого наказания. Он лишь повторяет три раза: «Петр, любишь ли ты Меня?» И Евангелие лишь говорит нам, что в третий раз Петр омрачился, потому что знал, с каким тройным отрицанием связан этот тройной вопрос. И тогда Христос просто говорит ему: «Паси овец моих» (Ин 21: 15‒17). И ничего больше.
Отец де Мантьер тоже почувствовал опасность. Он привел свои возражения на августиновский вариант такого богословия: «Идет ли тут речь, как мы нередко слышим, о теории узколобого феодального юридизма? Не окажется ли это жалким культурным антропоморфизмом, плоским отражением средневековых представлений о рыцарской чести? Можно ли назвать это ”конторским богословием”?»64
Увы, да!
И для контраста дадим пример того, как нас прощает Бог, согласно опыту мистиков. Вот Христос обращается к Габриэлле Босси: «Расскажи о боли твоих ошибок – не столько из-за того, что они загрязнили тебя, сколько из-за того, что они ранили Меня. Потому что у тебя была эта грустная храбрость ранить Богочеловека, отдавшего за тебя Свою Жизнь. И ты ведь это знала. Но переступила через это – и все под Его взглядом, с болью следившим за тобой, ты делала все, что хотела, и чего Он не хотел. Познай же печаль об этом – бесслезную печаль – в твоей обновленной воле, которая приведет тебя к смиренной любви, к чувству самоуничтожения.
Итак, Я ринусь к тебе, как орел, жаждущий добычи, и унесу тебя в уединенные аллеи запертого сада. Тебе захочется рассказать Мне о своем прошлом. Я прикрою твои уста рукою Своею. Ты услышишь слова нежности Милосердия, и они растопят тебе сердце»65.
Вот теперь совсем другое дело! Как далеко мы ушли от Бога наших философов! И как же хочется, чтобы нас возлюбил такой Бог, а не какой-нибудь другой!
Как больно видеть, когда из Божией любви делаю карикатуру, да еще до такой степени! Но пусть они молчат, раз не могут предложить нам никаких других объяснений. Пусть закроют рты и преклонят колени перед превосходящей их тайной, это лучше, чем придумывать подобные теории. В таком богословии есть что-то кощунственное. Оно оскорбляет Бога гораздо ощутимее, чем все наши грехи. И так чувствую не только я. Клод Плеттнер, журналист и писатель, изучавший богословие, тоже считает такое представление о Боге «позицией лавочника или бухгалтера-кладовщика. Его бог должен заплатить во что бы то ни стало, и главное тут не продешевить, на кону грех и добродетель. За все платим или получаем вознаграждение»66. И никакого тебе бесплатного прощения! Часто те, кто называет себя атеистами, являются таковыми, потому что у них более высокое представление о Боге, чем у наших богословов. Если бы Христос мог предугадать в Гефсимании, что из Его Любви потом сделают богословы, Его бы еще раз пробил кровавый пот. По-моему, в таком богословии мы уже перестаем оставаться христианами и погружаемся в самое настоящее язычество. Используемый здесь понятийный аппарат восходит к метафизике Аристотеля. Автор этого и не скрывает, даже провозглашает, отсюда постоянные ссылки на гилеморфизм (материя и форма) и на цитаты из Фомы Аквинского. Возврат к старой теологии, или даже скорее к старой философии, и не только по поводу Искупления, но вообще, совершенно полный. Мы присутствуем при полной реставрации прежнего мировоззрения, совершающейся после богословской революции, к добру она была или к худу. И постоянное использование слова «любовь» этого не отменяет, поскольку в таком богословском построении любовь как-то не ощущается. Не ощущается она и в таком Боге! В нашу эпоху, когда большинство стран уже отменили смертную казнь, такой Бог выгляди варваром. Это Бог Аттилы! И повторять при этом, что Бог есть любовь, очень напоминает метод Куэ, как заметил пастор Узьо.
Я прекрасно понимаю, что обычно подчеркивают роль Христа как Спасителя, признавая при этом, что «функционирование» или «механизм» этого спасения нам по большей части остается недоступен. Можно выделить несколько вторичных мотивов, сказать, что Христос Своими Страстями показал нам, до какой степени Он нас любит, или вспомнить о том, что Он дал нам тем самым пример, – признав сразу, что все эти мотивы не объясняют всего, что самое существенное по-прежнему от нас ускользает. Все эти богословы очень милы. Кучей доводов, благочестивых рассуждений и сравнений они пытаются заставить нас проглотить эту неудобоваримую пилюлю. Но сами при этом чувствуют, что пытаются оправдать то, чему нет оправдания, и заметно, что они и сами не очень удовлетворены собственными доводами. Конечно, претензии у меня не к ним, но к их богословию. Они же делают все, что в их силах. Как и я. У них хотя бы хватило смелости прибегнуть к божественности Христа и признать, что Он сыграл существенную роль в нашем спасении. Это уже немало. Они хотели примкнуть к Традиции. Если же в католичестве эта Традиция сводится сегодня исключительно к наследию св. Фомы Аквинского, то это не их вина, но последствия этого катастрофичны.
Об этом давно уже говорили некоторые чуть более трезвые, чем другие, богословы, например, францисканец отец Валентин-М. Бретон. Вспомнив постоянные богословские яростные споры между св. Бонавентурой и св. Фомой Аквинский, он так резюмировал суть проблемы: «Св. Фома был философом, и вдобавок к этому христианином. Он создавал философскую систему и сделал это столь совершенным образом, что его философия сохранилась бы, даже если бы христианство оказалось ложным, и можно быть томистом, не будучи христианином. Но христианство не ложно, и оно не совпадаем по объему с философией св. Фомы»67.
Когда Владимир Лосский, великий православный богослов ХХ века, занялся изучением Майстера Экхарта, то его первостепенной задачей было показать, что схоластическое богословие сделало невозможным опыт мистиков. Однако в ходе такого изучения он пришел к выводу, что мысль рейнского Майстера уже предполагает подлинный мистический опыт; но в то же время он обнаружил и показал, что мысль эта полностью опрокидывает весь понятийный аппарат философии св. Фомы и меняет значение ключевых слов в нем. Стоит признать, что его выводы сегодня повсеместно признаны специалистами по творчеству Майстера Экхарта.
Помимо всего прочего, брать богословие св. Фомы Аквинского за отправную точку позиции церкви именно по вопросу Искупления, будет правдоподобной, но зловещей шуткой. Для св. Фомы Христос никогда по-настоящему не страдал, ни физически, ни нравственно, ни в Гефсимании, ни на Кресте. Он всегда, от чрева Матери Своей, наслаждался «блаженным видением», что на богословском языке означает, что Его человеческая душа всегда наслаждалась вечным райским блаженством. Если Христос страдал лишь так и не больше, то и Бог Отец должен почувствовать тут Себя обделенным!
В любом случае, как можно подходить к пониманию тайны Креста, взяв за основу понятия Аристотеля? Вот только тексты Евангелий звучат все так же сильно. В Гефсимании Христос говорит: «душа Моя скорбит смертельно» (Мк 13: 34; Мф 26: 38), и у Луки читаем: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк 22: 44). Феномен этот известен хирургам, такое случается с гиперчувствительными людьми в ситуации предельного страдания, это бывало, например, во время Первой мировой войны при ампутациях без анестезии. И это при том, что в Гефсиманском саду Христа еще не отдали на физические муки. То есть тут речь идет только о нравственном страдании, психологическом, но последствия от него такие же. Страдание это, следовательно, должно было быть такой степени силы, о какой мы даже представления не имеем. Итак, св. Фоме все-таки приходится хоть как-то учитывать то, что сказано в Евангелиях. Он все же признает, что Христос познал «начало печали» и «начатки страха», хотя и быстро их преодолел68.
Это уж точно насмешка над миром! И притом речь здесь идет о центральном моменте жизни Христа. Вместо того, чтобы попытаться понять тайну Страстей, угадать, что она покрывает собой, приоткрыть то, что может навести нас на след понимания, наш философ предпочитает вообще от нее отвернуться, поскольку тайна эта мешает его плоскому теоретизированию. Между Аристотелем и Христом св. Фома выбрал Аристотеля. Но речь ведь тут не о малозначимой подробности из жизни Христа. Отказаться всерьез отнестись к Страстям равнозначно добровольному отказу от сердцевины христианства, от смысла всей мировой истории. «Томизм», эта грандиозная и величественная конструкция, полностью отрицая самое главное, оказался сооружением, построенным на песке, а не на том, что поистине важно. И в самом деле, как верно заметил отец Валентин-М. Бретон, можно быть томистом, не будучи христианином, и даже лучше не слишком уж быть христианином, если вы непременно хотите быть томистом. Все это я понял, еще когда учился в семинарии в Париже. Но выбор я сделал другой, не тот, что у Фомы Аквинского, чем и навлек на свою голову немало неприятностей в лоне Римо-католической церкви еще даже до того, как стал священником. И как же можно считать учителем богословия того, кто полностью отказался от попыток всерьез понять тайну нашего Искупления?
Признание того, что мы чего-то не знаем, не искажает лик Бога. Но настаивать на правильности ложных объяснений, вот это катастрофа.
Тупик остается, и полный тупик.
Итак, вот вам богословие, которое отец де Мантьер вынужден преподавать в Кафедральной школе в Париже. И это богословие затем распространяют в приходах столицы и в епархии те священники, что получили образование в этой школе. Но к такому богословию примыкает и Бенедикт XVI, по крайней мере, если судить по его проповеди к началу Великого поста: «О какого рода справедливости может идти речь, если праведник умирает за грешника, а грешник в ответ получает благословение, причитающееся праведнику? Не получает ли каждый противоположное должному? На самом же деле здесь божественная справедливость предстает в своем глубоком отличии от человеческой справедливости. Бог уплатил за нас, Сыном Своим, цену выкупа, действительно чрезмерную цену». В этой последней фразе аккумулировано все. Тут и замена, и предельное страдание во искупление наших грехов. Сизифов камень снова поднят на вершину горы. Он не замедлит снова скатиться вниз, и повлечет за собой Католическую церковь, и падать она будет все ниже и ниже, с теми немногими, кто остался ей верен. Ведь «богословие заговора» уже никого не убеждает.
Буксующая традиция
И пусть прекратят жужжать нам во все уши о философии св. Фомы Аквинского, в основе которой лежит Аристотель. Этим понятиям уж 2400 дет! Аристотель сделал все, что мог, по возможностям своей эпохи, чтобы этот мир стал хоть немного понятнее. Это был настоящий гений. Никто этого не оспаривает. Но, к счастью, это не единственный великий философ в истории человечества. И, кроме того, наши знания о мире с тех пор все же немного продвинулись вперед. Что же касается богословия, разработанного на основе той философии, то его даже нельзя назвать христианским. Если мы примем базовое понятие Аристотеля, «чистое действие», то уже не сможем избежать теории предопределения в самом жестком ее варианте. Стоит посмотреть на доктринальную выжимку в статье «Предопределение» Католического богословского словаря отца Гарригу Лагранжа, чтобы в этом убедиться69. Хотя веками об этом забывали. Вернул томизму почетное место Лев XIII в самом конце XIX века. То есть воскресло это направление относительно недавно. Церковь успела, было, напрочь о нем забыть и спокойно жила себе веками без него. Кроме того, даже цитадель доминиканского томизма в Тулузе, и та немного отошла от него в 196970. Действительно, ненадолго богословам вроде бы удалось избавиться от опеки этой надоевшей томистской метафизики, и не только в Тулузе: «Некоторые, – писал Клод Жеффре, – вместо того, чтобы обеспокоиться крушением классической метафизики, приветствуют его как залог освобождения для христианского богословия. Сомнительный альянс между Богом философов и Богом Иисуса Христа наконец разорван, и богослов наконец-то свободен сказать то, что ему было доверено в Откровении»71.
Но, к сожалению, богословские поиски, вспыхнувшие в самых разных направлениях мысли, как мы видели по голландцам или отцу Дюкоку, очень быстро вернулись на старые докризисные позиции, то есть к св. Фоме, воцарившемуся теперь, кажется, еще прочнее, чем раньше. Но ведь святой Фома отнюдь не единственный представитель западной традиции! Увы. При том, что другие богословы, предшествующие св. Фоме, его современники или жившие после него, на мой взгляд, гораздо интереснее его и ближе к евангельскому откровению, будь то: Ришар де Сен-Виктор, Гийом де Сен-Тьерри, Жан де Фекан, Анри де Ган… Другие мыслители, писавшие пусть не столь систематично, как св. Фома, но стоящие выше на духовной шкале, как его современник св. Бонавентура, или многие другие, жившие позже: Майстер Экхарт, Иоганн Таулер, Генрих Сузо… Да и богословы христианского Востока не сразу после разделения церквей исчезли с западного горизонта, но, читая переводы их текстов, стоит внимательно приглядываться, поскольку порой их мысли искажали, пытаясь подогнать, любой ценой, под св. Фому, систематически убирая неподходящие слова и термины: так, например, в неузнаваемом виде вышел у нас Максим Исповедник72. Наконец, есть ведь у нас и наши западные мистики, на которых почему-то вообще не обращает внимания наша теология. Я помню, как когда-то целый семестр слушал курс по вечному блаженству, целиком основанный на Аристотеле. Один из студентов все же осмелился упомянуть св. Иоанна Креста. Отец де Лавалетт тотчас прервал его выступление. Цитирую по памяти: «Да, верно, святой Иоанн Креста говорит скорее о преображающем единении. Но закроем скобки», – добавил он, подкрепив слова жестом, изобразив обеими руками округло закрывающиеся с двух сторон невидимые скобки. Влияние мистиков на богословие вечного блаженства заканчивается здесь!
Такая зацикленность на одном-единственном богослове, только потому, что его порекомендовал один-единственный папа, наконец, даже смешна. Такая несвобода мысли высвечивает папопоклонство. В любом случае, если бы хотя бы ставилась цель доказать, что богословие хранит верность Писанию. Но нет, сегодня нужно доказывать, что оно осталось верным Фоме Аквинскому. А остальных богословов можно уже занести в красную книгу.
Я помню, как некоторые из преподавателей нашего Парижского католического института пытались незаметно этому сопротивляться. Отец Поль Анри, которого я считаю своим настоящим Учителем, подготовил карточки о Троице, чтобы облегчить нам в будущем написание проповедей. И они были созданы на основе богословия Ришара де Сен-Виктора, а не Фомы Аквинского. «Да, услышали мы тогда, он духовно глубже св. Фомы, последний немного суховат». За слово «суховат» я ручаюсь. Отец Конье, еще один настоящий Учитель, крупный специалист по мистике, работы которого признаны во всем мире, после многих описательных выражений и осторожный формулировок в своих лекциях, вдруг признался мне в личной беседе: «Ах, эта схоластика нанесла нам немало вреда!» (А схоластика, это прежде всего Фома Аквинский). Поясним, что сам св. Фома тут ни при чем. Сам он, конечно, ни в коей мере не претендовал на этот смешной культ. Все вышесказанное не отрицает того, что это был великий философ, хотя и плохой богослов, и что его труды обязательно нужно изучать, просто наряду со многими другими. К списку наших профессоров, неуютно чувствовавших себя в схоластике, можно добавить доминиканца отца Дюбарля, нашего преподавателя космологии, ходившего часто вокруг да около и составлявшего длинные обходные фразы, по которым нам нужно было догадываться, что же он думает на самом деле. Или отца Шатийона, профессора средневековой философии, прибегавшего к тем же уловкам. Или отца Верно, репетитора по томизму в Кармельской семинарии, при личном общении признававшегося к концу жизни, как горько ему защищать позиции, для него самого неприемлемые. Когда наши вопросы выявляли несостоятельность некоторых мнений св. Фомы, он поднимал глаза к небу, выдерживал долгу паузу, затем опускал их и произносил: «Что еще?» Мы не осмеливались настаивать, нам был все ясно.
Но во время моей учебы в Католическом институте как раз отец Лаллеман правил бал и следил за соблюдением томистской ортодоксии у своих собратьев-преподавателей. «Когда я думаю о том, что в этих стенах преподают неверно», – говорил он, бледнея от сдерживаемого гнева, по поводу лекций Жана Маритена, которому пришлось уйти из института и уехать в Канаду. Мне вспоминается еще мой друг профессор Реми Шовен, которому предложили прочесть несколько лекций о современной науке студентам Кармельской семинарии. В конце отец Лаллеман ему сказал: «Конечно, сами вы в это не верите, это невозможно!» Стоит уточнить, что еще в 1960 этот глубокий метафизик убеждал нас, что соответствие наших представлений реальности обеспечивается ангелами! Когда мой друг Шовен поставил его перед микроскопом, тот отказался верить своим глазам. Видимо, это не соответствовало тому, что ему показывал до этого ангел! И в Риме, один из ученых собратьев Реми Шовена, но облаченный саном, сделал в одном из папских университетов доклад примерно на ту же тему. К конце доклада, к величайшему изумлению моего друга, этот церковник вдруг перечеркнул все то, что успел сказать до того. Когда Реми Шовен с удивлением спросил об этой странности кого-то из коллег, ему ответили: «Неужели вы не поняли? В первую часть его доклада вошло все то, что он на самом деле думает. А конец – это то, что он вынужден сказать». Тут мы недалеко ушли от дела Лысенко! Если именно к этому нас ведут, то у такой церкви нет будущего! Однако, как мне кажется, вряд ли нас выведет из такого положения и то течение в англо-саксонском богословии, которое именует себя «Радикальной ортодоксией»73. Для меня это просто еще один вариант нео-нео-нео-нео-нео-нео-схоластики!
Когда же церковь прекратит жить во лжи? И вопрос этот стоит не только относительно интеллектуальной, богословской области, но и касательно нравственной, этической проблематики. Взрыв скандалов, связанных со священниками-педофилами, лишь самая заметная ее часть, а сколько там еще и других проблем!
И однако ничто не мешает нам попытаться сделать то, что осуществил св. Фома, с таким же синтетическим подходом, но применив его уже к области современной нам мысли, наподобие того, как он систематизировал и развивал категории, которые казались самыми сильными и верными для того времени. Тогда нужно было бы согласиться проделать столь же объемный труд, предпринять такое же мощное усилие, но уже с учетом форм мысли, характерных для других культур, например, для Индии и Китая. Конечно, эту работу уже в значительной части проделали отец Моншанен74 и дон Анри лё Со, в том, что касается Индии75. Отец Бенуа Вермандер опубликовал сборник очерков разных авторов о Китае76, а также собственное исследование, в котором показаны проблемы, с которыми сталкиваешься, взявшись за такую тему77. Отец Бернар Реролль предпринял такие же труды касательно Японии78. Отец Эномиа Ласалль сделал похожую попытку, но ограничился сравнением дзеновской медитации с христианской молитвой, так и не дойдя, на мой взгляд, до проблемы созерцания79. Здесь нужно следить за тем, чтобы удалось передать самую суть мысли, не деформировав ее, конечно, но нужно также уметь принимать блуждания наощупь, временные и приблизительные выводы, не торопиться сразу осуждать первые подходы и попытки, не навязывать им сразу любой ценой греко-романские категории. Христос пришел ко всем. Не нужно возвращаться к злополучному шельмованию «китайских ритуалов» времен Маттео Риччи80.
Что касается меня, то я попробую сделать примерно то же, что сделал в свое время св. Фома, т.е. поставить современные нам категории на службу веры. Как будет видно дальше, мне придется при этом обратиться не к распространенным темам из области политики или социологии. Именно они вдохновляли богословие отца Дюкока или философию Фредерика Ленуара, и результат мне не очень нравится, как вы заметили. Я буду руководствоваться скорее современными гипотезами и исследованиями в естественно-научной сфере. Но и на этом не стоит зацикливаться. Поскольку и тут результаты все время ставятся под вопрос, опровергаются новыми гипотезами, преодолеваются. Но у них то преимущество, что здесь можно говорить на универсальном языке, что, может быть, позволит со временем преодолеть проблему различия культур. Однако никогда не стоит забывать, что любое богословие, как показывает сам термин, это прежде всего речь о Боге, язык, и что тайна, к которой эта речь нас отсылает, всегда уходит за горизонт.
Мне кажется, я уже достаточно времени уделил тому, чтобы показать, что все три приведенных мною примера теологии Искупления принадлежат к направлению, которое, хоть и не самое малочисленное и все больше и больше заявляющее о себе, хоть и пытающееся передать самое существенное из традиционной веры и в самых лучших, в самых важных ее проявлениях, что не может не радовать, но в то же время все эти богословские попытки принадлежат к крайне ретроградному направлению мысли. Мы приходим здесь к тому же, о чем я писал еще в самом начале этой книги: те, кто поддерживают, вопреки всем противодействиям и встречным ветрам, самое существенное в вере, в то же время буксуют, прямо-так застревают там, где совершенно необходима эволюция, не имеющая ничего общего с верой. Большинство авторов сборника, в котором принял участие отец Молинье, считаются «интегристами». Отец Молинье и сам продолжал верить в наших «прародителей, Адама и Еву», и в первородный грех, совершенный ими на самой заре истории и навлекший небезызвестное нам проклятие на все их потомство: «И то, что Адамов грех передается из поколения в поколения, этому нас неоспоримо учит догматика, и святые никогда против этого не возражали»81. И даже не надейтесь, что дальше автор попытается хоть как-то проинтерпретировать эту «догматику», чтобы сохранить из нее глубинную истину, но в более приемлемой форме, соответствующей современной ступени научного знания, сегодня доступной человечеству. Нет! Отец Молинье признает только, что тайна эта совершенно непознаваема, более даже, «чем тайна Святой Троицы или Воплощения». Непознаваемый характер этой тайны не мешает ему однако далее осудить тех, кто «не принимает всерьез нашу солидарность с Адамом»82. Верен этой традиции и Гюй Буасар83. Да и отец де Мантьер, хоть и не высказывается по этому вопросу, но в целом втискивает свои выводы в те же рамки84. Не хочу передергивать, но нельзя не признать, что такой ход мыслей опасно близок размышлениям американских фундаменталистов о творении в шесть дней, как сказано в Библии. Эти авторы ссылаются на философию IV в. до н.э., но не знают или не хотят знать науку своего собственного времени. Им стоило бы прочесть книги, например, Жана Стона, чтобы понять, что можно быть христианином и при этом не отворачиваться с презрительным превосходством или из глубоких внутренних убеждений от современного научного знания85.
Так что, похоже, и консерваторы не нашли способа объяснить, в чем и как Христос Своими Страстями нас спас? Тупик остается по-прежнему беспросветным, губительным для веры. Нам продолжают навязывать чудовищный образ Бога-Отца, такой, какой сегодня уже никого не устроит.
Но даже если такой возврат к старой теологии и обречен заранее на поражение, это не обесценивает ни в коем случае ту истину, что Христос – не просто один из множества мудрецов и учителей. Христианская вера состоит в том, что Он Спаситель мира. Тексты Писания говорят об этом ясно! При рождении Христа, по евангелисту Луке, ангелы возвестили пастухам: «ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2: 11). И в Первом Послании Иоанна читаем: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру» (1 Ин 4: 14). И Апостол Павел в Послании к Титу использует те же слова: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит 2: 13). Символ веры явственно вторит Писанию: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес… Расяпятого же за ны при Понтийстем Пилате…».
И значит, должен быть совсем иной подход к пониманию тайны нашего Искупления. В этом старое богословие не ошиблось. Есть, очевидно, какая-то связь между деяниями Христа как Спасителя и Его страданием, Его Страстями. Просто то объяснение, что дали нам богословы, не годится. Должно быть какое-то другое. Это и будет предметом моей книги. Я попробую дать вам собственное толкование, и оно будет гораздо ближе к фантастическому откровению Божией Любви и в гармонии с новейшими научными представлениями. Излагая вам подобные богословские выкладки, я вполне убежден, что ничего не изобретаю, а лишь обращаю ваше внимание на другую традицию, не прерывавшуюся в церкви со времен Евангелий. Она соответствует тому, что нередко переживали мистики и о чем они нередко говорили, хотя их не очень хотели слышать. Конечно, представленный здесь синтез нельзя считать окончательным. Конечно, и его однажды оставят позади и разовьют дальше те или другие аспекты. Но мне кажется, что он ближе к откровению Божией Любви.
Чтобы лучше понять, в чем Христос нас спас, мне кажется необходимым внимательнее всмотреться в то, от чего Он нас спас. Поэтому сначала мы сделаем еще один обзор, чтобы лучше понять, как же функционирует наш мир. Не бойтесь, мы не удаляемся от основной темы. Не торопитесь, постепенно, я уверен, вы начнете догадываться, куда я хочу вас вывести.
Глава 4
Вселенная – это силовое поле
Пришло время углубиться в тайну жизни и в тайну мира. Это позволит нам избежать впадания в библейскую мифологию, к которой, видимо, так тянет богословов-неоконсерваторов. Позже вы увидите, что и я тоже, не изменяя традиции, верю в первостепенную важность этой «солидарности» со всеми людьми. Мне просто кажется, что ее можно объяснить способом, гораздо более приемлемым для сегодняшнего человека, в полном согласии с современным научным знанием. А оно стремительно менялось в ходе ХХ века, открывая новые перспективы в самых разных областях. Нам начинает приоткрываться совершенно новое представление о мире, и оно чудесным образом согласуется с интуициями многих мистиков. Итак, мы беремся здесь за новую тему, которая уведет нас вроде бы далеко от того, о чем прежде шла речь, и в то же время подведет вплотную к тайне Страстей Христовых и поможет понять ее лучше, чем все аристотелевские категории. Итак, мы попытаемся проникнуть в подкладку мира, в его изнаночную сторону, невидимую для глаз, но реально существующую, самую важную, в которой завязывается все самое существенное, оборотную сторону ковра, у которого мы замечаем лишь лицевую часть.
Взаимосвязанные частицы
Наука постепенно, шаг за шагом, открывает феномены, предполагающие не известные прежде силы, не диагностируемые пока что нашими приборами, и при этом очевидно действующие в нашем материальном мире. Начнем со случая с так называемыми «запутанными» или «коррелирующими» взаимосвязанными частицами. Феномен этот был предсказан Эйнштейном еще в 1927 году, а несколькими годами позже о нем вышла статья в «Physical Rewiew», подписанная Эйнштейном, Подольским и Розеном. Этот феномен ныне известен как «парадокс ЭПР (Эйнштейна–Подольского–Розена)». Экспериментально эту теоретическую возможность удалось подтвердить в 1982 году команде Алена Аспе в Институте оптики в Орсе.
По теории относительности Эйнштейна, «никакой сигнал не может распространяться быстрее скорости света. Следовательно, бывают случаи, когда можно быть уверенным, что два события никак не влияют друг на друга. Это бывает, когда два события отдалены в пространстве, но сближены во времени так, что свет не успевает их связать». Именно такое существование противоположных случаев и подтвердил опыт Аспе. Этьен Клайн так излагает выводы, которые можно из этого сделать: «Нам придется принять очень романтическую, по сути, идею, что два фотона, взаимодействовавшие в прошлом, образуют неделимое целое, даже когда они отдалены один от другого!»86 А значит одно может влиять на другое даже на расстоянии, какая бы дистанция их не разделяла, даже если она измеряется в световых годах.
Но какова же эта сила, действующая быстрее света и не совпадающая ни с переносом энергии, ни с передачей сигнала? Об этом мы ничего не знаем. Ни один из наших приборов не может ее уловить. Мы можем только констатировать ее воздействие и из этого вывести, что она существует. Бернар д’Эспаньят приходит на основании вышесказанного к такому заключению: «Следовательно, сами факты вынуждают меня признать взаимосвязанность таких-то и таких-то случаев между собой; у меня нет достаточных оснований не верить этому и во всех тех случаях, когда квантовая механика предполагает их существование. Поскольку квантовая механика является общей теорией атомов, а “мир состоит из атомов”, то мне придется признать, что такая взаимосвязанность оказывается всеобщим фактом»87. Итак, эти силы, по сути, составляют подоплеку той сети атомов, которые и образуют Вселенную. Здесь меня больше всего интересует сама эта теория невидимых, но ощутимо действующих в мире сил. Конечно, речь идет всего лишь о передаче информации. Но ведь, с точки зрения современных ученых, информация как раз и играет ключевую роль.
Морфические поля
По сути, речь тут пойдет о целом комплексе научных исследований в самых разных областях, никак не связанных друг с другом, но на выходе дающих удивительные переклички. В 1974 году Ж.-Л. Маки озвучил самые первые подступы к проблеме: «Обычно нас удовлетворяют отношения причины и примыкающего к ней следствия, но удивляет мысль о ”воздействии на расстоянии”, сквозь толщу пространства или времени, и все-таки эту мысль мы не отбрасываем. Наше обыденное представление о причинности не требует обязательного, абсолютного наличия такого примыкающего соседства; если мы скажем: “А вызвало В через пространственный или временной интервал, без посреднических действий”, то это никак не будет противоречить нашему понятию причинности»88.
Теория Руперта Шелдрейка (доктора биохимии Кембриджского университета и исследователя из Лондонского Королевского общества (Royal Society)) с годами менялась и развивалась. Исходной точкой стало признание того факта, что некоторые тела, обладающие близкими частотами вибраций, могут входить в резонанс. Его гипотеза, подкрепленная определенными данными, состоит в том, что такой резонанс может иметь место независимо от пространственно-временной разделенности тел. Среди исследований, на мой взгляд, наиболее последовательно развивающих эту гипотезу, самым интересным мне представляется опыт с крысами, который вот уже более тридцати лет проводят между Шотландией и Австралией. Уильям Мак Дугалл пытается показать, что передача знаний возможна и генетическим путем, через наследственность, чем для него подтверждается модификация крысиных генов наподобие ламарковской. Его крыс погрузили в водный лабиринт, из которого им нужно было найти выход. Через 30 поколений средняя погрешность (связанная с возможностью неправильных ответов) была сведена со 165 до 20. Другие исследователи подхватили эксперимент, ровно в тех же самых условиях, но уже с крысами, никак генетически не связанными с теми, с которыми экспериментировал Дугалл. И вот уже с самого начала средняя погрешность была 25, а некоторые крысы вообще не совершали ошибок. Этот опыт воспроизвели затем в Мельбурне, в Австралии, и результаты были те же самые89. Все это можно будет объяснить, если мы примем гипотезу морфических полей, не знающих ни пространственных, ни временных границ.
В одном из своих докладов в Париже в 1990 Руперт Шелдрейк рассказал о похожем случае у синиц. Одну из них обучили пробивать клювом крышки на бутылках с молоком, которые молочник в Англии оставляет перед дверями частных домов. Спустя некоторое время и другие синицы начали делать то же самое примерно по всей Британии, а вскоре и в других странах, в Дании, Швеции, Голландии, при том, что общение птиц между собой тут исключено90.
Морфический резонанс, утверждает Шелдрейк, «предполагает перенос не энергии, а информации. Эту гипотезу, неизбежно спорную, можно проверить опытным путем, и после множества опытов есть уже немало материала, собранного в ее пользу. Так, например, когда мы кристаллизуем в первый раз химическую органическую субстанцию… то нет морфического резонанса у кристаллов предыдущего типа. Но однажды появляется новое морфическое поле. И тогда, когда субстанция кристаллизуется в следующий раз, в какой бы точке мира это ни происходило, морфический резонанс первых кристаллов сделает более вероятной именно эту конкретную схему кристаллизации, и так далее. Накопительная память образуется по мере того, как эти схемы станут более привычными. В итоге кристаллы повсюду будут уже гораздо легче принимать должную форму.
Тенденция эта вообще-то хорошо известна. Химики знают, как сложно синтезировать новые соединения: нужны целые недели, а порой и целые месяцы, чтобы в насыщенном растворе появились кристаллы. Они знают также, что чем более важным становится производство, тем легче будет проходить кристаллизация повсюду в мире». Шелдрейк признает к тому же, что этот феномен обычно пытаются объяснить совсем по-другому, но что тогда объяснения выходят натянутыми91.
Далеко не все мнения Шелдрейка я разделяю, например, мне чуждо то, что он думает о Боге92, но я согласен с ним в том, что эта гипотеза морфических полей открывает и в самом деле очень богатые перспективы. Она, предполагает Шелдрейк, могла бы, например, объяснить, как «работает» телепатия, в реальности которой сегодня уже никто не сомневается. Она могла бы положить начало продумыванию представлений о «прошлых жизнях», заново проживаемых тогда через морфический резонанс вместе с жизнями других людей в прошлом. Шелдрейк признает, что такой резонанс, возможно, происходит более или менее интенсивно, постепенно все больше и больше захватывая участников, как холоны в холархии Артура Кёстлера93, или как в теории «объединений» «Принстонского гнозиса»94. И, наконец, хотя сначала и отказавшись от этой мысли, он постепенно все же согласился с тем, что такой резонанс может настигать нас с нашим настоящим даже из будущего95. Шелдрейк видит тут связь и с гипотезами Марии-Луизы фон Франц, и даже с идеей «общения святых» в христианстве. Мы еще вернемся к этой теме. Но что меня больше всего интересует в данном феномене, так это опять идея силы, невидимой для нас, но реальной и действенной, действующей на расстоянии (от Шотландии до Австралии) и передающей информацию. Не думайте, что я позабыл, о чем эта книга. Мы движемся все в том же направлении, медленно, но верно.
Всевозможные формы медиумичности
Феномен медиумичности существовал всегда. Мы находим его во всех культурах всех эпох, какие бы названия ему ни давали и под каким видом бы его ни воспринимали: шаман, колдун, медиум. Для практикующих его реальность не вызывает никаких сомнений. Да и лучшие наши ученые тоже сегодня могут констатировать реальность подобных феноменов, хотя все еще никак не могут понять, как же они «работают».
Видеть на расстоянии
За одной разновидностью феномена давно наблюдают небольшие группы ученых. Результаты одного из таких исследований, проводившегося американскими учеными, можно найти в книге: «К границам паранормального, роль духа в отношении к материи»96. Оливье Коста де Борегард, специалист по квантовой физике, назвал этот труд «книгой исключительной важности». В ней смонтированы факты, которые можно вкратце изложить так: медиум должен сначала попытаться угадать, описав и нарисовав, то место, куда затем, через несколько часов после создания описания или рисунка, кого-то отправят, по жребию, вытянутому случайно, среди множества названий разных других мест. Конечно, для такого эксперимента нужно, чтобы каждое из мест, участвующих в жеребьевке, обладало неповторимыми и уникальными особенностями, позволяющими сразу его узнать, так что нельзя будет отделаться расплывчатым и примерным описанием. В книге этой вы найдете также описание того, какие были предприняты меры предосторожности, чтобы постороннее вмешательство не могло нарушить чистоту эксперимента и вызвать сомнения в подлинности результатов. И вывод из всего этого звучит вполне определенно: обмен информацией на самом деле существует. И происходит он независимо от дистанции между медиумом и тем местом, которое выпадает в итоге по жребию. Эксперимент это подтверждает, потому что, «если, как мы прежде постулировали, процесс предполагает распространение физических волн, электромагнитных или геофизических, то уточнение информации должно возрастать обратно пропорционально увеличению дистанции… Но, в итоге, мы не замечаем никакого ощутимого понижения сигнала / шума, даже при межконтинентальных дистанциях, измеряющихся в многих тысячах километров». Точно также «не наблюдается явной зависимости точности воспринимаемой информации от временного интервала, даже если последний составляет несколько дней».
Тут стоит уточнить, что привлечь внимание медиума и посланного затем на место свидетеля могут совершенно разные детали. Так, сообщают наши авторы, во время эксперимента в Нью-Джерси медиум дал предваряющее точное описание улицы в Париже «с типичной атмосферой толпы, оживленного уличного движения и витрин магазинов. Кроме того, он заметил фигуру средневекового всадника в доспехах». Посланный на место свидетель никакого всадника не увидел. Но когда ему прочли то описание, которое прежде составил медиум, то «он вдруг вспомнил, что побывал перед правительственным зданием, украшенным статуями исторических деятелей в костюмах своей эпохи. Одна из этих статую очень походила на того самого всадника».
Похожий эксперимент не раз проводили и во Франции и показывали потом по многим телевизионным каналам. Свидетеля посылали на мост Александра III и приглашали двух медиумов, которые еще до того должны были угадать, что он там увидит. Один находился в Париже, а другой в США. Парижский медиум особенно отметил Гран Палэ с его огромным куполом и группами скульптур на высоте. Другой, в США, взглянул на тот же вид с противоположной стороны. Он почувствовал присутствие памятника во славу одного важного героя, что-то вроде мемориала славы герою войны. Речь, видимо, шла об отеле Инвалидов во славу Наполеона, который отчетливо виден с моста Александра III в глубине эспланады. Но подробнее всего он описывал аэровокзал Эр Франс со стороны той же самой эспланады. Здесь было схвачено все: общая форма здания, очень низкого, без верхних этажей, удлиненного, с чередой аркад, верхние части которых затемнены. Результат оказался впечатляющим.
Феномен этот существует. Он, по всей видимости, работает. И мы снова оказываемся здесь перед невидимыми силами, которые нельзя определить при помощи наших инструментов, но существование и работа которых не вызывают сомнения. Конечно, и в этом случае речь идет всего лишь о передаче информации. Когда вмешиваются эти силы? Кто или что их выпускает? С какой целью? Одна из самых поразительных особенностей этих сил состоит в том, что они неподвластны не только пространству, но и времени. Юнг подчеркивал это: «Самый примечательный аспект экстрасенсорных восприятий – то, что они делают относительным пространственно-временной фактор»97.
Во Франции есть одна организация, работающая на основе этого феномена и поставившего его на службу при поиске новых месторождений, создании филиалов в другой стране, временном слиянии предприятий и т.д. У них есть свой сайт: www.iris-ic.com.
ИТК
Инструментальная транскоммуникация (ИТК) – та форма медиумичности, которая была открыта не так давно, поскольку связана с появлением новых электронных приборов. Мне не хочется здесь углубляться в подробности этих открытий. Я уже сделал это в предыдущих книгах98. Здесь я лишь кратко сообщу, в чем конкретно состоит такая коммуникация. Начиная с середины ХХ века в самых разных странах стали регулярно получать сообщения из мира иного, по большей части определенно от наших «умерших», с помощью электронных приборов, чаще всего, на магнитофон, но также и на радио, телевизор, компьютер, а иногда даже на телефон. Этому феномену уже было посвящено множество международных конференций; в исследования вмешивались высококвалифицированные специалисты по электронике и публиковали свои выводы; над этой темой работают специальные журналы, публикующие материалы на самых разных языках, и опубликовано уже огромное количество свидетельств на основных европейских языках. Я сам множество раз принимал участие в таких контактах в разных странах Европы и дважды в Америке. Я встречался с ведущими исследователями в этой области и выступал с докладами на конференциях по этой теме в разных странах. Но, конечно, нельзя силком заставить кого-то проявить интерес к таким исследованиям.
Самыми убедительными кажутся мне эксперименты, проводившиеся в Болонье научным центром, специализирующимся на сравнении голосов и визуальных изображений. Центр этот часто работает на итальянское правительство, а иногда и на соседние страны, идентифицируя голоса и изображения, полученные в сложных условиях в рамках борьбы с мафией, международным терроризмом, проституцией, наркоторговлей и т.п. Те же самые специалисты использовали те же самые приборы и свой богатый опыт, чтобы сравнить записи голосов, сделанных при жизни человека и зарегистрированных после его смерти при помощи магнитофона или другого прибора. Иногда они находили тождество с точностью до 99%, то есть были почти абсолютно уверены в результате. Все эти исследования были опубликованы в итальянских, французских, немецких, португальских журналах…
Я сам принимал участие пять раз в контактах через магнитофон с моим старшим братом, перешедшим в мир иной. Два раза я общался с существом, оставшимся неизвестным, через радио, в Гроссето, в Италии. Диалог получился непосредственным. Я говорил громко перед радиоприемником, и голос доносился до меня через громкоговоритель, так что я отчетливо все слышал.
Поэтому феномены эти не вызывают у меня никаких сомнений. Здесь снова речь идет о волнах, передающих информацию, но воздействующих на материю, потому что они меняют поверхность магнитофонной пленки или же производят звуковую волну. Следовательно, здесь произошел скачок на новый уровень. Передача информации важна уже и сама по себе, но теперь мы начинаем догадываться, что силы эти могут воздействовать непосредственно и результативно и на саму материю нашего мира.
Наши мысли – это энергии
В этой главе мы покидаем уровень волн, отвечающих только за передачу информации. Информация уже и сама по себе представляет ощутимое действие. Она на самом деле влияет на то, что происходит в мире. Но теперь мы обратимся к силам, воздействие которых будет еще более непосредственным, потому что оно уже не проходит через сознание «живущих на земле», к которым относимся и мы с вами.
Среди сил, образующих вселенную, и даже тот видимый мир, в котором мы живем, есть бесчисленное множество сил, невидимых не только для наших органов чувств, но и для наших приборов, но которые при этом постоянно находятся в действии и ощутимо влияют на наше сознание. Этот невидимый мир весьма плотно населен, и в первую очередь теми, кто жили до нас на этой земле, а теперь обрели другое, новое местожительства. Но чтобы начать лучше постигать область невидимого, очевидно, нужно начать с признания ценности тех сообщений, которых доходят до нас из того мира. Я знаю, что для большинства из вас такое требование покажется чрезмерным. Достаточно будет хотя бы допустить мысль, что жизнь продолжается, без перерыва, и после физической смерти. И еще хорошо бы после этого признать, что между тем, невидимым миром и нами возможно хоть какое-то общение. Я не могу здесь подробно изложить всю ту многочисленную документальную литературу, на которую ссылался в прежних своих книгах, ни привести хотя бы кратко те многочисленные свидетельства и исследования по данной тематике, которые уже были опубликованы другими авторами. Если вы еще не в курсе, и если вы и в самом деле хотите хоть немного понять, что делаете на этой земле, спешите погрузиться в литературу по этой теме. Все это гораздо серьезнее, чем может вам показаться вначале, и захватывает гораздо сильнее любого детектива. Но если смысл вашей жизни вас совсем не интересует, тогда, конечно, можете продолжать заниматься планированием ближайших выходных и походом в развлекательный центр.
Итак, я продолжу, как будто вы уже убедились, что смерть – это всего лишь изменение жизни, делокализация, и будто вы уже признали возможность общения между «умершими» и нашим миром. Я знаю, больше, чем кто бы то ни было, о том, что на эту тему существует море литературы очень разного качества. Бывают шарлатаны, и их великое множество, бывают те, кто честно записывают то, что им диктует собственное подсознание или воображение, и выдают это за сообщения из мира иного. Есть, к тому же, еще и великое множество текстов, которые, по всей видимости, действительно пришли к нам из мира иного, но которые при этом не представляют для нас никакого интереса. Я уже не раз публиковал результаты собственных исследований в этой области99. Но, к счастью, среди этого великого множества текстов есть такие, чью ценность трудно переоценить, и чья достоверность не вызывает у меня никаких сомнений.
А они говорят нам, что все, переживаемое нами, – это излучение волн: наши мысли, произнесенные или же нет; наши чувства, выраженные или же нет. Наши мысли, даже самые тайные, наши чувства, даже вытесненные в подсознание, наши желания и страхи, все это – излучения волн. Если слово это вам не нравится, можно сказать «силы» или «энергии», все, что угодно. Силы эти действуют. Они объединяются, срастаются, образуют «эгрегоры». В Писании часто говорится о том, что слово Божие не возвращается к Нему, не совершив того, что оно должно было совершить. Многочисленные свидетельства из мира иного подтверждают, что у наших мыслей есть сила.
Пьер Моннье
Так общался со своей матерью и Пьер Моннье, юный французский офицер, погибший на Первой мировой войне: с помощью «автоматического письма»100. Он был из очень верующей протестантской семьи. Его «письма» к матери приходили с 1918 по 1937 годы и составили семь огромных томов, примерно по 450 страниц каждый, текстов очень высокого духовного уровня. Знаменитый отец Зансон частично именно в них черпал вдохновение для своих докладов. Итак, Пьер Моннье тоже настаивает на важности всех наших мыслей: «Я говорил тебе, что ваши мысли становятся затем вибрациями, одухотворенными волнами, – по своей структуре такой поток похож на материю: она ведь тоже вибрирующая и одухотворенная; вот по тому же принципу и мысли воздействуют и зарождаются, в них содержится имманентная жизнь. Из этого следует, что ваши мысли живут и порождают жизнь.