Читать онлайн Психология сознания бесплатно
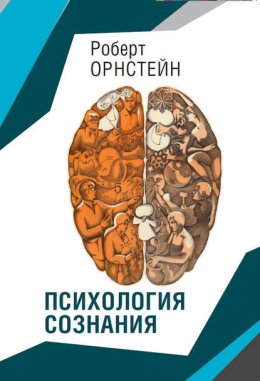
I
Введение: очерк о сознании
А бывают ли числа больше ста?
Однажды, награбив всякого добра, расхититель решил продать один из добытых трофеев – то был великолепный ковер. «Кто даст мне сто золотых монет за этот ковер?» – кричал он, расхаживая по городу.
Когда вещь была продана, к нему подошел приятель и, недоумевая, сказал:
– Почему ты не попросил больше за этот драгоценный ковер?
– А бывает число больше ста? – отозвался тот.
Легко нам смотреть на незадачливого продавца свысока. Но ведь мы поступаем точно так же: наши собственные представления и сознание ограничивают пределы нашего понимания. Устройство сознания часто становится барьером для понимания, так же как многие понятия могут препятствовать действию.
Задумайтесь вот над чем: когда-то считалось невозможным пробежать милю быстрее, чем за четыре минуты. Говорили даже о «четырехминутном барьере», словно для того, чтобы пробежать милю за 3 минуты 59 секунд, нужно неизмеримо больше усилий. Показатели времени долго колебались у магической отметки: каждая попытка приблизиться к этой черте, казалось, лишь утверждала ее как нечто объективно существующее.
Потом кто-то преодолел «барьер», и вскоре его сумели взять многие другие спортсмены, достигшие результата, когда-то считавшегося недостижимым. Мы как будто мысленно очерчиваем границы нашего мира и оперируем внутри них. В этой книге мы поговорим об этих, выдуманных нами ограничениях. Как следует из большинства обзоров, мы всем довольны: и нашей жизнью, и нашим представлением о том, ктo мы такие и на чтo способны. Жители Запада постепенно становятся все более гибкими и преуспевающими, а их перспективы неуклонно растут. И все же мы во многом похожи на продавца ковра – наши запросы и стремления занижены. А нет ли чего-то такого, что превосходит все наши представления о жизни, свободе и поисках счастья?
Многие люди, имеющие четкую жизненную цель, спрашивали меня, либо шепотом после лекции, либо более самоуверенно в письмах и записках: «А из-за чего, собственно, весь этот сыр-бор? Почему сознание так важно? Ведь многие добившиеся успеха люди считают, что у них и так все отлично, а наше общество на подъеме». На мой взгляд, они недооценивают себя, низко метят.
Я убежден, что человек куда более необыкновенное животное, чем нам пока что известно.
Даже в наше время, когда психологи постоянно выступают в ток-шоу, многие люди, особенно те, кто добился успеха, не понимают, что наши возможности в некоторых областях значительно больше, чем все, что мы способны вообразить. Я убежден, что опасности, неотделимые от человеческой жизни и самой природы человека, день ото дня растут, при том что мы все больше можем контролировать окружающую среду.
Мы буквально бежим наперегонки сами с собой
Развиваясь так, чтобы приспособиться к условиям совсем другого мира – мира, который прекратил существовать самое позднее 20 тысяч лет назад, мы как вид биологически устарели. Хотя кажется, что с тех пор прошло много времени, люди не слишком изменились за эти тысячелетия.
В сущности, «доисторическая эпоха» охватывает весь этот период: от охотников-собирателей и зарождения цивилизации до революции в сельском хозяйстве, промышленности и других областях. Принято думать, что западное общество ХХ века резко отличается от людей глубокой древности: пещерных жителей и охотников-собирателей, живших накануне аграрной революции, задолго до возникновения цивилизации. Наше самодовольство – современный вариант потрясения умов во времена Дарвина, когда жители викторианской Англии не могли свыкнуться с мыслью, что они близкие родственники обезьян. Примерно так же рассуждает большинство из нас: «Мы, безусловно, ушли далеко вперед от нецивилизованных дикарей, их действий и реакций».
Для каждого человека, знакомого с новейшими открытиями в области человеческой эволюции, наша собственная шкала времени должна быть установлена заново. Человеческие существа развивались и эволюционировали сотни миллионов лет. Наши предшественники стали прямоходящими и, вероятно, сообща делили пищу четыре миллиона лет назад. 500 тысяч лет назад появились организованные поселения на территории современной южной Франции. Совершенно очевидно, что мы не могли существенно измениться за последние 100 тысяч лет, истекшие со времени неандертальцев.
На лестнице человеческой эволюции последние 20 тысяч лет не такой уж большой срок. У нас просто не было времени, чтобы усовершенствовать наши умственные способности, умение отвечать на вызовы и требования окружающей среды, способность мыслить, рассуждать и творить. Мы те же самые люди, что были «задуманы» и жили в те времена, когда наш род насчитывал несколько тысяч человек, кочевавших в саваннах Южной Африки. По замыслу провидения мы должны были быстро реагировать на непосредственную опасность – то есть не мы, а те, кто прожили достаточно долго, чтобы произвести на свет нас.
Сейчас нас подстерегают опасности другого рода: никто не подготовлен к тому, чтобы увидеть 15 тысяч убийств на экране в период отрочества (по статистике именно столько кровавых сцен смотрит средний ребенок в кино и по телевидению). Никто биологически не готов к тем разрушениям, которые может повлечь за собой ядерная война (вдумайтесь: в считанные часы могут погибнуть миллиарды людей, и это для расы, которая большую часть своей истории исчислялась на миллионы); никто биологически не готов к жизни среди людских толп, шума и загрязнения городской среды. И нет времени на то, чтобы бесконечно медленные процессы эволюции произвели в нас эти изменения: для «создания» нашего мозга потребовалось более 500 миллионов лет. Такого времени у нас нет!
Окажемся ли мы способны на перемены, необходимые для того, чтобы понять мир и изменить свой путь развития? У нас на глазах мир изменился до неузнаваемости: компьютеры, авиа- и космические полеты, угроза ядерной войны. Явления небывалые, беспрецедентные. Но человеческая психика осталась такой же, что и столетия назад: что бы ни происходило, она по-прежнему ищет устойчивости, простоты и порядка.
Современные психологические исследования, описанные в этой книге, позволяют нам, возможно, впервые, понять эти незыблемые склонности человеческого ума. Передовые психологические исследования сходятся в том, что человек – животное, которое желает и изо всех сил стремится сделать свою жизнь как можно более упорядоченной и стабильной, придерживаясь застывших догм и систем, в то время как мир постоянно меняется.
В ближайшие годы мы поймем, сумеет ли человек приспособиться к тем колоссальным переменам, которые произошли в прошлом веке. Способны ли мы накормить население Земли? Способны ли воспитать наших детей так, чтобы они были готовы к жизни в современном мире? Сумеем ли мы избежать ядерной катастрофы? Можно по-разному подходить к нескончаемым сложностям современной жизни, и я не отвергаю ни одно из решений наших проблем. Тем не менее, именно понимание нашей ментальности может стать указательным знаком для тех, кто стремится к переменам, ибо нам даны поистине исключительные способности, и вместе с тем мы опутаны ограничениями, копившимися миллионы лет. Сейчас мы знаем – по крайней мере, отчасти, – что ограничивает наш интеллект!
Наша биологическая эволюция во всех смыслах закончена. Дальнейшей биологической эволюции без «эволюции сознания» не будет. А эта эволюция невозможна без понимания того, что представляет собой наше сознание, к чему оно было от века предназначено, где проходят пути для возможных перемен. Об этом мы и поговорим в нашей книге «Психология сознания».
«Чем занимается психология»
Уильям Джеймс
Психология – наука о психической жизни, ее явлениях и их условиях. К явлениям относятся чувства, желания, познавательные способности, умозаключения, решения и прочее, и при поверхностном рассмотрении их разнообразие и сложность производит на наблюдателя впечатление полной неразберихи. Самый естественный и следовательно, первый шаг, которые сделали ученые, чтобы объединить материал этой науки, была попытка, во-первых, классифицировать его, а, во-вторых, привести обнаруженные психические проявления к простому единству, к личной Душе: считалось, что они представляют собой ее необязательные проявления. Скажем в один момент, душа проявляет способность памяти, в следующий момент – способность логического мышления, затем – воли, или, с другой стороны, воображение или инстинктивную потребность. Это традиционная «спиритуалистическая» теория схоластики и здравого смысла. Другой, не столь очевидный способ упорядочить этот хаос, – искать общие элементы в разнообразных психических фактах, а не общую действующую силу за ними, и творчески истолковывать их с помощью разных комбинаций этих элементов, подобно тому, как дом складывается из камней или кирпичей. Так представители ассоциативной психологии – Гербарт в Германии, Юм, Милль и Бэн в Англии – создали психологию, в которой нет души, взяв отдельные «идеи», смутные или яркие, и показав, как их сцепления, отталкивания и разная очередность могут порождать воспоминания, образы восприятия, эмоции, волевые акты, страсти, теории и другие элементы индивидуального ума. Таким образом, самую суть или «я» индивидуума нужно рассматривать уже не как предсуществовавший источник всех представлений, а скорее как их завершающий и сложнейший результат.
Итак, если мы стремимся упростить эти явления тем или иным образом, мы скоро осознаем несостоятельность нашего метода. Скажем, теория души относит каждый отдельный акт познания или воспоминания к духовной способности Понимания или Памяти. Сами эти способности понимаются как абсолютные и неотъемлемые свойства души; то есть, если мы говорим о памяти, никто не объяснит нам, почему мы помним событие, как он происходило в действительности, разве что лишь в силу того, что припоминание его именно в такой форме составляет самую суть нашей способности вспоминать. В рамках спиритуалистической теории мы можем объяснять провалы и промахи нашей памяти второстепенными причинами. Но ее успех не объясняют никакие факторы, кроме существования некоторых реальных предметов, которые нужно запомнить, с одной стороны, и нашей способности запоминать, с другой. К примеру, когда я вспоминаю день окончания колледжа и извлекаю все его события и переживания из вечной ночи забвения, никакая механическая причина не объяснит этот процесс, и никакой анализ не может свести его к простейшему виду или заставить природу этого процесса казаться чем-то иным, нежели окончательным исходным фактом, который, если мы вообще намерены рассуждать в терминах психологии, нужно принять на веру, независимо от того, возмущает ли нас ее таинственность или нет. Сколько бы приверженец ассоциативной психологии ни изображал данные идеи как самоорганизующееся скопление, все же, настаивает спиритуалист, в конце концов, ему придется допустить, что нечто, будь то мозг, «эйдос», или «ассоциация» распознает прошедшее время как прошлое и заполняет его тем или иным событием. Когда спиритуалист называет память «базовой способностью» («irreducible faculty»), он ничего не добавляет к тому, что дает нам допущение сторонника ассоциативной школы.
Однако это допущение отнюдь не является удовлетворительным упрощением конкретных фактов. Почему обладая этой Богом данной способностью, мы удерживаем в памяти вчерашние события значительно лучше, чем прошлогодние, а лучше всего те, что произошли час назад? И почему в старости ярче всего помнятся детские впечатления? Почему память слабеет от болезней и истощения? Почему повторение определенного опыта оживляет наши воспоминания о нем? Почему наркотики, лихорадка, удушье и возбуждение воскрешают давно забытые события? Если мы довольствуемся простым утверждением, что память столь причудливо устроена от природы и обнаруживает именно эти странности, то, похоже, мы напрасно призвали ее, поскольку наше объяснение оказывается столь же сложным, как и объяснение сырых фактов, с которого мы начинали. Более того, есть что-то нелепое и нелогичное в предположении, что душа наделена столь замысловатыми и запутанными способностями. Почему наша память должна хранить вчерашние события лучше, чем события далекого прошлого? Почему имена собственные стираются в ней скорее, чем отвлеченные понятия? Подобные странности кажутся довольно фантастическими, и, насколько можно увидеть априори, не исключено, что они прямо противоположны действительности. Тогда очевидно, что способность не существует совершенно независимо, но действует при определенных условиях; и поиски этих условий становятся увлекательнейшей задачей психолога.
Как бы ни держался психолог за душу и ее способность помнить, он должен признать, что она никогда не проявляет эту способность без намека, и воспоминанию всегда предшествует нечто, что напоминает нам о припоминаемом событии. «Идея!» – скажет ассоцианист,– идея, ассоциативно связанная с тем, о чем мы вспоминаем. Это обстоятельство также объясняет, почему вещи, попадающиеся нам постоянно, легче припоминаются: связанные с ними ассоциации часто заставляли вспомнить о них. Но этим не объяснишь воздействия, которое оказывает на нашу память лихорадка, истощение, гипноз, старость и другие явления. Вообще, описание нашей психической жизни, предлагаемое сторонниками чистой ассоциативной психологии, сбивает с толку не меньше, чем чистый спиритуализм. Эта множественность идей, существующих независимо, но примыкающих друг к другу и сплетающих бесконечный ковер, подобна бесконечным сочетаниям костяшек домино или стеклышкам калейдоскопа. Откуда берутся эти фантастические законы, диктующие им льнуть друг к другу, и почему они складываются именно в эти узоры?
Для этого ассоцианист должен ввести последовательность чувственного опыта во внешний мир. Пляска идей – это несколько искаженная и видоизмененная копия последовательности событий внешнего мира. Но даже мимолетный анализ показывает, что события не могут воздействовать на наши идеи, пока они не произвели впечатление на наши чувства и мозг. Существование факта прошлого еще не причина для того, чтобы его помнить. Если мы чего-то не видели или не испытали, мы не узнаем, что оно когда-то произошло. Таким образом, тело с его чувственными впечатлениями – одно из условий того, чтобы способность памяти была такой, какова она есть. Даже при беглом взгляде на факты видно, что именно мозг является той частью тела, которая связана с восприятием чувственных впечатлений. Если перерезать нервные связи мозга с другими частями тела, сознание не ощутит чувственных переживаний, исходящих из этих частей организма. Глаз будет незрячим, ухо – глухим, рука – не осязающей и неподвижной. И наоборот, если задет мозг, сознание отключается или меняется, даже если любой другой орган готов нормально выполнять свою функцию. Удар по голове, неожиданное нарушение кровоснабжения, кровоизлияние при инсульте могут стать первым толчком; а малейшая доза алкоголя, опиума или гашиша, хлороформа или веселящего газа будут вторым. Бред во время лихорадки, изменения личности при безумии обусловлены тем, что в мозгу циркулируют инородные вещества или происходят патологические изменения в веществе этого органа. Нет необходимости подробно объяснять, что мозг – одно из непосредственных телесных условий психических процессов. Это общепризнанный факт. Сформулировав эту аксиому, будем двигаться дальше. Остальная часть «Принципов психологии» более или менее служит доказательством того, что эта аксиома верна.
Следовательно, телесный опыт и особенно впечатления сознания должны занять свое место среди условий психической и умственной жизни, которые нужно учитывать психологам. И спиритуалист, и ассоцианист должны быть «церебралистами»1, то есть, по крайней мере, признавать, что некоторые особенности их излюбленных принципов объяснимы лишь тем, что законы мозга являются определяющим фактором результата.
Итак, наш первый вывод: психология должна хотя бы в некотором объеме включать физиологию мозга.
Психолог должен быть нейрофизиологом и в другом смысле. Психические явления не только обуславливаются физическими процессами a parte ante2, но и … ведут к ним a parte post3. То, что они ведут к действиям, конечно, общеизвестно, но я имею в виду не просто произвольную и намеренную работу мышц. Психические состояния могут менять диаметр кровеносных сосудов, вызывать аритмию или влиять на еще более тонкие процессы в железах и внутренних органах. Учитывая это обстоятельство, а также последствия психических состояний в отдаленном будущем, можно сформулировать общий закон: не бывает перемен в психике, которые не сопровождались бы физическими изменениями или не влекли их за собой. Мысли и чувства, скажем, те, что вызываются данными печатными знаками в мозгу читателя, не только вызывают движение его глазных яблок и возникновение артикуляции, но когда-нибудь заставят его высказаться, занять чью-либо сторону в споре, дать совет или выбрать книгу для чтения совсем иным образом чем, если бы эти знаки никогда не отпечатывались на сетчатке его глаза. Следовательно, психология должна учитывать не только предшествовавшие психическим состояниям условия, но и проистекающие из них последствия.
Но действия, продиктованные сознательным разумом, могут в силу привычки достичь такого автоматизма, что будут казаться совершаемыми бессознательно. Стоять, ходить, застегиваться и расстегиваться, играть на фортепьяно, говорить и даже молиться можно, когда ум занят чем-то другим. Рефлексы самосохранения безусловно полуавтоматические, животный инстинкт, по-видимому, тоже. Тем не менее, они напоминают разумные действия, поскольку приводят к тем же целям, к которым разум животных намеренно стремится в других ситуациях. Должна ли психология изучать машинальное и вместе с тем целенаправленное поведение?
Граница сознания и психики, безусловно, размытая, зыбкая. Поэтому встает вопрос: не лучше ли, отбросив всякий педантизм, позволить самой науке быть столь же зыбкой, как и ее предмет, и рассматривать явления, подобные этим, если при этом мы можем пролить свет на главный предмет нашего изучения? Полагаю, что мы на это способны, и очень скоро это станет ясно; как и то, что мы гораздо больше выигрываем, толкуя наш предмет широко, нежели узко. На определенной стадии развития всякой науки некоторая степень размытости лучше всего сочетается с плодотворностью. Вообще, из всех новейших формулировок больше всего пользы психологии принесло утверждение Спенсера: сущность психической и физической жизни едина и представляет собой «приспособление внутренних связей к внешним». Подобная формулировка – сама неопределенность, размытость; но поскольку она учитывает, что психика существует в окружающей среде, которая активно на нее воздействует и которой она, в свою очередь, противодействует; поскольку она ставит психику в центр всех ее конкретных связей, она куда более плодотворна, чем устаревшая «рациональная психология», где душа понималась как нечто обособленное и самодостаточное, и рассматривалась лишь ее природа и свойства. Оставляя в целом эти области науки физиологам, позволю себе вольность совершить вылазки в зоологию или в чистую нейрофизиологию, которые могут быть полезными для наших целей.
Можем ли мы более четко определить, как между воздействием на тело извне и реакциями самого тела на внешний мир вклинивается психическая жизнь? Рассмотрим некоторые факты.
Если рассыпать на столе железные опилки и поднести к ним магнит, то, пролетев небольшое расстояние по воздуху, они прилипнут к его поверхности. Наблюдая это явление, дикарь объяснит его как результат влечения или любви между магнитом и опилками. Но если закрыть полюса магнита бумажной карточкой, опилки прочно приклеятся к ее поверхности, не понимая, что ее можно обогнуть по краям и тем самым вступить в более тесный контакт с предметом своего влечения. Возьмите ведро с водой и подуйте в трубку: пузырьки поднимутся со дна ведра к поверхности и смешаются с воздухом. Их поведение опять же можно поэтически истолковать как стремление пузырьков воссоединиться на поверхности воды с родной атмосферой. Но если вы перевернете кувшин вверх дном и опустите его в ведро, он заполнится водой, пузырьки поднимутся и разместятся на дне кувшина, не имея доступа к воздуху. Если бы они слегка отклонились от первоначального курса или спустились к краям кувшина, когда на их пути возникла преграда, они легко бы вырвались на свободу.
Если мы перейдем от поведения неживой материи к поведению живых существ, то мы увидим разительное отличие. Ромео влечет к Джульетте так, как магнит притягивает опилки; и если между ними не возникает препятствий, он движется к ней напрямик, как они к магниту. Но, если между ними воздвигнуть стену, Ромео и Джульетта не будут тупо прижиматься к стене с двух сторон, как опилки к магниту с закрытыми бумагой полюсами. Ромео скоро найдет окольный путь: перелезет через стену или придумает что-то еще, чтобы прильнуть к губам Джульетты. Путь, по которому движутся опилки, точно известен. Достигнет ли Ромео цели, зависит от случая. У влюбленного твердо поставлена цель, путь же может бесконечно меняться.
Представим себе, что живая лягушка очутилась в положении наших пузырьков, то есть на дне кувшина с водой. Необходимость дышать вскоре заставит ее устремиться к природной атмосфере, и она отправится к цели кратчайшим путем, то есть поплывет вертикально вверх. Но если над ней перевернуть кувшин, она не станет, подобно воздушным пузырькам, долго прижиматься носом к непреодолимой преграде над собой, но начнет рьяно обследовать окружающее пространство, пока вновь не опустится ко дну и не отыщет путь в обход края сосуда к желанной цели. Опять же перед нами четко поставленная цель и меняющиеся средства!
Подобные контрасты между поведением живой и неодушевленной материи привели к тому, что люди стали вообще отрицать наличие конечных целей в материальном мире. Сегодня никто не предполагает возможность любви и влечения между частицами железа или воздуха. Сейчас никто не считает, что конечный итог какой-либо активности, которую они могут проявлять, является идеальной целью, руководившей этой активностью с самого начала и подталкивающей или втягивающей ее в существование посредством a fronte4. Это окончание, напротив, считается просто пассивным результатом, выброшенным в существование a tergo5, не имевшим, образно говоря, права голоса при собственном зачатии. В мире неживой материи просто изменяя начальные условия, вы можете получать различный итоговый результат. Но когда мы имеем дело с разумными существами, перемена условий меняет вид активности, а не достигнутый результат; поскольку здесь понятие о неосуществленной еще цели действует заодно с условиями, определяя какой будет эта деятельность.
Предвосхищение будущих результатов и выбор средств для их достижения являются, таким образом, характерной чертой и критерием психики. Все мы пользуемся этим тестом, чтобы провести различие между разумным и механическим действием. Мы не наделяем разумом палки и камни, поскольку они никогда не действуют ради чего-то, но лишь под воздействием внешней силы, не имея выбора и потому – безучастно. Поэтому мы, не колеблясь, называем их бесчувственными.
Именно так мы формулируем наш взгляд на важнейший из философских вопросов: является ли Космос по своей внутренней природе проявлением мыслящего разума или абсолютно бездушным чистым и простым внешним явлением? Если, размышляя об этом, мы не можем избавиться от ощущения, что космос представляет собой царство конечных целей, что он существует для чего-то, то мы полагаем разум в его средоточье и обретаем религию. Если, напротив, обозревая его неизбывное движение и изменение, мы можем представить себе настоящее как простое механическое произрастание прошлого, происходящее без всякой связи с будущим, то мы атеисты и материалисты.
Психология и научные исследования
Хэдли Кэнтрил (Hadley Cantri), Адельберт Эймс Мл. (Adelbert Ames, Jr.), Альберт Х. Хасторф (Albert H. Hastorf) и Уильям Х. Айлсон (William H. lllelson)
Традиционные научные принципы – то есть цели, задачи и методы исследования – не могут удовлетворить требованиям нашего кризисного времени, поэтому наука не сумела использовать свои возможности и выполнить свои обязанности. Общепринятые представления о том, что такое естествознание и для чего оно существует, устарели и нуждаются в коренном пересмотре.
К. Дж. Херрик (1949)
Природа научного исследования
В современной интеллектуальной атмосфере чувствуется настоятельная необходимость более адекватного понимания человека и его общественных связей. Людей все больше беспокоит вопрос о том, помогут ли психологи и специалисты по общественным наукам решить проблемы, вызванные нашими технологическими успехами и стремительными социальными переменами. К сожалению, суждение Херрика (C.J. Herrick) о естествознании в еще большей степени относится к наукам о человеке – психологии и общественным наукам, в целом. Кроме того, специалисты в этих науках, в отличие от физики, не пришли к единому мнению о том, что представляют собой достоверные научные исследования.
Очевидно, что наше понимание человека может возрастать только тогда, когда мы расширяем эмпирическое знание и совершенствуем свои формулировки с помощью исследований, значимость которых доказана. Прежде чем это станет возможно, мы должны научиться понимать научный процесс, в ходе которого делаются открытия. Но иногда стремление ученого создать хорошую репутацию своей области уводит его от самого научного процесса и тормозит понимание и совершенствование научных методов. В дальнейшем мы попытаемся прояснить наш взгляд на природу научного исследования в тех областях, которые прежде всех остальных отвечают за мысли и поведение человека. Лишь тогда такое исследование выполнит то, что мы вправе от него ждать.
Прежде всего, рассмотрим природу научного познания, чтобы понять, почему человек занимается научной работой; во всяком случае, какому назначению она служит и какие стадии включает. Далее мы покажем различие между научным познанием и научным методом; это различие необходимо для того, чтобы избежать некоторых ловушек и обеспечить научный прогресс. Затем постараемся указать на некоторые специфические следствия, которые может извлечь для себя психология при лучшем понимании природы научного познания и роли научного метода, и попробуем определить, до какой степени наука может быть «объективной». Наконец, будут высказаны некоторые предложения, способные ускорить научные исследования, чья цель – лучше понять человека.
Очевидная причина научного исследования та же, что и любого другого – решить некую задачу. Научное познание не может быть понято, если его поднять на пьедестал и рассматривать как нечто далекое и чуждое нашей повседневной жизни. «Наука, – говорит Конант (Conant, 1947, с. 24), – рождается из других прогрессивных видов человеческой деятельности, и в результате благодаря экспериментам и наблюдениям появляются новые понятия».
Эта деятельность происходит в среде, включающей в себя людей, памятники материальной культуры, явления природы. Единственный контакт человека с этой средой осуществляется через его органы чувств, и те впечатления, которые сообщают ему чувства, представляют собой криптограммы6 в том смысле, что они не несут никакого значения, пока между ними и целенаправленной деятельностью человека не возникнет функциональной взаимосвязи. Мир, который творит для себя человек посредством того, что Эйнштейн называл «свалкой ощущений», – это мир, обретающий некоторый порядок, структуру и смысл по мере того, как человек создает, проверяя на опыте, систему предположений и ожиданий, взяв ее за основу своих действий.
Человек воспринимает любое конкретное событие, исходя из всей суммы предположений, сведений и познаний об относительно определенных свойствах окружающей среды, которые ему известны из прошлого опыта. Но поскольку среда, в которой человек осуществляет свои жизненные транзакции7, непрестанно меняется, любой человек постоянно совершает промахи и пытается от них избавиться. Предположения и допущения о мире («картина мира» – the assumptive world), которые человек привносит в конкретную ситуацию, в свое «сейчас», не может раскрыть ему смысла непрестанно возникающих неопределенных значений, поэтому он совершает промахи, недостаточно понимая условия, порождающие то или иное явление, и теряет способность действовать эффективно и целенаправленно.
Пытаясь осмыслить эту неадекватность и ответить на вопрос «почему?», то есть найти причины неэффективности нашей целенаправленной деятельности, мы встаем на позиции научного познания. В качестве ученого человек старается понять, какое свойство окружающей среды ответственно за сбой, а затем призывает имеющиеся в его распоряжении знания, которые по смыслу связаны с пониманием установленной, предсказуемой природы именно этого явления. Современный человек пользуется научным методом как инструментом, потому что он эмпирически обнаружил, что его понимание может возрастать и он может действовать более эффективно, если в своих поисках руководствуется знанием об установленных свойствах воспринимаемого мира.
Процессы, которые включает в себя научное познание, можно описать следующим образом: (1) ощущая недостаточность концептуальных свойств нашей «картины мира» (assumptive world), мы сталкиваемся с задачей, на которую должны найти ответ; (2) мы определяем все аспекты явления, которые могут иметь отношение к задаче, т. е. устанавливаем свойства, без которых данная функциональная деятельность не существовала бы; (3) из различных, предположительно участвующих в нем аспектов, мы выбираем наиболее важные с точки зрения произошедшего сбоя, те, что послужат основными критериями, которыми мы можем манипулировать; (4) мы вырабатываем метод изменения тех аспектов, которые избрали в качестве переменных или основных критериев, и соответственно проводим наше эмпирическое исследование; (5) мы видоизменяем нашу картину мира, исходя из эмпирических данных, касающихся обоснованности формул, с помощью которых была решена поставленная задача.
Решение непосредственной задачи автоматически вызовет новые сбои, так что описанный выше процесс будет постоянно повторяться.8 Точнее говоря, научное познание, по-видимому, выполняет две главных функции для человека. Во-первых, оно обеспечивает его массой так называемых «научных фактов». Сюда входит современное понимание установленных, предсказуемых свойств природы, которые он использует для предсказания и контроля. Существуют, в основном, две разновидности этих научных фактов: 1) общие положения о взаимосвязях детерминированных свойств природы, причисляемых нами к «научным законам»; в естественных науках они выражаются математическими формулами; 2) приложение этих общих законов к конкретным ситуациям в целях проверки, специального прогноза или контроля. Характерной чертой всех этих обобщенных научных законов является то, что они выявляют предсказуемые аспекты различных явлений, когда бы и где бы они ни происходили, независимо от конкретных ситуаций.
Вторая функция науки состоит в том, что она преобразует уже полученные человеком знания о природе и ее свойствах. То есть мы стремимся раздвинуть границы понимания или, по выражению Дьюи и Бентли (Dewey and Bentley, 1945, с. 225; 1946, с. 645), усовершенствовать наши «уточнения», то есть точность наименований. Так, например, уточнения, содержащиеся в теории относительности, – суть более точные наименования явлений, нежели идеи Ньютона, и в этом смысле ньютоновские понятия не следует считать «неправильными». Эта роль науки включает в себя расширение границ отвлеченного знания через открытие все новых предсказуемых свойств природы, которые пока еще не были установлены…
Изучение транзактности
Следует ясно изложить философские основания наших суждений о природе и роли научного познания и научного метода. В качестве отправной точки мы используем то, что Дьюи и Бентли в серии статей называли «транзактным подходом» (т. е. подход анализа специфического вида взаимодействий). Чтo они подразумевают под термином «транзактный», лучше всего вытекает из их собственных слов: «Изучение этого общего (транзактного) типа рассматривает человека-в-акте-деятельности не как нечто, коренным образом противоположное окружающему миру, и не просто как акт деятельности в мире, но и как деятельный акт мира и со стороны мира, которому человек принадлежит в качестве неотъемлемой части» (1945, с. 228). В этих условиях все поведение человека, «включая самые передовые знания», можно рассматривать не только «как исключительно его деятельность, и даже не совсем его деятельность, но как результаты развития целостной ситуации организм-среда» (1946, с. 506). «От рождения до смерти каждый человек – участник, так что невозможно понять ни его, ни того, что он сделал или претерпел вне его участия в совокупности транзакций, в которые данный человек мог внести свой вклад и которые он видоизменяет, но лишь в силу того, что он к ним причастен» (Дьюи, 1948, с. 198).
Хотя эту точку зрения достаточно легко понять и осмыслить, ее не так легко применить на деле, занимаясь научными исследованиями. Рассматривая формулировку лишь как «соединение условий» (Дьюи, 1946, с. 217), мы вступаем в противоречие с рабочими приемами психолога. Психологам, вероятно, особенно трудно понять всю полноту следствий, вытекающих из транзактной точки зрения, потому что, как указывали Дьюи и Бентли (1946, с. 546), «обращение к интеракции появилось в психологических исследованиях как раз тогда, когда она утратила ключевые позиции в естественных науках, откуда ее и скопировали». Но следует помнить, что психология все еще пребывает в младенческом возрасте, и что транзактный подход, идущий, по мнению Дьюи и Бентли, от предисловия Клерка Максвелла (Clerk Maxwell) к его книге «Материя и движение», датированной 1876 г., предшествовал появлению первой психологической лаборатории.
Транзактный взгляд в психологических исследованиях
Когда психология освободится от чистого интеракционизма, приняв транзактный взгляд на явления, входящие в ее сферу, можно предположить, что разделение психологов на школы быстро исчезнет. Школы (гештальт-психология, бихевиоризм, психоанализ и т.д.) исчезнут не потому, что они «неправильны» или их «ниспровергли», но потому, что формулировки каждой школы, выдержавшие проверку на практике, будут включены в более широко сформулированные задачи. Как ускорить это движение?
Прежде всего, психолог должен не только осознать, но и сделать частью своей картины мира, идею о том, что человеческое мышление и поведение может быть понято лишь как продукт «целостной ситуации организма-в-среде». Генри Мюррей и его коллеги (H. A. Murray, 1948, с. 466) высказали эту точку зрения, говоря о том, что «большинство психологов пошли по неверному пути, едва ступив на свое поприще, и в развитии науки большую часть времени шли не в ногу. Вместо того, чтобы начать с изучения целостной личности, приспосабливающейся к естественной окружающей среде, они начали изучать отдельные части личности, реагирующей на физический раздражитель в неестественной обстановке лаборатории». Эгон Брунсвик (Brunswik, 1949) в хорошо известном «экологическом анализе» показал необходимость понимать во всей полноте «репрезентативность обстоятельств», действующих в любой изучаемой ситуации. Хотя все больше психологов призывает пересмотреть традиционные психологические методы, их призывы подобны гласу вопиющего в пустыне мира: к ней можно отнести большинство современных исследований в области психологии. Кто-кто, но не исследователь-психолог, может отделять наблюдателя от объекта наблюдения; процесс познания – от объекта познания; «внешнее, происходящее где-то там» – от происходящего в исследуемом организме. Психология должна полностью отказаться от любой «теории поля», подразумевающей, что окружающее поле скорее воздействует на человека, нежели действует через него.
Поскольку человек неизбежно создает картину мира, производя целенаправленные действия, мир, с которым он связан и который он видит, мир, на который он воздействует, и мир, воздействующий на него, оказывается результатом транзактного процесса, и сам человек играет в нем активную роль. Человек совершает действия в гуще конкретных событий, и они очерчивают границы тех значений, с которыми он сталкивается.
В процессе действия человек в той или иной степени меняется, поскольку его собственную картину мира изменило утверждение или отрицание как результат деятельности. В своей непосредственной деятельности человек рассматривает некоторые детерминанты отвлеченно от непосредственной ситуации в соответствии с его картиной мира. Это, как мы указали, включает в себя нечто большее, чем непосредственное обстоятельство, это – континуум, вбирающий в себя прошлое и будущее, кладовая реально пережитого и воображаемого опыта. Бентли писал (1941, с. 485), что «поведение – событие настоящего, сводящее прошлое к будущему. Оно не может быть сведено ни к последовательности моментов во времени, ни к последовательности мест. Оно само создает длительность и протяженность. Прошлое и будущее, скорее, аспекты поведения, нежели опорные точки управления им». Психологи должны постоянно отдавать себе отчет в том, как поступки человека воздействуют на его картину мира, подтверждая или отрицая некоторые его аспекты, и одновременно на воспринимаемую им «объективную внешнюю среду».
Кроме того, в психологии имеется тенденция, пользуясь ключевыми словами как ярлыками, относить психологию труда, а также социальную, клиническую, педагогическую психологию к разряду «прикладных наук», отделяя их от более традиционной «экспериментальной» психологии. Подобное разделение нелепо, если только им не пользуются сознательно для приблизительно-описательных целей. Исследователи в этих областях, конечно, должны опираться на эксперименты. Помимо того, любое подобное различие тормозит поиск более адекватных формулировок, которые лучше объяснят человеческое поведение в лаборатории, клинике, на заводе или в повседневной общественной жизни.
Мы можем проиллюстрировать, как использование терминов ограничивало научные исследования в психологии, ссылаясь на область восприятия, которая часто служила своего рода флюгером в психологии. Изучая восприятие, психологи довольно рано обнаружили, что определенные изменения в объективных или физиологических факторах ведут к явно выраженным субъективным изменениям. Это, естественно, привело к мысли о соответствии между субъективными факторами, с одной стороны, и объективными и физиологическими факторами, с другой стороны. Поскольку изменение объективных и физиологических факторов вызывает субъективные, легко наблюдаемые эффекты, а противоположные явления продемонстрировать труднее, возникло предположение, что субъективные аспекты восприятия, прежде всего, происходят из соответствующих объективных факторов и сопутствующих физиологических нарушений, ими вызванных. Так что изучение восприятия в значительной степени сконцентрировалось на анализе объективных и физиологических факторов. Поскольку эти объективные или физиологические факторы могут изменяться количественно, научная методология в психологии обычно отождествлялась лишь с измерением.
Это привело к тому, что психологи долгое время недооценивали факторы, неподдающиеся точному измерению. Эти недооцененные факторы, конечно, были субъективными и описывались в терминах прошлого опыта, верности, ожиданий и стремлений, независимо от того, включались ли они сознательно или бессознательно. Недавние исследования в социальной и клинической психологии, где воздействие субъективных факторов на восприятие особенно очевидно, пробили брешь в этой методологической преграде. И уж совсем недавно, чтобы нарушить соответствие между субъективными и объективными или физиологическими факторами, для демонстрации явлений восприятия были разработаны эксперименты, в которых специально использовались иллюзии. Применяя иллюзии, исследователь получает больше свободы, постигая природу функциональной деятельности в процессе изучения восприятия, и тем самым получает хорошую точку опоры, исследуя функцию восприятия в целенаправленном поведении человека. Например, можно показать, что восприятие того, где находится вещь, зависит от восприятия того, что это за вещь, и когда ее воспринимает испытуемый. Гарвей Кэрр (Carr, 1935, с. 326) показал, что «иллюзии, противоположные правильному восприятию, – суть экспериментальные варианты, раскрывающие общий принцип, действующий в обоих случаях».
Ценностные суждения и «объективность»
Постепенно становится ясно, что процесс мышления, участвующий в научном познании, не просто «беспристрастный анализ» условий в их совокупности. Ценностные суждения ученого участвуют (1) в ощущении недостаточности его теоретических знаний – после чего он ставит перед собой задачи; (2) в осознании функциональной деятельности или явлений низшего порядка (subphenomena), затрагивающих явление, давшее исходный толчок к исследованию; (3) в определении того, какие аспекты явления (переменные) могут быть плодотворны в качестве основы экспериментальных стандартов; (4) в разработке экспериментальной процедуры с тем, чтобы проверить обоснованность этих основных стандартов. Таким образом научно-исследовательская работа включает в себя сложный процесс оценивания и интеграции, который, вероятно, в значительной степени происходит на бессознательном уровне.
В этом процессе действуют все бессознательные допущения, все знания и отвлеченные понятия индивидуальной картины мира исследователя. Независимо от того, признают ли это ученые, всякая интерпретация фактов должна рассматриваться как ценностное суждение. Несомненно, рациональное мышление и осознанная интеллектуальная манипуляция абстрактными переменными может играть, зачастую играет и, очевидно, должна играть важнейшую роль в процессе научных исследований. Но полагать, что рациональное мышление и осознанное манипулирование определяют суждения, связанные с научными исследованиями, значит противоречить подавляющей массе доказательств, полученных в ходе самой научно-исследовательской работы. Словарь определяет слово «объективный», употребляемое в дискуссиях о научной объективности, следующим образом: «Подчеркивающий или выражающий природу действительности независимо от самосознания человека; описывающий события или явления как существующие вне сознания; не затронутый рефлексией или чувствами человека». Например, наше знание о восприятии, доказывающее, что «природа действительности», познаваемая нами в чувственном опыте, не существовала бы, не будь картины мира, которую мы привносим в конкретную ситуацию, решительно противоречит спорному утверждению, что ученый может быть объективным.
Следовательно, объективность в науке относится лишь к использованию общепринятых правил эмпирического исследования после того, как определена сама задача, переменные и план эксперимента. Тут ученый исследователь принимает всевозможные предосторожности, чтобы ошибочно не истолковать то, что он наблюдает, не допуская никакой субъективности или предвзятости во время эксперимента.
Объективность не только невозможна и не устраняет личной предвзятости, она также и нежелательна. Трудно что-то добавить к выводу, к которому пришел Херрик (1949, с. 180f), после долгой и плодотворной работы в области неврологии:
«Предвзятость, порождаемая неизвестными нам личными установками, интересами и предубеждениями – самый коварный враг здорового научного прогресса; однако именно эти установки и интересы играют важнейшую роль во всяком оригинальном научном исследовании. Этот вопрос требует откровенного и смелого подхода. Можно легко пренебречь запутанными личностными компонентами этой проблемы, сказав, что они не имеют отношения к науке. Сейчас большинство считает такой подход стандартным или нормальным, научным методом. Но в действительности он не осуществим, и мы не можем себе это позволить, ибо интересы и установки самого исследователя определяют весь ход исследования: без них оно оказывается бессмысленным и бесплодным. Пренебрегать этими составляющими научной работы и удовольствием от хорошего результата значит подморозить не только процесс, но и плоды исследования. Животворный зародыш свободного творческого мышления отброшен, а мы довольствуемся мертвой скорлупой, которую легко взвесить, измерить, систематизировать, а потом долго хранить на складе».
Роберт Линд (R. Lynd, 1939) говорил примерно то же самое о «возмутительных гипотезах» («outrageous hypotheses») в обществознании. Сегодня миф о том, что «наука объективна», поддерживают многие культуры, которые пытаются сохранить существующий статус-кво, освятив его авторитетом науки. Но ни один ученый не потерпит ограничений, налагаемых на его мысль социальными, экономическими, политическими, религиозными или любыми другими идеологическими барьерами и табу. Эта опасность особенно сильна в так называемой «социальной психологии» и общественных науках, где вся собранная информация предопределена и обусловлена целями и условиями, в которых работал исследователь.
Психологов и обществоведов, которые честно стараются применить самые зрелые из своих ценностных суждений к конкретным общественным проблемам, часто называют пристрастными, безумными реформаторами, если они – пусть даже вскользь – критикуют существующие социальные отношения. Однако как раз из-за того, что научное познание насквозь пронизано ценностными суждениями, никакой ученый не может избежать ответственности за высказанные им суждения. Поскольку ценностные суждения играют столь важную роль в научном мышлении, необходимо найти способы и средства, чтобы сделать сами ценностные суждения предметом научного познания (см. Кэнтрил – Cantril, 1949, с. 363). Ценностные суждения касаются значения постоянных переменных, необъяснимых на языке детерминированных и поддающихся проверке (верифицируемых) терминов. Ученый обладает свободой выбора; совесть, нравственное чутье должны быть признаны высочайшим критерием эффективной деятельности. Если предметом изучения становятся человеческие существа, стремящиеся действовать эффективно для осуществления своих целей, то социальная ответственность любого, кто претендует на роль эксперта, сильно возрастает.
II
Сознательная человеческая психика: отбор, восприятие и творчество
Когда в глазах двоится
– Сынок, ты видишь две вещи вместо одной, – сказал отец сыну, у которого двоилось в глазах.
– Не может быть! – ответил мальчик. – В таком случае мне бы казалось, что на небе не две луны, а четыре.
Задумайтесь о своем собственном сознании и поразмышляйте о его содержании. Вероятно, вы обнаружите в нем смесь мыслей, представлений, ощущений, фантазий. Образы сменяют друг друга, представления возникают на миг лишь для того, чтобы снова исчезнуть, на передний план выходит физическая или душевная боль, или какое-нибудь желание.
Как нам получить контракт? Увижу ли я снова его или ее? Какое вкусное блюдо! Как мне помочь этим людям… и многое другое. Появляется предмет: одно или несколько деревьев, книги, стулья. Мы обращаем внимание на проходящих мимо нас других людей, поскольку они могут столкнуться с нами, мы воспринимаем их как отдельные фигуры, как звучащие рядом с нами голоса.
Мы передвигаемся в трехмерном пространстве и активно манипулируем воспринимаемыми объектами: переворачиваем страницу книги, садимся на стул, говорим с кем-то, слушаем говорящего. Обычно содержимое нашего сознания отображает объективную реальность, и это отображение может быть удачным и позволяет нам выжить. Удачное отображение бывает на всех «уровнях». На высоком уровне это может быть: «Получим ли мы работу?» На более же низком: «Перейдем ли мы улицу так, чтобы нас не сбили?»
Исходя из собственного, индивидуального опыта, мы знаем, что «наш мир» достоверен, и обычно заходим чуть дальше. Каждый день, почти ежеминутно, мы делаем ту же ошибку, что и сын, у которого двоилось в глазах: мы немедленно предполагаем, что наше собственное сознание и есть мир, что мы воспринимаем внешнюю «объективную» реальность во всей полноте. В конце-то концов, мы срубили дерево и сделали из него стол, пили за обедом то же самое вино, что и все остальные, получили работу. Большинство людей решительно не понимает, в чем тут проблема: «реальность», которую мы знаем по опыту, обычно не вызывает никаких возражений.
Помните первые мультфильмы Диснея? В них человечек, сидящий за панелью управления, расположенной вроде как в нашем мозгу, проецировал материальные «картинки» мира на что-то вроде экрана сознания, словно на гигантский телеэкран. И хотя вы снова посмеетесь, как, наверное, смеялись над продавцом ковра, – таково обычное представление очень многих людей. На самом деле, когда на протяжении долгих лет, что я преподаю и обсуждаю эти вопросы, я выяснял, как большинство людей понимают, как они запечатлевают внешний мир или реагирует на него, то в конечном счете они приходили к какому-нибудь варианту этого психического Диснейлэнда.
Но даже мгновенный взгляд на проблему подтверждает, что идея «наивной реальности», согласно которой наше сознание непосредственно отражает мир, не может быть верной. Если бы там внутри был экран сознания, кто бы его увидел? И не сидит ли внутри этого человечка другой крошечный господин (а то и дама). Кроме того, иногда мы ощущаем нечто, физически отсутствующее. Мы галлюцинируем, грезим наяву, воображаем, строим планы, мечтаем и надеемся. Каждую ночь мы видим сны и переживаем события, которые полностью порождаем сами.
Задумайтесь также о том огромном разнообразии физических сил и энергий, с которыми мы поминутно сталкиваемся. Воздух или точнее атмосферная среда содержит и сообщает нам энергию в электромагнитном диапазоне: видимый свет, рентгеновские лучи, радиоволны, инфракрасное излучение. Вдобавок голосовые связки, барабанные перепонки, проходящие машины, движение шагающих ног заставляют механически вибрировать воздух; все это передает энергию, которая трансформируется в звуковую информацию. Существует постоянная сила гравитационного поля, меняющееся давление нашего собственного тела, движение газообразной материи воздуха и сотни других явлений внешней среды. Кроме того, мы сами порождаем множество внутренних стимулов: это и мысли, и восприятие ощущения от внутренних органов, мышечная деятельность активность, и болевые ощущения, и чувства, и многое другое.
Все это происходит одновременно и совсем не так упорядоченно, как можно описать, и продолжается, пока мы живы. Представьте, что вы каждую минуту отдаете себе отчет о каждом процессе. Вы сразу поймете, что наше индивидуальное сознание не способно даже на миг представить или отобразить весь внешний мир, ибо в нем содержится лишь малая доля всей «действительности».
У нас даже нет аппарата чувственного восприятия, чтобы воспринимать многие действующие на нас энергии, такие как ультрафиолетовое или инфракрасное излучение.
И как только мы пришли к заключению о том, что наше сознание ограничено, возникает множество вопросов, на которые мы попытаемся ответить. Что его ограничивает? Почему оно ограничено? Как действуют процессы отбора и исключения? Как добиться устойчивого состояния сознания, если мы можем отобрать лишь немногое из того, что существует во внешнем мире? Как уберечься от переизбытка впечатлений?
Индивидуальное сознание, большей частью ориентировано на действие. Оно эволюционировало, прежде всего, для того, чтобы обеспечить биологическое выживание индивида, усилить его внимание к внешнему миру, его восприимчивость (а иногда сверхвосприимчивость) к угрозам, идущим от других организмов, поэтому чаще всего полезно отделять благополучие самого индивида от всеобщего благополучия. В конце концов, должна существовать система, где приоритет отдается личности и действует принцип «сначала я».
Наша биологическая наследственность определяет наш выбор: из всей массы получаемой информации мы отбираем ту сенсорную информацию, которая должна достичь мозга. Этот тончайший процесс осуществляется при помощи обширной сети фильтров, сенсоров и барьеров, работающих с точностью до микросекунды. Мозг мгновенно отбирает жизненно важные стимулы (survival-related stimuli), из которых мы чудесным образом создаем устойчивое отображение мира.
В нашем организме постоянно происходит так много чудес, что у ученых дух захватывает. Очень короткие волны в воздухе комбинируются и могут складываться в картинки в голове; другие, более длинные волны, становятся музыкой; группа молекул оказывается точно соответствующей некоторым рецепторам на нёбе, и мы лакомимся жюльеном. Все это происходит внутри нас – ежедневно и ежеминутно.
Если мы с самого начала поймем, что для того, чтобы выжить в мире, мы по необходимости должны были создать наше обыденное сознание, то мы сможем принять на веру, хотя бы как рабочую гипотезу, и то, что мир может быть организован по-другому, если не в нас самих, то, по крайней мере, в других организмах.
Изучение сенсорного отбора
Психическая операционная система (the mental operating system) начинает обработку информацию с того, что выхватывает небольшой, конкретный кусочек внешнего мира и доставляет его в мозг. Так что обычно мы считаем, что чувства суть «окна» в мир, который мы видим своими глазами и слышим своими ушами. Хотя подобная точка зрения объясняет наше состояние, дело обстоит не совсем так, поскольку главная функция сенсорных систем (рассматриваемых как целые системы) – отбрасывать несущественную для организма информацию, такую как рентгеновские лучи, инфракрасное излучение или ультразвуковые волны. Эти системы защищают нас от переизбытка информации, способной сбить с толку. Они это делают по определенному плану. И этот план скрывает в себе нечто большее.
Чувства изо дня в день совершают два чуда. Первое: каждый из органов чувств превращает один из видов физической энергии – короткие световые волны, молекулы кислого – в другой вид энергии: в электрохимический процесс нейронного возбуждения. Этот процесс называется преобразованием (transduction). У каждого органа чувств имеются специализированные рецепторы, ответственные за преобразование внешней энергии в язык мозга. Глаз преобразует свет, ухо преобразует звуковые волны, нос преобразует молекулы газов. Второе чудо заключается в том, что в какой-то момент в системе чувственного восприятия и мозга происходит второе преобразование: миллиарды электрических вспышек и химических секреций «нейронных разрядов» становятся деревьями и тортами, серебристыми рыбками и смехом – осознанным миром человеческого опыта.
Оба этих чуда происходят в нашей жизни ежеминутно: они настолько постоянны и привычны, что мы, естественно, не отдаем себе в них отчета. Мы на пути к тому, чтобы понять, как происходит первое чудо, но второе остается полной загадкой для науки.
Возьмите самый важный «канал» чувственного опыта – глаз. Он реагирует на излучение электромагнитной энергии в видимом спектре и передает нам весь видимый мир: великолепие осенних красок, сложную гамму оттенков зимнего неба, огромное разнообразие человеческих лиц и многое другое.
Поэтому трудно поверить, что весь «видимый» спектр – лишь малая часть всего диапазона энергии. Весь спектр длины волны колеблется в пределах от менее чем 1 миллиардной части метра до более чем 1000 метров, однако мы видим лишь маленький отрезок между 400- и 700- миллиардной части метра. Таким образом, весь видимый спектр представляет собой менее, чем одну триллионную всего спектрального диапазона электромагнитных колебаний, которые доходят до глаза. Кроме электромагнитной энергии, на глаз действует много других непрошенных сил: волны сжатия, газообразная материя, механические вибрации воздуха. Глаз их «намеренно» не замечает.
Мы просто не могли бы воспринять мир во всей его полноте – мы отсекаем огромную его часть прежде, чем она «достигает нас» или улавливается нервной системой. Если мы не обладаем рецептивными системами для данного вида энергии, если объект вне нашей досягаемости или слишком быстро движется, мы его не воспринимаем. Мы даже не можем себе представить какой-то вид энергии или объект вне зоны нашего восприятия. Как бы «выглядели» инфракрасное излучение или рентгеновские лучи? Как бы «звучала» нота частотой в один герц. Говоря по-дилетантски, возможно именно это имеется в виду в дзэнском коане: «звук хлопка одной ладони».
Возможно, мы скорее поймем эту проблему, если немного спустимся по лестнице эволюции и рассмотрим животное, чьи сенсорные системы воспринимают еще более ограниченную информацию, чем наши.
Пожалуй, самый важный и четкий эксперимент в этой области был проведен над системой зрительного восприятия у лягушки. Очевидно, что лягушка занимает иную «эволюционную нишу», нежели человек, и, вероятно, отбор в ее нервной системе происходит иначе. Но никто не мог предположить, какая огромная разница существует между нервной системой земноводного и человека!
Группа исследователей из Массачусетского Технологического Института (МIТ) под руководством Джерри Леттвина (Jerry Lettvin) поставила эксперимент, в ходе которого глаз лягушки, находившейся в неподвижном состоянии, подвергали визуальной стимуляции. Лягушка так располагалась в пространстве, что ее глаз оказывался в центре полусферы радиусом в семь дюймов9. На внутренней поверхности этой полусферы с помощью магнитов помещали небольшие предметы в различном положении, или их перемещали внутри полусферы.
Ученые вживляли микроэлектроды в зрительный нерв лягушки, чтобы определить, «что лягушачий глаз сообщает лягушачьему мозгу» – так называлась эта классическая статья. Поскольку сам по себе глаз лягушки более-менее схож с глазами других существ, ученые ожидали, что запись электрических возбуждений оптического нерва выделит разного рода «сообщения», которые ее глаз передает мозгу. Предполагалось, что анализ этих сообщений раскроет взаимосвязь между вызванными временными «рисунками» (паттернами10) электрической активности и различными предметами, предъявляемыми лягушке на полусфере.
Существует бесконечное множество различных зрительных конфигураций, которые можно предъявить лягушке – цвета, фигуры, движения и их различные комбинации – ассортимент, отражающий богатство видимого мира, который мы воспринимаем. Предъявляя лягушке это множество различных объектов, цветов и движений, исследователи обнаружили примечательное явление: в ответ на все виды зрительной стимуляции из сетчатки посылались в мозг лишь четыре вида «сообщения». Иными словами, не важно, насколько сложна окружающая среда, сколько тонких различий существует в ней, лягушачий глаз посылает в мозг лишь несколько различных сообщений. Можно предположить, что лягушачий глаз развивался таким образом, чтобы отбрасывать остальную информацию.
Структура глаза позволяет лягушке «распознавать» лишь четыре различных вида внешней деятельности. Леттвин и его сотрудники назвали четыре соответствующих системы детекторами устойчивых контрастов (sustained contrast detectors), детекторами движения (moving-edge detectors), детекторами освещенности (net dimming detectors), детекторами выпуклости (net convexity detectors). Первые дают сведения об общих очертаниях обстановки; вторые реагируют на любое существенное движение; третьи, по-видимому, усиливают реакцию на внезапное уменьшение освещенности, когда нападает враг крупных размеров.
Четвертый тип сообщения, передаваемый детекторами выпуклости, самым очевидным образом связан с биологическими потребностями лягушки и наиболее интересен. Детекторы округлости не реагируют на общее изменение освещения или контраста; они реагируют лишь тогда, когда небольшие темные объекты попадают в поле зрения и движутся вблизи глаза. Вот так лягушка добывает себе еду, так она может видеть летающих насекомых даже при помощи своей высокоспециализированной системы зрительного восприятия. Лягушка развила свои собственные подсистемы восприятия, которые «запаяны» в ее органы чувств – она почти автоматически реагирует на летающих рядом насекомых!
Такого же рода исследование прояснило механизм восприятия и сознания у других организмов. Результаты показывают, что зрение осуществляется не в глазах, а при помощи глаз. Первая часть визуального опыта состоит в том, что глаз сообщает мозгу; вторая часть – в том, что мозг сообщает глазу.
В каждом человеческом глазу примерно 126 миллионов фоторецепторов; их импульсы сходятся к миллиону ганглиозных клеток. Информация о внешнем мире становится все более упрощенной и отвлеченной по мере того, как эта информация проходит путь с периферии к зрительной коре головного мозга.
Информация из левого глаза попадает в левый оптический нерв, информация из правого глаза идет по правому оптическому нерву. Изменение происходит на пересечении, называемом перекрестом зрительных нервов: некоторые из аксонов переходят на другую сторону. Аксоны из левых частей обоих глаз попадают в левую сторону мозга, а аксоны из правых частей обоих глаз идут к правой стороне. Меняется система расположения аксонов, но не их структура. Их название тоже меняется. После перехода зрительный нерв называется зрительным трактом.
Миллионы нервных волокон каждого из двух зрительных пучков сначала достигают мозга в латеральном коленчатом теле (ЛКТ) зрительного бугра (thalamus), так что зрительная кора приводится в состояние готовности для ввода визуальных данных через ЛКТ. По-видимому, ЛКТ представляет собой нечто вроде коммутационной станции, передающей сообщения зрительной коре. На уровне ЛКТ, сообщения от обоих глаз остаются раздельными. ЛКТ также анализирует цветовые сигналы. Нервные волокна, выходящие из ЛКТ, разветвляются, передавая информацию зрительной коре.
В экспериментах Леттвина и аналогичным им частота разрядов единичного аксона может быть измерена и зарегистрирована тонким, как волосок, электродом. Освещая глаз животного ярким светом и регистрируя реакцию отдельных нервных клеток, можно обнаружить, какие клетки реагируют на этот раздражитель. Область раздражения, на которую реагирует клетка, называется рецептивным полем. Функция клеток в зрительной коре отличается от функции клеток оптического тракта. Когда регистрируется реакция индивидуальных корковых клеток, лучше всего они реагируют на специфические свойства окружающей среды и потому называются анализаторами признаков. (Однако, на самом деле, эти клетки могут выполнять другие, нам неизвестные функции.)
У человека более 100 миллионов нейронов в зрительной коре, и мы до сих не знаем степень их специализации. Чтобы определить те характерные признаки, которые должны улавливать специфические клетки, ученым необходимо выделить и идентифицировать рецептивные поля. Оказывается, что каждый вид животных обладает особым набором анализаторов признаков, которые выделяют объекты и события, важные для этого вида. У таких животных, как лягушка, эта способность к отбору развита в крайней степени.
Зрительная система кошки, изученная лучше других, отбирает края, углы и объекты, движущиеся в разных направлениях. У обезьян отдельные клетки, по-видимому, реагируют на особые свойства окружающей среды. В одном исследовании группа ученых проводила эксперименты с макаком-резус. Они отводили активность одной клетки зрительной коры и попытались выяснить, что заставит клетку реагировать. Перед макакой клали пищу, показывали ей карточки, движущиеся объекты и т.д. Исследователи испробовали все, что могли придумать, и не заметили никакой реакции. Наконец, когда они на прощанье помахали перед глазами у обезьянки рукой, в клетке возникла бурная реакция. Потом этой клетке предлагали множество новых раздражителей. Чем больше раздражитель походил на кисть руки обезьянки, тем сильнее оказывалась реакция клетки. Данный пример доказывает, что, по крайней мере, у обезьяны мы можем отождествить отдельно взятую клетку, которая бурно реагирует на крайне специфичный признак.
Ученые-нейробиологи Хьюбел и Визел из Гарвардского университета, получившие за свою работу Нобелевскую премию, открыли три основных категории клеток зрительной коры у кошек, каждая из которых обнаруживает специфические типы «рисунков» (паттернов).
1. Простые клетки (simple cells) реагируют на полосу, линию или край. Поскольку простые клетки сильнее всего реагируют на определенные углы, они называются детекторы ориентации. Они организованы в зрительной коре колонками; каждая колонка содержит клетки, реагирующие на определенную ориентацию.
2. Сложные, комплексные клетки (complex cells) реагируют на ориентацию и движение, скажем, диагональную линию, движущуюся слева направо.
3. Сверхсложные, гиперкомплексные клетки (hypercomplex cells) реагируют на любую полосу света, независимо от ее ориентации. Неуклюжий термин «гиперкомплексные» отражает поразительную сложность корковой системы отбора признаков; ученые никак не рассчитывали, что обнаружат клетки, превосходящие по своей сложности «комплексные». Возможно, когда-нибудь будут найдены другие клетки, которые реагируют на еще более специальные свойства окружающей среды (как клетка обезьянки, реагирующая на взмах руки).
Каждый элемент зрительной системы, включая зрительную кору, должен выделять особые признаки окружающей среды, передавать и анализировать эту информацию и не придавать значения всему остальному. Клетки зрительной коры, вероятно, являются, мелкими строительными блоками более сложных зрительных впечатлений.
Большая часть нашего сенсорного и перцептивного опыта прямо отражает опыт, получаемый посредством глаза. Все люди развивались в процессе эволюции сходным образом, отбирая одни и те же свойства окружающей среды. Мы наделены глазами, воспринимающими излучение электромагнитной энергии, наши уши воспринимают и «подхватывают» механические колебания воздуха, нос содержит рецепторы для восприятия молекул газа; у нас есть специализированные тактильные датчики, а сложная система клеток, покрывающих язык подобно мыльным пузырькам, реагирует на молекулы пищи и передает нам ощущение вкуса. Тщательное рассмотрении этих ощущений во всей их поразительной сложности могло бы вновь породить у нас неявное предположение о том, что эти ощущения дают исчерпывающее представление о познаваемом мире.
В конце концов, этому есть никем не оспариваемое подтверждение. Мы все соглашаемся: вон растет дерево, вот поет птичка, а дымящийся на столе обед манит нас к себе. Но наше согласие о природе реальности, принятое между людьми здравомыслящими, конечно же, ограничено, поскольку у всех нас есть общие ограничения, по-видимому, сложившиеся в процессе эволюции человечества, чтобы обеспечить биологическое выживание расы.
Люди единодушны относительно некоторых событий лишь потому, что мы все имеем сходные ограничения в устройстве наших рецептивных структур, образовании и культуре. Как тот сын, у которого двоилось в глазах, мы можем легко спутать наше единодушное мнение с объективной реальностью. Если бы двоилось в глазах у каждого, мы бы все действовали так, как если бы было две луны, или наша система счисления удвоилась бы; возможно, она и удвоена, но мы о том не ведаем.
Что отличает нас – более сложные организмы, хотя бы по сравнению с лягушкой, – это то, что пути ощущения усложняются и становятся многомодальными. Также повышается гибкость благодаря повышенной сложности мозга и сенсорных отделов нервной системы. Эта «перенастройка» скорее напоминает способность компьютера подстраивать программы в различных условиях.
Вы сами можете испытать эту избирательность и настройку более высокого уровня. В обществе, где одновременно разговаривают несколько человек, закройте глаза и прислушайтесь к одному из говорящих, потом «отключитесь» от него или от нее и прислушайтесь к другому. Пожалуй, вас удивит, насколько легко можно перенастроить внимание. На самом деле, не стоит удивляться этой способности, ведь мы постоянно настраиваемся на что-то соответственно нашим нуждам и ожиданиям, и все же мы слегка удивлены, поскольку обычно не ведаем о подобной самонастройке.
Процесс отбора может программироваться внутри заданных сенсорных пределов. Часто он продиктован потребностями. Когда летом мы обливаемся пoтом, нам больше, чем обычно хочется соленого. Мы не рассуждаем сознательно, что, мол, организму нужна соль и нужно есть больше соленой пищи; нам просто нравится еда, которую в другое время мы бы сочли сильно пересоленной. И в этом люди тоже непохожи друг на друга: некоторые блюда кажутся большинству пересоленными, тогда как другие добавляют в них соли!
Изучение сознания, психики и мозга
Один наивный взгляд на мозг и нервную систему побудил ученых к важным исследованиям в психологии. Вы помните, что глазной хрусталик переворачивает изображение слева направо и меняет местами верх и низ. Отсюда возникает распространенный вопрос: если глаз переворачивает видимый мир, почему мы видим мир правильной стороной вверх, если его изображение перевернуто? Но понятие «правильной стороной вверх» и «вверх ногами» не имеет биологического смысла. Важной предпосылкой идеи о том, что изображение должно быть «правильной стороной вверх» является представление, что мы видим мир таким, как он есть.
Поскольку мы не «осматриваем» объективную реальность, этот вопрос, по сути, бессмысленен. Для того, чтобы нам «видеть», необходимо только одно условие: существование последовательно-непротиворечивой взаимосвязи между внешним объектом и конфигурацией возбуждения на сетчатке. У людей, как мы скоро увидим, эта конфигурация может быть существенно видоизменена и это не вызывает особых трудностей.
Если с помощью поворота глаза хирургическим путем перевернуть (инвертировать) зрительный мир золотой рыбки, она не сумеет адаптироваться к этой перемене. Она даже может умереть от голода, плавая по кругу в поисках пищи. Если таким же образом изменить зрение человека, он может быстро приспособиться к перемене. Поскольку мы не ставим над людьми экспериментов с хирургическим вмешательством, исследование проводится с использованием искажающих изображение линз. Человек, приспособившийся к специальным, переворачивающим изображение линзам, может проехать на велосипеде по людному городу. Наивный взгляд не может быть правильным.
Работа сознания – непрерывный процесс, с помощью которого организм приспосабливается к непосредственной среде. «Изображение» на сетчатке никогда не переворачивается. Нам не нужно такое переворачивание или коррекция изображения; все, что нам нужно для адаптации к внешнему миру, – это непротиворечивая информация. «Изображение» на сетчатке, действительно, перевернуто, и его непрерывно скрывают мигание, слепое пятно и кровеносные сосуды, однако мы ко всему этому приспосабливаемся. Палочки и колбочки, фоторецепторы глаза, расположены за кровеносными сосудами, со стороны, противоположной стороне с которой падает свет.
В конце XIX в. психолог Джордж Стрэттон (George Stratton) доказывал, что поскольку сознание является процессом приспособления к окружающей среде, то человек может приспособиться к зрительной информации, организованной совершенно иным образом, если она последовательно-непротиворечива. Чтобы проверить эту гипотезу, Стрэттон носил на одном глазу призматическую линзу, так что с этой стороны видел мир повернутым на 180 градусов. Мир был буквально перевернут вверх дном: верх-низ и лево-право поменялись местами.
Сначала Стрэттону было очень трудно делать такие простые вещи, как протянуть за чем-нибудь руку или что-то взять. У него кружилась голова при ходьбе, он натыкался на предметы. Но через несколько дней он начал приспосабливаться.
Проносив переворачивающую изображение линзу три дня, он записал: «Сегодня мне удалось протиснуться между двумя шкафами: для этого потребовалось значительно меньше сноровки, чем прежде. Я мог наблюдать свои пишущие руки, не чувствуя замешательства или неуверенности». На пятый день он с легкостью передвигался по дому. На восьмой день, убрав линзу, он написал: «Перемена порядка вещей, к которому я привык за последнюю неделю, произвела на меня ошеломляющее впечатление, которое продолжалось несколько часов». Стрэттон не сразу приспособился к новой взаимосвязи между информацией и восприятием, и понадобилось время, чтобы от нее отвыкнуть.
В 1896 г. Стрэттон написал о результатах своих исследований:
«Различные чувственные ощущения, как бы далеко они ни шли, организованы в единую гармоническую пространственную систему. Гармония, как было обнаружено, заключается в том, чтобы внешний опыт соответствовал нашим ожиданиям» (Курсив наш).
Через шестьдесят с лишним лет Иво Колер (Ivo Kohler) проводил новые эксперименты со зрительной перестройкой. Его наблюдатели неделями носили линзы, искажающие изображение. Сначала им было очень трудно смотреть на перевернутый мир, но через несколько недель они приспособились. Один из участников эксперимента даже научился кататься на лыжах в искажающих изображение линзах! Люди могут научиться приспосабливаться и к искажению цвета. В другом опыте Колера испытуемые носили очки, где одно стекло было красным, а другое – зеленым. Через несколько часов они не ощущали разницы в цвете между двумя стеклами.
Природа непосредственного сознательного чувственного опыта
Если об этом не задумываться, кажется, нет ничего проще, чем воспринимать окружающее. Сейчас, когда я пишу эти строки, я вижу плющ и траву, слышу музыку вдали и могу легко и просто увидеть там синее небо.
Возьмем незамысловатую сценку: я вхожу в комнату и вижу своего друга Денниса. Заговариваю с ним, спрашиваю, над чем он работает. Заурядный опыт, не стоящий разбора… или это только кажется.
Но для того, чтобы осуществить простые вещи, требуется большая работа. Возможно, вам будет интересно узнать, что ни один компьютер, сколь угодно большой и сложный, не справился бы со столь простой задачей. Я знаком с сотней людей, и нет ничего необычного в том, что я знаю, о чем говорить с каждым из них. Компьютер даже не узнал бы Денниса, а уж тем более не мог бы с ним разговаривать. Этот простое и заурядное впечатление оказывается, на самом деле, результатом множества трудных и сложных действий. Мы можем осознавать, что мы воспринимаем, но обычно не сознаем психических процессов, происходящих «за сценой» и делающих восприятие возможным. Чтобы увидеть кого-нибудь, вроде моего друга Денниса, вы сначала «ловите» информацию из окружающей среды. Из миллионов внешних раздражителей лишь несколько, достигающих чувственные рецепторы, предоставляют информацию о Деннисе и этой комнате. Эта «сырая» сенсорная информация сначала улавливается и систематизируется.
Ту зону красного цвета, которую мы видим, мы воспринимаем как кушетку, серое – это его рубашка, по голосу мы узнаем, что это Деннис, а не Фред. Ваше впечатление включает куда больше того, что видит глаз и слышит ухо. Когда Деннис «собран по частям», вы выходите за пределы этой непосредственной информации. Вы мгновенно предполагаете, что он – тот же самый человек, что и прежде, с теми же воспоминаниями, интересами и опытом. Первая составная часть сознательного впечатления, восприятия, включает «улавливание» информации о мире, систематизацию ее и создание выводов об окружающей среде.
Чтобы быть нам полезным, восприятие должно правильно отображать окружающий мир. Нужно видеть приближающихся к нам людей, чтобы не столкнуться с ними. Мы должны разобраться в пище, прежде чем начнем есть. Органы чувств собирают информацию и отсеивают ее. Они отбирают важную для выживания информацию о цвете, вкусе и звуке. То, что организм воспринимает, зависит от окружающей среды. Характерные свойства окружающей среды описываются «экологическими психологами». Вот два из этих свойств:
Информационные возможности. Каждый объект окружающей среды – богатый источник информации. Столб «предоставляет» информацию о своих прямых углах; помидор – о своей округлости, цвете и вкусе; дерево – о листьях, цвете плодов и других свойствах.
Инвариантность. Внешняя окружающая среда содержит много различных объектов. Каждый из них предлагает воспринимающему определенные инвариантные (постоянные) черты. Даже такой обычный объект, как столб, предоставляет неизменяющуюся (или инвариантную) информацию о себе, когда мы обходим его. Под любым углом зрения мы видим, что у столба прямые углы, что он перпендикулярен земле, что он белый. Есть конфигурации (паттерны) инвариантности, общие для всех объектов: все объекты уменьшаются, когда их расстояние от воспринимающего увеличивается; линии сходятся на горизонте; когда один объект ближе, чем другой, он заслоняет дальнего.
Первый уровень сознания включает в себя орган, улавливающий предоставляемую окружающей средой информацию и использующий ее.
Но чаще всего сенсорная информация столь сложна, что ее нужно упрощать и систематизировать. Психическая операционная система настолько приспособлена к систематизированию сенсорной информации, что стремится организовать явления в определенную конфигурацию (паттерн), даже там, где ее нет. Мы смотрим на облака и видим в них разные фигуры: кита, кинжал.
Оп-арт11, модный в 1960-х годах, играл на этой предрасположенности нашей психики к организации, системе. Оп-арт одновременно увлекает и тревожит взгляд, поскольку мы постоянно пытаемся привести в систему определенные фигуры, задуманные художником так, чтобы никакой системы не было.
Принципы психической организации – основа гештальтпсихологии. Гештальт – немецкое слово, не имеющее точного английского эквивалента; его примерное значение – «создавать форму». Гештальт – это непосредственное формообразование объекта. Вы воспринимаете раздражители как законченные, а не бессвязные формы. Вы видите линии в геометрической фигуре как квадрат. Вы видите отнюдь не четыре отдельные линии, отмечая, что все они расположены под прямым углом друг к другу, затем заключаете, что все они равной длины, и на этой основе делаете вывод: «Это квадрат». Фигура непосредственно воспринимается как целое, а не как сумма ее частей.
Интерпретация: выход за пределы данной нам информации
Хотя к нам поступает богатейшая чувственная информация, та информация, что мы получаем в каждый отдельный момент, часто бывает неполной. Возможно, мы лишь мельком увидели рубашку нашего друга Денниса или услышали слово-другое, произнесенное его голосом, и все же узнали его. Этот способ работы психики демонстрировали в Средние века шуты. Они придумывали себе разноцветные костюмы: наполовину белые, наполовину красные и шли между двумя рядами зрителей. Потом спрашивали публику, какого цвета их наряд. Одна группа уверенно отвечала, что шуты одеты в белое; другая столь же уверенно утверждала, что в красное. Доходило до драки, пока толпе не предъявляли этот двусмысленный наряд, – столь сильна в людях склонность «восполнять пробелы».
Чтобы быстро и гибко действовать в мире, мы воображаем большую часть отсутствующей информации. К примеру, вы, наверное, не заметили три опечатки в предыдущем абзаце.
Обычно мы не осознаем деятельность своей психики. Мы не воспринимаем на уровне впечатлений ни отдельно взятые раздражители, ни применяемые к ним «принципы систематизации». Мы скорее проделываем то, что в психологии называется бессознательным умозаключением. Из тех намеков и знаков, которые подают нам органы чувств, мы делаем выводы о реальности. В XIX в. Герман Гельмгольц уподоблял воспринимающего человека астроному, вынужденному «восполнять пробелы» в своих знаниях:
«Астроном приходит к сознательным выводам, когда вычисляет положение звезд в пространстве, расстояния до них, и прочее по их перспективным изображениям, полученным в разное время и сделанным в разных точках земной орбиты. Его выводы основываются на сознательном знании законов оптики. Обычное зрение не требует знания законов оптики. И все же, можно говорить о (психологических) актах обычного восприятия как о бессознательных выводах, тем самым проводя различие между ними и обычными так называемыми сознательными выводами».
Картина мира («допускаемый мир» – The Assumptive Wоrld)
Для того, чтобы действовать быстро, мы делаем множество предположений относительно воспринимаемого мира. Если я вам говорю, что Деннис в комнате, вы тотчас предполагаете, что в комнате есть четыре стены, пол, потолок и, возможно, мебель. Входя в комнату, мы не исследуем, под прямым ли углом стоят ее стены, и, выходя из нее, не смотрим, осталась ли она там, где была. Если бы мы постоянно осматривали все, что нас окружает, у нас не осталось бы времени ни на что другое. Если многое в нашем опыте основано на допущении, то из этого следует, что стоит изменить наши предположения и допущения, как наше сознание тоже изменится. Эту гипотезу выдвинула влиятельная группа американских ученых из Дартмута во главе с Адельбертом Эймсом. Они были названы «транзакционалистами», потому что изучали сознание как вовлеченное в транзакцию (взаимодействие) между организмом и окружающей средой.
В одной из их демонстраций подчеркивалась трудность восприятия трехмерности мира несмотря на то, что зрительная стимуляция двухмерна. Мы предполагаем, что комнаты прямолинейны. Но иногда предположения оказываются неверными, и в результате возникает впечатление «невозможных» изменений в размерах человека, проходящего по комнате, поскольку нам нелегко изменить усвоенные представления о форме комнат. Это допущение так трудно поменять, что оно заставляет нас видеть людей неправильных размеров.
Другие определяющие факторы опыта – ценности и потребности. В одном эксперименте сравнивали восприятие детей богатых и бедных. Когда им показывали монету, детям из бедных семей она казалась крупнее, чем богатым; те же результаты были получены и в других культурах, например в Гонконге. В другом исследовании учеников попросили нарисовать портрет учителя. Большинство учеников-отличников нарисовали учителя чуть меньших размеров, чем школьников. Но слабые учащиеся изображали учителя значительно выше ростом, чем учеников.
Альберт Хасторф и Хэдли Кантрил изучали влияние предубеждений на восприятие болельщиков во время футбольного матча между Принстоном и Дартмутом. Во время игры знаменитый защитник из Принстона получил травму. После матча Хасторф и Кэнтрил опросили две группы болельщиков и записали их мнения об игре в анкету. Болельщики из Принстона говорили, что команда Дартмута играла чересчур грубо и агрессивно против их защитника. Болельщики из Дартмута заявляли, что игра была жесткой, но честной. Впечатление от футбольного матча зависело от того, из Дартмута вы или нет.
Наш непосредственный сознательный опыт. Врожденный он или приобретенный?
Философов и психологов давно интересовал вопрос: «Каким был бы зрительный опыт человека, родившегося слепым, но внезапно прозревшего?» Ричарду Грегори (Richard Gregory) представился счастливый случай наблюдать человека по имени С.Б., слепого от рождения, которому сделали удачную пересадку роговицы в возрасте пятидесяти двух лет. Когда ему сняли повязку, С.Б. услышал голос хирурга, повернулся, чтобы взглянуть на него и кроме размытого пятна, ничего не увидел. Через несколько дней он мог ходить по больничным коридорам, не касаясь руками стен, и видел, который час на стенных часах, но не видел мира так четко, как мы. Он почти мгновенно узнавал предметы, чей «внутренний образ» когда-то сложился у него через осязание. Его удивила луна. Он мог видеть и рисовать предметы, которые раньше узнавал наощупь, но испытывал трудности с теми предметами, которые ему не приходилось касаться, пока он был слеп. Например, рисуя лондонский омнибус через год после операции, он опускал его переднюю часть, которую, конечно, не мог пощупать. Окна и колеса он изображал довольно точно и подробно с самого начала. Когда Грегори показал ему токарный станок, на котором С.Б. когда-то работал, он не мог сказать, что это. Тогда его попросили попробовать инструмент наощупь; закрыв глаза, он тщательно ощупал его рукой и сказал: «Теперь, когда я его потрогал, я его вижу». Хотя С.Б. был лишен зрения, он не был лишен восприятия.
Влияние культуры
Хотя в нас заложены способности ощущения и восприятия, маловероятно, что нам дана целиком предустановленная, встроенная система психических операций. Люди живут в разнообразной окружающей среде и во многих культурах. Наш опыт восприятия во многом приобретенный. Например, пигмеи Конго испокон века живут в непроходимых лесах и редко смотрят вдаль на большие расстояния. В результате, у них не так сильно развито представление о константности размеров, как у нас. Изучавший пигмеев антрополог Колин Тёрнбул (Colin Turnbull) однажды отправился в путешествие с пигмеем-проводником. Выйдя из леса, они пересекли широкую равнину и увидели вдалеке стадо буйволов.
«Кенге обвел взглядом равнину и в нескольких милях от нас увидел стадо буйволов. «Что это за насекомые?» – спросил он меня, и я ответил, что это буйволы, в два раза крупнее лесных буйволов, знакомых ему. Он громко рассмеялся и попросил не рассказывать глупостей… Мы сели в машину и поехали к тому месту, где паслись животные. Он смотрел, как они становились все больше и больше, и хотя был смел, как всякий пигмей, пересел поближе ко мне, что-то бормоча про колдовство… Когда он уразумел, что это настоящие буйволы, он перестал бояться, но недоумевал, почему они были такими маленькими и вдруг выросли, или это какой-то обман».
Представителей других культур не ввести в заблуждение теми же оптическими фокусами, что и нас, поскольку у них другие представления о мире. Скажем, многие из самых известных иллюзий, разработанных нашими психологами, во многом связаны с тем, что в нашей цивилизации преобладают прямые углы и линии. Наш мир – произведение плотника. В отличие от нас, некоторые африканские племена, такие, как зулусы, живут в круглых хижинах с круглыми дверями, а их поля распаханы кругами; многие из иллюзий они переживают не с такой силой, как мы.
Принятые нами условности для изображения трех измерений на двухмерной поверхности могут вызывать любопытную путаницу. Взгляните на этот невообразимый предмет на рисунке внизу – иногда его называют «камертоном Сатаны» – и попробуйте нарисовать его по памяти. Само изображение не назовешь «невозможным» – в конце концов, мы видим его на странице. Но большинство западных людей не могут воспроизвести рисунок, потому что мы автоматически истолковываем его как обман зрения, как вещь, которая не может существовать в трех измерениях. Наша интерпретация того, что предстало нашему взору, а не сама фигура – вот что тут есть невозможного.
Камертон Сатаны
Первоначальная обработка информации в сознании
Прежде, чем информация попадает в сознание, «за кулисами» нашей психики происходит множество явлений. Совершается не пассивная запись того, что снаружи, а отбор, компактно организующий несколько элементов, которые мы вбираем. Если же все так отобрано и выверено, разве можем мы уподобиться пучеглазым йогам, называющим это «иллюзией»? Иллюзорно оно тем, что мы допускаем ошибку мальчика с двоящимся зрением, но если это и иллюзия, то иллюзия с наложенными ограничениями. Ограничения состоят в том, что мы отбираем соответствующие стороны мироздания с тем, чтобы выжить. Другие возможные иллюзии предположительно исчезли за долгое время биологической эволюции.
Но бoльшинство наших впечатлений о внешних событиях представляют собой перенос вовнутрь различных степеней стимуляции, производимой внешним миром. Такое описание сознания многих изумляет: в природе нет ни красок, ни звуков, ни вкусов. Вне нас существует холодное, безмолвное и бесцветное нечто. Это мы создаем звуки из волн в воздухе и мы же создаем краски из похожих, но более коротких, колебаний; мы преобразуем молекулы, попавшие к нам на язык, в бифштекс и острый соус; эти вещи суть параметры чувственного опыта человека, а не параметры внешнего мира.
В заключение скажем: на самом деле, мы не ощущаем объективный мир, а схватываем лишь тщательно очищенную его часть, отобранную в целях выживания. Отбор реальности, присущий человеку, избавляет нас от многих бед и неприятностей, предоставляет нам достаточно информации, чтобы управлять телом, сохранять здоровье, а, главное, размножаться и выживать.
Психика создана не столько для того, чтобы мы, как нам хотелось бы, мыслили, творили, наслаждались оперой, но скорее для того, чтобы позволить нам быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства во внешнем мире. Значит, она должна быть избирательной, подобно тому, как избирательно радио, а кроме того, она должна помогать нам получать и оценивать те единицы информации, которые требуют действия. Когда мы начинаем сознавать это немногое и ценное, в нашей психике происходят еще большие сдвиги.
Поток сознания
Уильям Джеймс
Теперь рассмотрим сознание изнутри. Большая часть книг на эту тему начинается с описания ощущений как простейших явлений психики, а затем переходит к более сложным, создавая каждую высшую ступень из низшей. Но этот подход означает отказ от эмпирического метода исследования. Никто и никогда не испытывал просто ощущение само по себе. С той минуты, как мы появляемся на свет, сознание представляет собой множественность объектов и связей, и так называемые элементарные ощущения суть результаты дифференцирующего внимания, часто доведенного до высочайшей степени. Поразительно, какой урон может принести психологии с виду невинная, но неверная исходная предпосылка. В дальнейшем она приводит к дурным и даже непоправимым последствиям, поскольку пронизывает собой всю работу целиком. Представление о том, что психологическое исследование должно начинаться с изучения ощущений как простейших явлений психики – одно из таких предположений. Единственное, что психология может с самого начала допустить, – это факт самого мышления: его-то и следует, прежде всего, анализировать. Если ощущения действительно являются элементами мышления, то мы не окажемся в более трудном положении, чем если бы предположили их с самого начала.
Итак, мы как психологи, прежде всего признаем, что мышление некоторого вида протекает. Я употребляю слово «мышление» для всех форм сознания без различия. Если бы мы могли сказать по-английски «мыслится», как говорим «дождит» или «дует», то мы констатировали бы факт наипростейшим образом и с минимумом допущений. Поскольку так сказать мы не можем, скажем просто, что протекает мысль…
Мысль стремится к индивидуальной форме
Когда я говорю: каждая мысль – часть личного сознания, «личное сознание» – один из спорных терминов. Мы как будто бы знаем его смысл, пока никто не попросит нас дать определение, но точно его определить – одна из сложнейших философских задач…
В этой комнате – в этой аудитории – существует множество мыслей, ваших и моих; одни из них связаны между собой, другие – нет. Мысли столь же мало существуют сами по себе и не зависят от других, сколь и принадлежат друг другу. Они ни то и ни другое: ни одна из них не изолирована, но каждая относится к некоторым другим и только к ним. Моя мысль связана с другими моими мыслями, а ваши мысли – с другими вашими мыслями. Если где-то в этой комнате и есть чистая мысль, то есть ничья, мы никак не можем этого установить, поскольку не имеем подобного опыта. Мы имеем дело лишь с теми состояниями сознания, которые обнаруживаются в личном сознании, уме, в конкретном «я» и «вы».
Каждый такой ум держит свои мысли про себя. Они ничего не отдают и ничем не обмениваются друг с другом. Ни одна мысль даже не приходит к прямому рассмотрению какой-то мысли в другом личном сознании, а не в своем. Абсолютная изолированность, непреодолимый плюрализм – вот основной принцип мышления. По-видимому, не мысль или эта мысль, или та мысль является первичным психическим фактом, а моя мысль, так как все мысли собственные. Ни совпадение во времени, ни близость в пространстве, ни сходство свойств или содержания не приводят к слиянию мыслей, разделенных стеной, т.е. принадлежащих разным умам. Разрывы между такими мыслями – самые абсолютные разрывы в природе. Этот факт признaют все, до тех пор, пока настаивают на существовании того, что принято называть «личным сознанием», не подразумевая ничего конкретного о его природе. На этих условиях саму личность, а не мысль можно считать непосредственной данностью. Всеобщим фактом сознания является не то, что «чувства и мысли существуют», а то, что «я думаю» и «я чувствую». Никакая психология, во всяком случае, не может ставить под сомнение существование собственно личностей. Худшее, что может сделать психология, – объясняя природу этих личностей, лишить их всякой ценности…
Мысль непрерывно меняется
Я не хочу сказать, что ни одно состояние сознания не имеет никакой длительности: даже если это и правда, это было бы трудно установить. Перемена, которую я имею в виду, происходит в ощутимые промежутки времени; и следствие, которое мне хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что ни одно состояние, миновав, не может повториться и быть совершенно тождественным тому, что имело место раньше…
Мы все различаем большие группы состояний нашего сознания. Вот мы смотрим, вот слушаем; вот рассуждаем, вот желаем; вот вспоминаем, вот ждем и надеемся; вот любим, вот ненавидим; и знаем сотню других вещей, каким поочередно предается наш ум. Но все это сложные состояния. Цель науки – сводить сложное к простому, и в науке психологии существует знаменитая «теория идей»: признавая огромную разницу между конкретными состояниями сознания, она стремится показать, как все это получается в результате вариаций в сочетании некоторых элементов сознания, которые всегда остаются теми же. Эти атомы или молекулы психики и есть те самые «простые идеи», как их называл Локк. Последователи Локка утверждали, что простыми идеями можно считать лишь ощущения в строгом смысле слова. Что это за идеи, сейчас не так важно. Достаточно того, что некоторые философы полагали, что под наплывающими и сменяющими друг друга проявлениями сознания они различают некие элементарные факты, остающиеся неизменными в этом потоке.
Точку зрения этих философов не особенно подвергали сомнению, поскольку, на первый взгляд, кажется, что наш обыденный опыт полностью ее подтверждает. Разве те ощущения, которые мы получаем от того же самого предмета, не всегда одни и те же? Разве одна и та же фортепианная клавиша, когда на нее нажимают с одинаковой силой, не издает один и тот же звук? Разве та же самая трава не рождает ощущение зеленого, а небо – синего, и разве не испытываем мы те же самые обонятельные ощущения, сколько бы мы ни подносили к носу один и тот же флакон одеколона? Предположить, что это не так, было бы какой-то софистикой, однако внимательный анализ показывает, что нет никаких доказательств того, что мы когда-либо дважды испытывали одни и те же телесные ощущения.
С чем мы дважды сталкиваемся, так это с самим предметом. Мы снова и снова слышим ту же самую ноту, видим тот же самый оттенок зеленого, вдыхаем запах тех же духов или переживаем тот же самый тип боли. Реальные сущности, конкретные и абстрактные, материальные и идеальные, в постоянное существование которых мы верим, как будто бы снова и снова возникают перед нашим мысленным взором и заставляют нас беспечно полагать, что наши «идеи» о них – одни и те же идеи. Далее мы увидим, что привыкли проявлять невнимание к ощущениям как субъективым фактам и просто их использовать в качестве моста, чтобы перейти к осознанию реальности, чье присутствие они обнаруживают. Когда я смотрю в окно, трава кажется мне одного и того же зеленого цвета в тени и на солнце, однако живописец написал бы одну ее часть темно-коричневой, другую – ярко-желтой, чтобы передать то реальное чувственное впечатление, которое она производит. Как правило, мы не принимаем в расчет того, как по-разному одни и те же вещи выглядят, звучат и пахнут с разных расстояний и при различных обстоятельствах. Одинаковость вещей – вот в чем нам важно удостовериться; любые подтверждающие ее ощущения будут, вероятно, рассматриваться как приблизительно одни и те же. Поэтому спонтанное утверждение о субъективном тождестве разных ощущений – плохое доказательство. Вся летопись Ощущений служит комментарием к нашей неспособности определить, являются ли два ощущения, полученные порознь, абсолютно одинаковыми. Нас больше волнует не абсолютное качество или количество данного ощущения, а его соотношение с другими ощущениями, которые мы можем испытывать в то же самое время. Когда все кругом чернo, ощущение менее черного заставит нас увидеть предмет белым. Гельмгольц рассчитал, что белый мрамор, написанный на полотне, изображающем архитектурное сооружение при лунном свете, будет, если посмотреть при дневном свете, от десяти до двадцати тысяч раз ярче, чем настоящий мрамор, освещенный луной.
Подобное различие невозможно познать по ощущению; его приходится выводить опосредованно через ряд рассуждений. Есть факты, которые приводят нас к убеждению, что наша восприимчивость все время меняется в зависимости от обстоятельств, так что один и тот же предмет не может снова и снова вызывать у нас одно и то же ощущение. Чувствительность глаза к свету максимальна, когда глаз впервые подвергается световому воздействию, и притупляется с поразительной быстротой. Продолжительный ночной сон позволяет глазу видеть предметы при пробуждении в два раза ярче обычного, как и отдых в течение дня, когда мы просто прикрываем глаза. Мы ощущаем вещи по-разному в зависимости от того, клонит ли нас в сон или мы бодрствуем, голодны или сыты, устали или нет; мы все воспринимаем по-разному ночью и утром, летом и зимой, и, прежде всего, в детстве, в зрелом возрасте и в старости. Тем не менее, мы абсолютно уверены, что наши чувства открывают нам один и тот же мир, с теми же чувственно-постигаемыми свойствами и теми же чувственно-постигаемыми вещами в нем. Разницу в восприимчивости лучше всего доказывают разные переживания в разном возрасте, пробуждаемые в нас вещами, или различные, но естественные для нас настроения. То, что было ярким, радостным и волнующим, становится утомительным, пресным и неинтересным. Пенье птиц докучает, ветерок наводит тоску, небо пасмурно.
К этим косвенным предположениям, что ощущения вслед за переменами в нашей способности чувствовать постоянно меняются, нужно добавить другое предположение, основанное на том, чтo должно происходить в мозгу. Всякое ощущение соответствует той или иной деятельности мозга. Для того, чтобы снова возникло то же самое ощущение, оно должно было бы появиться во второй раз в неизменившемся мозгу. Но поскольку это, строго говоря, физиологически невозможно, то невозможно и не изменившееся ощущение: каждому сколь угодно малому изменению в мозгу должно соответствовать такое же изменение в ощущении, которому способствует мозг.
Все это было бы правдой, даже если бы ощущения возникали у нас не в комбинациях, образующих «вещи». Даже тогда мы должны были бы признать вопреки нашим голословным утверждениям, будто мы дважды испытали одно и то же ощущение, что подобный опыт, строго говоря, теоретически невозможен. И чтобы ни говорили о реке жизни, о потоке элементарных ощущений, конечно, был прав Гераклит, сказавший: в одну реку нельзя вступить дважды.
Но если мы легко можем доказать, что предположения о «простых идеях ощущения», повторяющихся в неизменном виде, безосновательны, насколько более безосновательным оказывается предположение о неизменности множества наших мыслей!
Ибо для нас осязаемо очевидно, что состояние нашего ума никогда не бывает одинаковым. Каждая наша мысль о том или ином предмете или явлении, строго говоря, неповторима и лишь отчасти схожа с другими нашими мыслями о том же самом предмете. Когда то же самое явление повторяется, мы должны о нем мыслить по-новому, видеть его в ином ракурсе, постигать его в других связях, отличных от тех, в каких оно нам представало раньше. И мысль, с помощью которой мы познаем его, – это мысль о нем-в-его-взаимосвязи с другими явлениями, мысль, наполненная всем этим смутным контекстом. Нередко нас самих поражают странные различия в наших взглядах на один и тот же предмет. Мы недоумеваем, как всего месяц назад мы так странно отзывались о том или ином предмете. Мы, сами того не ведая, уже ушли далеко вперед от подобных взглядов. Каждый год мы видим вещи в новом свете. То, что было несбыточным, стало действительностью, а то, что нас волновало и захватывало, сделалось пресным. Друзья, бывшие для нас всем на свете, отошли на второй план, женщины, которых мы когда-то боготворили, звезды, леса и воды теперь наводят скуку; девушки, несшие на себе отпечаток бесконечности, ныне кажутся безликими, картины – бессодержательными; что касается книг, то мы не понимаем, что такого таинственного и многозначительного мы находили у Гёте или неотразимого – у Джона Милля. Вместо всего этого мы с еще большим энтузиазмом отдаемся работе, и вновь работе; полнее и глубже сознаем значение общественного долга и общественных благ.
Но то, что поражает нас с такой силой в крупном масштабе, существует в любом масштабе, вплоть до неощутимых переходов мироощущения от часа к часу. Чувственный опыт ежеминутно переделывает нас, и наша психическая реакция на каждый данный предмет вытекает из всего нашего опыта впечатлений о мире вплоть до этой минуты. Чтобы подкрепить нашу точку зрения, вновь следует обратиться к аналогиям из физиологии мозга…
Каждое состояние мозга отчасти определяется характером всей прошлой череды [впечатлений]. Измените какую-либо из ее предыдущих частей, и состояние мозга должно оказаться несколько другим. Каждое состояние мозга – это запись, по которой Всеведущее око могло бы прочесть всю предшествующую историю его обладателя. Значит, не может быть и речи о том, чтобы какое-то состояние мозга во всей полноте вернулось к прежнему состоянию. Может повториться нечто подобное, но полагать, что вернется оно само, равноценно нелепому предположению, будто все те состояния, которые вторглись между двумя проявлениями, ничего в себе не содержали, и, когда они миновали, мозг остался точно таким же, как был. И (рассматривая более короткие отрезки) так же, как органы чувств по-разному воспринимают ощущение в зависимости от того, что ему предшествовало, как один цвет, чередующийся с другим, меняется под влиянием контраста, тишина звучит восхитительно после шума, а когда поют гамму, нота звучит непохожей на себя, или присутствие определенных линий в рисунке меняет очевидный вид других линий, и, как в музыке, все эстетическое воздействие зависит от того, каким образом один набор звуков меняет наше ощущение от другого, так же и в мышлении мы должны согласиться, что в тех участках мозга, которые только что были максимально возбуждены, сохраняется некое раздражение, обуславливливающее наше нынешнее сознание и определяющее, как и что мы сейчас будем ощущать.12
В любое время в одних нервных пучках напряжение убывает, в других – возрастает, тогда как третьи активно разряжаются. Состояния напряжения оказывают такое же прямое влияние на общее состояние, как и любые другие, и определяют, каким будет психоз. Всё, что мы знаем о субмаксимальных раздражениях нервов и о суммации неэффективных на первый взгляд стимулов, доказывает, что все изменения в мозгу оказывают физиологическое воздействие, и, вероятно, ни одно из них не лишено психологического эффекта. Но поскольку напряжение в мозгу подобно вращению калейдоскопа (то быстрому, то медленному) сменяется от одного относительно устойчивого состояния равновесия к другому, не может ли так быть, что сопутствующее ему психическое явление окажется более вялым, чем само напряжение, и не может соответствовать каждому возбуждению мозга, меняя собственное внутреннее возбуждение? Но если оно способно на это, его внутреннее возбуждение должно быть бесконечным, ибо перераспределения в мозгу бесконечно разнообразны. Если столь грубую вещь, как чашка телефонного звонка, можно заставить вибрировать годами, не повторяя дважды ее внутреннее состояние, не относится ли это в еще большей степени к столь тонкой материи, как мозг?
Сама структура речи заставляет нас пользоваться мифологическими формулами, поскольку она, как было недавно замечено, создана не психологами, а людьми, как правило, интересовавшимися событиями, которые приоткрывали состояния их психики. Они говорили о своих состояниях как об идеях о той или иной вещи. Значит, неудивительно, что мысль легче всего ощутить по закону той вещи, чье имя она носит! Если вещь состоит из частей, то мы предполагаем, что мысль об этой вещи должна состоять из мыслей о частях. Если одна часть этой вещи появлялась в этой или в других вещах в предыдущих случаях, почему сейчас перед нами именно та самая «идея» той части, которая фигурировала в тех прежних случаях? Если вещь простая, то и мысль о вещи должна быть тоже простой. Если вещь множественная, чтобы помыслить о ней, потребуется множество мыслей. Если это череда вещей, ее можно познать лишь с помощью ряда мыслей. Если вещь постоянна, то и мысль о ней должна быть постоянной. И так далее ad libitum13. Не естественно ли предположить, что один предмет, называемый одним именем, познается одним чувством в психике? Но если язык влияет на нас таким образом, агглютинативные14 языки, включая греческий и латынь с их склонениями, были бы лучшими путеводителями. Слова в них не являлись неизменными, но меняли свой облик, чтобы соответствовать окружающему их контексту. Тогда, наверное, было бы легче, чем теперь, представить себе тот же предмет в разное время в разных состояниях сознания.
Этот вопрос также прояснится по мере нашего продвижения вперед. Необходимым следствием этой веры в постоянные самотождественные факты психики, периодически сами по себе отсутствующие и вновь возникающие, стало учение Юма о том, что наша мысль складывается из различных независимых частей, не будучи непрерывным потоком. Далее я постараюсь показать, что это учение представляет природу явления в абсолютно ложном свете.
В каждом индивидуальном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен
«Непрерывное» («континуальное») можно определить как то, в чем нет обрыва, трещины или деления. Я уже говорил, что величайший в мире разрыв –это разрыв между одним мышлением и другим. Единственные разрывы, которые можно представить возникающими в рамках отдельно взятого мышления, будут либо паузы, временные промежутки, когда сознание совсем исчезает, чтобы позднее вновь вернуться к существованию, либо перерывы в качественном отношении или в содержании мысли, столь резкие, что следующий фрагмент совершенно не связан с предыдущим. Утверждение, что в каждом индивидуальном сознании мышление ощущается как непрерывное, означает две вещи:
1. Даже если произошел провал во времени, в сознании сохраняется ощущение единства с прежним сознанием, представляющим собой другую часть того же «я»;
2. Изменения от одного момента к другому в качестве сознания не бывают абсолютно внезапными.
Сначала рассмотрим наиболее простой случай временных провалов. Прежде всего, скажем о временных провалах, в которых сознание может не отдавать себе отчета. Мы видели, что такие временные провалы бывают и, возможно, их больше, чем принято считать. Если сознание не отдает себе в них отчета, оно не может ощущать их как перерыв. В бессознательном состоянии, вызванном азотистой кислотой и другими обезболивающими средствами, во время эпилептического припадка или обморока оборванные края самосознающей жизни могут сойтись и соединиться над этим провалом, подобно тому, как пространственные ощущения на противоположных границах «слепого пятна» сходятся и сливаются поверх этого объективного перерыва в зрительном восприятии. Подобное сознание, каким бы оно ни было для наблюдающего психолога, само по себе неразрывно. Оно ощущает свою неразрывность; его дневная явь ощутимо представляется целым, покуда этот день длится, в том смысле, в каком сами дневные часы являются целым, так как все их части следуют друг за другом без вторжения чужеродных сущностей. Ждать от сознания, чтобы оно ощущало паузы в своей объективной непрерывности как разрывы, все равно, что ждать от глаза, что он почувствует миг тишины, потому что он не слышит, или от уха – ощутить интервал темноты, потому что оно не видит. Но довольно говорить о неощутимых провалах.
С ощутимыми провалами все обстоит иначе. Пробудившись от сна, обычно мы знаем, что были без сознания, и часто можем точно оценить, как долго. Оценка, конечно, происходит по ощущаемым признакам, и при долгой практике произвести ее легко. В результате оказывается, что сознание существует само по себе, совсем не так, как в прежнем варианте, прерывавшееся и длящееся в чисто временнoм значении этих слов. Но в другом значении длительности, подразумевающем, что части внутренне связаны и принадлежат друг другу, поскольку это части общего целого, сознание остается ощутимо непрерывным и единым. Что же, на самом деле, есть это общее целое? Обычно оно зовется «я» или мною.
Когда Пол и Питер просыпаются в одной постели и осознают, что они спали, каждый из них мысленно обращается назад и устанавливает связь лишь с одним из двух потоков мысли, прерванных часами сна. Так же, как ток от зарытого в земле электрода безошибочно находит путь к сопряженному с ним парному и тоже зарытому электроду, какая бы толща земли между ними ни пролегала; так и настоящее Питера мгновенно находит прошлое Питера и не соединится по ошибке с прошлым Пола. Мысли Пола, в свою очередь, столь же несвойственно отклоняться в сторону. Прошлую мысль Питера присваивает лишь настоящее Питера. Он может обладать знанием (притом правильным) того, каким было состояние Пола, перед тем, как тот погрузился в сон, но это знание совсем не похоже на его знание о собственном состоянии перед сном. Он помнит собственное состояние и лишь представляет себе состояние Пола. Воспоминание подобно непосредственному чувству; его объект проникнут душевностью и интимностью, которых никогда не обретает объект чистого представления. Это качество душевности, интимности и непосредственности присуще и нынешней мысли Питера. Столь же наверняка, как это настоящее есть я, и оно мое, – говорит она, – любое другое, обладающее той же душевностью, интимностью и непосредственностью, является мною и моим. Что это за качества – душевность и интимность – рассмотрим позднее. Но какие бы прошлые чувства ни появлялись с этими качествами, нужно признать, что нынешнее состояние ума, приветствует их, признает их своими и принимает как принадлежащие общему «я». Временной провал не может разбить надвое это единство «я», и нынешняя мысль, хотя и знает об этом провале, все же может считать себя неразрывно связанной с избранными кусками прошлого.
То есть сознание не предстает в виде отдельных отрезков. Описывая его, нельзя прибегать к таким словам, как «цепочка» или «вереница», каким оно предстает в первый момент. В нем нет никаких сочленений, есть лишь непрерывное течение. «Река» или «поток» – вот метафоры, которые лучше всего его описывают. С этой минуты, давайте будем называть его потоком мысли, сознания или субъективно-личной жизни.
Но оказывается, что даже в пределах одной личности и среди мыслей, одинаково связанных друг с другом, появляется нечто вроде соединения и разъединения, что противоречит данному утверждению. Я имею в виду разрывы, которые происходят из-за внезапных контрастов в качестве последовательных отрезков в потоке мыслей. Если слова «цепочка» и «вереница» неправильно описывают данное явление, почему их вообще используют? Разве громкий взрыв не разрывает пополам сознание, на которое он внезапно обрушивается? Разве любой неожиданный шок, появление нового объекта или перемена в ощущении не создают настоящего и явно ощутимого перерыва, пересекающего поток сознания в тот миг, когда они происходят? Разве подобные перебои не поражают нас ежечасно, и вправе ли мы в таком случае называть наше сознание непрерывным потоком?
Подобное возражение отчасти основано на путанице и отчасти – на поверхностно-интроспективном взгляде.
Путаница происходит между самими мыслями, взятыми как субъективные факты, и вещами, которые в этих мыслях осознаются. Эта путаница возникает естественным образом, но, соблюдая осторожность, ее можно легко избежать. Вещи дискретны; они действительно проходят перед нами вереницей или цепочкой и часто предстают нам, взрываясь и раскалывая друг друга надвое. Но их появления и исчезновения, а также контрасты между ними разрывают течение мысли о них не более, чем время и пространство, в которых они находятся. Удар грома может прервать тишину, и мы можем на миг так оторопеть и смутиться от потрясения, что не сразу поймем, что произошло. Но само замешательство – состояние сознания, которое переносит нас из тишины к шуму. Переход от мысли об одном объекте к мысли о другом не больший разрыв в мышлении, чем узел на стебле бамбука – разрыв древесины. Он представляет собой часть сознания в той же степени, в какой узел – часть бамбука.
На эти постепенные изменения в содержании нашего мышления могут пролить свет принципы нервной деятельности. Изучая совокупность нервной деятельности, мы видели, что никакое состояние мозга, скорее всего, не затухает мгновенно. Если наступает новое состояние, инерция прежнего состояния будет присутствовать и соответственно менять результат. В своем неведеньи мы, конечно, не можем сказать, какими должны быть эти изменения в каждый данный момент. Наиболее распространенные изменения ощущения-восприятия известны как явления контраста. В эстетике это ощущения наслаждения или недовольства, вызываемые определенной последовательностью в цепочке впечатлений. В мышлении – в узком и строгом смысле слова, это бесспорно понимание откуда и куда, которое всегда сопровождает его течение. Если недавно был сильно возбужден участок мозга а, потом b, а потом c, текущее сознание в целом характеризуется не просто возбуждением участка c, но также и замирающими колебаниями а и b. Если мы хотим представить этот процесс, мы должны записать его так: c b а
– три различных процесса сосуществуют, и мысль, связанная с ними, не является ни одной из трех мыслей, которую они бы произвели, если бы каждый из этих процессов протекал по отдельности. Но какой бы именно ни оказалась эта четвертая мысль, она непременно должна быть хоть в чем-то похожей на каждую из трех других мыслей, чьи нервные пучки участвуют в ее порождении, хотя бы в фазе быстрого затухания. ‹…›
Мышление всегда интересуется одной частью своего предмета больше, чем другой, оно одобряет, отвергает, или делает выбор, пока мыслит.
Явления избирательного внимания и сознательной воли – явные примеры этой деятельности выбора. Но далеко не все знают, насколько неустанно она участвует в действиях, которые обычно не называют этим именем. Акцентуация15 и эмфаза16 присутствуют во всяком восприятии. Невозможно беспристрастно отдавать свое внимание разным впечатлениям. Из монотонной последовательности звуковых тактов возникают ритмы: то один, то другой, в зависимости от ударений, которые мы ставим на различных тактах. Простейшим из таких ритмов является двойной: тик-тaк, тик-тaк, тик-тaк. Точки, рассеянные по поверхности, воспринимаются рядами и группами. Линии расходятся, образуя различные фигуры. Постоянные различия между тем и этим, здесь и там, сейчас и тогда в нашем сознании есть результат того, что мы делаем то же избирательное ударение на отдельно взятых частях места и времени.
Но мы не просто выделяем ударением вещи, соединяя одни и разделяя другие. Мы, фактически, отбрасываем большую часть того, что перед нами. Позвольте мне кратко продемонстрировать, как это происходит.
Для начала: что такое наши чувства, как не органы отбора? Из бесконечного хаоса элементарных движений, из которых, как учит нас физика, состоит внешний мир, орган каждого чувства отбирает движения, происходящие в определенном диапазоне скоростей. Он реагирует на них, совершенно не замечая остальные, словно их не существует в природе. Тем самым он выделяет определенные движения, для которых объективно не имеется веских оснований; ибо, по словам Ланжа (Lange), нет причин считать, что промежуток в Природе между самыми длинными звуковыми волнами и самыми короткими тепловыми волнами является таким же резким разрывом, как разрыв, данный нам в ощущениях; или что разница между фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами имеет хоть какое-то объективное значение, которое субъективно выражает разница между светом и тьмой. Из еле различимого, кишащего континуума, лишенного отличий и выразительности, наши чувства, обращая внимание на одно движение и игнорируя другое, создают для нас мир, полный контрастов, ярких акцентов, резких перемен, живописного света и тени.
Если ощущения, получаемые нами от данного органа, обусловлены отбором, осуществляемым устройством окончаний данного органа, то Внимание, с другой стороны, из всех полученных ощущений выбирает некоторые, достойные быть отмеченными, и подавляет все остальные. Без специальной тренировки мы даже не знаем, в каком глазу у нас возникает изображение. Люди столь невежественны в этих вопросах, что можно быть слепым на один глаз и так и не узнать об этом.
Гельмгольц говорит, что мы замечаем лишь те ощущения, которые символизируют для нас вещи. Но что такое вещи? – Мы еще не раз убедимся, что они – ничто иное, как особые группы ощущаемых свойств, которые вызывают у нас практический или эстетический интерес, поэтому мы называем их именами существительными и возвеличиваем их, наделяя исключительной независимостью и достоинством. Но само по себе, вне моего интереса к нему, какое-нибудь облако пыли в ветреный день – такое же особое явление и заслуживает или не заслуживает особого имени, как и мое тело.
Что же происходит потом с ощущениями, полученными нами от каждой отдельно взятой вещи? Разум снова производит отбор. Он выбирает определенные ощущения, представляющие вещь наиболее верно, считая остальные ощущения мнимыми, меняющимися под воздействием сиюминутных обстоятельств. Таким образом, столешница моего стола именуется прямоугольной, но только относительно одного из бесконечных ощущений, которые испытывает сетчатка, остальные суть ощущения двух острых и двух тупых углов; эти последние я называю видом в перспективе, а четыре прямых угла – настоящей формой стола, и возвожу признак прямоугольности в сущностное свойство стола в соответствии со своими эстетическими представлениями. Примерно также действительной формой круга считается то ощущение, которое возникает, когда направление взгляда является перпендикуляром, опущенным в ее центр; все другие ощущения суть знаки этого ощущения. Подлинный пушечный залп – это ощущение, производимое пушкой, когда ухо находится рядом. Подлинный цвет кирпича – это ощущение, производимое им, когда глаз смотрит прямо на него вблизи, не при солнечном свете, но и не в полумраке. При других обстоятельствах он даст нам другие ощущения цвета, которые будут лишь знаками этого; тогда он покажется нам более розовым или черным, чем в действительности. Читатель не знает ни одного предмета, который он не представляет себе по преимуществу, например, в характерной позе, обычного размера, на обычном расстоянии, стандартной расцветки и т.д. Но все эти сущностные характеристики, создающие подлинную объективность вещи и противоположные так называемым субъективным ощущениям, которым она может поддаться в определенный момент, не более чем ощущения, как и эти последние. Психика выбирает по своему усмотрению и решает, какие именно ощущения считать более подлинными и вескими, чем все остальные.
Таким образом восприятие включает двойной отбор. Из всех существующих ощущений мы, прежде всего, замечаем те, что обозначают отсутствующие; а из всех отсутствующих ощущений, предполагаемых по ассоциации, вновь избираем те немногие, что символизируют объективную реальность par excellence17. Трудно найти лучший пример усердного отбора.
Эта усердная способность имеет дело с вещами, которые даны в восприятии. Эмпирическое мышление человека зависит от вещей, в отношении которых у него есть чувственный опыт, но то каким будет этот опыт в большой мере определяется навыками внимания. Он может сотни раз сталкиваться с каким-нибудь предметом, но если он его упорно не замечает, нельзя сказать, что этот предмет стал частью его опыта. Все мы видим тучи мух, мотыльков и жуков, но кому, кроме энтомолога, они говорят что-то определенное? С другой стороны, предмет, встретившийся раз в жизни, может оставить неизгладимый след в памяти. Скажем, четверо отправляются в путешествие по Европе. Один привезет домой яркие впечатления о костюмах, красках, парках, видах, памятниках архитектуры, картинах и скульптурах. Другой не обратит на них внимание, их место займут расстояния и цены, народонаселение и канализация, дверные и оконные замки и другие полезные статистические сведения. Третий представит богатый отчет о театрах, ресторанах и общественных балах, а четвертый, охваченный субъективными переживаниями, назовет лишь несколько мест, которые он проезжал, не более. Из этого обилия объектов каждый отобрал те, что соответствовали его личным интересам и тем самым составили его опыт. ‹…›
Если теперь мы перейдем к эстетике, наш принцип будет еще более очевиден. Как известно, художник отбирает детали, отвергая все тона, краски, формы, не гармонирующие друг с другом и с его замыслом. Это единство, гармония, «сближение характеров», делающие произведения искусства выше произведений природы, достигается благодаря удалению (элиминации). Подойдет любой природный объект, если художник сумеет воспользоваться одним из его характерных свойств и устранить все случайные детали, не сочетающиеся с ним.
Оглядывая этот обзор, мы видим, что мышление на каждой его ступени представляет собой что-то вроде театра одновременных возможностей. Сознание сопоставляет их друг с другом, отбирает одни и устраняет все остальные с помощью усиливающего и подавляющего фактора внимания. Высочайшие и искуснейшие произведения ума отфильтровываются из данных, отобранных более примитивной способностью из массы, предложенной способностью ниже этой, а эта масса, в свою очередь, была отсеяна из еще большего по объему и более простого материала, и так далее. Короче говоря, ум обрабатывает полученные данные, подобно тому, как скульптор обрабатывает глыбу камня. В каком-то смысле статуя была извечно сокрыта в нем. Но рядом с ней находилось и тысячи других скульптур, и мы должны благодарить скульптора за то, что он извлек эту единственную из тьмы остальных. Точно так же мир каждого из нас, как бы ни отличались наши представления о мире, таится в первозданном хаосе ощущений, который дал материал для размышлений всем нам. Мы можем с помощью рассуждений раскрутить все вещи назад к сплошному и черному неразрывному пространству и движению вихрей атомов, которые наука называет единственным реальным миром. Но тот мир, который мы чувствуем и населяем, будет таким, каким наши предки и мы, постепенно накапливая опыт отбора, извлекли на свет божий, как скульпторы, отсекающие ненужные куски от данной породы. Другие скульпторы – другие статуи из того же самого камня! Иные умы – иные миры из того же однообразного и невыразительного хаоса! Мой мир – лишь один из миллиона столь же встроенных, столь же реальных для тех, кто может их извлечь (абстрагировать). Сколь же различными должны быть миры в сознании муравья, каракатицы или краба!
Но в моем и в вашем уме отброшенные и отобранные части первозданного мира в значительной степени одни и те же. Человеческий вид в целом сходится в том, что замечает и чему дает имена, и что не замечает. Среди отмеченных частей мы почти одинаково производим отбор в пользу акцентуации и предпочтения или подчинения и неприязни. И лишь в одном, исключительном случае два человека всегда выбирают разное. Великий раскол мироздания на две половины производит каждый из нас, и каждого из нас интересует одна половина, но разделительную черту между ними все проводят в разных местах. Поясню: все мы называем эти две половины одинаково – «я» и «не-я» соответственно. Наш неповторимый интерес к тем областям творения, которые мы можем назвать я или мое, – возможно, этическая загадка, но это основополагающий психологический факт. Ни один ум не испытывает к «я» своего ближнего тот же интерес, что к своему собственному. «Я» ближнего содержится в общей чужеродной массе остальных объектов, на фоне которой его собственное «я» выступает с поразительной выпуклостью. Даже раздавленный червяк, как пишет Лотце (Lotze), противопоставляет свою страдающую сущность всей остальной вселенной, хотя у него нет ясного представления ни о самом себе, ни о вселенной. Для меня он – лишь частица мира, а я для него – частица. Каждый из нас делит Космос на две части в разных точках.
Врата восприятия
Олдос Хаксли (Aldous Huxley)
Истинна древняя вера в то, что мир в конце шести тысяч лет погибнет в огне, – так мне сказали в Аду.
Ибо когда Херувим с пламенеющим мечом оставит стражу у древа жизни, все творение испепелится и станет святым и вечным, как ныне греховно и тленно.
Путь же к этому – через очищение радостей плоти. ‹…›
Если б врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность.
Но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер.
Откуда вам узнать, а если в каждой птице, которая торит воздушный путь,
Безмерный мир восторга, закрытый пятерицей ваших чувств?
Уильяма Блейк «Бракосочетание Рая и Ада»
Размышляя над своим опытом, я не могу не согласиться с видным доктором философии из Кембриджа К. Д. Бродом (C. D. Broad), который утверждал следующее: «Было бы неплохо отнестись серьезнее к теории Бергсона о памяти и чувственном восприятии». Он предположил, что функция мозга, нервной системы и органов чувств, в основном, исключающая, а не производящая. Каждый человек в каждый момент способен вспомнить все, что когда-либо случалось с ним, и воспринять все, что случается во вселенной. Функция мозга и нервной системы состоит в том, чтобы защитить нас от переизбытка этого, в общем, бесполезного и несоответствующего знания: не впуская многое, мы отбрасываем большую часть того, что могли бы в любую минуту воспринять или вспомнить, и оставляем лишь немногое, специально отобранное, что может нам пригодиться». Согласно этой теории, потенциально каждый из нас – Большой Разум. Но поскольку мы животные, наша задача – любой ценой выжить. Чтобы сделать биологическое выживание возможным, Большой Разум должен просачиваться сквозь разгрузочный клапан мозга и нервной системы. Просачивается лишь ничтожная струйка сознания, которая помогает нам выжить на этой планете. Чтобы сформулировать и выразить содержание этого урезанного знания, человек изобрел и бесконечно оттачивал знаковые и философские системы, которые мы называем языками. Каждый человек многое получает от той лингвистической традиции, в которой он родился, и в то же время является ее жертвой: выгадывает он от того, что язык открывает доступ к накопленному другими людьми опыту; страдает потому, что эта традиция утверждает его во мнении, что урезанное понимание – единственно возможное понимание, и поскольку оно искажает его чувство реальности, он склонен принимать свои представления за факты, а слова – за настоящие вещи. То, что в религии называется «сим миром», есть узко понимаемая вселенная, выражаемая языком и, так сказать, застывшая в нем. Многочисленные «иные миры», с которыми люди соприкасаются на миг, – суть определенное число элементов в совокупности знания, присущего Большому Разуму. Большинство людей, в основном, знают только то, что проникает через разгрузочный клапан и освещается как истинная реальность на языке данной местности. Однако некоторые люди, по-видимому, обладают врожденной способностью обходить этот редуктор. Другие находят временные обходные пути либо спонтанно, либо в результате обдуманных «духовных упражнений», либо с помощью гипноза и наркотиков. По этим постоянным или временным обходным путям протекает не восприятие «всего происходящего во вселенной» (поскольку обходной путь не отменяет редуцирующего клапана, который по-прежнему задерживает все содержание Большого Разума), а нечто большее и, прежде всего, непохожее на тот тщательно отобранный в утилитарных целях материал, который наше ограниченное сознание рассматривает как полную или, по крайней мере, самодостаточную картину реальности.
В мозгу имеются ферменты, координирующие его деятельность. Некоторые из этих ферментов снабжают клетки мозга глюкозой. Мескалин подавляет синтезирование этих энзимов и тем самым понижает количество глюкозы, доступной постоянно нуждающемуся в сахаре органу. Что происходит, когда мескалин снижает обычную норму сахара в мозгу? Было изучено слишком мало случаев, поэтому мы не можем дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но можно подытожить то, что происходило с большинством из тех немногих, кто принимал мескалин под наблюдением.
Способность помнить и «думать последовательно» если снижается, то незначительно. (Прослушав запись своего разговора, сделанного когда я был под воздействием наркотиков, я не заметил, что был глупее, чем обычно).
Зрительные впечатления делаются более яркими, и зрение обретает детскую невинность восприятия, когда чувственный материал не немедленно и автоматически подчиняется общим представлениям. Интерес к пространству ослабевает, а интерес ко времени падает до нуля.
Хотя интеллект остается незатронутым и восприятие значительно улучшается, воля сильно слабеет. Принимающий мескалин не считает нужным что-то делать, и большинство дел, за которые раньше готов был взяться и даже страдать, находит глубоко неинтересными. Ему нельзя этим докучать – у него есть устремления и получше.
То, что он считает лучшим, может быть пережито на опыте (как было у меня) «там» или «здесь, у себя», или в обоих мирах, внутреннем и внешнем, одновременно или последовательно. То, что их помыслы лучше, кажется самоочевидным всем, кто принимал мескалин, имея здоровую печень и незамутненный ум.
Это воздействие мескалина относится к воздействиям того типа, которые можно ожидать вследствие приема препарата, снижающего эффективность мозгового редуктора. Когда мозгу начинает не хватать сахара, «недоедающее» Я (эго) ослабевает и не желает утруждать себя простейшими повседневными делами, теряет всякий интерес к тем пространственным и временным связям, которые так много значат для организма, стремящегося преуспеть в мире. По мере того, как Большой Разум просачивается сквозь уже не герметичный клапан, начинают происходить бесполезные, с биологической точки зрения, вещи. У одних пробуждается сверхчувственное восприятие. У других – прекрасный мир воображения. Третьим открывается величие, бесконечная ценность и значительность обнаженного бытия, чистой данности вне всякой концепции. На последней стадии устранения «я» обретается «неопределенное знание» того, что Всё – это всё; что Всё, в действительности, – каждый. На мой взгляд, дальше этой черты в «восприятии всего, что происходит повсюду во вселенной», конечный человеческий ум пойти не может.
III
Работа сознательного ума
Слепцы и слон
По ту сторону гор стоял город. Все его жители были слепы. Однажды к городу подошел король со свитой; он привел войско и разбил лагерь в окрестной пустыне. У короля был могучий слон, и он пускал слона в дело, когда нужно было ударить по врагу или вызвать у людей благоговейный страх.
Жителям не терпелось узнать о слоне, и некоторые незрячие из этой страны слепых, как безумные, бросились на поиски. Не зная, как выглядит слон, они стали шарить вслепую и собирать сведения о нем, ощупывая его по частям. Нащупав какую-нибудь часть, каждый думал, что он что-то знает о целом.
Когда они вернулись в город, вокруг них столпились сограждане, желавшие узнать правду у тех, что заблуждались сами. Они расспрашивали об очертаниях и строении слона и внимательно слушали все, что им говорили.
Человек, чья рука дотянулась до слоновьего уха, сказал:
– Он большой и шершавый, широкий и просторный, как ковер.
Другой, ощупавший хобот, воскликнул:
– Я знаю настоящую правду о нем. Он похож на прямую и полую трубу, ужасную и сокрушительную.
Тот, кому достались подошвы и ноги, заметил:
– Он могучий и твердый, как столп.
Каждый нащупал лишь одну из многих частей. Каждый воспринял эту часть неправильно. Их ум не познал явление в целом: знание недоступно слепцу. Все вообразили что-то неверное. Ибо творение не знает Творца. В этой науке обычным рассудком ничего познать нельзя.
Мы не воспринимаем внешний мир в его полноте. Есть много способов, заложенных в устройстве «аппаратных средств» нашего организма, с помощью которых мы уменьшаем поступающую к нам информацию, подобно тому как скульптор отсекает все лишнее или радио настраивается на небольшой отрезок из диапазона волн внешней среды.
Но даже этот сильно урезанный поток информации – наши ощущения, мысли, переживания и представления – слишком велик для нас, поэтому у нас есть вторая и более гибкая часть психической системы. Ее функция состоит в том, чтобы управлять немногими оставшимися организованными образами, которые то всплывают в сознании, то вытесняются из него.
Наше сознание не является разумным инструментом, способным заглядывать в будущее и планировать наилучшее действие, поскольку мы животные недальновидные, преследующие непосредственную выгоду. От этого сильно страдает рациональная часть нашей личности. Иногда кажется, что политиков избирают или переизбирают, исходя из их деятельности в последние несколько месяцев, а не всего срока.
Тот же процесс происходит и в сознании. Мы не замечаем многое в нашем окружении, потому что не ожидаем, что произойдут некоторые события. Однажды мой приятель резко обозначил это, нечаянно переиначив избитую поговорку: «Я это увижу, когда в это поверю!» Если объект или явление не соответствует нашим предвзятым представлениям, мы либо воспринимаем его неправильно либо не придаем ему значения, то есть, образно говоря, принимаем ухо за ковер.
«Не придаем значения» – слишком простое определение: оно ассоциируется с тщательным рассмотрением, а затем, возможно, с обдумыванием и отказом. Мы не рассматриваем альтернатив, а скорее решительно забываем многое из того, что происходит с нами, и это забвение, как правило, нам выгодно. Кто из нас желал бы постоянно изучать стены в каждой комнате, чтобы понять, что обычно их бывает четыре? Кому охота постоянно проверять положение своей левой коленки и ощущение в груди и ягодицах? Кто хочет контролировать каждое движение при переходе через дорогу? Никто, – то есть, никто, кто стремится быть частью этого мира.
Наша обычная «забывчивость» по отношению к большей части окружающего мира нам выгодна. Поскольку мы пытаемся достичь кажущейся стабильности сознания, мы постоянно «делаем ставку в пари» относительно природы действительности. Мы допускаем, что наши комнаты «действительно» прямоугольные, что кусок угля «действительно» черный (хотя он может сиять у нас перед глазами), что один человек всегда «умен», а другой обычно «агрессивен».
Нам трудно менять наши предположения даже перед лицом неопровержимых новых данных. Наш ум постоянно ищет компромисс: ценой определенного консерватизма и отторжения новой информации мы приобретаем неизменный, стабильный мир, в котором мы знаем, как поступать в разных ситуациях, то есть знаем, как выжить.
Словно слепец, любая организованная общность людей придерживается определенных, твердо установленных предположений о реальности. Некоторые из них характерны для жизни на земле, скажем, известно, что случится с предметом, если он упадет со стола. Некоторые предположения распространяются на целую культуру; они оформляются в языке и совместно используются для облегчения общения. Время, его движение и измерение – еще одно допущение, иначе было бы невозможно организовать ни одну встречу.
«Четырехминутная планка для забега на 1 милю» – частный случай общего допущения внутри одной культуры. Вдобавок, у каждой профессиональной и технической общности – физиков, математиков, философов, агентов по недвижимости, биржевых маклеров – есть дополнительный набор скрытых и явных допущений, подразделяемых на категории, с помощью которых можно классифицировать мир: «мебель» – одна категория, «невозможные явления» – другая.
В науке принятые многими учеными допущения и сами категории, скрытые и явные, Томас Кун назвал «парадигмами». Парадигма – это общепризнанное представление о том, что возможно в реальности, это границы допустимого исследования и предельные случаи. Она задает рамки, когда ученый должен понять, правильны ли его идеи и можно ли считать явление «фактом».
Научная парадигма работает таким же образом, как индивидуальная, культурная или принятая какой-то организацией система допущений о реальности. Личные категории по своей природе консервативны – это консерватизм успеха. Имея простой набор устойчивых категорий и простые врожденные реакции на мир, нам не нужно все переоценивать или измерять заново, чтобы понять, соответствует ли оно реальности: наши друзья сохраняют те же устойчивые черты характера, с которыми мы сталкивались, когда виделись последний раз; комнаты продолжают существовать, после того как мы их покидаем; мир становится легко управляемым и послушным.
В науке парадигма обеспечивает устойчивость системы знаний, опять же ценой невосприимчивости к новой информации. Наука не есть что-то особенное; в конце концов, ею занимаются люди, обладающие тем же психическим устройством, что и все мы.
Если несколько отдельных исследователей принимают одну парадигму, это позволяет им совместно изучать одну четко-очерченную область науки, согласовывать (а чаще оспаривать) усилия и сравнивать достижения. Общая парадигма позволяет им обсуждать данную область на специальном языке и со стандартными допущениями, подобно тому, как жители провинциального городка обмениваются местными словечками и прибаутками.
Продуктивная парадигма или удачный набор допущений о мире позволяет любой группе, в данном случае научному сообществу, придти к согласию о задачах и приоритетах; они могут выбирать задачи, поддающиеся решению. Она помогает независимым исследователям, многие из которых никогда не встречались, начертить «местную дорожную карту», проверять и обсуждать ее. Но здесь кроется все та же опасность – провинциализм, узость взглядов. Подобно тому, как местное население может возгордиться своим городком, почитая его «единственным» на всем белом свете, также и ученые, пользующиеся успешной парадигмой, могут упустить из виду другие возможности, выходящие за пределы их допущений.
Ученые приучены к тому, чтобы игнорировать больше информации, чем все остальные, – это результат специализации, которой требует их подготовка. Наука как система накопления информации предполагает набор сознательных ограничений процесса исследования.
Хотя представление о науке как об управляемом «не обращении внимания» может показаться легкомысленным, это не так. Суть хорошего эксперимента – исключение: пусть один фактор (называемый на научном жаргоне переменной) будет меняться или подвергаться манипуляциям, в то время как будет измеряться некоторое, обычно очень малое число других факторов. Если, к примеру, нам нужно изучить реакцию клеток головного мозга на свет, нас сочли бы ненормальными, если бы мы вели при этом контроль за кровоснабжением стопы, следили за строительством в Куала Лумпуре, наблюдали за изменениями орбиты одного из спутников Юпитера. Понятно, что ученые должны почти автоматически исключать бесчисленное множество других возможностей, – настолько хорошо отработано их пренебрежение к посторонним несущественным деталям.
Ведя научное исследование, мы часто не сознаем всех возможностей наших средств, будь то материальные орудия или теоретические учения, как бихевиоризм или когнитивная психология. Оценивая избирательное воздействие узкого бихевиоризма на психологию, психолог Абрахам Маслоу писал: «Если ваш единственный инструмент – молоток, вы будете подходить к любому предмету так, словно это гвоздь».
Я сравниваю ученых и специфические научные способы познания со слепцами, потому что все действия ума последовательны и взаимосвязаны. Научная работа – это продукт перегонки (иногда сырой, иногда чистой) психических процессов и психических структур, которыми мы наделены. Ученому приходится больше ограничивать свое восприятие, чем обычному человеку, и отбирать небольшую часть знания для тщательного изучения.
Но как «отбирается» любая информация, поступающая в сознание? По всей видимости, в нашем мозгу развита чрезвычайно сложная сеть «путей» и «ворот», которые легко пропускают одни вещи и задерживают другие, поэтому мы храним в памяти очень упрощенный вариант событий.
Хорошим примером может оказаться ответ на простой вопрос: Какой сегодня день? Если бы наше сознание отражало мир, между ним и миром не было бы никакой разницы. Но это не так. Нам требуется больше времени, чтобы ответить на этот вопрос в рабочие дни, чем в выходные, и дольше всего приходится вспоминать в среду! Наверное, причина в том, что мы судим о днях недели по их близости к выходным.
Большую часть времени мы не можем вспомнить даже те вещи, которые видим каждый день. Можете ли вы быстро сказать, какие буквы написаны на цифре «7» на телефонном диске? Или попробуйте перечислить месяцы по порядку и засеките время, а потом сосчитайте ошибки. Если вы такой же, как все люди, вы прекрасно справитесь с этой задачей! Потом постарайтесь назвать все месяцы в обратном порядке и засеките время. Наверное, это отнимет больше времени, и вы сделаете совсем немного ошибок, а может быть, ни одной. Теперь назовите месяцы в алфавитном порядке. Оказывается, это на удивление трудно, особенно, если учесть, что вы знаете названия месяцев и только что их дважды повторили, и, конечно же, знаете алфавит по порядку! Это трудно, потому что наш ум устроен так, чтобы хорошо производить лишь немногие операции.
Наша память являет собой предел избирательности, и когда мы отбираем что-то из памяти, она нередко предлагает нам другой набор событий, происходивших в то же самое время: песня возвращает целую эпоху, воспоминание о первом свидании почти «автоматически» напоминает марку автомашины, на которой вы ехали, одежду, уже давно немодную.
Наша память – великая загадка. Как может песня вдруг вызвать воспоминания о фруктовом саде, об автомобиле, об утраченной поре? Как можно забыть целый период своей жизни, бывшую жену или мужа, или вдруг заговорить на языке, на котором не говорил долгие годы?
Те же правила упрощения действуют и при воспоминании. Наша память устроена как хранилище; мы быстро находим те предметы, которые часто и даже чрезмерно много используем. Понятно, почему работает такая система: вещи, которыми мы часто пользуемся, обладают преимуществом: они влияют на наш чувственный опыт и организуют его.
Нетрудно понять, почему такая система действенна: как и другие психические шаблоны она позволяет нам хранить в уме разнообразную информацию, полученную в разное время, и каждый тип информации ассоциируется с различными непредвиденными обстоятельствами. Недавно я приехал в небольшой лондонский отель, где когда-то останавливался, и с удивлением обнаружил, что откуда-то знаю, куда свернуть на незнакомой улице, чтобы найти телефонную будку. Я годами не отдавал себе отчета в том, что помню эти места.
О природе сознания
Сознание – своего рода «первая полоса» нашей психики. Следуя этой аналогии, разум подобен газете: главные события дня напечатаны на первой полосе. Главные события – это сегодняшние кризисы, такие как сбой в движении транспорта или какое-нибудь сражение, или новая и непредвиденная ситуация, требующая действий, вроде наводнения или другого стихийного бедствия.
Бессчетное число заурядных событий не становятся заголовками сенсаций. Мы никогда не прочтем о «75 миллионах вкусных обедов, устроенных прошлым вечером» или о чем-то подобном в заголовке. Наоборот, те, кто отбирают материал для первой полосы, спрашивают себя: «Это нечто неожиданное? Нечто важное? Нечто новое?»
Подобный процесс происходит и в нашей психике. Каждую минуту на нее воздействует множество раздражителей. Некоторые отфильтровываются чувствами, некоторые организуются в систему и упрощаются в процессе восприятия, но все же в каждый данный момент мы должны отбирать самые главные. Поэтому то, что присутствует в сознании в каждый момент, – это вопросы первостепенной важности, требующие наших действий. Ими могут быть чрезвычайные обстоятельства, такие как угроза жизни. К ним относятся сиюминутные беспокойства, скажем: «Обрати внимание на машину в левом ряду, она петляет по трассе», и постоянные проблемы, вроде решения интеллектуальной задачи, или просто новые события: в комнату вошел человек.
Поскольку наша ситуация и нужды, требующие действий, меняются, наше сознание тоже непрерывно меняется в течении дня от сна и сновидений до «пограничного» состояния после пробуждения, от усталости до возбуждения, от грез наяву до направленного мышления. Эти «ежедневные» перемены в сознании намного более выражены, чем мы обычно осознаем.
Кроме того, можно умышленно изменять состояние сознания. Это искусство развито почти во всех культурах. Например, медитация приглушает нормальную активность сознания и позволяет возникнуть более восприимчивому, обращенному внутрь себя состоянию. Когда мы находимся под гипнозом, другой человек может контролировать наше сознание. Человек, находящийся под гипнозом, может выдержать непереносимый в нормальном состоянии уровень боли и вспомнить «выпавшие» из сознания события. Такие наркотические средства, как ЛСД и кокаин, воздействуют на сознание, изменяя нейромедиаторы18 мозга.
Уильям Джеймс дает классическое описание возможных видов сознания:
«Наше нормальное или, как мы его называем, разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные формы, существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой. Мы можем совершить наш жизненный путь, даже не подозревая об их существовании; но как только будет применен необходимый для их пробуждения стимул, они сразу оживут для нас, представляя готовые и определенные формы духовной жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область применения. Наше представление о мире не может быть законченным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания. Из них, правда, нельзя вывести точной формулы и они не могут дать нам плана той новой области, какую они перед нами раскрывают, но несомненно, что они должны помешать слишком поспешным заключениям о пределах реального»19.
Автоматизация в психике
Почему же лишь новая и важная информация попадает в сознание? Причина в том, что хорошо усвоенные действия и модели обстоятельств становятся автоматическими. Автоматизм возникает в психике, когда серия движений или действий повторяется, как при письме или ходьбе. Повторные действия в каком-то смысле становятся затверженными и превращаются в устойчивые навыки. Привычные действия совершаются «бездумно», без особого участия сознания, предоставляя нам свободу обращать внимание на новые обстоятельства.
Понаблюдайте, как ребенок учится ходить. Обратите внимание, как он изо всех сил сосредотачивается на специфических движениях, но, в конце концов, сложная координация движений становится автоматической. Вы помните, как вы учились водить машину? Сначала все действия, необходимые для того, чтобы управлять автомобилем, были мучительно несогласованными. Все внимание было сосредоточено на машине. «Значит, так. Давим вниз левой ногой. Переводим рычаг передач на первую скорость. Снимаем левую ногу со сцепления. Жмем на газ». Когда учишься управлять машиной, очень трудно думать о чем-то еще, например, куда едешь!
Однако, когда все движения становятся автоматическими, вы можете беседовать за рулем, петь или любоваться окрестными видами, необязательно сознавая, что ведете машину. Переключение передач и вождение становятся автоматическими.
Другие системы, помимо тех, что связаны с действиями, также автоматизируются. Автоматизм схем восприятия упрощает мир. Психические операции, подобно физическим навыкам, становятся машинальными: когда кто-нибудь произносит «Джордж Вашингтон», в нашем сознании «автоматически» всплывает срубленная вишня20.
Функции сознания
У различных животных сознание исполняет разные функции. Скажем, лягушка видит лишь несколько параметров природной среды и, в основном, «автоматически» реагирует на них. Кошка реагирует на большее число признаков окружающего мира, но амплитуда гибкости у нее значительно меньше, чем у человека.
Диапазон вариантов выбора и возможностей более всего отличает сознание людей. Мы выживаем в различной окружающей среде, начиная от саванн и безводных пустынь Африки до ледяных торосов Аляски; ни одно животное не способно на это.
Человеческое сознание имеет четыре основных функции.
1. Упрощение и отбор информации. В нашем уме происходит процесс «редактирования» – от первого отбора на уровне органов чувств, до отбора на уровнях восприятия, памяти и мышления, но все равно к нам поступает чересчур много информации, так что организм должен выбирать, что ему делать в каждый данный момент. Этот выбор осуществляется в сознании.
2. Направление действий и контроль за ними. Сознание соединяет состояния мозга и тела с тем, что происходит во внешнем мире. Для того, чтобы быть функциональными в сложной окружающей среде, действия должны быть спланированными, направляемыми и организованными: нам нужно знать, когда и куда идти; когда говорить и что сказать; когда есть, пить, испражняться и спать. Эти действия должны быть согласованными с тем, что происходит во внешнем мире. В каждый данный момент содержание сознания и есть то, на основании чего мы будем действовать далее.
3. Установление приоритета действий. Наши действия должны быть не только согласованы с внешним миром, но и отражать наши внутренние потребности. Боль может затопить сознание точно так же, как стихийное бедствие заполняет первую полосу в газете. Система приоритетов позволяет некоторым обстоятельствам, связанным с выживанием, быстро достигать сознания или контролировать их влияние на него. Выживание и безопасность стоят на первом месте; голод не вторгнется в сознание так же стремительно, как боль, но эта потребность станет ощутимой, если будет оставлена без внимания.
4. Выявление и разрешение несоответствий. Поскольку информация, избирательно поступающая в сознание, обычно касается изменений во внешнем и внутреннем мире, когда возникает несоответствие между сложившимся у нас знанием о мире и неким событием, оно, скорее всего, дойдет до сознания. Скажем, женщина в бикини, вероятно, не привлечет слишком большого внимания на пляже, но если она явится в таком наряде на званый обед, наверняка это вызовет замешательство. Бывают и внутренние несоответствия. Например, обычно вы не сознаете своего дыхания. Однако, если вы простудитесь, дыхание может дать сигнал сознанию, чтобы вы шли помедленнее или обратились к врачу. Сознание влечет за собой действия, направленные на устранение несообразности: скажем, вы поправляете картину, которая висит криво рядом с другими картинами, повешенными ровно.