Читать онлайн Инфляция и государство. 2-е изд. бесплатно
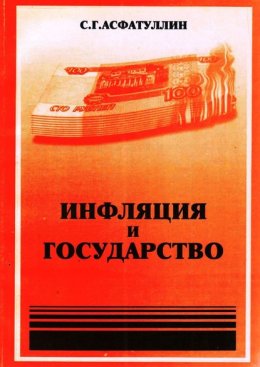
Дизайнер обложки Д. Ю. Огарков
© С. Г. Асфатуллин, 2020
© Д. Ю. Огарков, дизайн обложки, 2020
ISBN 978-5-0051-3826-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВВЕДЕНИЕ
Инфляция в Российской Федерации затронула всех и вся, от одинокого пенсионера до естественного монополиста РАО «Газпром». Можно долго и нудно описывать создавшееся положение, но лучше выразиться краткой сводной таблицей 11:
Как видно из таблицы, промышленное производство за 1991—1996 годы упало на 69% и, несмотря на развитие мелкой торговли, банковских и туристических услуг, в целом внутренний валовой продукт страны снизился на 64%. Цены за семь лет подскочили в 6333 раза, по официальной статистике.
В Российской Федерации, как известно, с начала 1992 года проводилась по рецептам МВФ «шоковая терапия». С тех пор прошло более 6 лет. Срок вполне достаточный для выявления успешности или неудачи подобного курса. Все эти годы происходил непрерывный спад производства и в промышленности, и в других отраслях хозяйства. В результате спада Россия к началу 1995 года потеряла половину своего валового национального продукта и вдвое снизила промышленное производство. Это превысило рекорды глубочайшего экономического кризиса 1929 – 1933 гг. на Западе.
Характерной особенностью спада является его наибольшая величина в наукоемких отраслях промышленности. Спад производства является основной глубинной причиной финансовой несостоятельности в стране, поскольку с сокращением производства неминуемо сокращаются доходная, а следом и расходная части госбюджета.
Данные таблицы наглядно демонстрируют провал политики «шоковой терапии» в РФ.
Правда, тогда в стране непрерывно звучали официальные заявления о начинающейся стабилизации экономического положения со ссылками на замедление инфляционных процессов. В этом есть доля истины, и прежде всего благодаря усилиям ЦБ РФ в предпринимаемых им мерах по финансовой стабилизации. Однако только замедление инфляции не является поводом для оптимизма. К тому же это замедление во многом обязано ослаблению после 1992 года действия такого специфичного фактора, как установление налога на добавленную стоимость. По некоторым оценкам, первичное введение этого налога привело к половине прироста цен в рекордном 1992 году2.
Во-вторых, масштабы замедления инфляции скрывают за собой крайне усредненные показатели.
Например, по официальной статистике, все потребительские цены в 1994 году возросли в 3,2 раза. А хлеб тогда вздорожал в 4 с лишним раза, картофель – в 5 раз, масло животное – в 8 раз, молоко – в 4 раза, сахар – в 3 раза, электроэнергия для населения – более чем в 8 раз, квартплата – в 20 раз, телефон – более чем в 5 раз, бензин – примерно в 5 раз3. То есть основа жизни подорожала от 4-х до 20-ти раз, а по официальной средней статистике – всего в 3,2 раза.
Вероятно, в расчеты индекса потребительских цен не попали некоторые наиболее вздорожавшие товары и услуги (например, плата за электроэнергию), и наоборот, оказались неправомерно включенными относительно менее вздорожавшие товары узкоэлитного спроса. А ведь бедным слоям населения не поможет то, что яхты и «Мерседесы» не подорожали вовсе.
С провалом «шоковой терапии» в 1992 году произошел не поворот к какой-то иной более реалистичной политике, а наоборот, «шоковая терапия» превратилась в долгосрочно – постоянное средство перехода к рыночной экономике, что является наиболее разрушительным вариантом подобного перехода.
Каковы же перспективы российской экономики? Есть множество официальных заявлений на всех уровнях о вот-вот наступающей или даже уже наступившей «стабилизации», но опыт последних лет говорит о том, что верить этим заявлениям нужно наполовину.
Эксперты венского института сравнительных экономических исследований на базе сопоставления ситуации в странах Восточной Европы, в России и на Украине делают следующий прогноз: «В рассматриваемых странах СНГ (РФ, Украина) не предвидится в обозримом будущем выхода из длительного экономического и политического кризиса»4.
По прогнозу доктора экономических наук А. Лившица5, Россия выйдет из кризиса лишь к 2000 году, после чего проявится медленный экономический рост. К концу экономического кризиса Россия потеряет большую часть своей промышленности, сохранятся лишь сырьевые и связанные с ними отрасли (вроде металлургической) и часть ВПК. Прогноз этот сбылся (а признаки этого налицо) и можно ожидать мрачных последствий для России.
В настоящее время, благодаря усилиям Центрального банка России в монетарной борьбе, инфляция временно подавлена. Но накопившиеся экономические проблемы в отечественной промышленности, энергетике, с/х, транспорте и строительстве таят в себе угрозу высокой инфляции.
Стоит задача вернуть базовые отрасли промышленности и энергетики, от которых зависит безопасность России, но почему-то оказавшиеся в руках иностранных собственников, в собственность государства. Что позволит наполнить бюджеты и не допустить обвальной инфляции. Давно пора начать подавлять инфляцию нормальным путем – всемерно увеличивая выпуск отечественной продукции, пользующейся спросом. Непростые задачи, но их надо решать, если хотим выжить в качестве мировой державы, а не сырьевого придатка «золотого миллиарда». На основе анализа статистических данных и ознакомления с публикациями ведущих отечественных экономистов, автор предлагает свои решения проблем.
Глава 1. ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Причины инфляции многообразны.
Первая и по времени, и по значимости – это отпуск цен в условиях, когда отсутствует рынок и конкуренция, когда монополистические структуры зачастую коррумпированного или мафиозного характера сумели овладеть процессом реализации товарной массы и, соответственно, диктовать цены. Свободное ценообразование требует конкуренции на рынках. Это является необходимым условием эффективности рыночной экономики. Система цен, балансирующих спрос и предложение, обеспечивает координацию решений многочисленных хозяйствующих субъектов. Сейчас нет ни того, ни другого. При свободном ценообразовании и конкуренции производство должно расширяться, у нас же катастрофический рост цен сопровождается столь же катастрофическим падением производства. Что же произошло с начала 1992 года в сфере товарно-денежных отношений? Во-первых, бурный рост цен, сопровождаемый резким сокращением производства и инвестиций. В 1992, 1993 и 1994 годах цены росли такими темпами, что за 3 года они увеличились в 785 раз. За это же время предложение товаров и услуг в реальном выражении сократилось более чем наполовину. Валовый внутренний продукт за это время снизился в 1992 г. на 22%, в 1993 г. – на 12%, в 1994 г. – на 15%, в 1995 г. на 4%, в 1996 г. на 6%. Еще большими темпами падали инвестиции: 1992 г. – на 40%, в 1993 г. – на 12%, в 1994 г. – на 26%, в 1995 г. – на 10%, в 1996 г. – на 18%.
Парадокс нашей жизни состоит в том, что производство сократилось на 1/2—2/3, но мы переживаем кризис перепроизводства, потому что платежеспособный спрос сократился еще больше. Государственная политика в области цен и ценообразовании крайне неэффективна. Правильнее сказать, отсутствует.
Платежеспособный спрос явно не успевает за ростом соответствующего предложения товаров в денежном выражении. За очень короткое время были съедены накопления предприятий и сбережения населения. Это, в свою очередь, самым отрицательным образом повлияло на инвестиции и нормальное развитие рынка ссудных капиталов как в кредитной системе, так и на фондовой бирже, или рынке ценных бумаг. Повышение платежеспособного спроса у всех субъектов – государства, предприятий и населения – было возможно лишь путем кредитной экспансии ЦБР и коммерческих банков, что должно было найти выражение в росте как наличной, так и безналичной денежной массы, а также в скорости обращения денег. На начало 1992 г. налично – денежная масса (МО) составляла в России 165,9 млрд. руб. К концу 1992 г. она достигла 1678,4 млрд. руб., на конец 1993 г. – 13304,3 млрд. руб. и в 1994 г. – 36504,3 млрд. руб. Соответственно росла и безналичная денежная масса (показатель М2), которая на конец 1992 г. составляла 7140,3 млрд. руб., на конец 1993 г. – 36718,2 млрд. руб., в 1994 г. – 106403,1 млрд. руб.22. Скорость обращения денег тоже росла умеренно: 1993 г. – 6 оборотов в год, в 1994 г. – 8,23 оборота в год, в 1995 г. – 8,91 оборота в год, в 1996 г. – 8,7 оборота в год22а.
Таким образом, ни со стороны объема денежной массы, ни со стороны скорости обращения денег нельзя объяснять колоссальный рост цен товаров и услуг (4713 раз) с 1991 по 1995 годы. Напротив, денежной массы не хватало даже для обслуживания существующего платежеспособного спроса, что привело к двум явлениям: во-первых, к отсрочке платежей, а следовательно – к росту задолженности, во- вторых, к нарастанию неплатежей вообще.
Неплатежи, составлявшие в начале 1992 года 40 млрд. руб., уже в середине года возросли до 3,5 трлн. руб. После проведенного ЦБР взаимозачета платежных требований сумма неплатежей сократилась на 1,7 трлн. руб., т. е. в 2 раза. Это обошлось ЦБР примерно в 300 млрд. руб. дополнительных кредитов. Однако уже в 1993 году размеры неплатежей вновь начали быстро расти, и к концу года они достигли 30 трлн. руб., а к началу 1995 года приблизились к 100 трлн. руб.22, к 1.09.95 г. – только просроченной кредиторской задолженности – 197,9 трлн. руб.23, на начало января 1997 г. – 538 трлн. руб., на 1.09.97 г. – 735,5 трлн. руб. Рестрикционный курс правительства в этих условиях провоцирует неплатежи и сокращение производства товаров и услуг, что и происходит уже 6 лет и ведет к дальнейшему углублению экономического кризиса и стагфляции. На начало января 1997 г. суммарная задолженность только по 4-м отраслям достигла 1065 трлн. руб. (!), на 1.09.97 г. – 1359,7 трлн. руб. (!)
Вторая причина – разрыв разветвленных хозяйственных связей, вызванный разрушением СССР, а также одномоментное свертывание торговли со странами СЭВ, доля которых во внешнеторговом обороте СССР достигала 70%.
Третья причина, возникшая ранее отпуска цен, – это деформация народнохозяйственной структуры, выражающаяся в существенном отставании отраслей потребительского сектора при явно гипертрофированном развитии отраслей тяжелой индустрии, и особенно, военного машиностроения.
С 1990 года начала проводиться конверсия, и опять без Закона о конверсии, который был принят только в 1992 году. В 1993 году, по сравнению с 1990 годом, объем заказов на вооружение и военную технику снизился в 3 раза в среднем. Конверсия проводилась не по планам снизу, а сверху, по принципу «скорее провести», хотя, как показывает мировой опыт, конверсия – очень сложный процесс, и во всех странах длится десятилетиями. В результате мы получили не только сокращение объема производства, но и распад оборонного комплекса.
Цены на оборонную продукцию растут. Внешние причины – это увеличение цен в топливно-энергетическом комплексе, распад Советского Союза. В оборонной промышленности специализация достигала 40 – 50%. С распадом СССР цены на комплектующие изделия возросли от 20 до 100 раз (1994 г.) 24.
Внутренняя причина – растерянное состояние самих оборонщиков, которые по привычке ждут милости от государства вместо того, чтобы наладить в своих огромных, лучших в СССР, но пустующих цехах, совместное производство потребительской продукции.
Четвертая по значимости причина – это дефицит государственного бюджета, который не только не был предотвращен путем ужесточения налогового сбора, но и резко возрос в связи с падением производства, сокращением реальных доходов у предприятий.
Налоговые поступления составляют 11 – 13% ВВП, а расходы федерального бюджета – 20 – 25% ВВП и, следовательно, его дефицит 18 – 10%25. В западных странах этот показатель не превышает 5 – 6%. Дефицит государственного бюджета увеличивался из года в год. Если в 1992 году он составлял 3,5 трлн. руб., то в 1993 году – уже 15,3 трлн. руб., а в 1994 году приблизился к 60 трлн. руб., в 1995 году намечался 73 трлн. руб. (для расширенного правительства 80,2 трлн. руб.) 27.
Бюджет 1996 г. также был утвержден с дефицитом в 88,55 трлн. руб., или 3,85% к валовому внутреннему продукту. Он должен был покрываться за счет внутренних источников – в размере 56,1 трлн. руб., внешних источников в размере 32,45 трлн. руб.28. Фактически же составил 94,2 трлн. руб. (4,2% к ВВП).
Пятая причина инфляции в РФ — это непродуманное снятие ограничительных, защитных торговых и валютных барьеров. Это открыло шлюзы для импорта пользующихся спросом продовольственных и других потребительских товаров. Большинство из них не являются предметами первой необходимости, но зато имеют очень высокий уровень коммерческой рентабельности (алкогольные и прохладительные напитки, табачные изделия, шоколад, аудио- и видеоаппаратура, автомобили). В связи с этим доля продуктов питания и сырья для их производства в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья увеличилась, по данным МВФ, с 15% в 1990 г. до 27% в 1992 г. Согласно сведениям российских ведомств, после этого она возросла с 23% в 1993 г. до 30% в 1994 г. Таким образом, за 1990 – 1994 гг. доля продовольствия в импорте России из дальнего зарубежья выросла приблизительно вдвое. По сообщению МВЭС, на продовольствие и потребительские товары, вместе взятые, в 1994 г. приходилось около половины всего импорта29. Более дешевое импортное продовольствие и некоторые промышленные потребительские товары существенно потеснили на внутреннем рынке соответствующую отечественную продукцию, а это значительно усугубило сокращение ее производства. В первую очередь данный процесс содействовал спаду в сельском хозяйстве. В 1994 г. объем продукции сельского хозяйства по сравнению со среднегодовым показателем 1986—1990 гг. составил всего 45—50%. Конечно, по-детски приятно взглянуть на прилавки, ломящиеся от импортных газировок и водок, но взрослым пора бы уже задуматься о конечной цене этого изобилия и последствиях для страны. Ведь легкодоступность и вседозволенность импорта продовольствия имела своим косвенным последствием затруднение ввоза в Россию инвестиционных товаров. Огромный рост инфляции, последовавший за либерализацией цен, повлек за собой стремительное повышение курса доллара на российском валютном рынке. Последний возрос со 110 руб./дол. в начале 1992 г. до 6000 руб./дол. в январе 1998 г. При этом основной движущей силой повышения курса доллара к рублю является спрос на валюту для приобретения продовольствия и предметов потребления. Повышение же курса доллара, в свою очередь, существенно снижает возможности импорта средств производства, которые и без того были относительно дороги на Западе по сравнению с российским уровнем.
Угроза «импорта» инфляции возрастает по мере вытеснения с внутреннего отечественного рынка продукции отечественного производства импортом. Доля импорта промышленных товаров длительного пользования в их реализации достигла в 1994 году 70 – 80%. По данным Торгово-промышленной палаты России, импорт обеспечивал в 1995 г. около 40% всего розничного товарооборота. А помощник президента по экономическим вопросам А. Лившиц считал, что потребительский рынок захвачен уже на 55%, и прогнозировал увеличение доли товаров из-за рубежа на этом рынке к 1996 году до 70%30. Согласно статданным, импортные товары на потребительском рынке составляли в 1995—1996 гг. 52% объема30а.
Все более важным становится внешний фактор инфляции, связанными с процессом долларизации. Если за весь 1993 г. чистый приток наличной СКВ из-за рубежа составил порядка 5,7 млрд. дол., то только в 1-ой половине 1994 г. этот показатель достиг уровня 8,3 млрд. дол.30, а за 1995 г. —23,1 млрд. дол. США31.
За 1996 год уже было ввезено 38,2 млрд. наличных долларов31. В ходе симпозиума «Международные операции российских банков», состоявшегося 20 января 1995 г. в Дипломатической академии МИД РФ, были высказана мысль, что долларовая денежная масса вдвое превышает рублевую денежную массу30.
Фактическое превращение наличной иностранной валюты в том или ином объеме в один из компонентов внутренней денежной массы действительно создает дополнительный очаг возбуждения «инфляции спроса». Приобретаемые в России доллары увеличивают величину денежных запасов в стране, а следовательно, нуждаются в дополнительном резком расширении покрытия товарами и услугами со стороны предприятий и банков, чего пока нет. Только 1994 году расходы в России на покупку валюты составляли примерно 50 трлн. руб.32. На конец 1996 года чистый остаток валюты у населения составлял 20 – 22 млрд долл.31. Если купленный за рубли валютный товар – доллары, марки, фунты стерлинги и т. д. — находится в запасах (резервах) как внутри страны, так и за ее пределами, то его эквивалент (рубли) остается во внутреннем денежном обращении, усиливая инфляционный процесс. Иностранная валюта в России официально не выполняет денежные функции средства обращения и платежа (за исключением «черного» рынка), т. е. в стране нет законного параллельного обращения других валют, кроме рублей.
Вывоз долларов за границу равносилен экспорту других товаров, что обостряет инфляционные процессы внутри страны. По имеющимся оценкам, валютные резервы юридических и физических лиц за рубежом достигали на начало 1995 года суммы более 50 млрд. дол.33. По данным Центробанка, около 20 млрд. дол. выручки от экспортно-импортных операций в 1995 г. не были использованы для закупок33, в 1996 г. нерепатриация составила 8,5 млрд. долл.33а.
Шестая причина – инфляционная налоговая политика государства. Налог на добавленную стоимость – один из наиболее мощных стимуляторов инфляционного роста цен. Причем методика налогообложения играет в этом главенствующую роль. При действующем механизме базой налогообложения является не официально декларируемая даже в названии налога «добавленная стоимость», а весь оборот. Любой производитель на всех производственных переделах добавляет к цене своей продукции или услуги 20%, т. е. происходит накручивание цены, своего рода «капитализация» НДС на всех этапах. А бюджет получает только разницу между взятым с покупателя и уплаченным поставщикам порядка 10%, причем со значительным разрывом по времени. Конечному потребителю это несет многократное увеличение цены. Еще один методологический огрех связан с тем, что налог на добавленную стоимость исчисляется с учетом акцизов, т. е. принцип однократности налогообложения, который заложен в НДС, нарушается постоянно и безнаказанно.
В ставках подоходного налога упор сделан в основном на средний класс и ниже среднего (по российским меркам). Тогда налогообложение было больше построено по «держимордовскому принципу: давить и не пущать».
Седьмая причина, перекликающаяся с пятой, но имевшая и до сих пор имеющая большое значение, что ее следует выделить.
Это антигосударственное разрешение значительную часть хозяйственных операций, сделок купли-продажи осуществлять наличными деньгами. В 1994 году наличная денежная масса (МО) составляла 34,3%34 от безналичной, в 1995 г. – 40%35, на 1.01.97 г. – 35,2%, на 1.07.97 г. – 37,6%.35а. Плюс к этому миллиарды долларов, которые тоже активно участвуют в налично – денежных процессах, несмотря на все запреты. Особенность налично – денежного оборота в том, что его очень трудно учесть и проконтролировать. Но он чрезвычайно удобен, если нужно уйти от налогообложения. Мощный толчок этому процессу был дан в 1992 году.
Восьмая причина – это макроэкономическая политика властей. Вчерашняя, да и сегодняшняя государственная антиинфляционная политика ориентируется на трактовку инфляции как исключительно монетарного явления, сводимого только к инфляции «спроса», и поэтому ограничивается простым торможением всеми возможными способами роста объема денежной массы. Она практически игнорирует фактор «инфляции издержек».
Между тем инфляционный процесс в России имеет чрезвычайно сложный, комплексный, многогранный характер. Скачкообразное повышение цен на энергоносители, сырьевые материалы, металл, транспортные услуги, связь, т. е. момент «инфляции издержек», приводит к значительному повышению стоимости готовых изделий.
Что касается борьбы властей с «инфляцией спроса», то существенным ее дефектом является отсутствие анализа структуры совокупного платежеспособного спроса, учета социального среза этого спроса. Осуществление реформы в России сопровождается стремительным расслоением общества, делением его на собственников и несобственников, соответственно, на богатых и бедных.
Ведь наиболее действенное инфляционное давление на потребительские цены оказывают именно богатые слои населения, так называемые «новые русские». Конечные продавцы ориентируются при установлении цен в первую очередь на возможности богатых. В результате значительная часть населения оказывается практически неплатежеспособной.
Помимо внутренней макроэкономической политики, свою лепту в общий спад производства в России вносят действия властей в сфере внешней торговли и международных валютно-финансовых отношений, определяемые радикально-либеральным подходом и требованиями МВФ.
Речь идет о полной либерализации внешней торговли, устранении валютных ограничений по текущим операциям, введении внутренней конвертируемости рубля. Данные меры объективно содействовали развитию негативных процессов в области производства.
Нужно учесть и то, что получение кредитов МВФ и Мирового банка обуславливается выполнением жестких условий, вынуждает власти навязывать населению такой объем жертв, который может оказаться для него неприемлемым и приведет к опасному обострению социально-политической напряженности. Даже международная группа ученых «Адженда» признает это: «Существующие программы преобразований, в частности те, которые вдохновляются международными кредитными организациями, имеют… один недостаток. Они сконцентрированы главным образом на таких абстрактных целях, как экономическая стабилизация, сбалансированные бюджеты и текущие счета, конвертируемость валюты и пр., независимо от последствий такой политики для производства продукции, капиталовложений, занятости населения и уровня потребления… предоставление товаров и услуг отдельным гражданам, рассматривается лишь как средство достижения абстрактных валютно – финансовых целей»36.
Масштабы российской инфляции далеко превзошли все расчеты Правительства РФ и МВФ. Падение курса рубля не стало средством обеспечения жизненно необходимого для России экспорта промышленных товаров, а способом обогащения хозяев сырьевых отраслей и государственных чиновников, ведающих квотами и лицензиями на экспорт.
Россия переходит к рынку в условиях, когда мир уже имеет многовековой опыт движения к свободной многосторонней торговле, полной конвертируемости валют и др. опыта. Однако движение это было медленным и осторожным. Цели, записанные в уставах МВФ и Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ, теперь ВТО), и сейчас еще не полностью достигнуты многими промышленными странами Запада.
На мировом рынке с его острой конкуренцией Россия оказывается похожей на человека, едва умеющего плавать, но пытающегося соревноваться с опытными пловцами. Вот что об этом пишет вышеупомянутая группа независимых экспертов, работавших под эгидой Австрийской Академии наук:
«В настоящее время экономические агенты в бывших коммунистических странах не готовы к неограниченной конкуренции на мировых рынках. Чтобы процесс социально-экономических преобразований был вообще возможен, он должен быть защищён.. Ослабление протекционизма есть важный инструмент стимулирования этого процесса, но устранение защитных мер может быть лишь отдаленной целью»37.
Глава 2. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Теоретические последствия инфляции
20 лет, с 1985 года, тогдашние властители Горбачёвы, Ельцины, Гайдары, Чубайсы всячески скрывали: к какому общественно-политическому строю они тащат страну. Сейчас стало ясно, что столкнули опять в капитализм. Причём в капитализм самого не социального, неорганизованного уровня. Поэтому полезно перечитать учебники по экономике эпохи социализма. Там наиболее полно описаны недостатки капитализма. Только читать не отвлеченно, дескать, это где-то у них, далеко на Западе, а все время примеряя к себе, к РФ, к нашему времени. Поучительная получается картина. Итак, начнем с профессора Л. H. Красавиной, «Денежное обращение и кредит при капитализме», 1989 г.38.
« – Инфляция усиливает диспропорции в экономике. Неравномерный рост цен на товары усугубляет неравенство норм прибылей в различных отраслях производства, что способствует расширению производства в одних отраслях, сокращению и упадку в других.
– Инфляция подрывает стимулы к долгосрочным инвестициям, что ведет к перебоям в механизме воспроизводства, росту безработицы, сдерживанию процесса накопления капитала. Причем рост цен на услуги (транспорта, связи, торговли, кредитно-финансовой сферы, страхования, сделок с недвижимостью и т. д.), которые составляют 40—50% потребительских расходов населения в развитых капиталистических странах, опережает (примерно в 1,5 раза) рост цен на товары. Рост диспропорций между отраслями экономики дезорганизует хозяйственные связи. (Мы идем прямо по этому прогнозу д. э. н. Красавиной 1989 года).
– Инфляция вызывает перелив капиталов из производства в сферу обращения, поощряя спекулятивную торговлю, где капитал быстро оборачивается и приносит прибыли. Инфляция приводит к обесценению всех форм промышленного капитала:
1) производительной – через недогрузку производственных мощностей;
2) товарной – через отставание товарооборота от роста цен;
3) денежной – через обесценение денег.
– Обостряется проблема емкости внутреннего рынка, т. к. инфляция ведет к снижению реальной заработной платы, всех доходов трудящихся. Сжатие реального платежеспособного спроса затрудняет сбыт товаров. «Затоваривание» отрицательно влияет на производство соответствующих отраслей экономики.
– Инфляция искажает структуру потребительского спроса. Рост цен порождает бегство от денег к ценным товарам независимо от потребности в них. Буржуазия массово скупает золото, земельные участки, картины, меха, ювелирные изделия.
– Инфляция усиливает паразитические формы накоплений – наживу спекулянтов, биржевиков, владельцев земли, недвижимости, дефицитных товаров.
– Инфляция отрицательно влияет на международные экономические отношения.
Обесценение денег подрывает конкурентоспособность национальных фирм-экспортеров. Под влиянием мировых структурных кризисов и интернационализации инфляции недопустимо усилилась ее взаимосвязь с ценообразованием на мировом рынке.
При усилении инфляции национальные капиталы устремляются за границу в поисках более прибыльного приложения и надежного убежища, начинается отлив иностранных капиталов.
В результате ухудшается платежный баланс страны.
Инфляция в развитых капстранах ухудшает условия торговли для большинства развивающихся стран, удорожает их импорт, снижает доходы от экспорта и покупательную способность их валютной выручки.
– Инфляция нарушает функционирование денежно-кредитной системы. Происходит сокращение ресурсов кредитно-финансовых учреждений из-за подрыва стимулов к денежным накоплениям.
– Инфляция отрицательно влияет на все звенья финансовой системы, обостряет кризис государственных финансов. Она стимулирует наращивание бюджета и расходов государства. Происходит обесценение налоговых и других поступлений в казну. Усиливается эксплуатация трудящихся…
– Инфляция является одним из факторов валютного кризиса. Межстрановые различия в темпах инфляции создают условия для несоответствия между официальным и рыночным курсом валюты, отрицательно влияют на мировые цены и конкурентоспособность фирм, поощряют спекулятивное движение «горячих» денег.
Таким образом, инфляция, порожденная нарушениями в процессе общественного воспроизводства, усугубляет их в сферах производства и обращения. В этом проявляется прямая и обратная связь инфляции с процессом воспроизводства.
При капитализме классовая сущность инфляции заключается в перераспределении национального дохода в пользу господствующих эксплуататорских классов за счет рабочего класса, всех трудящихся. Это обусловлено отставанием роста номинальной заработной платы и доходов от повышения цен»38.
Теперь добавим из более позднего труда А. С. Булатова 1994 года39, и почти все ужасы инфляции в теории будут представлены:
« – Инфляция – и это общепризнанно – сужает мотивы трудовой деятельности, ибо она подрывает возможности нормальной реализации ценовых заработков.
– Инфляция, особенно в условиях существенного роста цен, усиливает социальную дифференциацию населения, разрыв между крайними группами получателей доходов.
– Инфляция ведет к потере у производителей заинтересованности в создании высококачественных товаров. (Дорого, да и платежеспособный спрос мал – примечание автора).
– Инфляция ухудшает условия жизни, преимущественно у представителей социальных групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов, доходы которых формируются за счет госбюджета).
– Инфляция ослабляет позиции властных структур».
Стремление государственных органов получить посредством миссии дополнительные средства для решения неотложных задач, имеет своим следствием рост недовольства, усиление нажима со стороны различных социальных групп в целях увеличения заработков, получения дополнительных льгот и субсидий. Снижается доверие к программам и мероприятиям, намечаемым и проводимым правительством.
Влияние галопирующей и гиперинфляции на реальный сектор
«… нельзя ни на минуту забывать о непомерно высокой социальной, да и экономической цене реформ, ибо есть прямая связь в том, что потеря за 4 года половины объема промышленного производства пока идет рука об руку со снижением уровня жизни россиян на одну треть»40 (1996 год, 29 февраля, расширенное заседание Правительства РФ, В. С. Черномырдин, Председатель Правительства РФ).
Валовая продукция сельского хозяйства в 1995 году – 276 трлн. руб. – уменьшилась по сравнению с предыдущим годом еще на 8% (в 1994 г. снизилась на 12%) 42. На диаграмме 2.1 видно, как быстро и глубоко мы падаем. Дело дошло до создания Правительственной комиссии по продовольственной безопасности. Даже в цифрах за 1994, 1995 гг. разнобой – в 3-х источниках 3 разные цифры валового продукта с/х.
По производству мяса страна откатилась на уровень 1978 г., молока и яиц —1980 г., шерсти – 1958 г. Фондовооруженность сельского хозяйства снизилась за 1991 – 1994 гг. на 36%, а производительность труда – на 20%.
Согласно имеющимся оценкам, производственные мощности в обрабатывающей промышленности загружены лишь на 30—35%, а на некоторых предприятиях – на 5—15%. О тяжелом финансовом положении предприятий свидетельствует то обстоятельство, что под установленный правительством критерий банкротства по уровню текущей ликвидности подпадает не менее 70% общего их количества.
Уменьшение объемов капитальных вложений в 1995 году по сравнению с 1994 годом характерно практически для всех регионов Российской Федерации. Более чем на 30% сократились объемы инвестиций в республиках Адыгея, Тува, Северная Осетия-Алания, Калмыкия; в Ивановской, Калужской, Костромской, Новосибирской, Камчатской, Калининградской областях. Увеличились – в Москве, Ставропольском крае, Волгоградской, Тюменской областях42.
К еще более удручающим результатам приводит сопоставление нынешних основных экономических показателей с уровнем начала текущего десятилетия. Величина ВВП составляет менее 50% от этого уровня. Спад промышленного производства в целом превысил 50%, а в машиностроении – 60%. Он оказался больше по своим масштабам, чем в самые тяжелые годы второй мировой войны48 (!).
Объем капиталовложений уменьшился за это время в 4 раза, в результате чего износ основных производственных фондов оценивался еще на конец 1993 г. в 56%. По сути дела, происходит разрушение промышленного и научно-технического потенциала, которое грозит стать необратимым. Необходимо осознать, что разрушая военно-промышленный комплекс, мы разрушаем еще и науку. Идет огромный отток высококвалифицированных кадров, что создает социальную напряженность и может лишить нас будущего. Россия теряет свои позиции в мировой экономике. По итогам 1993 г. физический объем ВВП составил 13,6% от ВВП США, в то время как в 1990 году этот показатель был равен 23%48. Налицо тенденция к увеличению разрыва между уровнями экономического развития России и передовых стран Запада. Превышение поступлений над платежами во внешнеторговом обороте сохраняется в последние годы в подавляющей степени благодаря экспорту энергоносителей, продуктов первичного передела, минерального сырья. Доля этих товаров в общем объеме экспорта в страны зарубежья возросла с 55% в 1990 г. до 78% в 1992 г. и до 85,8% в 1996 г.49. В 1994 г. российский экспорт на 4/5 состоял из сырья и материалов, а доля энергоносителей в нем составляла 45%. Оборотной стороной расширения экспорта энергоносителей и сырья из России является сокращение вывоза машин, оборудования и транспортных средств. Доля последних в объеме экспорта в дальнее зарубежье уменьшилась с 18% в 1990 г. до 9% в 1992 г. и до 7,7% в 1996 г.49.
В результате олигархического акционирования важнейшей для страны нефтяной отрасли и слабого контроля государства хотя бы за своим пакетом акций была потеряна вертикаль управляемости отраслью. Наука и геологоразведка оказались в загоне, а каждое нефтедобывающее управление, каждый нефтеперерабатывающий завод торгует на внешнем рынке, заботясь только о своих рабочих и живя только сиюминутными интересами. А «медведям» на биржах мира, а главное их хозяевам, только этого и надо – нашей раздробленности и былого отсутствия партнерства со странами ОПЭК.
В результате вследствие понижения мировых цен на нефть, нефтепродукты и газ в конце 1993 г. и начале 1994 г. рост вывоза энергоносителей в 1994 г. по физическому объему (11,7%) в 2,5 раза опережал увеличение в стоимостном эквиваленте (4,6%). По оценке МВЭС, только с января по сентябрь 1994 г. Россия из-за ухудшения условий торговли недополучила около 2,5 млрд. долл.49. С 1992 года по 1995 год цена на нефть упала со 129 до 90 долл. за тонну50. Положение еще более усугубилось из-за отмены Правительством по требованию МВФ последних барьеров. Это надо же такое допустить: все в мире дорожает, а самые бесценные и невозобновляемые ресурсы Земли вдруг подешевели на 30% (!). Масштабы «проедания» нефтедолларов, за которое в свое время упрекали руководство СССР, в настоящее время еще более возросли. По данным Минфина, совокупный внешний долг России, включающий задолженность бывшего СССР и кредиты, полученные с начала 1992 г. самой Россией, составлял по состоянию на начало 1994 г. 112,8 млрд. долл.51. По словам Е. Ясина, в 1995 г. уровень этого долга возрастет до 130 млрд. долл.52. Это 36% фактического объема ВВП в 1995 г. Понятно, что обслуживание подобного долга стало для страны просто непосильным бременем. Наконец, финансирование со стороны Запада, в конечном счете, ограничивает возможности осуществления страной независимой внешней политики, отстаивания ею своих важных геополитических интересов. Не зря Советом Безопасности пороговое значение внешнего долга было установлено в 25% ВВП52а.
Дореформенная экономика, несомненно, была противоречивой. С одной стороны, она несла груз накопившихся структурных деформаций, выражавшихся, в частности, в гипертрофированном оборонном секторе, и явно ущербном секторе потребительском. С другой стороны, была развитая система воспроизводства социальной сферы (образование, бесплатное лечение, жилье, трудоустройство), а также отвечавшая современным требованиям единая энергетическая система и заделы новейших и уникальных технологий. Достаточно состоятельными на общемировом фоне являлись такие определяющие технический прогресс отрасли, как электротехническая индустрия, приборостроение, тяжелое машиностроение, станкостроение, химическая и авиационная промышленность. Не стоит забывать и то, что, при чуть более 5% удельном весе в населении Земли, СССР в 1989 г. обеспечивал 11% мирового производства зерна, 15% хлопка, 27% картофеля, 37% сахарной свеклы; на душу населения производилось больше, нежели в США, яиц, картофеля, молока53.
Даже в последнем, предреформенном году, несмотря на разрушительное действие провозглашенного в 1990 году «российского суверенитета», среднедушевое потребление мяса, молока, молокопродуктов и сахара оставалось на уровне развитых стран. Производимый в 1985—1987 гг. в СССР ВВП, 3/4 коего приходилось на Россию, превышал половину американского53. И это открывало накануне реформ возможность проведения масштабного структурного маневра, в принципе достаточного для быстрого наращивания (за счет высвобождения ресурсов при грамотном сокращении оборонного сектора) потребительского и инвестиционного секторов. Но помешал цветной переворот.
Как же сказалась на экономике РФ и ее структуре проводимая с 1992 г. «реформа»?
Главные цифры:
– 50-процентное падение валового внутреннего продукта;
– снижение доли страны в мировом промышленном производстве с 14 – 15% до 6 – 7%53.
Неподготовленное и проведенное в традициях волюнтаристской кампанейщины, резкое (не менее, чем на 60%) сокращение финансирования оборонного комплекса, поставило на грань краха ряд сопряженных отраслей и обернулось утратой заделов по новейшим технологиям и перспективным техническим проектам; ожидавшегося перераспределения ресурсов из «оборонки» в гражданские отрасли не произошло.
Особенно пострадало производство наиболее прогрессивных видов индустриальной продукции, к катастрофе приведены легкая и текстильная промышленность; совсем плохи дела в пищевой промышленности. Выпуск средств связи, изделий электронной и электротехнической индустрии, станков, многих предметов личного потребления сократился по сравнению с 1990 годом на 60—70% и продолжает падать. В сельском хозяйстве, согласно данным Минэкономики РФ, объем валовой продукции сократился в 1991—1995 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием на 25%, выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 60%.
В основных направлениях денежно-кредитной политики на 1996 г. эти цифры несколько другие: «… в 1992 г. валовая продукция с/х сократилась по сравнению с предыдущим периодом на 9%, в 1993 г. – на 4%, в 1994 г. – на 9%, за 9 мес. 1995 г. – на 8%, к концу 1995г. сократилась на 10 – 12%) 55. (То есть за 4 года сумма равна 32—34%).
В растениеводстве был собран самый низкий за предыдущие 30 лет урожай зерновых культур. Производство мяса оценивается в 1995 г. в 9,3 млн. тонн, т. е. со снижением по сравнению с 1994 г. на 14%, молока на 12%, яиц на 9%.
Уровень рентабельности с/х производства с учетом государственных дотаций и компенсаций составил в 1994 г. лишь 1,4% против 60% в 1993 г. и 89% в 1992 г. Если же эти дотации и компенсации не учитывать, то окажется, что реализация с/х продукции в 1994 г. была убыточной (уровень убыточности составлял 12%, в т. ч. по продукции животноводства – 27%). Еще более сложным стало финансовое положение хозяйств в 1995 г. Доля убыточных с/х предприятий возросла с 5% в 1992 г. до 57% в 1994 г.56, т. е. финансовый кризис приобрел массовый, всеобщий характер. Его невозможно объяснить просчетами в финансовом планировании и управлении в отдельных, «нетипичных» хозяйствах, возглавляемых неумелыми руководителями.
Идет истощение естественных факторов и других элементов ресурсного потенциала, требующих для своего восстановления нескольких десятков лет. В результате в этой сфере деятельности кризис может приобрести более жесткие формы, стать более затяжным.
Подавляющее большинство хозяйств не имеет возможности приобретать необходимое количество минеральных удобрений для восстановления естественного и повышения экономического плодородия почв, химических средств защиты растений (потеря 15— 30% урожая), нефтепродуктов и сельхозтехники. Внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади снизилось с 88 кг в 1990 г. до 24 кг в 1994 г. и 10 кг в 1995 г. Обеспеченность хозяйств основными видами с/х техники составляет теперь всего 40—70% от потребностей56.
Отечественная экономика все более утрачивает функции жизнеобеспечения страны. Тому подтверждение – пресловутая «закольцованная» схема: экспорт сырья – получение валюты (как правило, эквивалентности здесь нет) – импорт предметов потребления – экспорт сырья. Нетрудно понять, что в случае дальнейшего подобного «обмена веществ» поле деятельности отечественной обрабатывающей промышленности и с/х будет продолжать сжиматься, как «шагреневая кожа». Это и есть главный «структурный сдвиг», которого добились творцы и проводники российских реформ. Огромную роль в «структурной перестройке наоборот» сыграли предшествующие старту реформы, развал СЭВ и Советского Союза. Развал СССР, тайно начатый зарубежными недругами с момента его образования, наконец-то, осуществили руками радикальных руководителей Прибалтийских республик, РСФСР, УССР, БССР. И для России одномоментно стали зарубежными от 25% до 45% машиностроения и нефтепереработки, преобладающая часть морских портов, до 30% ВПК. Падение валового внутреннего продукта в среднем по СНГ за 1991—1995 гг. составило почти 50%. Масштабы производства 1990-х годов не превышают масштабов начала 70-х. Положение таково, что потребности населения и хозяйства в целом могут удовлетворяться лишь на уровне, близком к критическому. Во всех странах СНГ наблюдается устойчивое свертывание инвестиционной активности. Сокращение инвестиций в основные фонды в среднем по СНГ в 1992—1995 гг. составило 65%.
Усиление кризисных процессов в странах СНГ в 1992—1995 гг. в значительной мере вызвано разрывом хозяйственных связей между постсоюзными республиками. Расчеты показывают, что на его долю приходятся около трети их экономического спада. «В протекании экономических процессов в различных странах есть, разумеется, существенные различия. Тем не менее, можно выделить ряд общих тенденций качественного изменения воспроизводственного процесса, свойственных большинству стран Содружества:
– Дезинтеграционные процессы формируют в странах СНГ систему воспроизводства, ориентированную прежде всего на экспортно – сырьевые отрасли и финансово-посредническую деятельность.
– Машиностроительный комплекс, производство потребительских товаров и конструкционных материалов в сложившейся ситуации оказались в значительной мере невостребованными и образовали устойчивую кризисную зону.
– Налицо интенсивная деградация структуры промышленного производства и экспорта, в которых из года в год растет доля энергосырьевых отраслей.
– Вследствие повышенного износа и выбытия основных производственных фондов, реального «проедания» накопленного богатства происходит нарастающее качественное ухудшение характеристик производства.
– Фундаментальные исследования свертываются, условия материально-технического обеспечения НИОКР ухудшаются, наукоемкое и высокотехнологичное производство ускоренными темпами сокращается.
– Уменьшается спрос на рабочую силу, растет явная и скрытая безработица, падают реальные доходы населения.
– Происходит деквалификация трудового потенциала: научных, инженерно-технических и рабочих кадров.
Для России особо пагубным стало ослабление ее экономических позиций в ореоле ближнего зарубежья, выражающееся прежде всего в потере традиционных рынков сбыта продукции российской промышленности.
А начиналось все с политических спекуляций, перемешанных с крайней некомпетентностью, подогреваемых извне.
Используя недостоверные и взаимоисключающие оценки, представители республик, включая и Россию, стали доказывать, что именно эти республики играют выдающуюся (но не признанную) роль в системе межреспубликанского обмена произведенного национального дохода и подвергаются в ней явной эксплуатации. А вот что говорит наука: «Происходившее в СССР определенное перераспределение национального дохода между союзными республиками было объективным условием достижении максимума общего результата (конечного) функционирования единой экономической системы58. Модельные расчеты, выполненные институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, показали, что для максимизации общего конечного продукта всех республик, входящих в состав СССР, те масштабы положительного сальдо межреспубликанского обмена, которые были характерны для России, являлись объективно необходимыми. Более того, установлена эффективность положительного сальдо межреспубликанского обмена России с позиции ее собственных интересов»59. Так что давние заявления лидеру ЛДПР о том, что он в одночасье обеспечит всех россиян за счет «тюбетеек», просто блеф и политическая спекуляция. Сумма задолженности по кредитам, которые представлены нами партнерам по Содружеству за 1991—1995 гг., составила 5,8 млрд. долл58. То есть за 5 лет на одного россиянина приходится 39 долл., по 7,8 долл. в год или 3250 руб. в месяц. Даже если к этой цифре прибавить задолженность за поставку Россией энергоресурсов в сумме 15,6 трлн. руб. на 1 января 1996 г.58, то на одного россиянина добавится 105334 руб. за 5 лет, по 21067 руб. в год, 1755 тогдашних руб. в месяц. Как можно обеспечить человека на 5005 старых рублей в месяц?
К тому же, вследствие сокращения поставок российских нефтепродуктов странам Содружества, баланс торговли России со странами СНГ был сведен в 1995 г. с дефицитом 2,8 млрд. долл.58. А ведь мы у них покупали не жевательную резинку, и пока, отнюдь не по мировым ценам. Тут и украинское продовольствие, тут и холодильники «Минск», и многое, многое другое, жизненно необходимое.
Сегодня, да и вчера (вспомним итоги Референдума) всем здравомыслящим людям ясно, что без восстановления эффективного взаимодействия между странами СНГ невозможно преодолеть нарастание негативных тенденций в экономике всех республик, включая и Российскую Федерацию.
Однако вернемся к официальному документу «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1996 г.«60, разработанному Банком России и представленному в Госдуму. В нем достаточно полно отражены фактические последствия итогов 1995 г.
Общеэкономические тенденции.
Сумма просроченной кредиторской задолженности (т. е. неплатежи – прим. автора), просроченной задолженности по кредитам банков и по займам предприятий в промышленности, с/х, строительстве и на транспорте достигла на начало сентября 1995 года 197,9 трлн. руб., из которых 94,7% приходилось на кредиторскую задолженность. В целом, по состоянию на 1.09.95 г., в указанных отраслях экономики России просроченную кредиторскую задолженность имели свыше 53 тыс. предприятий, из которых 30% составляли промышленные предприятия, 44% – предприятия и организации сельского хозяйства, 7% – транспорта и 19% – строительства. И этот процесс стремительно нарастал в 1996—1997 гг.
Несмотря на наметившийся реальный рост прибыли, доля убыточных предприятий оставалась значительной и составляла в январе – августе 25% в промышленности, 35% на транспорте и 22% в строительстве. Одной из наиболее негативных тенденций является продолжающийся спад в инвестиционной сфере. Сокращение объемов капитальных вложений за счет всех источников финансирования в январе – сентябре 1995 г. составило 17% по сравнению с соответствующим периодом 1994 г.61.
Негативные сдвиги происходят и в функциональной структуре инвестиций. Все больше сокращается удельный вес чистых инвестиций при значительном увеличении амортизации, используемой для обеспечения процессов простого воспроизводства. Так, удельный вес чистых инвестиций в накоплении сократился в текущих ценах с 27% в 1991 г. до 13% в 1995 г. Доля чистых инвестиций в ВВП составила при этом менее 1,5%, тогда как в странах с развитой рыночной экономикой величина этого показателя колеблется от 8 до 10%.
Рассчитываемая по методологии МОТ численность безработных достигла к концу сентября 1995 г. 5,8 млн. чел. – около 8% активного населения. Официально в рассматриваемый период в качестве безработных в службах занятости было зарегистрировано 2,2 млн. чел., или 3% экономически активного населения. При этом сохранилась тенденция накопления скрытой (потенциальной) безработицы. Средняя продолжительность поисков работы у безработных в течение 1995 года увеличилась и составила 6—7 мес. (в 1994 г. – 4 мес.). Инфляция (индекс потребительских цен), декабрь 1995 г., к декабрю 1994 г., по предварительной оценке ЦБ РФ – 2,4 раза (напомню, статистика дала факт 2,31 раза, но с ней надо еще долго и кропотливо разбираться).
Сектор нефинансовых организаций:
«… отмечая существенное замещение темпов спада производства в 1995 г., следует подчеркнуть, что в основном это обусловлено масштабами падения производства в 1994 г. В результате во многих отраслях промышленности российской экономики спад достиг предельного уровня, превышение которого связано практически с полным прекращением производства отдельных видов отечественной продукции. Это характерно для отдельных видов машиностроения, легкой промышленности и ряда других отраслей».
Основой инфляции издержек в 1995 году явилось увеличение цен на энергоносители. Так, за 9 мес. 1995 г. средние цены производителей на газ, уголь, нефть возросли в 2,3 – 2,7 раза. Под влиянием роста цен на топливо ускорилось удорожание электроэнергии. К концу сентября 1995 г. рост индексов цен предприятий – производителей промышленной продукции составил 2,5 раза (соответствующий период 1994 – 2,4 раза). Лидерство по темпам увеличения цен на готовую продукцию в январе – сентябре сохранили за собой предприятия отраслей топливной промышленности: нефтеперерабатывающей, угольной, нефтедобывающей, а также химической и нефтехимической, электроэнергетики, черной металлургии. Цены увеличились в 2,5— 2,9 раза. Оно и понятно – их продукция пользуется спросом на мировом рынке, вот они и подтягивают россиян к тем ценам, не заботясь о том, что наши-то зарплаты во много раз меньше мировых. Государство должно активно защищать своё население и своих отечественных потребителей.
А вместо этого, к ценам и так превышающим общую инфляцию, добавляются снабженческо – сбытовые и транспортные наценки, и в итоге предприятие-потребитель имеет существенный отрыв от цены предприятия-производителя.
Сектор государственных финансов.
Министр финансов РФ Пансков В. Г.: «… В 1994 г. дефицит бюджета составил 10,5% к валовому внутреннему продукту. Дефицит бюджета 1995 г. был утвержден в 7,9% к ВВП. Во всем мире считается нормальным, когда дефицит бюджета ниже 3% валового внутреннего продукта62.
Если же посмотреть на исполнение доходной базы бюджета с точки зрения собираемости налогов и платежей, то здесь картина просто удручающая… если в 1994 г. мы получили в федеральный бюджет 12,4% налогов и платежей к ВВП, то в 1995 г. эти поступления составили всего 11%. Простой анализ говорит о том, что федеральный бюджет потерял из-за этого более 22 трлн. руб. доходов. А всего недоимка по платежам в бюджет составила на 1 января 1996 г. более 60 трлн. руб., или увеличилась за год более чем в 3 раза63.
Тогда основные расчеты между поставщиками и покупателями велись не путем безналичных расчетов, а путем бартера, путем наличной оплаты за продукцию и услуги. По данным, полученным от министерств и ведомств топливно-энергетического комплекса, например, прямое перечисление средств по счетам при расчетах по этим предприятиям в 1995 г. составило в среднем не более 30% от оборота.
Не один год говорится о многочисленных конторах, занимающихся обналичиванием. Но работа и налоговой полиции, и налоговой службы по определению оборота этих контор, по привлечению их к уплате налогов проводится слабовато.
Не удалось, в силу ряда причин, в т. ч. и объективных, полностью профинансировать расходы на социальную сферу, на науку и ряд других важнейших направлений. В значительных размерах (3,7 трлн. руб.) перешла на 1996 г. бюджетная задолженность по зарплате и денежному довольствию работников бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета.
…огромный пласт частного, акционерного сектора, финансовых н посреднических компаний, граждан или не платят налоги вовсе, или любыми путями минимизируют свои итоговые обязательства. По этому именно на работе с ними должно быть сосредоточено основное внимание налоговых органов. Привлечение таких плательщиков к полной уплате положенных налогов позволит пойти на более решительные шаги по ослаблению налоговой нагрузки на предприятия материальной сферы»63. Добавим признание еще начальника Контрольно-ревизионного управления Минфина РФ, и картина станет исчерпывающей. Итак, Ю. А. Данилевский: «Государственный контроль никогда не был так ослаблен, как сегодня»64.
Сопоставление цифр из Заявления 1995 года и Основных направлений на 1996 год в части того, что удалось, наводит на весьма мрачные мысли. Судите сами:
– Из заявления на 1995 г.: «Главная цель на 1995 г. – снижение инфляции в среднем до уровня 4% в месяц в течение 1995 г. и до уровня около 1% в месяц во второй половине 1995 г.«66 (То есть в год получается 48—60% – прим. авт.)
– Из отчета в Основных направлениях:
а). «… то в 1995 г., по предварительным оценкам, они составят 7,5%65 (среднемесячные темпы инфляции).
б). ожидаемое значение, по оценке ЦБ РФ: «Инфляция (индекс потребительских цен, декабрь 1995 г. к декабрю 1994 г.) – 240%«65.
То есть заявляли 48 60% в год, фактически получили, по данным Госкомстата, 231% (несоответствие в 3,8—4,8 раза)!
Остро стоит проблема инвестирования.
Прописная истина гласит: без инвестиций нет экономического роста. А что же мы имеем?
И в 1995 г. при спаде промышленного производства на 3%, капитальные вложения из всех источников финансирования снизились на 17%, по сравнению с соответствующим периодом 1994 г. и составили около 1/3 от уровня инвестиций 1991 г. Ускоряется падение доли чистых инвестиций при значительном увеличении амортизации, используемой для обеспечения процессов простого воспроизводства. Так, если в 1991 г. удельный вес чистых инвестиций составил 27%, то в 1995 г. – только 13%, т. е. уменьшились вдвое.
Доля этих инвестиций в ВВП находится на уровне менее 1,5%, тогда как в развитых странах колеблется в диапазоне от 8 до 10% 67.
Расчет на увеличение собственных вложений предприятий за счет роста амортизационных отчислений пока не оправдался во многом из-за инфляционного повышения цен на инвестиционные товары, толчком к которому стала опять же переоценка основных фондов, нацеленная на увеличение амортизационных отчислений.
Хуже того, отток капитала из промышленности в финансовую сферу (в том числе и на покрытие бюджетного дефицита) в 1995 г. усилился. Вследствие действия всех этих факторов реальный результат оказался прямо противоположным замысленному: инвестиции из средств предприятий в 1995 году сократились в гораздо большей степени, чем бюджетные. И в бюджете-96 объем инвестиций запланирован по остаточному принципу. Надежд на начало в 1996 г. экономического подъема нет. При продолжении проводимого в последние годы курса будет складываться такая картина. Положение в добывающем (экспортном) секторе останется стабильным: здесь возможен и некоторый рост производства. Наряду с этим очагом стабильности, сохранятся стагнирующие (нулевой прирост или небольшое сокращение производства) и коллапсирующие отрасли (падающий выпуск при отмирании ряда видов производства). Спад капиталовложений достигнет 70% от 1991 г., а производственных капвложений на 80% от 1991 г. Что, к сожалению, и сбылось.
«По сути же это не стабилизация (о которой много говорит официальное руководство страны и взахлеб пишет прирыночная пресса – авт.), а самая настоящая депрессия, которая может затянуться надолго»68.
Бытует мнение, что усиление сырьевой ориентации российской экономики не только не таит особых угроз, но и позволяет расширить закупки потребительских товаров, включая продовольствие, наполнить полки магазинов. Между тем элементарные расчеты показывают, что таким путем повысить благосостояние основной массы населения и обеспечить ей достойный уровень жизни невозможно.
Так, объем экспорта в 1995 г. составил 77,8 млрд. долл.68, что в пересчете на душу населения дает 77,8 млрд.: 148,1 млн. = 525 долл. в год или 44 долл. в месяц. Вот весь ресурс.
И если даже его целиком использовать на потребление (что, естественно, практически невозможно), он не способен вывести граждан из нищенского состояния. Так что за импорт платим мы только из собственного кармана.
Особо стоит вопрос об иностранных инвестициях. Общий их объем в российской экономике на 1 января 1996 г. составил около 6,7 млрд. долларов, в т. ч. за 1995 г. – 2 млрд., т. е. на них приходится 5% всех капиталовложений68.
Можно привести немало примеров, когда иностранный капитал проникает в Россию для того, чтобы устранить конкурента или внедриться в те структуры, потеря контроля над которыми угрожает национальной безопасности.
Приведем один из них, наиболее расследованный. «… проведены документальные проверки по вопросу соблюдения налогового законодательства АОЗТ „Компания Алюмин Продукт“, АООТ „Ваш финансовый попечитель“, АООТ „Московская финансовая инвестиционная компания“, „Русский капитал“ и ТОО „Риал“. Проверка показала, что в результате многоступенчатой комбинации фактическими владельцами алюминиевой промышленности стали иностранные фирмы и группа конкретных физических лиц» 69.
Наверное, нет нужды напоминать, что алюминий относится к стратегическим материалам во всех развитых странах.
Трудности возникают и в связи с завышенными процентными ставками. Производство не в состоянии отработать такие высокие ссудные проценты. Да и банки, не имея особых льгот или обязательных к исполнению директив государства, неохотно кредитуют промышленность. Кредиты, представленные коммерческими банками предприятиям, организациям и населению, составляли на 1 июля 1995 года 83,6 трлн. руб., или всего 17,6% активов сводного баланса коммерческих банков. Долгосрочных же кредитов (а именно они направляются в инвестиции), выделяется совсем мало. Так, на 1.09.95 г. задолженность по долгосрочным кредитам составляла всего 14,2 трлн. руб., в том числе народному хозяйству лишь 4,1 трлн. руб.70.
Не располагая инструментами действенного оперативного регулирования денежной массы, ЦБ РФ не контролирует также каналы ее распределения по секторам экономики. В результате финансовый сектор может переполняться ликвидностью, создавать нерациональные излишние резервы, депонировать их за границей, тогда как реальный сектор – испытывать острую непреходящую нехватку денежных средств. Этот момент констатируют даже руководители ЦБ 71.
Нельзя, разумеется, недооценивать и возможности привлечения и инвестирования средств, находящихся на руках у населения (зажиточной его части). Они, по некоторым оценкам, составляли 20 млрд. долл.70. То есть средства для инвестиций все же есть. Происходит их концентрация у крупных финансовых структур и узкой прослойки зажиточной части населения. Они, однако, не направят их в производство, если государство не создаст для этого определенных условий. А главное, ресурсы рождаются экономическим оборотом. Оживите его, и капиталы появятся: растущее производство само себя обеспечивает. Денег для инвестиционного толчка стагнирующих и коллапсирующих производств можно насобирать, однако масштабы накопления в экономике свободных капиталов далеко не те, которые позволяли бы дальнейшее массированное наращивание государственного долга, пусть даже через государственные ценные бумаги. Для того чтобы размеры долга приблизились к опасной черте (за которой придется либо половину федеральных доходов тратить на обслуживание и погашение государственного долга, либо прибегнуть к государственному банкротству), хватит и двух лет краткосрочных и среднесрочных заимствований на внутреннем денежном рынке. Расходы на обслуживание и погашение государственного долга составляли в 1993 г. 3% федеральных затрат, в 1994 г. – 11%, в 1995 г. – 31%, и в 1996 г. прогнозировались на уровне более 46%72.
Один из главных устоев практикуемой тогда реформационной модели – осуществляемая в целях «капитализации всей страны» форсированная, поразившая весь мир своим темпами, приватизация государственной собственности. «Ни одна страна в мире, констатируют, например, американские эксперты по вопросам демократизации экономики, не начинала так быстро осуществлять приватизацию принадлежащих государству предприятий, как Россия»73. Команда отечественных приватизаторов до сих пор действовала и продолжает действовать в соответствии с логикой становления совершенно определенной, однофакторной модели рыночной экономики, отражающей интерес интенсивно формирующейся в стране узкой социальной группы крупных собственников. В основу политики форсированной приватизации была заложена четкая идеологическая установка: в стране, население которой не принимает идеи перехода государственной собственности в руки частного капитала («стратегических инвесторов»), собственность трудовых коллективов – неизбежное зло, кратковременный этап, промежуточное «демпфирующее» звено в процессе этого перехода. Один из известных американских специалистов по вопросам демократизации собственности, консультант Госкомимущества Д. Блази проанализировал динамику перехода собственности работников российских предприятий в руки «стратегических инвесторов» к моменту начала денежной приватизации. Анализ проводился в два этапа: конец 1992—май 1993 г. и май 1994—июнь 1995 г. на средних и крупных предприятиях. Согласно расчетам Д. Блазы, доля предприятий, в которых работники обладают контрольным пакетом, сократилась на 1/374.
Переход от плановой системы к однофакторной модели рыночной экономики пытаются обставить почти исключительно монетаристскими мероприятиями, при упоре на финансово – денежную и распределительную сферы. Собственно же производство, как ключевую фазу воспроизводственного процесса, реформаторы по существу, игнорируют.
Непосредственным результатом этой кампании стало грандиозное, но абсолютно не выверенное в экономическом и социальном отношениях перераспределение в обществе средств производства, соответственно доходов. Уже к исходу первого года реформы доходы большей части населения упали более чем на 2/3, относительно же узкого слоя – невиданно взлетели. Резкое реструктурирование доходов в последующие годы привело к соответствующему радикальному изменению структуры платежеспособного спроса населения. При многократном возросшем спросе незначительного контингента россиян на предметы роскоши и повышенного комфорта произошел обвал спроса основной части населения на предметы массового потребления. Отрасли, их производящие, в т. ч. с/х, пищевая, легкая и текстильная промышленность, лишились значительной доли платежеспособного спроса на свою продукцию, вследствие чего были вынуждены резко сократить объемы производства и оказались на грани полного экономического краха.
Наука даже не упоминалась ни в Заявлении Правительства и ЦБ об экономической политике на 1995 г., ни в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 1996 г. И совершенно напрасно, могли бы подсчитать прямые потери от «утечки мозгов», не говоря уже об упущенной выгоде.
Общее кризисное состояние тяжело ударило по научно- технической сфере. Угрожающе высокими темпами падает численность кадрового персонала. Если к началу 1992 г. в России в сфере науки и научного обслуживания было занято примерно 3,5 млн. человек (в том числе научных работников – 2,1 млн.), то уже на начало 1995 г. – только 1124,7 тыс., из них научных работников 643,3 тыс. человек75.
В 1996 г. численность занятых в науке снизилась до 990,7 тыс. человек., к началу 1998 г. осталось только 946 тысяч75а. Лишь за 3 года кадровый компонент российского научно-технического потенциала уменьшился более чем в 3 раза. Это не в последнюю очередь стало следствием «утечки мозгов» прежде всего в виде непосредственной эмиграции: с 1989 года по 1992 год из страны выехало за рубеж на постоянное место жительства около 10% численности ее научных работников (примерно 75 тыс. человек, только из системы РАН эмигрировало 17% научных сотрудников76. По данным МВД РФ, в 1992 г. Россию покинули 4572 научных работника, в 1993 г. – 5976, в 1994 г. – 5171, в 1995 г. – около 5,5 тыс. Западные правители и экономисты не поленились подсчитать стоимость переманенного. Согласно недавним расчетам американских социологов, стоимость подготовки одного высококвалифицированного специалиста научно-технического профиля обходится стране-донору примерно в 800 тыс. долл.
С учетом того, что среднегодовые темпы эмиграции научных работников из России в последние годы оценивались в 5 – 5,5 тыс. чел., страна ежегодно терпит ущерб в 4—4,5 млрд. долл. Если же к категории научных работников добавить высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, представителей медицинских профессий, учителей и деятелей культуры, то, по некоторым данным, общий годовой ущерб России от «утечки» умов доходит до 50 – 60 млрд. долл77.
Весьма существенным компонентом «внешней утечки» умов, по своим масштабам намного превышающим отмеченную интеллектуальную эмиграцию, стал выезд за рубеж значительного числа ученых и специалистов на временную работу, главным образом на контрактной основе. Это только по линии федеральной миграционной службы представителей научной и творческой интеллигенции, технических специалистов высокой квалификации. А сколько выезжает с помощью различных отечественных и зарубежных агентств по вербовке ученых и специалистов, никто и не отслеживал. То есть весомая часть отечественного интеллектуального потенциала временно не используется в интересах российской экономики. А 10 – 15% этого потока по разным причинам остается за рубежом.
Изощренной формой «утечки умов» является наем на работу российских ученых и специалистов иностранными компаниями и СП, находящимися на территории РФ. Эти люди трудятся не на российскую экономику, а в интересах своих иностранных работодателей, далеко не всегда совпадающих с интересами России. Или, еще круче, откупают с потрохами целый НИИ. Как например, полная аренда сроком на 5 лет известной американской фирмой «Проктер энд Гэмбл» Института биомедицинской химии АМН РФ78. Несравненно больше выигрывает американская фирма, получившая в свое распоряжение целый НИИ за гораздо меньшие средства, чем это понадобилось бы для его создания в собственной стране. Интересам же России наносится ущерб, совокупный размер которого (для всех подобных случаев) может существенно превысить объем финансовой помощи, оказываемой из-за рубежа российской науке. Становятся понятными отнюдь не альтруистические или благотворительные мотивы предоставления подобной помощи, и возникает вопрос: а кто же всё-таки кому помогает: Запад России или Россия Западу?
«Утечка умов» имеет для страны-донора и более широкие, далеко идущие негативные последствия. Тут надо учитывать, в частности снижение культурного и интеллектуального уровня нации, девальвацию многих духовно-нравственных ценностей, падение общественной морали, потерю гуманистических традиций и особенностей национальной психологии (не говоря уже о подрыве физического здоровья нации, ее генотипа).
Сколько слез пролито бульварной прессой по поводу исхода дворян (поручиков Голицыных) и купцов из России в 1917 году. А тут действительно светлые головы уплывают из России десятками тысяч – и тишина! Вдобавок, помимо внешней существует и так называемая внутренняя утечка умов, т. е. исход ученых и специалистов из научно-технической сферы в другие области национальной экономики, непосредственно не связанные с научной деятельностью: коммерческие, административные и иные структуры.
По некоторым оценкам, этот процесс в десять раз превышает утечку умов за рубеж. Пора всерьез задуматься о критической массе национального интеллектуального (в т. ч. научно- исследовательского и инженерно-технического) потенциала, т. е. такой его предельно допустимой минимальной численности, опускаясь ниже которой стран обречена на длительное культурное и творческое прозябание, маргинальное положение в мировом научно-техническом и социально-экономическом прогрессе, постоянную зависимость от иностранцев.
По экспертным оценкам, разрушение национального научно- технического потенциала может наступить, если доля доходов на НИОКР в ВВП страны в течение 5—7 лет стабильно не превышает одного процента в год, и в результате этого доля людей с высшим естественнонаучным и инженерно-техническим образованием в общем числе занятых в народном хозяйстве снижается с соответствующим временным лагом до 2—4%. Эти пороговые величины относятся к нижнему пределу «критической массы», характерному для регрессирующей экономики от простого воспроизводства и ниже.
В ФРГ, Англии, Японии, Франции, Израиле доля расходов на НИОКР в ВВП колеблется от 2,7 до 3,1%. А что у нас? По данным Миннауки РФ, численность научных работников в общем числе занятых в народном хозяйстве сократилась с 4% в 1991 г. до менее 2% к началу 1996 г.79.
А объемы финансирования см. таблицу 2.180:
Разрушить национальный интеллектуальный потенциал можно довольно быстро, тогда как воссоздание его «критической массы» требует значительных усилий и длительного времени.
Федеральные целевые программы
Кто решится оспорить принципиальный тезис, согласно которому в условиях острейшего макродефицита финансовых средств главное – обеспечить их предельно выверенное приоритетно – результативное расходование?
Между тем, эта аксиома не стала и, судя по всему, еще не скоро станет реальной методологической основой отечественной бюджетной политики.
«Пока программная составляющая федерального бюджета незначительна. В 1995 г. бюджетные ассигнования на выполнение 40 целевых федеральных программ отраслевой ориентации и около 20 федеральных программ по развитию регионов составили всего около 7% всех бюджетных расходов на федеральном уровне. Примерно той же остается доля программно-ориентированных расходов и в федеральным бюджете-96.
Ни одна официально принятая программа никогда не финансировалась в объеме, первоначально предусмотренном соответствующими законодательными и правительственными документами. И в 1995 г. реальное финансирование программ оказалось впятеро меньше запланированного» 81.
Вместо строгой ревизии программ и сокращения их числа постоянно принимаются новые за счет уже сверстанного и поделенного бюджета. Если к утвержденным 49 программам бюджета-96 добавить разрабатываемые, то их число получается без малого две сотни. И для их реального воплощения потребуется минимум 130 – 150 трлн. руб. ежегодно81.
Главная «заслуга» в описанной выше печальной эволюции (или «контрреволюции»? ) структуры российской экономики принадлежит избранной модели реформирования, ключевой элемент коей – сжатие совокупного спроса как средство «макроэкономической стабилизации». С самого начала нас уверили в том, что рестрикция этого спроса в условиях либерализации цен приведет к остановке инфляции, что в свою очередь обернется всплеском инвестиционной активности и началом экономического роста и позитивных структурных изменений. Опыт шести лет действий по этой схеме показал полную ее несостоятельность. Несмотря на проводимые с маниакальным упорством рестрикционные меры (включая и столь «крутые», как неоплата предприятиям выполненных госзаказов и невыплаты заработной платы «бюджетникам» и пенсии нетрудоспособным) устранить инфляцию или хотя бы свести к приемлемому уровню, тогда не удалось. Зато «удалось» вызвать беспрецедентный даже по меркам военного времени спад производства, граничащий с параличом хозяйственной жизни.
Реформационные преобразования проводятся революционными методами, а революционная идеология смены власти, захвата власти, удержания ее, реформаторами выдается за идеологию реформирования. Это соединение д. э. н. В. Н. Лексин и к. э. н. А. Н. Швецов, зав. отделом и вед. научный сотрудник Института системного анализа РАН, называют «ревореформой»81.
«Современную российскую реформу объединяет с революцией и ее преподнесение в качестве самоцели. Именно реформе как таковой (а не ее необходимым социальным результатам) клянутся в верности, реформа преподносится как символ прогресса и т. п. Для наших реформ характерны несистемность и внутренние противоречия, им присуще аномально высокая политическая поляризация: тут и путчи, и штурм парламента, и массовые митинги, и политические процессы. В общем это действительно «ревореформы». Но, видно, главный парадокс нашей во многих смыслах парадоксальной реформы состоит не только в ее революционности (по методам проведения), но и в ее контрреволюционности (по отношению к итогам октября 1917 г.). Она, по сути дела, имеет целью реставрацию ценностей февраля 1917 г.: республика на базе капиталистической экономики. Все семьдесят лет советской власти такое справедливо считали бы контрреволюцией. А любая контрреволюция совершается теми же методами и по той же схеме, что и революция, они (подобно реформе и контрреформе) дети одной матери, элементы одного цикла. Но если проведение революций методами реформ и не так уж вредно, то проведение реформ революционными путями означает нечто гораздо худшее»81.
«… ни по одному из направлений экономических преобразований в период «перестройки» и «постперестройки» не был получен именно тот существенный экономический или социальный результат, на который рассчитывали. Экономическая реальность на макроуровне ни разу адекватно не реагировала на предлагаемые условия реформ, нет такой реакции и на уровне отдельных предприятий. Проходит какое-то время после принятия, казалось бы, бесспорно результативных решений, но ни роста инвестиционной активности, ни действительно рыночных выходов из кризисных ситуаций, ни внутреннего реструктурирования на большинстве приватизированных (акционированных) предприятий не наблюдается. Напротив, экономическое поведение новоявленных АО по-прежнему определяется надеждами на государственную поддержку, стимулированием скрытой безработицы и т. п. Поэтому все, что возможно проверить, следует заранее проверить81. Итак, вместо продвижения к эффективной конкурентоспособной экономике наблюдается прямо противоположное – обвальный спад производства, сопровождаемый снижением его эффективности и жизненного уровня основной части населения. Некоторые начинают думать, что их в очередной раз обманули, что действительные цели избранного курса реформирования изначально были иными по сравнению с озвучивавшимися. Если говорится одно, а делается совсем другое, естественен вывод: нужна не корректировка проводимого варианта реформирования, а изменение его курса»82 (!).
Осталось добавить вывод проф. Финансовой академии при правительстве РФ д. э. н. В. М. Соколинского и к. э. н. М. Н. Исаловой: «Социальной политики, в том ее понимании (научно-прикладном – от авт.) в России пока нет» 83 (!).
Глава 3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Реально располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 1995 г. были ниже, чем в 1994 г. на 13%. Снижение реальных доходов повлекло сокращение покупательной способности россиян. На долю 10% обеспеченных приходился 31% денежных доходов (в 1994 г. – 32%), а на долю 10% самых бедных – 2,4% (в 1994 г. 2,2%). У 63% россиян доходы были ниже среднего уровня. Почти у 25% населения России (около 37 млн. чел.) среднедушевые доходы были ниже прожиточного минимума, их число возросло на 10%42.
Упало производство основных видов пищевой продукции. Так, выпуск мясных и молочных продуктов составил в среднем 78% от 1994 г., муки и круп – 88%, масла растительного – 85%. Только в рыбной промышленности произошло некоторое увеличение (108%). Стоимость набора из 19 основных продуктов питания в среднем по РФ на конец декабря 1995 г. составила в расчете на месяц 231,5 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с декабрем 1994 г. в 2,3 раза42. «В середине 1995 г. внутренние цены на целый ряд товаров впервые в отечественной практике превысили уровень цен мирового рынка» 43.
Несмотря на большой приток русскоязычного населения из республик СНГ вследствие притеснений и военных конфликтов, население РФ вследствие естественной убыли продолжает сокращаться. Численность населения: в 1992 г. – 148,7 млн. чел., в 1993 г. – 148,7 млн. чел., в 1994 г. – 148,4 млн. чел., в 1995 г. – 148,3 млн. чел.44, к началу 1996 г. – 148,1 млн. чел.45, в 1997 г. – 147,1 млн. чел.45.
По данным Международной конфедерации труда (МОТ), численность занятых в производстве сократилась с 75,2 млн. чел. до 67,1 млн. чел., т. е. на 11%. На крупных и средних предприятиях промышленности численность работающих неполное время составила 1,5 млн. чел., или 10% от средней численности работников.
В 1994 г. средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 57,3 года (!), женщин – 71,1 года, в 1995 г., соответст- венно, 58 лет и 72 года (в 1991 г. у мужчин 63,5 года) 45а.
По прогнозам экспертов ООН, численность населения России будет уменьшаться как минимум до середины XXI столетия (!).
К 1.01.96 г. в стране насчитывалось 37 млн. пенсионеров. Мы уже формально имеем соотношение трудоспособного населения к нетрудоспособному как 1,8 к 1. Если учесть тех, которые не работают по разным причинам, то реально уже получается 1,5 к 146.
Минимальный размер пенсии за 1995 год равнялся 63250 руб., минимальная зарплата – 60,5 тыс. руб.
Наибольшее количество браков отмечено в 1975 г. – 1,5 млн., наименьшее в 1994 г. – 1,0 млн. Наименьшее число разводов было к 1960 году – 184398, наибольшее в 1994 г. – 680494.
В 1985 г. на 1000 человек населения приходилось 16,6 родившихся и 11,3 умерших, в 1994 г. – 9,6 родившихся и 15,7 умерших47. В 1995 г. число родившихся было на 30 тыс. меньше, чем в 1994 г.
Рост потребительских цен в 1995 г. в среднем по РФ составил 231%, в том числе на продовольственные товары 223%, непродовольственные – 216%, платные услуги – 332%42. Наиболее значительно подорожали мука, хлеб, манная крупа, пшено, соки для детского питания (в 3—3,5 раза), творог, консервы плодоовощные, отдельные виды сыров и кондитерских изделий, вермишель, рис, крупа гречневая и овсяная (в 2,4—2,8 раза), сельдь, рыбные консервы, масло растительное, яйца, сахар и чай (в 1,9—2,1 раза), масло животное, овощи и картофель (в 1,5—1,7 раза) 42.
Существенно ударили по карману такие виды платных услуг, увеличение цен и тарифов на которые регулировались местными администрациями. Так, среди коммунальных услуг плата за газ сетевой выросла в 20 раз, горячее водоснабжение, отопление и канализацию в 4,5—5,1 раза, квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда и эксплуатационные расходы в домах ЖСК и приватизированных квартирах – в 4 раза, из услуг пассажирского транспорта плата за проезд в пригородных поездах – в 3,6 раза, городским транспортом – в 3,5 раза45. Ну прямо по учебнику Л. Н. Красавиной 1989 г.! Только опережение не в 1,5 раза в среднем, а от 1,51 до 8,65 раза. Наверное, тогдашнему Председателю Правительства РФ Е. Гайдару надо было не писать свою книгу «Государство и эволюция», а перечитать имевшиеся уже учебники по экономике.
И еще одно интересное обстоятельство: как это Госкомстату удается при удорожаниях платы за городской транспорт в 3,5 раза, других перечисленных выше удорожаниях услуг в 3,6—5,0 раз, удорожании платы за газ сетевой в 20 раз, выводить средний рост цен за платные услуги в 3,32 раза. Наверное, разбавляют бесплатным воздухом…
Благодаря жестким мерам Центробанка открытая инфляция со второй половины 1996 года начала переходить в скрытую форму.
Цитата из Основных направлений на 1996 год: «Снижение реальных располагаемых доходов, сильная дифференциация населения по доходам, продолжающиеся задержки выплаты заработной платы формируют неблагоприятную социальную ситуацию»65. Эти тенденции набирали силу в 1996, 1997 годах и привели к массовому пикетированию администраций и перекрытию железных дорог в 1998 году.
Кстати, и в Заявлении Правительства и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике на 1995 г., сумбурном десятистраничном документе, эти вопросы мельком упомянуты лишь в самом конце Заявления (пп. 32, 33 из 38) 66.
Сами пункты носят чисто декларативный характер. В документе гораздо больше клятв в верности МВФ.
Несоответствие официальных ИПЦ, прожиточного минимума и минимальной зарплаты
В 1996 году и особенно в 1997 году увеличился разрыв между официальным уровнем инфляции и личным жизненным опытом автора. Это же фиксирует и Центр по ценообразованию и экономическому анализу (Центрцен). Например, в целом за 11 месяцев 1997 года потребительские цены, по официальным данным, выросли на 9,9%, а по данным Центрцен – на 39,5%140.
Председатель Комитета по труду и социальной политики Государственной Думы Сергей Калашников в статье «Объем социальной сферы падает» тоже отмечает, что, по данным за первое полугодие 1997 года, официальная инфляция в стране – 6%, а рост индекса цен – около 35%141.
Причин тут много и первая по весомости – это то, что до 40% ВВП находится в теневой экономике. Вторая причина – в условиях российской экономики чрезвычайно сложно получить информацию о реальных ценах и объемах производства. Предприятия всячески пытаются не давать истинных данных – ведь таким образом можно снизить налоги. Сбор данных об объеме производства, а также проверка их по различным источникам превратились скорее в искусство, чем в науку. Третья немаловажная причина в том, что статистическое ведомство – структурное подразделение правительства. Ведь имеются различные варианты обработки и анализа статистической информации. У Госкомстата РФ есть возможность выбора определенных процедур и методов в пользу правительства. Плюс возможности значительного объема экспертного досчёта результатов деятельности малых предприятий и теневой экономики. А кто платит, тот и заказывает музыку. Это подтверждается жизнью и личным опытом – будучи начальником сметно – договорного отдела крупной подрядной организации автор добивался удорожания стоимости объектов на 1,0 млн. руб. в год, а став начальником экспертизы областного агропрома – снижения стоимости ежегодно на 1,5 млн. руб., еще тех полновесных рублей 1981—1989 годов.
С января 1997 года Госкомстат в очередной раз внес изменения в методологию исчисления индексов потребительских цен (ИПЦ). Вместо еженедельной регистрация цен на товары и платные услуги стала ежемесячной, а номенклатура товаров и услуг расширена примерно на треть (!) и доведена до 383 позиций140. Увеличение числа позиций произошло в основном за счет качественных импортных товаров, цены на которые в мире относительно стабильны и непреемственны для России. При этом Госкомстат не сообщал о какой- либо корректировке индексов в связи с переходом на новую номенклатуру. Фактически с января 1997 года он стал определять показатели инфляции несопоставимые с показателями 1996 года и более подходящие только для 10% высокообеспеченной части населения.
Переход на новый порядок определения показателей инфляции, кроме потери преемственности, позволил Госкомстату России более широко прибегать к экспертным корректировкам результатов обработки ценовой информации с мест, что зачастую вызывает удивление работников облстатов.
Также в начале 1997 года изменилась и оценка размеров «теневой» экономики с 20 до 22%. Это небольшое изменение имело важное политическое значение: на основании расчетов исходя из 22- процентной доли теневой экономики был сделан вывод, что ВВП России увеличился в январе на 0,1%, в феврале – на 0,9%, т. е. впервые после шести лет спада начался экономический рост142 (?!). Поневоле вспомнишь изречение У. Черчиля о статистике: «Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика».
Вывод: необходимо переподчинить Госкомстат РФ Государственной Думе и Совету Федерации напрямую.
Особенно заметен разрыв между цифрами официального прожиточного минимума и реально необходимыми. В 1992 году в методику расчета прожиточного минимума были внесены столь существенные коррективы, что из минимально необходимого потребительского набора были исключены даже расходы на одежду, обувь, не говоря уж о предметах хозяйственно-бытового назначения и некоторых жизнеобеспечивающих услугах.
Фактическое отсутствие непродовольственных товаров и мизерная доля услуг, рост цен которых существенно опережает увеличение общего индекса цен, привело к первой причине занижения официальной величины прожиточного минимума. Ведь в 1996 г., например, темп прироста цен и тарифов на платные услуги (48,4%) почти втрое превысил темпы прироста цен на продовольственные (17,7%) и непродовольственные (17,8%) товары. Эта тенденция действует и сегодня, и будет продолжаться и в ближайшее десятилетия.
В основе расчета прожиточного минимума согласно действующей методике – минимальная продовольственная корзина, стоимость которой составляет 68% всего социального набора «для бедных» 143.
По сравнению с 1989 г. минимальная продовольственная корзинка 1992 г. не только уменьшилась в размерах, но и существенно изменилась по составу и структуре. Это и стало второй причиной занижения. В ней стало меньше мяса, молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, исчезли рыба и рыбопродукты, которые входили в продовольственные наборы прожиточного минимума не только 1989 г. (18 кг), но и даже 1919 г. (19 кг) 143. В результате произошел резкий сдвиг к хлебно -картофельной диете, рассчитанной на выживание в течение ограниченного периода времени. Энергетическая емкость продовольственного набора из 19 продуктов на 2/3 обеспечивается за счет потребления хлебных продуктов, картофеля, сахара. На хлеб и хлебопродукты приходится 24% стоимости минимальной продовольственной корзинки (декабрь 1996 года) – больше, чем на мясо (22%) или молочные продукты (23%) 143.
Используемая методика расчета прожиточного минимума потеряла всякий экономический и социальный смысл. Она занижена в разы. Но даже и такой минимальный паек на одного надо зарабатывать трём человекам с минимальными размерами заработной платы, то есть наш минимум зарплаты не обеспечивает даже минимума питания. Этого быть не должно ни в одном цивилизованном государстве.
Принятие норматива минимальной зарплаты, положенного в основу действующей тарифной сетки, обещало стать важным шагом на пути упорядочения оплаты труда и расчета социальных пособий в новых условиях. Однако одеяло оказалось перетянутым в сторону верхушки тарифной сетки так, что основание пирамиды осталось голым. На момент последнего увеличения минимальной заработной платы ее величина составила всего лишь 20% стоимости минимального социального набора и только треть стоимости набора из 19 минимально необходимых для выживания продуктов питания143. Новый закон от 24.10.97 г. №134-Ф3 установил только правовую основу. Теперь необходимо:
– Пересмотреть потребительскую корзину 1992 года, дополнить ее необходимой одеждой, обувью, услугами и предметами хозяйственно-бытового назначения.
– Утверждать структуру минимума не только исполнительной властью, но и представительными органами.
– Поднять минимальную заработную плату до стоимости двух минимальных социальных наборов, чтобы народонаселение РФ росло. При этом, можно пока не увеличивать тарифные ставки вышележащих разрядов.
Снижение качества жизни и численности населения
Согласно статданным 1992 и 1996 годов о численности населения, мы простились с 600 тысячами граждан. Фактически же, естественная убыль населения, как отмечает директор Института социально- экономических проблем народонаселения РАН д. э. н, Наталья Римашевская, составила 3,5 млн. человек144