Читать онлайн Факторы эффективности взаимодействия руководителя с группой бесплатно
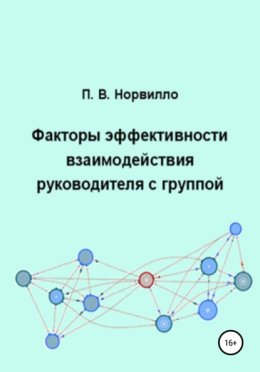
Предисловие
Представляя эту книгу, наверное, прежде всего стоит уточнить, что вниманию читателя предлагается теоретическое исследование, главным предметом которого стал ряд фундаментальных проблем социальной психологии. При этом процессы, связанные с организацией объединений людей, рассматриваются автором в основном как модельный пример, позволяющий с хорошей точностью рассмотреть проявления более общих механизмов межчеловеческого взаимодействия. Так что для полноценного понимания обсуждаемых идей и связанных с этим полемических замечаний наличие систематизированного психологического образования является весьма желательным. Те же, кто возьмётся за «Факторы эффективности…», рассчитывая найти в них «несколько простых советов», ознакомившись с которыми можно за пару недель превратиться в руководителя экстра-класса, скорее всего, будут разочарованы. Потому что никаких простых решений теоретическая психология предложить не может; всё, что ей по силам – это указать, как и в каком направлении следует работать, чтобы получить тот или иной результат.
Замечу также, что многие ключевые элементы излагаемой ниже концепции эффективного руководства достаточно отчётливо определились уже в начале 1980-х годов, когда я учился на факультете психологии МГУ. И некоторые образующие эту концепцию тезисы – отчасти из любопытства, отчасти из озорства, но главным образом потому, что это прямо соответствовало заявленной теме, – были упомянуты мною в дипломной работе. Правда, ни рамки диплома, ни уровень подготовленности автора на тот момент не позволили развернуть исчерпывающую систему обоснований, скажем так, не самого стандартного подхода к абсолютно классической тематике. (Достаточно сказать, что в окончательной редакции рукопись книги оказалась впятеро больше дипломной.) И, в общем-то, закономерно, что какого-то серьёзного теоретического прорыва или хотя бы предпосылок к нему тогда никто не заметил.
Тем не менее собственный опыт, как профессиональный, так и бытовой, раз за разом подтверждал, что в главном я не ошибался. И когда через несколько лет наконец стали проясняться не только общий смысл, но и рабочие детали теоретической схемы межличностного взаимодействия, то при подготовке нового текста в нём нашлись подходящие места практически для всех предварительных набросков из диплома1*.
Сложнее обстояло дело с возможностями для публикации – по горячим следам таковых найти не удалось. Но надежда со временем всё же издать подготовленные записки оставалась. Так что наблюдения за дискуссиями по вопросам эффективности руководства и за тем, не двинется ли кто-нибудь в сходном направлении, проводились достаточно регулярно. Вот только результаты этих наблюдений неизменно свидетельствовали, что, по сравнению с серединой прошлого века, уровень обсуждения данной проблематики уж точно не возрастал и едва ли даже не понижался. Из чего, в свою очередь, следовало, что, во-первых, предлагаемые соображения остаются вполне актуальными, а во-вторых, что попытки как-то модернизировать имеющийся текст и осовременить состав обсуждаемых авторов ничего не добавят к качеству изложения.
Ведь речь у нас будет идти не о позиции какого-то отдельного исследователя, а о тех основополагающих элементах воззрений на социальную психологию, которых придерживается весьма значительное число (а может, и большинство) коллег. А при таком подходе необходимо и достаточно зафиксировать именно тот инвариант, то центральное ядро, к которому тяготеют представители некоторой идейной агломерации, и вовсе не требуется углубляться в выяснение более мелких нюансов, по которым различают исходящие из этого общего базиса школы и течения. Для обсуждения же широко распространённых взглядов, чтобы не утомлять аудиторию излишне пёстрой мозаикой цитат, обычно стараются отобрать двух-трёх авторов, максимально доходчиво выражающих намеченную для анализа генеральную идею, и затем углублённо разбирают только логические построения этих авторов, пусть бы даже в библиографии имелись позднейшие, но менее внятные и концентрированные попытки сформулировать по сути аналогичные тезисы.
Конечно, в каждом отдельном случае, включая наш, может вставать вопрос: насколько эталонной для той или иной системы взглядов является точка зрения того или иного её адепта, и насколько точно то или иное высказывание отражает ход мыслей цитируемого «эталона»? Но для вынесения итогового вердикта по этому вопросу как раз и существует расширенное читательское жюри, на объективный и беспристрастный суд которого полагается всякий автор, выпускающий в свет плоды своих трудов. Замечу лишь, что для научных работ «старой школы» чёткость формулировок была одним из безусловных приоритетов. Тогда как у последних поколений психологов далеко не всегда можно найти прямые указания на то, какие базовые теоретические постулаты стали основой для их текущих рассуждений. (А когда под разговоры о необходимости уйти от устаревшей ограниченности традиционных методологических схем пытаются практически изобразить этакий «прогрессивный синтетический подход», то нередко в одном винегрете оказываются настолько несовместимые элементы, что просто диву даёшься.) Так что, как минимум, по критерию ясности личной теоретической позиции преимущественное внимание к сравнительно более ранним трудам и авторам является вполне правомерным шагом.
Ещё важнее то, что главным в развиваемой концепции были всё-таки не полемические выпады, а её позитивное содержание. И критический разбор позиций различных авторов или целых школ использовался ровно для того, чтобы, зафиксировав недостаточность имеющихся ответов на заявленные вопросы, предложить, как представляется, более адекватное решение. А раз главная идея остаётся неизменной, то перелицовка сопровождающих эту идею вспомогательных элементов становится операцией, может быть, желательной, но никак не обязательной. Потому что даже если окажется, что о ком-то из обсуждаемых авторов молодые специалисты последних выпусков ничего не слышали и не читали, в рассматриваемых взглядах они всё равно найдут много знакомого. Ведь, повторюсь, за последние десятилетия теоретическим основам психологии межличностного взаимодействия так и не довелось пережить принципиальных конструктивных обновлений.
На этом, пожалуй, с вступительными комментариями можно закончить и перейти к основному изложению. Думается, что после знакомства с ним все вопросы, связанные с составом используемых источников, отпадут сами собой.
Введение.
Вполне осознанные попытки выявить и систематизировать средства достижения эффективного функционирования человеческих объединений – политических, хозяйственных, образовательных – можно встретить уже в самых ранних памятниках письменности. И в этом нет ничего удивительного, поскольку на заре истории качество внутренней организации сравнительно малочисленных родо-племенных общин и начинающих государств являлось для них одним из важнейших условий развития, да и просто выживания. Ведь при низкопроизводительных средствах труда и, как правило, враждебных соседях снижение управляемости такого патриархального объединения людей могло обернуться не только катастрофическим голодом или порабощением, но и прямым истреблением его членов. Что и побуждало уже в те времена задумываться о наиболее продуктивных способах определения вождей; форматах принятия решений, затрагивающих всех членов общины; методах, как мы сказали бы сейчас, социализации подрастающих поколений и т. д. Ну а по мере становления цивилизации поток сочинений, затрагивающих различные аспекты организации управления большими и малыми сообществами людей, становится всё более бурным и полноводным, и с приближением к современности в его разливе начинают теряться даже такие фигуры, как Конфуций, Аристотель, Макиавелли.
Вот только и в наши дни, перед лицом этого почти необозримого океана наблюдений, мнений и рецептов, затрагивающих, казалось бы, все возможные управленческие ситуации, вряд ли кто возьмётся утверждать, будто с организацией больших и малых групп всё ясно, а совместная работа людей повсеместно налаживается без сучка и задоринки. Скорее даже придётся согласиться, что если бы реальные руководители вдруг стали обращать больше внимания на рассуждающую о них специальную литературу, то это далеко не всегда облегчало бы им поиск оптимального решения для той или иной практической проблемы. Потому что у разных авторов, пишущих о человеческих объединениях вообще и руководстве и подчинении в частности, интерпретации одних и тех же процессов и явлений зачастую не то что не совпадают, но прямо противоречат друг другу. А когда категорически расходятся стартовые посылки исследователей, то трудно ожидать от них согласия в итоговых выводах и рекомендациях.
Но ещё важнее понимать, что здесь нет поводов для злопыхательства или уныния. Потому что подобное состояние, при всех минусах, вовсе не является чем-то абсолютно ненормальным и свидетельствует просто о том, что переживающая его наука пока только движется к зрелости. А на ранних этапах своего становления через сходные ситуации доводилось проходить самым разным дисциплинам, включая столь заслуженные, как физика и химия. И сколь бы малосъедобным ни казалось то, что подаётся в зал с теоретической кухни интересующей нас сейчас психологии управления, всё равно в нём надо разбираться или хотя бы пытаться это сделать.
А чтобы попытка не оказалась напрасной, начинать надо с самых что ни на есть основ. Ибо из реальностей, соответствующих четырём базовым для организации управления понятиям – а именно такими мы полагаем вынесенные в заголовок данной работы понятия «руководитель», «группа», «(человеческое) взаимодействие», «эффективность (человеческого взаимодействия)», – только фигура руководителя трактуется более-менее единообразно и не вызывает особых споров. Но уже по поводу отношения руководителя к подчинённым возникают разногласия. Например, Н. В. Голубева считает, что «в производственных условиях, где взаимоотношения между работниками в значительной степени определяются официальной структурой, руководитель является наиболее влиятельным членом группы (курсив наш – П. Н.)» (1973, с. 37). А Т. Ю. Базаров (1981), вслед за Т. Шибутани (1969), предлагает исходить из маргинального положения непосредственного руководителя, отказывая ему тем самым в статусе полноправного члена группы.
Ещё более загадочной выглядит ситуация с самой группой. Пока речь идёт об объёме понятия, звание «группы» уверенно присваивается рабочим бригадам, спортивным командам, семьям, дружеским компаниям и так далее вплоть до объединений, собираемых вместе лишь на время проведения психологических опытов. В связи с чем стороннему наблюдателю может показаться, будто группа – это есть нечто вполне очевидное и само собой разумеющееся. Но не тут-то было! Ст`оит добросовестным авторам от называния примеров перейти к содержательному обсуждению групповой динамики, и всякую безапелляционность как рукой снимает и выясняется, что у пытающихся изучать «группу» нет даже единого понимания объекта своих изысканий. Ибо вместо общепризнанного определения одного из центральных понятий социальной психологии действующие в ней «научные школы» могут предложить лишь довольно длинный ряд версий того, какого рода образования, по их мнению, следует считать группами.
И это в то время, когда в рамках науки логики уже давным-давно установлено, что объём и содержание понятия неразрывно связаны между собой, так что определённость (или неопределённость) состава элементов, охватываемых тем или иным понятием, впрямую зависит от того, насколько ясным (или расплывчатым) является для нас общий смысл данного понятия и состав признаков, отличающих его от других понятий. Иначе говоря, пока мы точно не знаем, что такое группа вообще, пока у нас вместо одного принимаемого всеми определения группы есть лишь множество вариантов такого определения, до тех пор суждение вида: «Эта бригада (команда, рота, семья, …) есть группа», – может рассматриваться только как предположение, требующее изучения и обоснования. Если же кто-то, не приводя должных обоснований, берётся тем не менее настаивать, что некоторое множество людей является именно группой, а не чем-то ещё, то подобная категоричность не столько убеждает, сколько обнаруживает логическую малограмотность автора.
Ничуть не лучше обстоит дело и с взаимодействием. Достаточно сказать, что только в отечественной психологической литературе можно насчитать едва ли не двузначное число трактовок этого понятия. Вот некоторые из них:
1) На психологию распространяется чисто физическая трактовка понятия «взаимодействие», не делающая различий между разумными активностями и механическими соударениями (только стоя на этой точке зрения можно относить к взаимодействию труд с применением машин) (Крылов, 1980).
2) Понятие «взаимодействие» используется как равноценная замена понятию «непосредственные межличностные контакты» и, таким образом, вплотную сближается с понятием «взаимоотношения» (Агеев, 1983).
3) В связи с присутствием между людьми как сознательно оказываемых, но не бросающихся в глаза взаимных влияний, так и проявлений, измеримых в физических величинах и легко доступных для внешнего наблюдения, вводится различение объективных и субъективных межличностных связей и отношений. После чего преимущественно механические контакты предлагается называть взаимодействиями, а стоящие за ними собственно человеческие основания внешних поступков – взаимоотношениями (Психологический словарь, 1983).
Не продолжая далее этого парада версий и оставляя в стороне вопрос о достоинствах и недостатках каждой из них, лишь ещё раз отметим, что отсутствие единогласия налицо.
В такой обстановке, когда не до конца ясно, какие объединения людей заслуживают права именоваться «группой» и что представляет собой человеческое взаимодействие, тем более расплывчатыми начинают выглядеть контуры понятий «эффективная группа» и «эффективность взаимодействия». Тем не менее, казалось бы, очевидная «сырость» исходного материала отнюдь не стала препятствием для многочисленных и по видимости вполне наукообразных изысканий на тему эффективной организации.
Вот как резюмирует свои наблюдения за стараниями на этом поприще зарубежных коллег С. С. Паповян: «Согласно современным представлениям (это прежде всего относится к американским исследованиям), климат [психологический] в существенной степени определяет … групповое и индивидуальное производственное поведение (удовлетворённость трудом, производственные установки, производительность и эффективность труда, прогулы, текучесть и т. д.)» (1978, с. 163). При этом «объективные свойства организации (такие, как её объём, формальная структура, стиль руководства, объём контроля, цели организации и т. д.) рассматриваются как параметры ОК [организационного климата] и как причинные факторы по отношению к поведению членов организации» (там же, с. 165). «Собственно социально-психологические характеристики группы, такие, как стиль лидерства, межличностные взаимоотношения, мотивация деятельности и другие, рассматриваются в основном как промежуточные или второстепенные переменные», – добавляет к этому Р. С. Немов, (1978, с. 55).
А вот в чём видят залог организационной эффективности отечественные специалисты:
«1. Благоприятный психологический климат способствует повышению производительности труда.
2. Для создания благоприятного психологического климата необходима положительная установка руководителя группы на подчинённых» (Максимова, 1973, с. 33).
Интерпретация состояния психологического климата как единственной переменной, прямо влияющей на производительность труда, дополняется утверждением, что «зависимость социально-психологического климата от факторов его собственной микросреды всегда детерминирована макросредой» (Свенцицкий, 1973, с. 27). А в числе макрофакторов климата указываются «организации, которые руководят данным промышленным предприятием; органы управления и самоуправления … промышленного предприятия, его общественные организации» (там же, с. 26).
Сравнивая эти подходы, можно искать и находить отличия в деталях и акцентах (например, Б. Д. Парыгин специально подчёркивает, что «особую роль среди всех других факторов формирования социально-психологического климата первичного коллектива играют отношения руководства и подчинения» (1981, с. 37)), но то, что перед нами две разновидности одной принципиальной модели, не вызывает сомнений. В обоих случаях во главу угла под именем «климата», будь то «организационного» или «психологического», ставится некая интегральная переменная, которая вбирает в себя все и всяческие объективные и субъективные факторы и способствует (либо не способствует) позитивным изменениям в поведении членов иерархически организованного объединения людей. Соответственно, если речь идёт о промышленном предприятии, то в качестве основных показателей позитивности поведения (а стало быть, и важнейших направлений воздействия «климата») указываются производительность труда, прогулы, текучесть и т. д. Если требуется порассуждать о каком-либо ином типе организаций, то в общую схему вносятся подобающие редакционные правки, но сама схема остаётся неизменной.
При этом продуктивность «климатических» идей в их американском варианте оценивается без всякого оптимизма: «несмотря на интенсивный рост количества исследований, их реальный вклад в разработку теории и практики эффективной группы продолжает оставаться неудовлетворительным» (Немов, 1978, с. 56). Верно указывается и причина этого, которая буквально лежит на поверхности: «модель организации, на которой основывается такой подход, носит исключительно бихевиористский характер, рассматривая поведение как непосредственную реакцию на стимульные воздействия среды и исключая психологическую среду организации как детерминанту поведения» (Паповян, 1878, с. 165). Однако когда доходит до дела, проявляемое на словах критическое отношение к зарубежным моделям сразу куда-то улетучивается, и в трудах домашних «психологических климатологов» рядовые работники в своей эффективности зачастую предстают не активными и равноправными участниками процесса, но гораздо больше напоминают безвольных заложников стиля руководства и вышестоящих организаций. Не ограничиваясь формированием у читателя такого общего впечатления, некоторые авторы находят уместным специально подчеркнуть свою приверженность бихевиористскому тезису об активности руководителя и реактивности подчинённых. Например: «Руководитель производственного коллектива не только определяет (в соответствующих рамках) цели подчинённых, планирует, организует и контролирует их работу. Он должен также побуждать своих подчинённых активно стремиться к достижению этих целей» (Свенцицкий, 1975, с. 92). Или вот такой прогноз: «Знание положений психологических наук позволит руководителям выбирать рациональный стиль работы и принять действенные методы мотивации подчинённых» (Аунапу, 1977, с. 21).
Так что, подводя итог рассмотрению ныне бытующих взглядов на природу эффективного руководства и сопоставив даты выхода в свет посвящённых этой проблематике книг и статей, остаётся лишь согласиться с классиком, что «наши хулители лукавого и гниющего Запада не имеют в этом отношении никакой иной заслуги, кроме той, что с Запада же переносят готовое и вдобавок противуобщественное воззрение» (Салтыков-Щедрин, 1966, т. 5, с. 38). Хотя, с другой стороны, чтобы быть вполне объективными, стоит вспомнить и о том, что, теория, приписывающая непосредственным исполнителям сугубую пассивность и безразличие к выполняемой работе, вовсе не является для России чем-то совсем новым и категорически чужеродным. Ведь уже в XVIII веке среди отечественного дворянства (то есть правящей и сравнительно просвещённой верхушки тогдашнего общества) обретает широкую популярность не очень изысканная, но зато во многом самобытная концепция управления, исходившая из того, что крестьяне (подчинённые) – это есть «ленивые скоты», и для того, чтобы они успешно исполняли свои обязанности, необходимо периодически «взбадривать» (~ побуждать и мотивировать) их плетьми. А из этих посылок уже очень органично вытекал тезис о том, что эффективность всего общественного производства решающим образом зависит от распорядительности (~ стиля руководства) помещиков (~ непосредственных руководителей) и представителей власти на местах (= вышестоящих организаций).
Столь почтенный возраст и традиции «климатической», а попросту говоря, монархической2* идеологии существенно упрощают задачу возражения этой идеологии во всех её конкретно-теоретических ипостасях. Ибо для того, чтобы неголословно объявить посылки и выводы «психологических климатологов» тупиковыми, уже не требуется пространно разъяснять, что подчинённые в не меньшей степени, чем руководитель, являются субъектами деятельности, активно относящимися к своему служебному положению и выполняемым заданиям. На фоне всего вышесказанного достаточно будет просто заметить, что после XIX века закрывать глаза на методологическую ограниченность монархических идей и историческую бесперспективность вытекающей из них практики управления могут разве что самые упорные апологеты единодержавия либо крайне слабо эрудированные люди.
Резюмируем: на сегодняшний день теория эффективной организации (немаловажной частью которой должна стать концепция эффективного руководства) не то что не создана, но даже не имеет прочного фундамента. Потому что, за исключением понятия «руководитель», все остальные потенциальные «кирпичи» искомой теории являются весьма и весьма «сырыми» и нуждаются в предварительной «формовке» и «просушке». А так как без надёжных точек опоры, на расплывчато-неуловимом основании ни здания, ни теории не построить, то, если мы хотим хоть немного приблизиться к пониманию условий и средств налаживания эффективного человеческого взаимодействия, начинать надо с выяснения и максимально строгого ограничения объёма и содержания фундаментальных понятий.
Да, терминологическая обстановка в области социальной психологии является, мягко говоря, неоднозначной. И надежду – если таковая присутствовала – сходу добраться до существа проблемы лучше оставить сразу, чтобы потом не разочаровываться. Однако терпеливых и вдумчивых читателей подобные сложности вряд ли могут смутить. Конечно, уверять, что после знакомства с этими почти старинными записками никто не будет разочарован, а многие вопросы психологической теории и практики перекочуют в разряд окончательно решённых, было бы излишне самонадеянно. Но осторожно предположить, что результаты этого непростого расследования помогут коллегам под несколько иным углом взглянуть на типологию видов и уровней человеческого взаимодействия, – такое право у автора есть.
1. Руководитель и группа.
Научно выверенное определение того, образуют ли подчинённые и их официальный руководитель единую группу, или же последний занимает некое особое положение не только в административной, но и социально-психологической системе отношений (на этот счёт, как мы видели, в литературе высказываются разные мнения), вовсе не является третьестепенной мелочью, способной волновать лишь досужих теоретиков. От того, кем «на самом деле» является руководитель для возглавляемых им людей – «своим» или «чужим», зависит, например, будем ли мы считать, что более адекватно ведут себя те начальники, которые держатся наравне с подчинёнными, или же те, кто всегда сохраняет дистанцию между собой и направляемым контингентом. Можно указать и немало других предельно практических обстоятельств, связанных с необходимостью решать, какой формат контактов с подчинёнными будет здесь и сейчас нормальным, подобающим статусу руководителя, а какие проявления противоречат этому статусу и должны быть признаны «ненормальными».
Так что вопрос о положении руководителя в собственно человеческой структуре возглавляемого им производственного, учебного, административного, военного или какого-то иного подразделения становится весьма актуальным как раз при решении задач практической организации объединений людей. И рассуждать об эффективности взаимодействия без определения личной позиции по этому вопросу явно не удастся. Однако, с другой стороны, просто присоединиться к одному из уже упоминавшихся ответов тоже не выход, поскольку на развилке «руководитель является членом группы – руководитель не является членом группы» априорный выбор любого варианта оставляет нас в более широком концептуальном тупике.
Дело в том, что любые попытки в психологическом плане жёстко привязать руководителя к его подчинённым или, напротив, категорически отлучить от них игнорируют следующий немаловажный момент: проблема групповой принадлежности руководителя – при всей своей значимости для теории и практики – не является самостоятельной, но есть лишь частный случай общей проблемы группового членства. И служить обоснованием ответа на вопрос о статусе руководителя по отношению к группе должны не указания на те или иные особенности положения официальных должностных лиц на производстве или где-то ещё, а то или иное понимание группы и вытекающее из него определение члена группы. Поэтому мы пока отложим рассмотрение вопроса о групповой принадлежности руководителя и попробуем прежде выяснить, что представляет собой группа как таковая.
1.1. К определению понятия «группа».
Воспользуемся тем, что работа по сопоставлению многочисленных определений группы уже проделана, и обратимся сразу к наиболее «синтетическому»: «Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов» (Андреева, 1980, с. 237).
При этом, «кристаллизовав» приведённое определение и справедливо указав, что трактовка понятий и «центры тяжести» в этом наборе признаков могут быть различными, сама Г. М. Андреева предлагает: а) считать наиболее значимым для группы факт общей социальной деятельности; б) под «общей социальной деятельностью» понимать то, что «сразу задаёт группу как элемент социальной структуры общества, как ячейку в более широкой системе разделения труда» (там же). Проще говоря, предлагается считать деятельностью работу по специальности, т. е. сделать тот самый «первый шаг», который «состоит … обычно в отождествлении трудовой деятельности как таковой с производственной функцией» (Хараш, 1977, с. 27).
Характеризуя такой ход мысли как типичный для социологических исследований деятельности производственных групп и коллективов, А. У. Хараш предупреждает, что подобная позиция допустима только в начальной стадии, и если отношение исследователя к деятельности людей на производстве не изменится, то все последующие интерпретации и выводы будут ничем иным, как социологическим редукционизмом со всеми вытекающими отсюда ограничениями и прямыми ошибками. В том, насколько серьёзно это предупреждение, мы не раз сможем убедиться в дальнейшем и в том числе на тезисах Г. М. Андреевой. Однако не будем слишком сильно забегать вперёд и вернёмся к выяснению того, что есть группа с психологической точки зрения.
Итак, чтобы быть вполне справедливыми к ним, заметим, что сторонники отождествления группового состава с штатным расписанием небольших структурных единиц более широкой организации всё-таки не чужды здравого смысла. И среди прочего понимают, что в жизни персонал некоторого структурного подразделения (даже если оно официально называется группой, а не участком, отделом, департаментом и т. д.), не всегда действует сообща, а порой может разделяться на откровенно противостоящие друг другу фракции. Поэтому для описания ситуаций, когда подлинное единство взглядов и поступков складывается между людьми, числящимися в разных структурных подразделениях или вовсе не входящими в организацию, дополнительно к «группе членства» вводится понятие «референтной группы» и «референтных отношений». И предлагается думать, что если некий человек не следует нормам, не разделяет ценностей, третирует своих соседей по списку «ячейки в более широкой системе разделения труда», то это значит, что у данного человека нет со «своей группой» отношений референтности.
То есть фактически утверждается, что для осмысленного прогнозирования поведения людей, помимо их официального статуса, требуется ещё знать их личное отношение к этому статусу и всей связанной с ним организации. И с этим трудно не согласиться, стоит только представить себе сотрудника, который не дорожит своей должностью либо, будучи агентом политических или экономических конкурентов, прямо враждебен своим номинальным коллегам. Очевидно, что при подобном настрое любые самые детальные сведения о штатной позиции такого сотрудника не позволят сделать хоть сколько-нибудь надёжных предположений о том, как поведёт он себя в той или иной профессиональной ситуации (не говоря уже о бытовых).
Правда, после признания, что на данных об одном лишь служебном положении человека далеко не уедешь, адепты социологизаторского подхода к деятельности как будто спохватываются, что такая уступка реальности вплотную подводит их к отрицанию собственных исходных посылок. Во всяком случае делать следующий логически вытекающий из такого признания шаг и подобающим образом скорректировать своё определение группы они даже не пытаются. А значит, дальше придётся двигаться самим. Благо никаких сверхъестественных усилий для этого не требуется.
В самом деле, если из цитировавшегося определения группы и лежащей в его основе «общей социальной деятельности» убрать – по причине их полной практической и теоретической бесполезности – отсылки к общественному разделению труда и тарифно-квалификационному справочнику, то это определение обернётся хотя и несколько витиеватым, но в целом оправданным противопоставлением группы как объединения людей всевозможным стаям, прайдам, табунам и прочим объединениям существ, не являющихся людьми. Потому что эмоционально-насыщенные контакты, нередко очень жёсткие нормы поведения и сложные процессы организации совместного выживания можно наблюдать у многих видов животных. Но только человеческая деятельность является социальной в силу самого своего происхождения, и если человеческий индивид вскоре после рождения почему-либо оказывается вне сферы человеческих отношений, то, как показывают истории реальных «маугли», он так и остаётся животным. И наоборот, если уже зрелый человек вдруг оказывается за пределами социума, то и в полном одиночестве он продолжает действовать, опираясь на ту часть общечеловеческого опыта, которую успел усвоить. Так что вместо рассуждений о неких «членах, объединённых общей человеческой деятельностью», на наш взгляд, гораздо проще и понятнее будет сказать, что в психологии группа – это люди, занятые общей деятельностью.
К этому остаётся добавить, что признаком, с которым взаимооднозначно соотносится понятие деятельности, точнее, особенной деятельности, является предмет деятельности или мотив3*. А стало быть, чтобы сделаться «общей», деятельность должна, во-первых, выполняться сообща, совместно, а во-вторых, направляться к достижению единого для всех участников мотива.
Надо сказать, что вопрос об общей деятельности в её психологическом понимании не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, и выяснение этого вопроса невозможно без углубления в сферы, подчас весьма далёкие от социальной психологии. Поэтому, чтобы не нарушать смыслового единства данного изложения, более детальный разговор об общности и разности человеческих мотивов было признано целесообразным вынести в Приложение (см. стр. 293 и далее). Здесь же ограничимся ссылкой на итоговый вывод, а именно: у человека имеется потребность, самодостаточным предметом которой могут служить изменения во внешнем мире, и на основе этой потребности могут возникать тождественные мотивы и полностью одинаковая деятельность. Отсюда окончательно получаем следующее определение группы: «Группу образуют люди, совместно действующие ради достижения общего мотива».
А в качестве общего резюме теперь можно со всей определённостью сказать, что вопрос о групповом членстве руководителя не имеет и не может иметь никакого универсального решения. Ответ на этот вопрос должен даваться на основе анализа каждой конкретной ситуации с точки зрения того, совпадают или не совпадают мотивы данного руководителя и хоть кого-нибудь из его подчинённых. Да, на сегодняшний день такой анализ чаще будет давать отрицательный результат. Но даже если бы оказалось, что ни один из действующих руководителей не является членом работающей с ним группы, для теории это не имеет ровно никакого значения, а принципиально лишь то, что там, где подчинённые образуют группу, руководитель может в неё входить. А может и не входить, если не разделяет мотива, объединяющего его подчинённых.
2. Руководитель и взаимодействие.
Предыдущая глава позволила нам убедиться, что, переходя от умозрительных схем к обсуждению реальных обстоятельств, даже идеологи референтности по сути соглашаются с тем, что личные мотивы и цели человека не всегда совпадают с его официальными служебными предписаниями и, более того, могут прямо противоречить им. Однако, как мы тоже уже видели, это не мешает зарубежным знатокам организационной психологии и старающимся не отстать от них отечественным авторам трактовать отношения в иерархически упорядоченных объединениях людей исключительно как одностороннее воздействие руководителей на подчинённых.
И как это ни грустно, но приходится признать, что в истории и современности можно встретить в том числе такой формат отношений. Вместе с тем хочется заметить, что если подчинённые не доведены до полной утраты человеческого облика и сохраняют свою индивидуальность – а большинству это всё-таки удаётся, – то для таких людей хотя бы чисто теоретически следует допустить, что их отношения с руководством могут носить взаимный характер, быть взаимо-отношениями. А если спуститься с концептуальных высот и посмотреть на жизнь, как она есть, то становится ясно, что по содержанию воздействие на руководителя снизу может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Ибо подчинённые могут не только содействовать руководителю в достижении более общих целей организации, но и активно мешать «начальству» выполнять свои функции. Предельными формами отношений последнего типа являются такие, может, не очень добрые, но точно старые явления, как саботаж, восстание, государственный переворот. А уж подсчитать число разных мелких интриг по «подсиживанию» руководителя ради занятия его места или просто из личной неприязни и подавно никто не возьмётся.
Возвращаясь же к теории, остаётся констатировать, что принципиальная возможность складывания между руководителем и подчинёнными по крайней мере трёх существенно различных видов отношений означает, что для претендующего на систематичность исследования этой тематики требуется:
– во-первых, выявить полную структуру межличностных процессов, способных протекать в связке «руководитель-подчиненный»;
– во-вторых, определить систему терминов, позволяющих не «по крайней», в полной мере описать подлежащие учёту и анализу разновидности отношений руководителя и подчинённых.
Впрочем, задача несколько упрощается, если вспомнить, что огромное большинство как управляющих, так и управляемых в основе своей являются обычными нормальными людьми. И при изучении их взаимоотношений нет необходимости всё время подчёркивать, что речь идёт именно о руководителе и подчинённых, а достаточно будет рассмотреть эту коллизию в общем виде, то есть просто как типологию межличностных процессов.
И ещё одно уточнение по поводу терминологии. Выше, при обсуждении употребления в психологии понятия «взаимодействие», уже отмечалось, что есть трактовки, зачисляющие в разряд «межличностных» сопутствующие человеческому общежитию объективные связи и отношения. Формально тут не к чему придраться, поскольку между людьми действительно совершается немало чисто механических соударений, в которых участники не усматривают ничего личного и воспринимают друг друга практически наравне с неодушевлёнными элементами внешней обстановки. И даже если партнёр по доступному для внешнего наблюдения процессу воспринимается как живое существо, то это ещё не означает, что в достающихся ему действиях будет хоть как-то учитываться его неповторимая личностная составляющая. (К примеру, объект каннибализма распредмечивается не как человек суть носитель сознания, а просто как средоточие органических веществ, которое должно сохранять свойство жизни лишь до определённого момента и не более того.) Так что отнесение к «межличностным» тех межчеловеческих взаимодействий, участники которых не видят разницы между человеком-личностью и человеком-физическим объектом, хотя и не нарушает правил логики, но в содержательном плане ничего нам не даёт, а только вносит дополнительную путаницу в и без того непростую ситуацию. Поэтому, говоря о межличностных процессах, мы здесь и в дальнейшем будем иметь в виду только такие межчеловеческие проявления, в которых хотя бы один из субъектов воспринимает другого как самодеятельную личность с некоторыми особыми интересами.
Ну а теперь, зафиксировав все эти необходимые предварительные замечания, самое время заняться непосредственно типологией межличностных процессов.
2.1. К определению понятий «межличностные отношения»
и «межличностные взаимоотношения».
Сопоставляя между собой уже выделенные виды человеческих взаимодействий, нетрудно заметить, что в основе их разграничения лежат два признака – субъективная включённость участников в фактически связывающий их процесс и отношение к целям и мотивам друг друга. И так как субъективная включённость может быть односторонней или взаимной, а отношение к интересам другого человека – положительным, отрицательным или нейтральным (никаким), то всё множество межличностных процессов, классифицированных по этим признакам, можно наглядно представить в виде следующей матрицы:
Три элемента этой матрицы нам уже встречались: фигура 1, соответствующая ситуации, когда один человек (объединение людей), не обращая внимания на интересы другого человека (людей), приспосабливает его (их) к обслуживанию собственных замыслов – это и есть одностороннее воздействие в бихевиористском духе. Фигура 5, соответствующая осознанной включённости в процесс отношений при заинтересованности в успехе друг друга, – это взаимное со-действие, взаимопомощь. Фигура 6, соответствующая сознательному участию в межличностном процессе всех его сторон при взаимно отрицательном отношении к интересам друг друга, – это противодействие. Которое, ещё раз подчеркнём, может и не превращаться в войну на уничтожение, а протекать в сравнительно умеренных формах. Тем не менее, с точки зрения психологического позиционирования вовлечённых сторон, тяжба соседей из-за расположения забора и борьба государей за влияние в далёком заморском регионе являют собой вполне сопоставимые процессы.
Что касается фигур 2 и 3, то это тоже достаточно хорошо известные виды отношений. Вспомним хотя бы неоднократно описанные в исторической и художественной литературе ситуации тайного покровительства и тайного же вредительства, в которых только одна из сторон межличностного процесса знает о его подлинном содержании, а вторая разве что чувствует присутствие в своих успехах или провалах какого-то внешнего влияния, но не понимает, чьего именно. Или же совсем ни о чём не догадывается и видит в происходящем вокруг себя обычное стечение обстоятельств. К фигуре 3 с полным правом следует отнести также отношения людей, один из которых знает о попытках другого напакостить себе, но считает создаваемые данным партнёром угрозы малосущественными и не видит смысла на них отвечать. Вот как в своё время объяснял эту позицию М. В. Ломоносов:
Отмщать завистнику меня вооружают,
Хотя мне от него беды отнюдь не чают,
Когда Зоилова хула мне не вредит,
Могу ли на него за то я быть сердит?
Однако ж осержусь! Я встал, ищу обуха;
Уж понял, замахнул… А кто сидит тут? Муха!
Коль жаль мне для неё напрасного труда.
Бедняжка, ты летай, ты пой, мне нет вреда.
И, пожалуй, только фигура 4 может показаться несколько искусственной, чересчур теоретической, поскольку обозначает ситуацию, когда каждый из участников межличностного процесса стремится обратить в свою пользу поступки партнёра и при этом, во-первых, не придаёт значения аналогичным попыткам с его стороны или вовсе их не замечает, а во-вторых, не собирается помогать или препятствовать партнёру в достижении его целей. Но, думается, что если присмотреться под этим ракурсом к одной только европейской истории, то в клубках придворных интриг найдутся подобные случаи. И даже если бы в практике человеческих отношений не обнаружилось ни одного примера с признаками фигуры 4, то, в конце концов, логически возможное на то и логически возможное, чтобы быть шире фактически существующего. Было бы гораздо хуже, если бы полученная теоретическая схема вместо того, чтобы с запасом покрывать встречающиеся в жизни формы межличностных процессов, оказалась беднее и уже наблюдаемой реальности.
Теперь о терминах.
Если допустить, что содержание понятия «отношения» отличает от «взаимоотношений» прежде всего то, что во взаимоотношениях, помимо естественной механической реактивности, присутствует также психологическая взаимность, то в такой интерпретации наиболее естественным объёмом для понятия «межличностные отношения» предстанут межличностные процессы с односторонней субъективной включённостью (верхняя строка в таблице). А межличностные процессы с обоюдной субъективной включённостью (нижняя строка в таблице) логично будет именовать «межличностными взаимоотношениями».
Переходя же к названиям для отдельных фигур, прежде всего хочется обратить внимание на то, что субъективно односторонние межличностные процессы представляют собой явление, для классификации которого сходство формы играет более важную роль, чем различия во внутреннем содержании. Ведь когда человек (объединение людей) в своих отношениях с другими людьми – пусть даже из самых лучших побуждений – избегает открытости и предпочитает, внешне оставаясь в стороне, закулисно «дёргать за ниточки», то такой характер контактов уже упоминавшееся понятие «воздействие» отражает просто идеально. И точно также в ситуациях, когда человек знает, кто желает оказать ему поддержку или, наоборот, навредить, но никаких взаимных действий в связи с этим не предпринимает, межличностный процесс по сути своей остаётся односторонним воздействием независимо от того, достигают усилия активной стороны своей цели или же оканчиваются ничем. Так что для обозначения отдельных разновидностей этого формата отношений лучше всего подойдут двусложные термины, в которых родовое имя «воздействие» дополняется соответствующим видовым определением (например, «позитивное» или «поддерживающее воздействие» для фигуры 2 и «негативное» или «угрожающее воздействие» для фигуры 3).
Определённо примыкает к межличностным отношениям и фигура 4. Да, «нулевое» отношение к интересам другого человека может проявляться в разных формах и с массой оттенков. И по своим причинам и последствиям снисходительное равнодушие некоторых родителей к занятиям детей, когда известно лишь, что ребёнок куда-то «ходит», а на бокс или танцы уже давно забыто, безусловно, многим отличается от высокомерного пренебрежения колонизаторов к покорённым народам, когда аборигенов в принципе не считают заслуживающими звания людей. Тем не менее в психологическом плане эти и многие другие межличностные коллизии объединяет то, что один из участников изначально даже не пытается выяснить, в чём состоят личные интересы контактирующего с ним человека.
В силу такого настроя «старшего» партнёра ребёнку или подвластному колониальной администрации местному жителю могут доставаться персональные и в том числе очень жёсткие санкции, например, при попытках выйти за те или иные отведённые для них территориальные или процедурные границы. Но бороться авторы санкций будут именно с внешне наблюдаемым поведением, нарушающим установленные рамки, а вовсе не с планами и пожеланиями нарушителей. Потому что не может быть целенаправленного противодействия тому, что признаётся не заслуживающим внимания и заранее выносится за скобки всех расчётов как пренебрежимо малая величина.
С другой стороны, не только старания родителей, но и некоторые шаги оккупационных властей могут приносить управляемым известную пользу. Однако если отношение к личным интересам благодетельствуемых остаётся безразлично-нулевым, то психологически для подобных благотворителей их деяния оказываются гораздо ближе к регламентным работам по обслуживанию неодушевлённых устройств, нежели к осознанной помощи конкретному человеку в достижении интересующего его результата.
Заметим попутно, что если восприятие другого человека как не вполне самодеятельного субъекта и неравноценной себе величины связывается с определёнными индивидуальными особенностями4*, то по мере устранения этих особенностей отношение к их недавнему обладателю, скорее всего, будет меняться. Если же игнорирование чьих-либо стремлений и пожеланий вызывается универсальными представлениями о превосходстве своей расы, нации или социальной группы и распространяться на всех «неполноценных» в любое время и в любом месте, то тогда человеку (людям) для прекращения подобных отношений становится необходим серьёзный переворот во взглядах (что, в свою очередь, обычно совершается только при наличии очень веских внутренних или внешних причин.). Зато на теоретическую классификацию межличностных процессов наличие или отсутствие между людьми явных объективных различий не влияет никак. Раз один из участников не придаёт значения интересам другого, то это значит, что перед нами отношения воздействия независимо от того, имеется ли в положении сторон некое действительное существенное различие или же неравноценность партнёра существует лишь в чьём-то воображении.
А самое главное, ничего принципиально не изменится, если подобный настрой окажется взаимным. Просто в этом случае все участники будут считать себя единственной полноценной стороной контакта и на этом основании в одностороннем порядке добиваться от партнёров нужного им поведения. Так что в рамках предлагаемой схемы разворачивающийся между ними процесс логичнее всего будет квалифицировать как «встречное воздействие». Которое теоретически тоже может быть результативным. Ведь если нашим героям удастся быстро получить желаемое, то их контакт так и завершится, не выходя из взаимно-одностороннего режима. Если же попытки встречного манипулирования долгое время будут оставаться безрезультатными, то их авторы могут опять-таки либо выйти из контакта, признав его неудачным, либо перевести свои отношения в иной формат. Например, открыто заявить и согласовать свои цели и в дальнейшем координировать общие усилия по их достижению либо, убедившись в противоположности базовых мотивов друг друга, вступить в осознанный конфликт.
К этим же видам межличностных взаимоотношений пора перейти и нам. Выше для обозначения процесса, в котором участники целенаправленно мешают друг другу осуществлять неприемлемые для себя планы (фигура 6), уже использовалось слово «противодействие». И данное понятие настолько точно характеризует последствия обоюдной субъективной включённости в межличностный процесс людей, негативно относящихся к интересам партнёра, что, на наш взгляд, гораздо проще возвести его в ранг официального термина, нежели пытаться подобрать ещё какой-нибудь синоним к активным встречным столкновениям намерений и действий.
После чего остаётся лишь определиться с наименованием для межличностных проявлений, относящихся к фигуре 5 – взаимные отношения с встречной поддержкой. Причём для благозвучного завершения уже наметившегося ряда из «воздействия» с его четырьмя разновидностями и «противодействия» буквально просится слово «взаимодействие». Но под ним, как мы видели, могут подразумеваться совсем иные реальности. И при всех разногласиях имеющиеся версии едины в том, что объём понятия «взаимодействие», во всяком случае, не уже объёма понятия «взаимоотношения», а споры сводятся в основном к тому, считать ли взаимодействие синонимом взаимоотношений или лучше зарезервировать его для обозначения более широкого круга процессов. Так что признание «взаимодействия» разновидностью «взаимоотношений», а значит, трактовка его как понятия более узкого, чем понятие «взаимоотношения», противоречило бы всем современным версиям вместе взятым. В связи с чем настаивать на подключении к и так уже задёрганному в самые разные стороны «взаимодействию» ещё одной интерпретации было бы шагом очень самонадеянным и вряд ли продуктивным.
Однако подобрать другой термин, способный адекватно отразить интересующее нас содержание, тоже оказывается не самой простой задачей. Например, по смыслу «взаимо-со-действию» весьма созвучно «сотрудничество», но для психологического термина это понятие на сегодняшний день всё-таки слишком политизировано. А этимологически близкая к взаимодействию «интеракция» тоже используется для обозначения любых видов взаимоотношений и далеко не всегда адресуется собственно взаимно-доброжелательным действиям. Наконец, из освоенного отечественной психологией терминологического арсенала на роль краткого названия для отношений людей, сознательно и активно поддерживающих друг друга, мог бы претендовать ещё один термин-калька «кооперация», в буквальном переложении как раз и означающий «согласованные действия». Так что при принятии этого варианта возмущения, вносимые им в существующую систему понятий, были бы, пожалуй, сравнительно наименее серьёзными. Если бы опять-таки не одно «но».
Дело в том, что как средство противопоставления отношений, состоящих либо в объединении усилий, либо в их разъединении, «кооперация» уже имеет свой традиционный термин-антипод, естественно, тоже кальку – «конкуренция». В связи с чем разрыв этой пары, отказ от «конкуренции» и отдельное использование «кооперации» в комплекте с «противодействием» представляется мерой не совсем оправданной и способной скорее усложнить понятийный аппарат, описывающий межличностные процессы, нежели сделать его более логичным и понятным. В виду таких последствий подлинными альтернативами для выбора предстают не изолированные «взаимодействие» и «кооперация», а целостные оппозиции «взаимодействие-противодействие» и «кооперация-конкуренция».
Теперь о «за» и «против» каждого из вариантов.
Что касается триады «воздействие-взаимодействие-противодействие», то единственным, но очень весомым доводом не в её пользу является необходимость кардинального пересмотра содержания понятия «взаимодействие». Зато «воздействие» и «противодействие», во-первых, как психологические термины используются гораздо менее активно и потому практически свободны от разных привходящих ассоциаций, а во-вторых, прекрасно отражают смысл тех межличностных процессов, с которыми мы собираемся их соотносить.
При взгляде же на связку «воздействие-кооперация-конкуренция», безусловно, первым делом бросается в глаза неоднородность её элементов. Но форма – это всё-таки только форма, и ради научной строгости красотами стиля, в конце концов, можно было бы и пренебречь. Гораздо более весомым противопоказанием для широкого применения этого состава терминов является устоявшееся содержание понятия «конкуренция».
Ведь на сегодняшний день о конкуренции говорят там и тогда, где и когда люди (объединения людей) стремятся достичь одного и того же объекта или состояния, но при этом успех одной из сторон автоматически лишает другую возможности заполучить желаемое, будь то некий почётный приз, ценный клад, сектор рынка или приоритет появления в определённом месте Вселенной. Если такое стремление к неделимому результату сопровождается прямыми тормозящими вмешательствами в дела друг друга, то – для усиления впечатления – процесс может именоваться «конкурентной борьбой». Если же опережающее движение к спорному предмету совершается строго параллельно и обходится без втыкания палок в чужие колёса, то такая конкуренция нередко возводится в ранг «честного соревнования».
Таким образом, следуя указанной логике, остаётся принять, что в условиях, если угодно, объективной конкуренции могут оказаться в том числе люди, даже не подозревающие, что они с кем-то ведут соревнование. Как это случалось, например, в истории науки, когда разные исследователи независимо друг от друга совершали одинаковые открытия или сходные изобретения, а затем, узнав о наличии у себя партнёров-соперников, могли вступать уже в очные и подчас жаркие, вплоть до судебных процессов, дискуссии об относительной значимости своих свершений. (Так что отзвуки споров об истинных авторах ряда научных достижений, к примеру, лампы накаливания или радиосвязи, порой докатываются и до наших дней.)
А с другой стороны, элементы состязания могут присутствовать внутри совместной деятельности. Например, когда по ходу военных действий задачу овладеть одним и тем же мостом, перевалом или иным важным объектом получают сразу несколько самостоятельных боевых единиц. И тогда вся слава и почести за решение поставленной задачи обычно достаются той части или подразделению, чей флаг первым поднялся над искомым объектом. Хотя на практике важнейшей составляющей чьего-то прорыва нередко становятся как раз действия «конкурентов», активным натиском отвлекающих на себя главные силы врага. Однако даже если отставшие в подобном «соревновании» будут недовольны собственным «проигрышем», всё равно достигнутый другими успех не станет для них «чужим», а будет восприниматься как ещё один шаг на пути к общей победе. Точно так же и в любой другой ситуации, когда люди искренне стремятся к некоторому результату, достичь которого можно только при объединении усилий, они могут испытывать определённое разочарование от того, что кто-то действует более грамотно и умело, чем они, и раньше их оказывается на рубежах, где они сами рассчитывали «отличиться». Но никакие личные переживания не заставят участника совместной деятельности мешать партнёрам продвигаться к тому, что является в том числе и его мотивом. Выступать против планов и действий членов своей группы человек будет разве что тогда, когда эти планы покажутся ему ошибочными либо менее эффективными по сравнению с иными предлагающимися вариантами. И такие частные столкновения интересов опять-таки будут лишь следствием единства фундаментальной мотивации, поскольку партнёры будут пытаться – в меру своего понимания – оградить друг друга и группу в целом от отдаляющей конечный успех пустой траты времени и сил.
Так что в своём современном бытовании понятие «конкуренция», наряду с прямым осознанным противоборством сторон (в каких бы формах оно ни проявлялось), включает в себя также ситуации, содержащие некоторые объективные предпосылки для возникновения отношений межличностного противодействия в смысле фигуры 6. А вот реализуются эти предпосылки или нет, будут определять как раз субъективные настроения участников. Ибо одни люди, узнав, что кто-то ещё хочет добиться одинакового с ними результата, могут увидеть в этом не повод для развязывания конкурентной войны, а хорошую основу для выработки плана совместных действий. Тогда как другие, начав соревноваться в рамках вроде бы общей работы, порой настолько увлекаются, что партнёр превращается для них в настоящего личного врага, а сотрудничество заменяется ожесточённой борьбой (история политики, не говоря уже о бизнесе, помнит немало таких примеров). А значит, независимо от того, какой паре терминов будет отдано предпочтение, решим ли мы приравнять по содержанию и объёму «взаимодействие» к «кооперации» или «конкуренцию» к «противодействию», всё равно это будет противоречить традиции.
Из чего, в свою очередь, следует, что попытки закрепить для обозначения совместного действования, взаимо-со-действия какой-либо из уже прижившихся в психологии терминов потребовали бы стольких оговорок и уточнений, что вместо прояснения ситуации это лишь запутало бы даже подготовленную аудиторию. Так что от подобных попыток придётся отказаться. Но и именовать всякий раз фигуру 5 её полным титулом – межличностные взаимоотношения, в которых участники разделяют интересы и поддерживают действия друг друга – тоже, разумеется, было бы крайне неудобно. Чтобы сложный по смыслу научный текст хотя бы по внешности оставался насколько возможно простым и компактным, для обозначения остающегося безымянным вида межличностных процессов именно требуется сформулировать пусть новый, но достаточно короткий термин. Ну а чтобы искомый термин в самой своей форме содержал указание на обозначаемую им реальность и в тоже время не слишком выделялся среди привычных и всем знакомых соседей, представляется разумным не изобретать чего-то совершенно нового, а образовать нужное нам название уже опробованным методом сочетания родового имени с уточняющим видовым определением.
Придя же к такому заключению, остаётся лишь заметить, что взаимопомощь людей будет считаться частным случаем взаимодействия при любой более или менее широкой трактовке этого понятия. Исходя из этого, а также из того, что в смысловом переложении ко-оперирование – это и есть совместное действование, на наш взгляд, логически и стилистически корректно будет определить межличностный процесс с взаимной субъективной включённостью и положительным отношением участников к интересам друг друга как «кооперативное взаимодействие (людей)». А если сокращённо, то «(к)взаимодействие». Но так как в последующем изложении нам предстоит много говорить о кооперативном взаимодействии людей и почти не придётся обращаться к взаимодействию вообще, то там, где по контексту будет очевидно, что имеются в виду только отношения взаимной помощи и содействия, мы всё-таки позволим себе не загромождать текст даже краткой формой и использовать термин «взаимодействие» просто как название фигуры 5 из классификации межличностных процессов. В тех же немногих случаях, когда будет заходить речь о взаимодействии в более широком смысле, это будет специально уточняться.
3. Группа и взаимодействие.
Собранные в предыдущих главах наблюдения и выводы в сумме дают нам следующее определение группы: «Группу образуют люди, кооперативно взаимодействующие для достижения общего мотива».
На первый взгляд, этот вывод противоречит довольно распространённому подходу, полагающему достаточным признаком группы общую цель. Однако более детальный анализ показывает, что сей подход отличается незаурядной непоследовательностью и противоречит прежде всего самому себе. Потому что, демонстративно отвергая тезис, согласно которому группа может сформироваться только на основе общей деятельности и общего мотива, в своих обмолвках и паралогизмах апологеты «целевой» группы неизменно возвращаются к признанию определяющей роли мотива.
Вот типичный пример: «Коллектив – это группа людей, составляющая часть общества, объединённая общими целями и близкими мотивами совместной деятельности, подчинёнными целям этого общества»; «группу, организованную только внутренними целями, не выходящими за рамки этой группы, следует оценивать только как корпорацию» (Коллектив и личность, 1975, с. 13). На первый взгляд, позиция авторов вполне определённа и категорична: единство мотивов или единый мотив членов группы – это явление если и возможное, то точно не обязательное и не привносящее с собой ничего принципиально нового. Вот только если это так, если для группы первична цель и вторичны мотивы её членов, тогда для чего вообще упоминать о «близких мотивах совместной деятельности»? Опираясь на то, что мы знаем о межличностных взаимоотношениях, логичнее всего предположить, что такая оговорка призвана исключить из рассмотрения ситуации, в которых стремление получить некоторый результат одновременно подразумевает, что этот результат должен получить «только я и никто другой». Ибо в таких случаях именно одинаково формулируемая цель побуждает людей всячески препятствовать любому, кто желает того же, что и они, реализовать свои пожелания.
Тем самым неявно, поистине контрабандой в цитированное определение привносится мысль о том, что людям, у которых совпадает некоторая частная цель, но их более фундаментальные мотивы идут вразрез друг с другом, будет сложно либо совершенно невозможно наладить по-настоящему совместные действия. Но так как подобная «интеллектуальная» контрабанда попирает не установленные государством юридические законы, а проверенные многовековым человеческим опытом законы логики, то первой и единственной жертвой совершённого преступления оказываются сами контрабандисты.
Ведь когда в одной фразе открыто заявляется, что для формирования группы достаточно общности целей, и тут же между строк допускается, что при прямо противоположных мотивах совпадающие цели могут отходить на второй план, то у внимательного читателя это, как минимум, начинает вызывать вопросы. Например, такой: почему более значимое, по сравнению с общими целями, влияние на характер взаимоотношений людей признаётся только за мотивами, совпадающими со знаком «минус», и отрицается для мотивов, совпадающих со знаком «плюс»?
Обычно создатели претендующих на научность трудов, высказывая некоторую существенную мысль, стараются чётко расписать все те основания, которые позволили им утвердиться в данной мысли. Если же при подготовке печатного издания возникает необходимость экономить место, то «за кадром» оставляются лишь самые простые, ясные и бесспорные для всех моменты, а все положения, хоть сколько-нибудь далёкие от очевидности, снабжаются хотя бы сжатыми комментариями. Так что если отбросить совсем уж неприличное подозрение, будто тезис о приоритетности для отношений людей их целей, а не мотивов, появился на свет вовсе без какого-либо серьёзного предварительного обдумывания, то остаётся предположить, что аргументы в пользу этого тезиса показались авторам самоочевидными и потому не заслуживающими упоминания. Однако на уровне высокой теории приведённый тезис выглядит ничуть не более весомым, чем противоположный тезис о том, что в конечном счёте мотивы влияют на отношения людей больше, чем цели. И без подкрепления эмпирическими или хотя бы умозрительными доводами оба эти суждения остаются просто сочетаниями слов, связь которых с реальностью только предстоит установить. А если авторы приведённых цитат этого не понимают и честно не видят, что в заявленной ими позиции есть крайне слабое место, требующее дополнительных разъяснений и обоснований, то тогда под вопросом оказывается общий уровень их теоретической подготовки.
Ещё более ощутимый урон авторитету обсуждаемой концепции наносит сформулированное в её рамках универсальное определение группы: «Группа – это любая совокупность людей, понимаемая как множество, элементом которого является человек» (Указ. соч., с. 4). Потому что под это определение подходят именно и только люди, взаимодействующие для достижения общего мотива, но никак не те, кого объединяет лишь общая цель.
В самом деле, ведь что может означать для «совокупности» людей требование иметь своим элементом отдельного человека? Поскольку сам зачин сразу исключает из рассмотрения стаи животных, то заданное условие остаётся понимать в том смысле, что претендующая именоваться группой «совокупность» должна быть органически неспособна включать в себя какие бы то ни было объединения людей. Или, что то же самое, должна возникать, существовать и прекращать существование строго в связи с функционированием отдельных людей и безотносительно к каким бы то ни было человеческим кооперациям.
Отсюда практическим проявлением указанного свойства может и должно служить следующее: когда группы, раздельно стремящиеся к одному и тому же, встречаются, а их члены решают отныне действовать совместно, то прежние группы – сколько бы их ни было – прекращают самостоятельное существование и полностью растворяются во вновь образованном объединении, смыкая свои внешние границы (отделявшие и продолжающие отделять членов группы от остальных людей) и устраняя всякие внутренние различения и перегородки. Если же этого не происходит, если и после начала совместных действий члены ранее функционировавших самостоятельно объединений людей не перемешиваются друг с другом, но сохраняют свою структурную и психологическую обособленность и продолжают участвовать в совместных программах в качестве «наших» и «ваших», то такое образование явно не заслуживает звания группы, поскольку элементами этой новой совокупности являются не отдельные люди, но объединения людей, входящие в неё и действующие внутри неё в качестве ассоциативных членов.
Так что, признавая коллектив и корпорацию частными случаями группы, цитированные авторы по сути говорят, что, на их взгляд, приверженцы общей цели должны действовать в качестве сугубо гомогенной общности, отделённой от других людей единственной внешней границей и свободной от всяких внутренних разграничений. Однако история человеческих сообществ наглядно доказывает, что: «Бывает воля единая в одном отношении и неединая в другом. Отсутствие единства воли в вопросах социализма и в борьбе за социализм не исключает единства воли в вопросах демократизма и в борьбе за республику… У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Её прошлое – самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии. В борьбе с этим прошлым возможно «единство воли» пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов.
Её будущее – борьба против частной собственности, борьба наёмного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно.
Социал-демократ никогда и ни на минуту не должен забывать о неизбежной классовой борьбе пролетариата за социализм с самой демократической и республиканской буржуазией и мелкой буржуазией. Это несомненно. Из этого вытекает безусловная обязательность отдельной и самостоятельной строго классовой партии социал-демократии. Из этого вытекает временный характер нашего «вместе бить» с буржуазией, обязанность строго надзирать «за союзником, как за врагом» и т. д.» (Ленин В. И., т. 11, с. 73-75)
Можно привести и другие примеры совместных действий людей ради выхода на определённый рубеж, который для одних партнёров являлся конечной целью, а для других лишь промежуточной. В силу этого по достижении искомого рубежа такие объединения закономерно распадались, поскольку часть их членов продолжала попытки двинуться дальше, тогда как другая часть отходила в сторону либо даже принималась тормозить старания «слишком увлёкшихся» вчерашних союзников. Но если цель оказывалась достаточно масштабной (скажем, за свою государственность некоторым народам приходилось бороться веками), то тогда целые поколения могли сходить с исторической сцены, искренне веря, что все они хотят одного и того же.
Тем не менее при любом варианте получается, что для достижения общей цели могут взаимодействовать как отдельные люди, так и объединения людей, движимых более или менее расходящимися мотивами и потому сохраняющих организационную целостность и управленческую автономию. И по логике разбираемой концепции такие сложно структурированные команды следует считать группами и не группами в одно и то же время. Чего не могло бы произойти, соблюдай авторы «целевого» определения группы основные логические нормы и правила. Но коль скоро такое случилось, и уже при закладке базовых понятий обсуждаемой концепции коллегами были допущены столь серьёзные промахи, то отсюда следует, что под сомнение попадают вообще все рассуждения и выводы, в которых используются эти понятия.
Впрочем, сразу оговоримся, что «сомнение» здесь означает именно сомнение и вовсе не равносильно априорному объявлению ложными любых суждений, восходящих к тезису об общей цели как основе группы. Ведь ссылки на некорректно сформулированные базовые определения – а особенно когда за дело берутся любители путаницы – отнюдь не исключают получения вполне доброкачественных эмпирических результатов и даже каких-то частных теоретических обобщений. На наш взгляд, в связи с уличением творцов целевой концепции группы в логической малограмотности необходимо и достаточно приостановить обращение в социальной психологии основных положений этой концепции до тех пор, пока не будут приведены дополнительные, а главное, убедительные обоснования их правомерности. Понятно, что о полной смысловой реабилитации данного теоретического изыска говорить уже не приходится, но отдельные тезисы «целевого» подхода к группе заслуживают восстановления в правах истинности. Эту работу мы начнём прямо с текущей главы и будем возвращаться к ней по ходу всего дальнейшего изложения.
3.1. К определению понятия «группировка»
Итак, сопоставление «целевого» определения группы с фактами показало, что, отрицая адекватность этого определения и выражая сомнение в логичности любых связанных с ним терминов, не приходится ни отрицать, ни даже ставить под вопрос возможности существования объединений людей, преследующих общую цель и не более того. Равным образом не приходится отрицать, что в той мере, в какой члены таких объединений осознают свою общность, координируют с учётом этого знания свои усилия и сочувственно относятся хотя бы к ближайшим интересам друг друга, их отношения являются кооперативным взаимодействием. А значит, исследователь межличностных процессов просто обязан учитывать, что наряду с группами, старающимися достичь общего мотива, могут также существовать объединения людей, стремящихся к общей цели, пусть бы даже для её достижения – при грамотной организации – требовалось несколько минут совместных действий.
В связи с этим обстоятельством перед нами встаёт ряд новых вопросов.
Первый – терминологический: как называть объединение людей, имеющих только общую цель, если термин «группа» уже зарезервирован для обозначения тех, кто стремится к общему мотиву?
Приступая к обсуждению этого вопроса, прежде всего следует обратить внимание на такой нюанс: группы могут входить в целевые объединения людей в качестве совокупных членов, а вот обратное невозможно.
Чтобы убедиться в этом, попробуем представить себе группу, члены которой, помимо работы на общий мотив, предпринимают также совместные действия для достижения нескольких разных целей, общих только для некоторых участников данного группового взаимодействия. Трудно ли будет вообразить подобное? Абсолютно нет, поскольку люди могут иметь и, как правило, имеют больше одного мотива и ведут больше одной деятельности. А значит, даже включившись в некоторую групповую деятельность, могут и будут заботиться также о продвижении своих параллельных интересов, если таковые имеются.
При этом пути к групповому и не-групповым мотивам могут в чём-то пересекаться, но раз уж речь идёт о разных мотивах и по-настоящему особенных деятельностях, то это автоматически означает, что направления и способы их реализации не совпадают полностью. Так что каким бы изобретательным ни был человек и как бы ни хотел он подстроить одна под другую свои разные деятельности, до бесконечности заниматься этим у него всё равно не получится. И включаясь в работу по овладению одним из своих мотивов, в какие-то моменты наш герой волей-неволей будет вынужден полностью сосредотачиваться на ней и на время «отключаться» от планов, связанных со всеми прочими мотивами. А возвращаясь к какому-то из этих «прочих», «оставлять в покое» первый.
Иными словами, персонажи намеченного группового портрета – собственно, как и всякие обычные люди – будут осуществлять свои различные интересы не параллельно, а последовательно, периодически переключая свою энергию и внимание с одного предмета на другой. Например, принимаясь за общую только для них цель, соответствующая часть членов группы будет в полном смысле откладывать в сторону истории и сюжеты, связанные со всеми иными мотивами (включая групповой), за исключением того, в рамках которого поставлена данная цель. А возвращаясь к взаимодействию для достижения группового мотива, напротив, переводить в «спящий» режим все системы отношений, не касающиеся данной общей деятельности. То есть какие-то устоявшиеся симпатии и уже отлаженные связки могут и почти наверняка будут проявляться, но это будут именно личные предпочтения, вытекающие не из содержания другого взаимодействия, а просто из более длительного знакомства тех или иных людей.
Отсюда общий вывод получается такой, что даже если часть участников взаимодействия для достижения общего мотива переключается на какие-то чисто личные занятия или подключается к другим объединениям людей, будь то по поводу общей цели или общего мотива, то для исходной группы любые сторонние занятия и взаимоотношения её членов в психологическом плане всё равно будут существовать и развиваться «рядом», «параллельно», в общем, за границами, но никак не внутри неё. Потому что в качестве члена группы человек проявляет себя ровно тогда, когда занимается общей для этой группы деятельностью, и утрачивает это качество, переставая ею заниматься и переходя к любой другой деятельности5*.
Но если один мотив не может входить в другой, и это исключает полное совмещение разных деятельностей, то результат, намечаемый в качестве цели, по самому своему определению может служить этапом на пути ко многим разным мотивам. Что и открывает возможность для многих отдельных людей и объединений людей совместно добиваться одной и той же цели, не прекращая своих особенных деятельностей, а значит, оставаясь именно внутри целевого взаимодействия, но с сохранением всех особенностей, задаваемых различиями их базовых мотивов.
Причём судить об этих и многих других проявлениях, характеризующих «целевые» объединения людей, мы можем не только по теоретическим моделям. Ведь огромное большинство политических и экономических партнёрств с древности и до наших дней являются практическими примерами как раз такого взаимодействия. И этот поистине общечеловеческий опыт свидетельствует, что при близких мотивах участников их продуктивная совместная работа обычно дополняется искренним и дружелюбным общим эмоциональным фоном контактов. Там же, где мотивы сторон категорически расходятся, просто неравномерное развитие и даже периодическое замирание совместной активности является далеко не самым проблемным вариантом. Потому что когда люди решают ради достижения общей цели на время отложить имеющиеся у них серьёзные противоречия, то сотрудничество таких людей может сопровождаться и недобросовестным выполнением данных обещаний, и закулисными интригами в попытках увеличить собственную выгоду за счёт партнёра, и прямыми сговорами с конкурентами, и много чем ещё. А о субъективной стороне такого рода отношений и говорить не приходится, поскольку в них дежурные протокольные улыбки могут маскировать не то что недоверие к союзнику, но рафинированную ненависть самой лютой пробы. Достаточно вспомнить историю антинаполеоновских и антигитлеровской коалиций.
Что, впрочем, не мешало современникам и позднейшим исследователям полагать, что даже самые жёсткие трения между союзниками-соперниками происходили всё-таки внутри упомянутых и всех других подобных объединений. И действительно, для появления хотя бы мысли о партнёрстве у людей, коих разделяют серьёзные противоречия, а тем более открытая вражда, требуются очень веские причины. Так что у кого-то даже перед лицом смертельной угрозы может не найтись достаточно мудрости для вывода, что своими силами не справиться и надо искать помощи вовне, не исключая давних недругов, лишь бы они были менее опасными, чем появившийся новый враг. А кому-то (как, скажем, русичам и половцам в 1223 году), даже объединившись, не удавалось одержать победу. Но в любом случае сам факт складывания той или иной коалиции, пусть бы даже её практические шаги не давали желаемого эффекта, означал готовность участников ради отражения общей угрозы, как минимум, приостановить на время реализацию прямо агрессивных планов и замыслов в отношении сегодняшних партнёров.
Что же касается попыток нарастить собственную выгоду хотя бы и за счёт чужих убытков или «на всякий случай» ослабить ситуативного союзника, но вероятного завтрашнего противника, то в объединении людей с разными мотивами всё это, разумеется, возможно. И там, где каждая из сторон тянет одеяло на себя и не сильно заботится о других, заключаемые соглашения вряд ли будут идеально сбалансированы в плане учёта взаимных выгод и общей «справедливости». Но сколь бы острыми ни были споры участников и какой бы циничной ни выглядела их торговля, всё это будет подлинным внутренним достоянием соответствующего союза, если формируемые на основе встречных претензий решения так или иначе поддерживают и продвигают вперёд совместные действия.
А вот если члены некоторой коалиции перестанут спорить, ссориться и пытаться найти хоть какой-нибудь компромисс, то независимо от того, произойдёт это уже после достижения объявлявшейся общей цели или из-за окончательного разочарования спорщиков друг в друге, беспристрастному наблюдателю останется лишь констатировать прекращение функционирования данного объединения людей. Потому что взаимодействие совершается там и тогда, где и когда его участники составляют общие планы и координируют текущие усилия, пусть бы даже в этих процессах проявлялось очень мало человеческой теплоты. Если же люди с симпатией думают друг о друге, но практических шагов по этому поводу не предпринимают, то такое положение можно считать разве что предпосылкой к началу взаимодействия, но никак не самим взаимодействием.
Говоря о завершении совместных действий ради общей цели, хочется обратить особое внимание читателей на то, что если участники таких действий после достижения нужного им результата начинают сражаться между собой, то это далеко не всегда является досадной случайностью, вызванной чисто ситуативными раздорами, случившимися по ходу знакомства и сотрудничества. Потому что люди в принципе не очень склонны публично рассуждать о своих фундаментальных мотивах, которые к тому же сами не всегда ясно осознают. Ещё меньше причин распространяться о своих настоящих планах у того, кто не исключает присутствия в своём непосредственном окружении обладателей прямо противоположных устремлений. С другой стороны, как раз те, кто часто и громко заявляет о необходимости суровой борьбы с теми или иными людьми или объединениями людей, встретившись лицом к лицу со своими врагами на словах, на деле нередко обнаруживает полную неспособность к хоть сколько-нибудь решительному сопротивлению. Так что достоверно определить, насколько они сами и их оппоненты в своих межличностных отношениях готовы переходить к открытому противодействию, людям обычно удаётся уже после встречи с предметом, который они категорически не намерены кому-либо уступать или с кем-то делить.
А если потенциальное яблоко раздора лежит за неким, условно говоря, перевалом, который требуется срыть или пробить через него тоннель, поскольку для простого перехода он недоступен? Встретив такую внушительную преграду, в том числе те, кому под силу самостоятельно справиться с ней, вряд ли будут возражать, если кто-то ещё выразит желание подключиться к предстоящей работе ради её скорейшего завершения. Если же в конце совместно пройденного пути выяснится, что более широкие интересы обладателей достигнутой общей цели абсолютно несовместимы, и шагов навстречу друг другу от недавних партнёров ждать не стоит, то возникнет конфликт. Причём как раз то, что сегодня неприятельские настроения демонстрируют люди, с которыми ещё вчера было «всё хорошо», может добавлять в начавшуюся вражду дополнительную остроту. Но в любом случае одной из ближайших предпосылок резкого изменения формата отношений таких людей будет именно благополучный финал их тактического взаимодействия, устранившего препятствие, одинаково закрывавшее вероятным противникам путь к их главному мотиву.
Ещё более наглядной является ситуация, когда уже обозначившиеся конкуренты соглашаются вместе выступить против угрожающего им всем врага. Соответственно, если враг оказался по-настоящему опасным и быстро покончить с ним не удаётся, то тогда даже сомневавшиеся в целесообразности совместных действий искренне присоединяются к выводу, что отказ от внутреннего перемирия и возобновление прежних распрей были бы равносильны самоубийству. Если же победа достигается быстро и без серьёзных потерь, то приостановленная внутренняя борьба может не просто возобновиться, а очень быстро перейти в «горячую» фазу. Но независимо от того, насколько тяжкой или, наоборот, умеренной была цена общего успеха, немедленное или отсроченное обострение противоречий, временно отложенных вынужденными союзниками, всегда будет сохранять прямую логическую связь с организованным ими эффективным взаимодействием6*.
Иное дело группа. Которая, вообще говоря, тоже может прекратить функционировать в результате достижения предмета взаимодействия. Однако прологом к ожесточённому противостоянию бывших членов группы это не станет никогда. Потому что добиваться одновременно нескольких взаимоисключающих результатов человек может разве что до тех пор, пока сам не поймёт или кто-то ему не объяснит, что он фактически сражается сам с собой. А если кто-то и после соответствующего разъяснения не подправит свои планы, то это будет свидетельствовать о его, скажем так, не полной адекватности. Но неадекватность мышления и действий составляет предмет строго специализированных патопсихологических исследований, а всякое обсуждение универсальных психологических механизмов по умолчанию подразумевает, что речь идёт об обычных средненормальных людях. Так что у образующих обычную средненормальную группу людей могут иметься какие-то иные мотивы, помимо общегруппового, но прямо противоречащих друг другу среди этих мотивов точно не будет. А значит, даже если члены одной группы будут в тех или иных сочетаниях принимать участие в каких-либо иных взаимодействиях, поводом для непримиримых столкновений после завершения общей деятельности это не станет.
Итак, предварительный и очень беглый обзор двух разновидностей кооперативного взаимодействия тем не менее определённо показывает, что по сравнению с теми, кого объединяет только общая цель, объединение людей, взаимодействующих для достижения общего мотива, является образованием более цельным и устойчивым. И этот вывод позволяет перейти непосредственно к задаче выбора наименования для «целевого» объединения людей и предложить, на наш взгляд, логически и стилистически почти безупречный вариант.
Дело в том, что помимо термина «группа» в работах отечественных авторов время от времени встречается также термин «группировка». Однако до сих пор главное внимание исследователи объединений людей посвящали тому, что они считали группой, и никакого чёткого и формализованного определения за «группировкой» так и не закрепилось. Общий же смысл употребления данного термина таков:
– группировка – это не то же, что группа;
– группировки могут существовать внутри группы в том числе на высоком уровне её развития (коллектив);
– группировки разъединяют группу, так что для укрепления группы требуется ослабление и преодоление группировок (ср., напр.: «В … коллективе с числом членов не менее 20-25 человек возникают неофициальные группировки… Чем более сплочённым является коллектив, тем меньше в нём мелких, обособленных группировок» (Кузьмин, Волков, Свенцицкий, 1973, с. 9).
Как видим, в рамках данного подхода группировка признаётся, с одной стороны, объединением людей, а с другой – образованием менее полноценным и доброкачественным, нежели группа. И всё это, за исключением, естественно, идеи, будто внутри группы может ещё что-то «возникать», близко перекликается с тем, что действительно характеризует объединения людей на основе общей цели, каковые объединения представляют собой более низкий уровень кооперации, нежели объединение на основе общего мотива. Так что определение: «Группировку образуют люди, взаимодействующие для достижения общей цели», – органично дополняя уже принятое определение группы, упрёков в резком расхождении с традицией точно не заслужит. Ну а членов группировки мы, вслед за В. И Лениным, будем называть союзниками.
Следующий вопрос, необходимо возникающий после введения нового понятия, – это вопрос о его месте в ряду уже существующих понятий.
Впрочем, в наших обстоятельствах задача несколько упрощается, так как требуется уточнить взаимное позиционирование всего двух терминов – «группа» и «группировка». А главное, разбираясь с тем, какое человеческое объединение, при каких условиях и в силу каких механизмов может или не может входить в другое объединение, мы уже зафиксировали почти все основные черты двух форматов (к)взаимодействия, основанных на общем мотиве либо общей цели. Так что здесь остаётся лишь ещё раз отметить, что хотя по своему персональному составу различные объединения людей могут частично или полностью перекрываться одно другим, в теоретическом плане группа и группировка представляют собой не соподчинённые, а рядоположенные и независимые понятия, в сумме составляющие родовое для них понятие «объединение взаимодействующих людей». А за пределами этого формально-логического родства никакой иной содержательной связи между реальностями, стоящими за понятиями «группа» и «группировка», нет.
В полной мере это относится и к разноуровневости двух видов человеческой кооперации, которая имеет не генетический, а сугубо структурный характер. Представляя собой более высокоорганизованное образование, группа не есть предел развития группировки, а группировка не есть ступень развития группы.
Вместе с тем к сказанному стоит, пожалуй, сразу же добавить, что вывод об отсутствии генетической связи между группой и группировкой вовсе не равносилен утверждению, будто группировка не может стать группой или наоборот. В принципе не приходится исключать, что по ходу какого-нибудь союзнического взаимодействия достаточно синхронно найдутся поводы для превращения общей цели в мотив каждого из участников. И тогда, согласно определению, группировка перестанет быть группировкой и превратится в группу. Однако, во-первых, такая трансформация будет прямо нарушать логику исходно складывавшегося взаимодействия, поскольку с исчезновением прежнего целевого объединения людей и появлением на его месте новой группы цель группировки так и останется нереализованной. То же самое можно сказать и про превращение общего мотива в общую цель и, соответственно, группы в группировку.
А во-вторых, рассматривая замещение цели мотивом, мотива целью и иные передвижки в структуре интересов человека как элементы внутренней динамики отдельной личности, признать их ещё и этапами внутреннего развития объединения людей не получается никак. Ведь когда у человека появляется мотив или цель, которые для других людей уже стали основой для практического взаимодействия, то само по себе это отнюдь не гарантирует, что такой человек присоединится к уже существующему объединению. Потому что они могут элементарно не встретиться, а встретившись – не договориться о порядке совместных действий или просто не понравиться друг другу. Наконец, наш герой может передумать и ещё до начала реального взаимодействия отказаться от того мотива или цели, которые пусть недолго, но всё же были у него общими с кем-то ещё. И тогда подобные преобразования в чьей-то личности (возможно, для самого человека очень глубокие и значимые) для объединения людей так и останутся событиями сугубо посторонними и ни на что не влияющими.
Если же кто-то разочаровывается в общих планах, то, как мы уже знаем, это автоматически выводит человека из взаимодействия. После чего такой человек может просто оставаться в стороне и в одиночку решать какие-то сугубо личные вопросы либо даже примкнуть к объединению с прямо противоположными устремлениями. Тем не менее для продолжающих совместную работу людей любые подобные пертурбации с целеполаганием той или иной отдельной личности опять-таки будут событием разве что пограничным, но точно не внутренним. Ибо даже если участники взаимодействия не прибегнут к бойкоту или активной мести и сохранят нормальные общечеловеческие контакты со своим бывшим партнёром, всё равно для группы (группировки) в целом это будут чисто внешние процессы.
Более подробно о том, что может влиять на развитие кооперативного взаимодействия и по каким показателям можно судить о внутренней динамике человеческих объединений, мы будем говорить в главе 6. А сейчас необходимо продолжить разбираться с теоретическими последствиями исчезновения группы как единственного «первосортного» объекта для социально-психологических наблюдений и экспериментов. Ведь до сих пор коллеги хотя и признавали, что помимо групп могут существовать также иные человеческие объединения, однако, как это хорошо видно из цитировавшегося определения корпорации, любые альтернативы группе воспринимались как образования заведомо низкопробные, которые стоит изучать в основном с точки зрения поиска эффективных способов их устранения. Так что «появление» рядом с группой концептуально равноценного объединения людей ставит ещё один важный вопрос – исчерпываются ли виды взаимодействия двумя указанными выше?
На этот вопрос можно ответить отрицательно, указав ещё одну возможную основу согласования действий – порождающий отношения обмена взаимный вклад людей в реализацию планов друг друга. И хотя такой ответ не снимает вопроса, а лишь воспроизводит его на другом уровне: исчерпываются ли виды взаимодействия тремя указанными выше? – мы пока воздержимся от дальнейших поисков в этом направлении в пользу более детального рассмотрения уже зафиксированных видов взаимодействия.
3.2. К определению объёма понятия «виды взаимодействия».
Итак, возвращаясь во всеоружии установленных фактов к группе, нетрудно убедиться, что в ней присутствуют все три «слоя» отношений – по поводу мотива, по поводу целей и по поводу вклада. При этом они не просто сосуществуют, а образуют строгую иерархию.
Для иллюстрации сошлёмся на один, как представляется, весьма показательный пример того, какое место отводится мотиву, целям и вкладу в реальных человеческих отношениях: «… в 1912 году в ЦК большевиков вошёл провокатор, Малиновский. Он провалил десятки и десятки лучших и преданнейших товарищей, подведя их под каторгу и ускорив смерть многих из них. Если он не причинил ещё большего зла, то потому, что у нас было правильно поставлено соотношение легальной и нелегальной работы. Чтобы снискать доверие у нас, Малиновский, как член Цека партии и депутат Думы, должен был помогать нам ставить легальные ежедневные газеты, которые умели и при царизме … проповедовать основы большевизма в надлежащем образом прикрытой форме. Одной рукой отправляя на каторгу и на смерть десятки и десятки лучших деятелей большевизма, Малиновский должен был другой рукой помогать воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков через легальную прессу» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 28-29). Ещё более заострив ситуацию, можно утверждать, что разоблачённый провокатор может не успеть принести никакого вреда, может даже принести известную пользу, выдав других провокаторов и замыслы своих распорядителей, но от этого он не станет для подпольщиков даже союзником. Напротив, искренний, но неопытный товарищ не станет для своих врагом, даже если по его вине произойдёт провал.
Так что на практике наличие некоторой «пользы» от человека не рассматривается как достаточный признак принадлежности к объединению единомышленников. Зато человек, который не даёт оснований усомниться в главном предмете своих интересов, всегда остаётся для других членов группы «своим», хотя бы при этом имели место разногласия по поводу частных целей или малый вклад в общую деятельность, или даже действия, разрушающие достижения партнёров (отрицательный вклад). В последнем случае к виновнику, смотря по обстановке, могут быть применены меры обучающего либо санкционного характера, но и в самом жёстком варианте это всё равно будут действия группы по отношению к своему члену, а не акт защиты от внешнего противника. В отсутствие же общего мотива ни совпадение отдельных целей, ни участие в решении общих текущих задач никогда не уравняют человека с членами группы, и отношение к такому человеку неизменно будет описываться формулой: «С нами, но не наш». И в сумме все эти данные подводят нас к заключению, что по своей значимости отношения, связанные с общим мотивом, занимают высшее место в структуре внутригрупповых отношений.
Что же касается оставшихся форм отношений – по поводу целей и по поводу вклада, – то для определения их «удельного веса» здесь достаточно будет заметить, что сама оценка партнёрами по взаимодействию своей и чужой роли в общей работе прямо зависит от того, как они относятся к целям друг друга. Ведь истинным вкладом в успех взаимодействия человек признаёт только те шаги, которые согласуются с его личным пониманием того, что и как надо делать для получения нужного результата (пусть даже это понимание не было выработано самостоятельно, а усвоено в готовом виде из чьих-то разъяснений). И если кому-либо в группе начнёт казаться, что не все намеченные товарищами промежуточные рубежи лежат на пути к мотиву, то и усилия, направленные на достижение этих рубежей, для усомнившихся будут выглядеть, как минимум, бесполезными. А то и прямо вредными, поскольку они, уводя людей и ресурсы с правильной траектории, мешают скорейшему продвижению туда, куда на самом деле все стремятся.
В такой обстановке человек по факту может вносить большой и даже наибольший вклад в достижение общего мотива и тем не менее сталкиваться с неодобрительным отношением товарищей, искажённо представляющих себе первоочередные задачи группы на данном этапе деятельности. Но стоит позиции скептиков измениться, и свершения того, с кем они раньше смотрели в одном направлении, утратят в их глазах свою ценность, а казавшиеся «ерундой» действия прежнего оппонента предстанут исполненными глубокого смысла. Хотя практический эффект от предпринимаемых партнёрами усилий, естественно, останется тем же самым.
Наконец, не исключён вариант, когда вся группа грустно согласится с тем, что некогда единодушно одобренный маршрут увёл её совсем не туда, куда нужно, и при этом её члены сумеют не переругаться друг с другом и сохранят своё объединение. Тогда общее признание стратегического провала автоматически обнулит всю складывавшуюся ранее систему заслуг и отличий, и группа будет вынуждена начинать новый этап своей деятельности с чистого или почти чистого листа. Потому что положительным вкладом в продвижение к общему мотиву не сможет похвастать никто, но вот главные разработчики старого плана, скорее всего, будут сталкиваться с повышенным недоверием к их новым идеям. И это будет по-своему логичная реакция на то, что их предшествующие свершения оказались в итоге со знаком «минус».
А раз связанные с вкладом отношения – при неизменности их объективной основы – могут кардинально меняться сразу вслед за переменами в целеполагании членов группы, то это и означает, что, по сравнению с целью, вклад как основа отношений занимает подчинённое место. И в целом иерархия значимости поводов для внутригрупповых отношений принимает следующий вид: на вершине её находится мотив (общий), в середине – цели, внизу – вклад в совместную деятельность.
На всякий случай, сразу уточним, что эта иерархия является строго относительной, и что подчинённой и сравнительно малозначимой роль вклада выглядит только на фоне того влияния, которое оказывают на отношения в группе мотив и цели её членов. Величина вклада, во-первых, лежит в основе складывающихся по ходу взаимодействия отношений лидирования-подчинения, а этот пласт отношений, прямо определяющий текущую организацию работы группы, никак не может быть признан «малозначительным». Во-вторых, соразмерный способностям человека вклад в общую деятельность призван постоянно подтверждать принадлежность к группе. Декламации единства при отсутствии реального вклада или непропорционально малый вклад в работу группы – это серьёзный повод усомниться в наличии у человека соответствующего мотива или, как минимум, в том, что данная групповая деятельность является для него достаточно важной частью жизни.
Теперь о группировке – объединении людей с общей целью, которые (например, в силу особых внешних обстоятельств) готовы действовать вместе несмотря на разные, а возможно, даже несовместимые мотивы.
Здесь, пожалуй, будет удобнее начать с вклада, роль которого в группировке в основном та же, что и в группе. У союзников, как и у партнёров с общим мотивом, вклад в совместные действия служит подтверждению лояльности и учитывается при формировании отношений влияния-подчинения. Однако если члену группировки покажется, что полученное в рамках совместных действий указание противоречит его более фундаментальным интересам, то такое указание вряд ли будет выполнено. Особенно наглядно это проявляется там, где одна цель объединяет не индивидуальных, а совокупных членов. В таких условиях даже если выдвигается более-менее общепризнанный глава группировки, то всё равно любое его не вполне очевидное распоряжение рядовые союзники будут сначала выносить на суд кого-либо из влиятельных членов своего более узкого объединения и только после их одобрения исполнять.
А если план действий сложноструктурированной группировки определяет некий коллегиальный орган, куда входят главы или иные представители участвующих во взаимодействии объединений, то обычно эти же представители доводят до своих ближайших соратников согласованные на общем совете решения и информируют «внешних» союзников о ходе выполнения порученной им части общего плана. Так что основной объём текущей организационной работы по достижению общей цели так и остаётся замкнутым внутри совокупных членов группировки, а проявления прямой перекрёстной помощи и влияния между ними либо вовсе отсутствуют, либо происходят лишь эпизодически и мало что меняют в общей картине раздельно-параллельного движения к предмету взаимодействия.
Кроме того, там, где потенциал одного из союзников явно превосходит всех остальных, нередко возникает эффект опережающей проекции вклада на влияние. Это когда самый сильный и оснащённый член группировки (причём не обязательно совокупный, порой такое можно наблюдать и среди индивидуальных партнёров) ещё до начала практических действий принимается жёстко продавливать в качестве общего выгодный прежде всего себе план, а более слабым союзникам приходится под него подстраиваться. И только если этот план оказывается совсем провальным, может происходить известное перераспределение влияния в пользу других участников взаимодействия. Для этого партнёры, получившие самостоятельные участки работы, должны показать способность с меньшими средствами добиваться гораздо более весомых результатов. Тогда к тем, кто делом доказывает свою компетентность, могут начать больше прислушиваться и помогать им отстаивать предложения, расходящиеся с взглядами ведущего союзника (чей вклад в абсолютном измерении всё равно будет оставаться наибольшим).
Но какую бы схему внутренней организации ни избрали члены той или иной группировки, всё равно вклад в их отношениях будет занимать подчинённое место, а во главе угла будут стоять мотивы и цели. Правда, по сравнению с группой, у союзников целый ряд проявлений, связанных с мотивами и целями, почти буквально меняется местами. Что, впрочем, и неудивительно, раз уж меняется сама основа человеческого взаимодействия.
В самом деле, с первых же шагов знакомства с объединениями людей на основе общей цели мы могли убедиться, что мотивы таких людей прямо влияют на общую атмосферу их отношений, на тот эмоциональный фон, что сопровождает совместные действия. И что в зависимости от степени сходства-расхождения мотивов членов группировки общий настрой в их контактах может быть более дружеским либо более настороженным и взаимно подозрительным (вплоть до «надзирать за союзником, как за врагом»). Тем не менее до тех пор, пока сохраняется единство цели, взаимодействие будет продолжаться.
С другой стороны, упоминалось – впрочем, это и без всяких упоминаний очевидно, – что в группе могут возникать споры по поводу того, каким именно маршрутом и в каком режиме следует двигаться к общему мотиву. Причём если свой особый взгляд на ближайшие цели группы отстаивают не один-два человека, а около половины её членов, то это может не только повышать общую нервозность в группе или создавать напряжённость в контактах представителей разных подгрупп, но и тормозить совместную деятельность на всё то время, пока спорщики будут искать пути к согласию. Зато когда удаётся сблизить позиции и сформировать устраивающий всех план, общая работа возобновляется с особенным подъёмом. Потому что способность преодолевать разногласия и восстанавливать единое видение перспективы снова и снова убеждает участников взаимодействия в надёжности всех своих партнёров7*.
Таким образом, – и на это стоит ещё раз обратить внимание – никакие разночтения по поводу предмета взаимодействия в группе и группировке невозможны, поскольку отказ человека от общего мотива или цели сразу выводит его из состава данного объединения. Да, такой человек может по тем или иным соображениям не сообщать партнёрам об изменениях в структуре своих интересов и продолжать поддерживать видимость прежних отношений. Однако даже если перемена будет состоять лишь в том, что прежний общий мотив станет для члена группы промежуточной целью в рамках какой-то другой деятельности либо общая цель превратится для кого-то из союзников в конечный мотив его усилий, то всё равно это будет не прежнее, а несколько иное взаимодействие. Соответственно, даже если все другие партнёры останутся в неведении относительно случившегося с «отступником» и не будут настаивать на его исключении из совместной работы, это всё равно будет новое объединение людей, появившееся только в тот момент, когда один из членов прежней группы или группировки перестал им быть.
Напротив, та составляющая деятельности, которая не является предметом взаимодействия, как раз поэтому может допускать определённые и в том числе существенные расхождения во взглядах и подходах сотрудничающих людей. А степень или, если угодно, диапазон таких расхождений становится базой для формирования отношений, прямо влияющих на общую эмоциональную обстановку в данном объединении людей. Но есть и отличие, состоящее в том, что союзники обычно даже не пытаются обсуждать более фундаментальные интересы друг друга. Ибо знают, что словами изменить эти интересы вряд ли получится, а вот взаимное неудовольствие от «упрямства» собеседника почти наверняка возрастёт, и это, в свою очередь, может помешать конструктивному диалогу по текущим вопросам организации совместных действий. Тогда как в группе выявление различий во взглядах на её ближайшие или перспективные цели, напротив, активизирует дискуссии, призванные чётко зафиксировать и устранить все спорные моменты. Потому что только единое понимание текущих целей и задач позволяет объединению людей не отвлекаться на преодоление внутренних трений, но сосредоточить все доступные ресурсы исключительно на устранении внешних препятствий.
Общий же вывод получается такой, что в группировке мотивы её членов хотя и не оказывают столь явного влияния на ход взаимодействия, как в группе, тем не менее достаточно плотно «нависают» над всей системой отношений союзников между собой. А значит, по совокупности показателей следует признать, что как совпадающие, так и расходящиеся мотивы более значимо влияют на отношения взаимодействующих людей, чем их цели.
Таковы основные особенности отношений по поводу общего мотива и общей цели, выяснив которые, самое время перейти к вкладу как самостоятельной основе взаимодействия.
В настоящее время самой распространённой (а для многих единственной реально испытанной) формой обмена вкладами в дела друг друга являются отношения купли-продажи. Причём современные торговцы, следуя «в ногу с веком», готовы максимально исключать из своих схем «человеческий фактор». Тем не менее даже «продвинутые» способы торговли (автоматизированная, дистанционная и проч.) в принципе сохраняют все характерные черты интересующего нас вида взаимодействия. Однако для простоты и наглядности изложения всё-таки будет удобнее обратиться к истокам продуктового обмена. То есть к эпохе, когда общины, живущие на побережье, только налаживали с общинами, живущими в глубине острова или материка, обмен «даров моря» на «дары леса», а внутри этих общин постепенно выделялись семьи, в которых гораздо лучше соседей умели изготовить, допустим, сосуды из глины или ещё какие-нибудь необходимые в быту предметы из дерева, камня, металла и т. д.
При этом для наших разысканий в первых шагах цивилизации особый интерес представляет тот факт, что предварительное согласование контрагентами условий сделки или торг в собственном смысле слова появляется сравнительно поздно. Потому что во времена, когда всякий чужак воспринимался то ли как добыча, то ли как угроза, многие и прежде всего небольшие общины предпочитали избегать любых непосредственных контактов с внешним окружением. Вместе с тем исследователи патриархальных культур в самых разных концах света отмечают, что даже строго охраняющие свою замкнутость племена обычно всё же используют особый порядок обмена. Согласно этому порядку желающие нечто от них получить оставляют в определённом месте то, что они могут предложить, а затем через установленное обычаем время возвращаются и забирают то, что оставили им взамен «партнёры» (ну, или свои же «товары», если они никого не заинтересовали). А применительно к отношениям более дружественных соседей Н. Н. Миклухо-Маклай специально уточняет, что: «Отправляясь в гости, туземцы всегда берут с собою подарки и вещи для обмена, пользуясь при этом тем, в чём они сами имеют избыток… Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарками; то, чего у кого много, он дарит, не ожидая непременного вознаграждения.» (1961, с. 28, 197)
Тем самым лишний раз подтверждается, что взаимодействие на основе вклада завязывается там и тогда, где и когда один человек предоставляет другому человеку нечто полезное и ожидает, что получатель, возможно, не сразу, а через некоторое время, но в итоге предоставит ему какое-то другое и тоже полезное «нечто». При этом состав и объём встречного подношения может не оговариваться заранее, а оставляться на усмотрение принимающей вклад стороны. Наконец, даже если отдаётся нечто относительно малонужное, то всё равно требуется этот «избыток», как минимум, собрать и доставить к пункту передачи. То есть затратить пусть небольшие, но всё же усилия, и произвести пусть простые, но всё же осмысленные операции.
Ещё отчётливее этот механизм проявляется в ведущей натуральное хозяйство общине, когда в ней появляется настолько умелый гончар или кузнец, что соседи полностью признают его превосходство. И, отказавшись от собственных попыток выпускать глиняную посуду или металлоизделия, предпочитают получать от умельца в готовом виде гораздо более качественную продукцию, предоставляя за неё продукты питания или, допустим, изделия из дерева, которые у них получаются лучше, чем у гончара. Так что у последнего появляется возможность всё меньше отвлекаться на разные «посторонние» занятия и всё больше времени посвящать совершенствованию своего мастерства. А на следующем этапе дети, внуки или более далёкие потомки такого человека, накопив достаточный объём специальных знаний и навыков, могут стать чистыми ремесленниками, которые выполняют только сравнительно ограниченный круг операций, но зато на недоступном для других уровне. Что позволяет им выменивать результаты своего труда на готовые плоды всех тех работ, в частности, на земле, которые некогда их предкам приходилось производить самостоятельно.
Возвращаясь же из этого небольшого исторического экскурса к современным товарно-денежным отношениям, остаётся лишь заметить, что, с точки зрения процесса, всякая профессиональная работа есть не что иное, как более или менее длинная цепь более или менее сложных операций. А значит, получая в результате своей работы деньги и приобретая на них необходимые для поддержания жизнедеятельности продукты и услуги, наш современник, как и его далёкие пращуры, по сути обменивает операции, выполненные самостоятельно, на результаты операций, выполненных кем-то ещё. Определённое различие состоит в том, что в патриархальной общине обменивающиеся обычно знали, результаты чьего именно труда они получают взамен. Тогда как современному человеку в большинстве случаев даже при желании невозможно установить, плодами чьих стараний он сейчас пользуется. Просто потому, что при поточно-автоматизированном производстве в каждом готовом изделии неразличимо суммируется труд очень многих людей (и только для отдельных деталей порой можно точно указать, кто их выточил или отлил).
Впрочем, на общий вывод эти нюансы никак не влияют, Как представляется, на фоне всего вышесказанного едва ли кто возьмётся спорить с тем, что участник обмена, предпринимая шаги, никак не вытекающие из стоящих перед ним целей, может достигать нужного ему результата лишь при том непременном условии, что выполняемые им операции имеют смысл в рамках какой-то другой деятельности. В этом случае он, завершив свою часть работы – а также, разумеется, если партнёру тоже удалось справиться со своими задачами, – может получить за неё в готовом виде результат тех операций, которые приближают его к собственному мотиву. И которые в отсутствие перспектив обмена пришлось бы выполнять самому либо искать путь к цели, не требующий умения выполнять данные операции.
Надо сказать, что в ряде социально-психологических концепций взаимодействие на основе вклада обозначается как «обмен подкреплениями» (см. напр., Homans, 1961). Но такая терминология выглядит не самой удачной. Ведь если брать исконно физиологическую трактовку «подкрепления» как объекта, удовлетворяющего некоторую биологическую потребность, то тогда объём понятия «взаимодействие в виде обмена вкладами» неоправданно сужается. Ибо случаи, когда участники получают непосредственно мотив, составляют лишь часть всех случаев взаимодействующего обмена. Можно рассуждать о том, меньшая это часть или большая, но всё равно практика показывает, что уже перспектива получения промежуточного и по сравнению с конечным мотивом второстепенного результата является достаточным поводом для завязывания отношений обмена.
Если же отвлечься от физиологии и считать «подкреплением» всякий объект/эффект, представляющий интерес для человека, то тогда сразу встаёт вопрос об отношении этого «интереса» к деятельности. Потому что если подкрепление никак не связано с мотивом или целями, то для продуктивного использования этого термина прежде становится необходимым объяснить, какой интерес может представлять для человека такое подкрепление. А если привлекающие участников обмена «подкрепления» перекрываются объёмами понятий «мотив» и «цель», то становится непонятным, в чём специфика подкрепления как термина и есть ли хоть какой-нибудь смысл в умножении числа далёких от чёткости дефиниций.
Хочется обратить внимание также на то, что отношения обмена, так сказать, ещё более равнодушны к мотивам их участников, чем отношения по поводу общей цели. Так что договорённости о мероприятиях разменного типа могут иметь место в том числе между прямо враждующими сторонами. И тем не менее такие явления, как перемирие, параллельный беспрепятственный вынос раненых с поля боя, обмен или выкуп пленных ещё до заключения мира, несомненно следует отнести к кооперативному взаимодействию. Потому что здесь налицо, во-первых, взаимная субъективная включённость в процесс отношений, а во-вторых, согласие удовлетворить по крайней мере ближайшие пожелания партнёра-противника.
Вот только в общем контексте ситуации шаг навстречу локальным интересам врага воспринимается не столько как его «подкрепление», но прежде всего как ещё один удар по нему. И весьма богатая военная история показывает, что, скажем, на перемирие идут в основном те, кто не уверен в своей способности одержать победу имеющимися силами и предпочитает сделать паузу, чтобы подтянуть подкрепления, снаряжение, боевые припасы и т. д. Напротив, сторона, и так обладающая решительным перевесом над противником, обычно просто добивает его, отклоняя все просьбы о приостановке военных действий и принимая только капитуляцию. Равным образом и на обмен пленными противники соглашаются лишь в ожидании того, что собственные ряды эта мера укрепит больше, чем вражеские. Стоит же одной из сторон посчитать, что её выигрыш будет гораздо меньше, и размен пленных не состоится (именно из таких соображений было отвергнуто предложение Парижской Коммуны обменять Л. О. Бланки на архиепископа).
Итак, кооперативно взаимодействовать, помогая партнёру в решении стоящих перед ним задач, могут в том числе люди, не имеющие общего мотива или цели и не входящие в одну группу или группировку. При этом участники сделки могут непосредственно подменять друг друга на каких-то операциях или предлагать своему визави интересующий того готовый продукт (возможно, тоже не изготовленный самостоятельно, а добытый через цепочку обменов). Но какую бы форму ни принимало то, что обменивается людьми к взаимной пользе, в основе этого процесса мы всегда найдём те или иные операции или отказ от выполнения определённых операций8*.
Тем самым рассмотренная триада видов взаимодействия – на основе общего мотива, на основе общей цели и на основе обмена операциями – демонстрирует полный параллелизм с тремя составляющими человеческой деятельности. И этого, на наш взгляд, достаточно для отрицательного ответа на вопрос о возможности существования каких-либо иных самостоятельных основ для взаимодействия.
Напомним также, что сопоставление группы и группировки показало, что взаимодействие на основе общего мотива представляет собой более высокий уровень взаимодействия, чем взаимодействие на основе общей цели. А значит, для получения логически завершённой схемы теперь остаётся определить, какое место занимает в этой иерархии взаимодействующий обмен. Задача это вполне решаемая, но всё же «в двух словах» с ней не разобраться. Да и по своей важности вопрос об иерархии видов взаимодействия несомненно заслуживает быть вынесенным в особый раздел.
3.3. К определению содержания понятия «уровни взаимодействия».
Полученный ранее вывод о подчинённости в группе и группировке отношений по поводу вклада отношениям по поводу мотивов и целей подталкивает к вполне определённым предположениям насчёт места обмена как самостоятельной формы (к)взаимодействия. Однако в науке не за всякой внешней аналогией обнаруживаются содержательные связи, и для уверенного заключения, что отношения людей, обменивающихся операциями, действительно стоят ниже, а не выше отношений тех, кто преследует, допустим, общую цель, всё равно требуется детальное сравнение между собой теперь уже трёх видов взаимодействия.
И первое, что здесь бросается в глаза, это то, что отношения обмена – при всех оговорках и встречающихся дисбалансах – стремятся к равенству вкладов как своей идеальной модели. Тогда как в группе и группировке этот принцип не действует, и даже если объёмы вкладов разных участников в какие-то моменты выравниваются, то это равновесие очень быстро вновь нарушается.
Механизм тут простой: всё, что люди, стремящиеся к общему и одновременно к своему личному мотиву или цели, вкладывают в достижение предмета взаимодействия, в конечном счёте к ним же и возвращается. Поэтому участники таких объединений делают для приближения общего успеха всё, что в их силах.
С тем, разумеется, уточнением, что в иерархии личных приоритетов одних членов группы (группировки) данный мотив (цель) может занимать место на вершине или близко к ней, а для других – играть сравнительно подчинённую роль. Так что кто-то из участников взаимодействия может посвящать общему делу буквально всего себя, а кто-то – лишь ту часть своего времени, сил и иных ресурсов, что остаётся после обеспечения иных и более значимых для него программ. Но хотя бы в этих рамках даже не самые увлечённые партнёры будут действовать вполне добросовестно.
С другой стороны, помимо уровня заинтересованности в предмете взаимодействия, члены групп и союзники могут различаться по своей фактической готовности решать возникающие перед ними проблемы. Ведь в большинстве занятий горящий желанием новичок приносит меньше пользы, чем его не столь восторженный, но зато более опытный коллега. Однако если искренний энтузиазм направляется также на развитие собственных знаний и умений, то и отдача от такого человека начинает быстро расти.
Отсюда ясно, что в начале чьего-либо взаимодействия полное совпадение возможностей объединяющихся людей будет встречаться разве что как редкое исключение. А правилом будет как раз НЕравенство посвящаемых членами группы (группировки) общему делу объёмов и качества личных ресурсов. Что будет оборачиваться НЕравенством производимого ими полезного эффекта. В процессе же взаимодействия темпы прироста личного вклада в достижение общего мотива (цели) у одних участников могут оставаться примерно постоянными, тогда как у других – заметно ускоряться. В последнем случае такие энтузиасты по общему объёму своего вклада будут постепенно догонять, а затем и перегонять своих более стабильных партнёров. Что, в свою очередь, приведёт к определённому перепозиционированию среди участников взаимодействия, но не более того.
Безусловно, чьё-то отставание во вкладе может вызывать у других членов группы (группировки) известное разочарование. Однако сам по себе относительно малый вклад, не сопровождаемый иными признаками неискренности, не будет рассматриваться как «вина» его автора и уж тем более как повод для «исключения» кого бы то ни было из совместной работы. Потому что там, где люди уже вкладывают в достижение некоторого результата всё, что могут, ускорение продвижения к этому результату становится возможным только за счёт содействия других людей. Так что стремящиеся к общему мотиву или цели будут рады любой помощи со стороны, сколь бы скромной она ни была, и им в голову не придёт сокращать ресурсы собственного объединения пусть бы и за счёт наименее продуктивных его членов.
Иное дело обмен. Даже если этот формат отношений начинается с подарков, за которые не ждут непременного и немедленного возмещения, то последующее его развитие – и в этом плане наши современники не сильно отличаются от жителей каменного века – всё равно будет решающим образом зависеть от наличия и характера ответных шагов одаряемой стороны. Соответственно, если за первым подношением последует встречный достойный сувенир или какие-то иные устраивающие дарителя действия, то взаимные знаки внимания продолжат сменять друг друга и, возможно, со временем распространятся на знакомых и наследников первой пары партнёров по взаимодействию. Но вот если получатель первого подарка не продемонстрирует удовлетворительной ответной реакции, то кто-то может здесь же и остановиться, а после двух-трёх безответных презентов о целесообразности продолжения подобных контактов задумаются очень многие. Если же кто-то сам для себя согласится на систематическое одностороннее субсидирование никак не реагирующего на получаемые дары человека (людей), то такие отношения, очевидно, будут являть собой пример не кооперативного взаимодействия, а «позитивного» или «поддерживающего воздействия» (фигура 3 из классификации межличностных процессов).
Тем более не могут позволить себе забыть о возмездной основе реализуемых ими отношений участники обычного торга, отдающие плоды своих операций в абсолютно посторонние руки. В таких условиях стремление «не продешевить» и достойно вознаградить себя за потраченные усилия жёстко укладывает замыслы обменивающихся в формулу «побольше взять, поменьше дать». Поэтому при встрече подобных формул потенциальным участникам обмена приходится сообразовывать свои пожелания с реальностью и искать такой баланс взаимных запросов, при котором их сделка могла бы стать фактом. Соответственно, если одна из сторон способна предоставить редкий или уникальный продукт (услугу), то это укрепляет её позиции в торге и позволяет идти на меньшие уступки (а то и вовсе жёстко навязывать контрагенту собственные требования). Напротив, тот, кто предлагает к обмену нечто типовое и повсеместно доступное, поневоле вынужден и свои претензии приближать к среднестатистическому уровню.
Разумеется, между торгующимися могут встречаться как искренние заблуждения насчёт действительной ценности обмениваемого (например, когда все участники сделки уверены, что переходящие из рук в руки безделушки имеют магическую силу), так и самые разнообразные махинации. Но если обмен не переходит в открытое вымогательство или грабёж и совершается именно добровольно, то это значит, что по крайней мере в своей субъективной шкале ценностей каждый из партнёров признал полученное допустимой заменой отданному. И если обладатель, скажем, старинной книги, которую в спокойной обстановке называют «бесценной», во времена войны и голода считает большой удачей выторговать за неё полмешка крупы, то такое отношение как раз и показывает, что было достигнуто полное психологическое равенство обменивавшегося 9*.
Прямым следствием такой субъективной равноценности условий обмена является то, что и собственные статусы партнёры воспринимают как безусловно равные и симметричные. Так что даже если в результате сделки одна из сторон «на самом деле» оказывается безнадёжно проигравшей, а предоставленный ею вклад неизмеримо превосходит полученное возмещение, то подобное неравенство всё равно не даёт участникам данного вида взаимодействия никаких дополнительных возможностей по влиянию друг на друга. То есть, конечно, в процессе обмена можно увидеть, как один из контрагентов указывает второму, например, подать не этот, а тот пучок, оставить или заменить уздечку, произвести ещё какие-нибудь и порой достаточно сложные операции, и такие указания беспрекословно выполняются. Однако сходство между послушанием при обмене и теми отношениями межличностного влияния, которые складываются в группе и группировке, ограничивается исключительно внешними совпадениями. Тогда как механизмы, побуждающие участников разных видов взаимодействия следовать распоряжениям друг друга, имеют между собой очень мало общего.
Чтобы убедиться в этом, обратимся к одному выразительному примеру обмена операциями, описанному в старинной притче: «На берегу горного потока встретились слепой и хромой. Им надо было переправиться на другой берег, но в одиночку они этого сделать не могли. Поэтому хромой сел на спину слепому и стал указывать дорогу.»
О дальнейших приключениях изобретательных путешественников притча молчит, в связи с чем можно предположить, что они просто разошлись каждый своей дорогой, и ничего поучительного с ними больше не случалось. При этом далеко идущие мотивы или цели очень временного попутчика, скорее всего, так и остались неизвестны Слепому и Хромому, поскольку, кроме удовлетворения праздного любопытства, никакого практического смысла такое знание всё равно не имело бы. В привлёкших народную молву обстоятельствах для налаживания и завершения взаимодействия нашим героям совершенно достаточно, во-первых, совпадения сиюминутной задачи – перебраться через реку, – и во-вторых, способности партнёра восполнить отсутствующую у себя телесную функцию. Иначе говоря, участники этого своеобразного обмена, почти не задерживаясь на личностных свойствах своего контрагента, проявляют подлинную заинтересованность лишь в одном-единственном аспекте его физического состояния.
Так Слепой, для которого по-настоящему важна лишь способность напарника видеть, тем самым фактически «пропускает» в Хромом человека и использует его просто как средство ориентировки. А стало быть, в этом качестве для Слепого вполне равноценной заменой Хромому мог бы стать любой другой естественный или искусственный объект, помогающий получить представление об окружающей местности.
Со своей стороны, и Хромой использует Слепого как средство, но только не ориентировки, а передвижения. И в этом качестве партнёр для Хромого весьма близок к той же лошади или ослу (пожалуй, настоящее вьючное животное устроило бы Хромого даже больше, поскольку Слепой довезёт лишь до другого берега, а на лошади можно было бы добраться до конечной цели путешествия).
При таком подходе участников обмена друг к другу их коммуникация непосредственно на переправе, в главной фазе взаимодействия, хотя и строится на словах, по сути от человеческого общения здесь остаётся одна внешняя оболочка. Раз Хромой выполняет для Слепого функцию средства ориентировки, то и следование Слепого его указаниям – это есть не столько подчинение человека человеку, а в гораздо больше степени подчинение человека логике средства, принципиально тождественное «подчинению» при выборе маршрута «указаниям» Полярной звезды или перелётных птиц. Аналогичным образом и Хромой, давая свои указания, ровно столько же управляет, сколько и подчиняется. Он располагает известной свободой в выборе траектории движения и формулировании вытекающих из этого команд, но сам факт отдачи этих команд является для него необходимостью, диктуемой ситуацией, в которой средством передвижения выступает человек. Так что имей наш «наездник» настоящего коня, то и «указания» он передавал бы уздой и ногами.
Наконец, не будь Хромой хромым, он вовсе был бы избавлен от необходимости применять на переправе какое-либо внешнее средство, включая Слепого. И тогда Слепому, чтобы миновать реку, оставалось бы надеяться на бескорыстную помощь не нуждающегося в нём здорового попутчика либо искать, чем ещё, помимо своей спины, он может того заинтересовать.
Теперь, для сравнения, попробуем представить себе, как действовали бы наши герои, если бы их объединял некоторый более широкий интерес (причём в данном контексте не столь важно, была бы это общая цель или общий мотив). Очевидно, что при взаимном желании двигаться вместе гораздо дальше, чем только лишь до другого берега, сразу исключался бы вариант, когда кто-то один остаётся на переправе. И при любой личной оснащённости партнёры непременно позаботились бы о том, чтобы помочь товарищу продолжить путь вместе с собой. Так что если бы на берегу не оказалось лошадей или каких-то иных вспомогательных средств, то по внешности события, скорее всего, развивались бы уже известным нам образом. Но со следующими важными нюансами: во-первых, входящие, допустим, в одну группу Слепой и Хромой воспринимали бы форсирование реки как свою общую задачу, составляющую часть их общей деятельности и потому решаемую объединёнными усилиями. А во-вторых, продуктивная идея по организации переправы воспринималась бы как самостоятельное достижение, повышающее авторитет её автора и побуждающее с особым вниманием прислушиваться к его новым предложениям.
Переходя же от этого частного случая к обмену как таковому, мы теперь можем со всей определённостью утверждать следующее: психологический смысл данного вида (к)взаимодействия состоит в том, что человек восполняет за счёт внешнего участия свой запрос на результаты тех операций, которые он не может выполнить самостоятельно либо делает это менее эффективно и качественно, чем другой человек (люди) из доступного ему окружения.
Для привлечения других людей к содействию себе человек может пускать в ход как ресурсы, составляющие для него абсолютный избыток, так и то, что требуется самому, но всё-таки в сравнительно меньшей степени, чем то, что предполагается получить. Впрочем, на общее отношение к процессу этот аспект мало влияет. Независимо от того, насколько субъективно легко или трудно даётся человеку та или иная сделка, воспринимаются ли её итоги как удачные или только «приемлемые», в любом случае каждый из обменивающихся будет считать, что это он привлёк другую сторону к решению своей задачи10*. Исходя из этого, полученное в результате обмена человек также будет рассматривать как своё личное достижение (пусть бы даже его заслуга состояла лишь в том, что он сумел разместить свой заказ у хорошего мастера). А раз партнёры по обмену строго симметрично видят друг в друге лишь элемент в системе собственных планов и расчётов, то с таких позиций, естественно, никто не находит причин принимать влияние, связанное с личными взглядами и подходами контрагента. Но может следовать тем его указаниям, которые диктуются внутренней логикой обмениваемых операций.
Такие отличия отношений «менял» от отношений в объединениях людей означают, что обмен находится уж точно не «между» взаимодействиями на основе общего мотива и общей цели. Однако сам по себе факт симметричности позиций участников опять-таки не даёт оснований квалифицировать обмен как наиболее высокий или низкий уровень взаимодействия. Поэтому необходимо продолжить разбираться в тех процессах, которые способствуют появлению в группах и группировках иерархий сознательного и добровольного неравенства.
Занимавшийся этим вопросом А. В. Петровский пришёл к следующим выводам: «Люди, входящие в группу, не могут там находиться в одинаковых позициях по отношению к тому, чем занята группа, и друг к другу. Это, пожалуй, можно рассматривать в качестве одного из постулатов социальной психологии…
Каждый член группы в соответствии со своими деловыми и личными качествами, со своим статусом, т. е. закреплёнными за ним правами и обязанностями, престижем, в котором зафиксирована мера его заслуг, имеет определённое место в системе групповой организации, в структуре группы. С этой точки зрения групповая структура представляет собой своеобразную иерархию престижа и статусов членов группы» (1980, с. 29).
Чтобы понять, о чём здесь идёт речь, следует, во-первых, вспомнить, что «… дело обстоит следующим образом: определённые индивиды, определённым образом занимающиеся производственной деятельностью, вступают в определённые общественные и политические отношения», и при этом «представления, которые создают себе эти индивиды, суть представления либо об их отношении к природе, либо об их отношениях между собой, либо об их собственной телесной организации. Ясно, что во всех этих случаях эти представления являются сознательным выражением – действительным или иллюзорным – их действительных отношений и деятельности» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 24). Во-вторых, необходимо учесть, что представления человека о собственной телесной организации – это есть прежде всего представления о том, что необходимо для поддержания этой самой организации в жизнеспособном состоянии, а проще говоря, представления о собственных потребностях и соответствующих им мотивах.
С учётом вышеизложенного постулат А. В. Петровского может быть принят в следующем виде: «Люди, входящие в группу, не могут находиться в одинаковых позициях по отношению к той реальности, с которой работает группа, и друг к другу; структуры их отношений к собственной телесной организации, одинаково включая в себя групповой мотив, в других своих элементах также могут отличаться. Однако на данном этапе представляется целесообразным несколько упростить условия задачи, временно абстрагировавшись от различий в мотивации членов группы и принимая в расчёт лишь то, что их объединяет. Это позволит ограничить предмет исследования только отношениями участников взаимодействия к природе (возможно, в чём-то уже преобразованной другими людьми) и между собой».
И тогда следующей задачей после такого переформулирования общей проблемы станет разделение прав и обязанностей членов группы по отношению к тому, чем занята группа, и их же прав и обязанностей по отношению друг к другу. Потому что эти системы отношений не только в теории, но и на практике существуют самостоятельно и во многом независимо одна от другой.
Для иллюстрации этого тезиса обратимся ещё раз к родовой общине, которая совместно охотится и уже целенаправленно что-то выращивает, стараясь не допустить собственной голодной смерти. А значит, является объединением людей с самой что ни на есть базовой общей мотивацией. Так вот в такой первобытной группе её члены при подготовке, например, к облаве на диких свиней могут «в соответствии со своими деловыми и личными качествами» разделяться на загонщиков и тех, кто будет ждать в засаде. А при уборке урожая общинники могут составлять настоящие технологические цепочки из собственно жнецов (копателей и т. д.), носильщиков, курсирующих между полем и «складом», и сортировщиков, занятых классификацией и первичной обработкой собранного. Естественно, что при формировании таких функциональных подгрупп тоже будут учитываться опыт, навыки, текущее физическое состояние и другие факторы, способные повлиять на эффективность исполнения человеком возлагаемых на него обязанностей. Но как бы ни перераспределялись члены общины между различными занятиями, какие бы задачи ни решали они в тот или иной момент, общий контроль за этими процессами и текущее управление внутри «рабочих подразделений» всегда осуществляют более зрелые сородичи. А молодёжь и менее искусные, допустим, в деле охоты общинники внимательно слушают и исполняют их указания.
Причём такое положение будет сохраняться не только на следующей облаве, где составы загонщиков и оставляемых в засаде могут полностью поменяться, но и при встрече с совершенно новой проблемой. Ибо указаний по порядку решения никому не знакомой задачи будут ждать прежде всего от тех, кто уже доказал своё умение эффективно координировать совместные действия сородичей. И только если ни одна из идей «старой гвардии» не сработает, это уравняет всех участников взаимодействия между собой, и дальнейшее рассмотрение предложений по выходу из сложившейся ситуации будет проходить на общих основаниях.
Заметим также, что место во внутригрупповом разделении труда – назовём его для краткости «деловым статусом» – при определённых обстоятельствах могло закрепляться за человеком надолго и даже на всю жизнь. Как это происходило, например, с теми, кто гораздо лучше других научался разбираться в ранах, травмах и прочих человеческих недугах. Так что когда это становилось очевидным для всех и регулярные обращения за помощью фактически превращали таких знатоков в штатных лекарей для всей округи, то у них чисто технически оставалось гораздо меньше времени для любых других занятий. В связи с чем для начинающих профессионалов (кузнецов, обувщиков, ветеринаров и т. д.) на собрании сородичей или явочным порядком признавалось, что для общего успеха их работа по уже наметившейся специализации полезнее, чем подключение к различным вспомогательным процессам. (Уклоняться же от жизненно важных дел, участие в которых подтверждало саму принадлежность к общине, и так никто не собирался.) Но всё же большинство жителей той эпохи оставались универсалами, и их текущие деловые статусы даже в течение недели могли меняться многократно вслед за переходами общины от одного этапа своей деятельности к другому.
Наконец, говоря о внутренней организации группы, нельзя забывать, что более или менее широкие возможности по управлению её деятельностью могут получать как раз носители определённых деловых статусов. Ведь вся наша цивилизация сложилась в том числе потому, что формирующиеся люди смогли вывести своё общение на уровень, недоступный животным и позволяющий радикально повышать отдачу от выполняемых совместно действий. Так что там, где для наращивания эффекта механическое сложение усилий надо было дополнять их логической координацией, уже самые первые человеческие сообщества выделяли из своего состава сигнальщиков или регулировщиков, призванных давать партнёрам обязательные для исполнения указания.
Однако подобное влияние «по должности» существенно отличается от того управленческого потенциала, которым обладают бывалые и заслуженные члены группы. Достаточно сказать, что послушание, диктуемое технологией процесса, заканчивается сразу же, как только завершается сам этот процесс, либо сменяется исполняющий обязанности координатора. Напротив, полномочия, связываемые не с функцией, а с конкретной личностью, являются гораздо более стабильными именно потому, что багаж, дающий право одним членам группы направлять, перестраивать, останавливать действия своих партнёров и обязывающий всех остальных следовать получаемым указаниям, нарабатывается неделями, месяцами и годами.
Отсюда передвижки позиций межличностного влияния – их логично будет назвать «межличностными статусами» – тоже могут происходить, но не в режиме «назначили-отменили», а исключительно постепенно. Так что если новый участник взаимодействия при решении каждой очередной задачи демонстрирует точное понимание процесса и хороший результат, то со временем он вполне может войти в число самых влиятельных «старейшин» данной группы. Но сначала межличностные статусы новичка и более влиятельного члена группы должны сблизиться, а затем выровняться и сделаться трудноразличимыми. И только после этого, если подобная динамика сохранится, ещё через какое-то время все другие их товарищи своими действиями подтвердят, что отныне из двух человек мнение бывшего новичка является для них более весомым. Что не помешает давнему члену группы сохранять своё человеческое влияние на соратников с менее значительными вкладами; просто число тех, кто вправе указывать ему, увеличится на одного.
Правда, при всей очевидности указанных моментов, с рассуждениями А. В. Петровского они не стыкуются практически ни в чём. Взять хотя бы связку тезисов, согласно которой закреплённые в соответствии с деловыми и личными качествами статусы образуют «своеобразную иерархию». На первый взгляд, это следовало бы отнести к деловым статусам, так как «закреплёнными» – сразу и в полном объёме – могут быть только они. Межличностные же статусы, повторимся, могут быть только «закрепившимися» – постепенно, в процессе деятельности группы. Но, с другой стороны, деловые статусы могут отличаться, но не могут образовывать иерархии (утверждать обратное – значило бы возрождать на уровне малой группы ребяческие споры о том, кто выше: токарь или слесарь, тракторист или доярка). Напротив, понятие межличностного статуса само в себе содержит идею иерархии, поскольку полное равенство уровней влияния всех участников взаимодействия исключало бы движение между ними сколько-нибудь обязательных указаний. И на таком фоне говорить о чьём-то особом межличностном статусе можно было бы разве что в общефилософском, но никак не практическом смысле. Вот и выходит, что «статус по Петровскому» не идентифицируется ни с деловым, ни с межличностным статусом, но являет собой противоестественный конгломерат из свойств обоих этих статусов.
Малопонятное смешение делового и межличностного статуса дополняется у А. В. Петровского не менее загадочным противопоставлением статуса и заслуг, т. е. противопоставлением статуса и вклада. Однако при том, что уровни личного влияния, как образования активные, постоянно действующие и меняющиеся, несомненно, отличаются от довольно-таки пассивного престижа, такое отличие ничуть не означает их противоположности. Даже при определении делового статуса «деловые и личные» качества играют решающую роль лишь при первом включении человека в некоторую систему разделения труда. Движение же внутри этой системы определяется тем, как будут воплощаться в жизнь эти качества, каков будет реальный вклад или, что то же самое, мера заслуг человека в обеспечении функционирования этой системы. Тем более это относится к статусу межличностному.
Ф. Энгельс, рассматривая большие человеческие общности, указывал на прямую зависимость социального статуса человека от меры его участия в общественных делах. Например: «Дама эпохи цивилизации, окружённая кажущимся почтением и чуждая всякому действительному труду, занимает бесконечно более низкое общественное положение, чем выполняющая тяжёлый труд женщина эпохи варварства, которая считалась у своего народа действительной дамой (Lady, frowa, Fray = госпожа), да по характеру своего положения и была ею» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 53). Как представляется, в таком контексте нет необходимости долго разъяснять, что речь идёт не столько о престиже, сколько о реальном влиянии на жизнь отдельных членов общества и общества в целом. Ту же связь вклада и статуса (межличностного) для малых групп показал Р. Л. Кричевский (1980).
Однако, оставив без внимания тот факт, что иерархия заслуг и иерархия межличностных статусов в объединениях людей существуют не автономно, а в тесной связи друг с другом, вопрос о механизме этой связи А. В. Петровский даже не ставит и, естественно, никак на него не отвечает. Так что разбираться в предпосылках и причинах формирования у партнёров по взаимодействию многоуровневых структур межличностного влияния предстоит в основном самостоятельно. Впрочем, совсем без помощи здесь мы тоже не останемся.
3.3а) К вопросу о соотношении вклада, престижа и межличностного влияния.
Из того, что вклад в достижение предмета взаимодействия формируется в результате действий членов соответствующего объединения людей, следует, что для выяснения природы влияния различий в отношениях этих людей к окружающей действительности (иерархия вкладов) на различия в их же отношениях между собой (иерархия межличностных статусов) логичнее всего будет обратиться к данным о природе и источниках успешности действия. А в этой области твёрдо установлено, в частности, следующее: «… в действии субъекта различаются две неравные и по-разному важные части – ориентировочная и исполнительная. Ориентировочная часть представляет собой аппарат управления действием как процессом во внешней среде, исполнительная часть – реальное целенаправленное преобразование исходного материала или положения в заданный продукт или состояние» (Гальперин, 1966, с. 248). Иначе говоря, конечная продуктивность совершающегося действия будет определяться двумя составляющими: 1) адекватность ориентировки в условиях деятельности и 2) набор и совершенство исполнительских возможностей человека.
Вот только в реальной обстановке осознание абсолютно всех факторов, способных отражаться на ходе деятельности едва ли возможно даже для простых случаев. Так что, решая поставленные перед собой задачи, люди обычно стремятся к вычленению главных движущих сил интересующего их процесса и отвлекаются от малозначимых воздействий. А поскольку ключевым здесь является уточнение «интересующего их», то, в зависимости от устремлений и текущих настроений участников, одни и те же элементы происходящего кому-то могут показаться существенными, а кем-то восприниматься как дежурный фон и не более того11*. Но встречающиеся на практике расхождения в оценках отдельными людьми конкретных событий или процессов нисколько не влияют на общий вывод о том, что адекватность понимания ситуации определяется тем, насколько правильно проведено разбиение имеющихся воздействий на существенные и несущественные и насколько полно учитывается состояние и динамика существенных факторов.
Вопрос о возможностях человека тоже требует некоторых дополнительных пояснений. Однако, дабы они прозвучали более весомо и убедительно, эту часть будет лучше начать не с обсуждения структуры человеческих возможностей, а с ряда мысленных экспериментов, иллюстрирующих связи вклада и внутригрупповых статусов.
Итак, эксперимент 1: представим группу, стоящую перед простой, с точки зрения ориентировки, задачей, скажем, переноска сыпучего груза в произвольно наполняемых мешках с одного места на другое по ровной местности и в пределах видимости.
Очевидно, что в таких обстоятельствах иерархия вкладов воспроизведёт иерархию членов группы по физической силе, а человек, оказавшийся на вершине этой иерархии, будет – в качестве наиболее ценного в данном случае работника – окружён наивысшими в данной группе почётом и уважением. Кроме того, если в будущем перед группой встанет сходная задача, требующая только силы, но уже не требующая участия всей группы, то, с учётом имеющегося опыта, для решения такой задачи, скорее всего, будет делегирована верхушка групповой иерархии силачей. Но даст ли это наиболее крепким членам группы какое-либо особое межличностное влияние? Конечно, нет, ибо предельная ясность ситуации, уравнивающая всех в её понимании, сделает какие-либо дополнительные пояснения и указания излишними и едва ли не оскорбительными.
Эксперимент 2: немного разнообразим условия и предположим, что задача также является простой по содержанию и трудоёмкой по исполнению, поскольку требуется как можно быстрее переместить большой объём упакованных в коробки предметов из одного складского помещения в соседнее. Однако теперь в распоряжении нашей теоретической и достаточно многочисленной группы, помимо собственных рук, имеется ещё один автопогрузчик.
При таком дополнении люди, искренне заинтересованные в решении указанной задачи, прежде всего постараются определить, кто из них лучше умеет управляться с доступной техникой. Если это неизвестно заранее и найдётся несколько претендентов с сопоставимым опытом, то для окончательного выбора среди них, вполне возможно, будет проведён какой-нибудь экспресс-конкурс. После чего наши герои, вероятнее всего, начнут действовать параллельно, то есть кто-то будет собирать-разбирать закладки для погрузчика, а все остальные ради ускорения процесса займутся перегрузкой вручную. Для наглядности примем, что это будет индивидуальная переноска, а не передача коробок по цепочке, полностью уравнивающая роли всех участников процесса.
Вполне вероятно, что по ходу совместной работы её участники, помимо последних новостей и эмоциональных оценок, будут также обмениваться кое-какими указаниями. Но поскольку содержательно ситуация сохраняет полную ясность, то указания эти могут быть чисто техническими (например, принять вправо-влево, что-нибудь подровнять-подвинуть-отодвинуть и т. д.) и никаких заметных различий в уровнях межличностного влияния членов группы такие элементы руководства-подчинения опять-таки не создадут.
Гораздо более любопытной и поучительной будет оставшаяся после всех трудов структура престижей членов группы. В самом деле, с одной стороны, водитель погрузчика, чьи навыки помогли переместить в десятки раз больше груза, чем усилия любого другого члена группы, будет пользоваться особенно уважительным отношением своих товарищей, явно выделяющим его среди всех остальных участников проведённого аврала. Но будет ли это означать, что в глазах партнёров мера его заслуг в десятки раз превысит их собственные успехи? Вовсе нет, и чтобы убедиться в этом, добавим в условия задачи ещё один элемент.
Серия 2а): представим, что два претендента на место водителя примерно одинаково справились с пробным заданием, и окончательный выбор был сделан просто по жребию. Следуя решению группы, оставшийся кандидат достаточно грамотно взялся за дело, но после того, как чуть не наехал на товарища, разнервничался, стал постоянно сбиваться с траектории, натыкаться на препятствия, создал ещё одну опасную ситуацию и в конце концов на середине работы по общему мнению был заменён на второго кандидата. Который, приняв смену, качественно и без происшествий завершил перевозку оставшейся части груза.
Ясно, что при таком развитии событий, несмотря на равенство объёмов технической работы, выполненной двумя водителями погрузчика, отношение к ним будет разным. Тот, кому досталась роль сменщика, будет восприниматься как человек, который «спас положение», и потому обретёт уважение и престиж, очень похожие на те, что достались отработавшему всю смену водителю из предыдущей серии. Что же касается заменённого партнёра, то отношение к нему не будет явно негативным и его престиж не будет нулевым. Однако в оценках товарищами его работы совершенно точно будут присутствовать в той или иной пропорции сочувственно-критические нотки, присущие ситуации, когда человек «старался, но в целом не справился» и этим мог подвести всю группу. Иначе говоря, для членов группы, выполнявших особую функцию, сформируется отдельная двухступенчатая иерархия заслуг, отражающая показанное ими мастерство в управлении автопогрузчиком.
А для всех остальных справившихся с поставленной задачей иерархия их престижей, она же поимённая сводка объёмов выполненной работы, позволит, как и в эксперименте 1, судить в основном об их физической силе и выносливости. В этом ряду будет учитываться и то, что два водителя успели сделать на ручной переноске до или после своей смены на погрузчике. Правда, ощутимого влияния на их престижи такие «довески» не окажут, поскольку в качестве носильщиков эти члены группы сделают в среднем вдвое меньше любого из тех, кто действовал только руками. Но рукотворные достижения водителей могут вспоминать как дополнительный штрих к их главному результату, например: «На технике он, да, малость сплоховал, но сам по себе потом работал как зверь!» или «носил, как мог, сильно не отставал, зато рулил здорово, тут никто не спорит». И такая возможность сопоставления и даже определённого противопоставления двух разновидностей вклада показывает, что, на взгляд самих участников взаимодействия, иерархии престижей, связанных со специальными техническими умениями и с общефизической подготовкой, будут существовать в несколько разных измерениях, но отнюдь не в каком-то космическом разрыве, а более-менее по соседству одна с другой.
Такой вывод, помимо всего прочего, означает, что и в стартовой серии эксперимента 2 иерархия специальных вкладов, пусть и состоящая из единственного элемента, существовала именно «рядом» с иерархией общих заслуг. Сопоставляя же между собой все полученные наблюдения, следует признать, что при делегировании участнику взаимодействия особого делового статуса его будущий количественно повышенный или качественно уникальный по сравнению с другими партнёрами вклад подразумевается сам собой. Так что оценка фактических свершений такого человека идёт не столько по их абсолютным характеристикам (вес, объём, скорость, экономичность и т. д.), а главным образом по тому, насколько исполнитель особой функции оправдал либо не оправдал возлагавшиеся на него ожидания.
Что же касается уровня ожиданий человека, то он, как известно, зависит от личного опыта в самом широком смысле. Так что даже тот, кто сам мало что умеет, но близко знаком с работой виртуозов своего дела, вряд ли будет восхищаться свершениями нормального ремесленника средней руки. Однако, с другой стороны, если в текущих обстоятельствах совершенно достаточно, чтобы некое устройство «дотянуло до конца недели», после чего оно всё равно пойдёт на списание, то даже тонкие ценители промышленной эстетики, скорее всего, сочтут нормальным самый простой и топорный вариант ремонта.
Но как бы ни складывалась внешняя обстановка для той или иной группы и куда бы ни сдвигалась в связи с этим планка приемлемости результата – к высшему эталону или к уровню чуть лучше полного брака, – в любом случае как минимум одно плечо шкалы будет оставаться свободным для распределения по нему оценок качества фактического исполнения. А в большинстве реальных ситуаций, когда ожидаемый уровень исполнения находится не на высшей или низшей границе, а внутри существующего диапазона мастерства, у участников совместной деятельности, наряду с перспективой не оправдать ожиданий товарищей, будет также иметься возможность превзойти эти ожидания. Поэтому иерархии специализированных вкладов тоже могут иметь разветвлённую многоуровневую структуру.
Серия 2б): расширим масштабы эксперимента и представим, что в обсуждаемом складском комплексе решили срочно изменить его профиль. В связи с чем нашей группе необходимо максимально оперативно освободить все помещения этого комплекса, а затем заполнить его новыми грузами. Для ускорения процесса в её распоряжение готовы предоставить столько автопогрузчиков из новой партии, сколько она запросит.
При такой постановке задачи наиболее разумным способом действий будет использовать в качестве водителей всех, кто может хоть сколько-нибудь уверенно обращаться с техникой и, находясь за рычагами, не служить источником постоянной угрозы для себя и окружающих. Предположим, что, кроме уже известной нам пары, таких отобрали ещё три человека. Допустим также, что в этот раз водитель, заменённый в серии 2а, работал чётко и без сбоев, а его сменщик, напротив, допустил пару ошибок и в целом действовал чуть менее эффективно, чем на прошлой задаче. А из новобранцев двое успели сделать примерно на треть, а один – вдвое меньше лидеров.
Тем не менее, в силу описанного выше механизма, подобные вклады в общий успех вовсе не будут означать, что их авторы обретут столь же скромные престижи. Поскольку выработки наравне с проверенными мастерами от водителей-новичков никто и не ожидал, главной мерой заслуг стажёров станут не перевезённые грузы сами по себе, а то, как сильно и в какую сторону их реальные результаты отклонились от предполагавшихся. Так что, дабы лишний раз не повторять уже говорившегося, примем для простоты, что все три новых водителя сумели сработать лучше, чем от них ожидали, и по праву получили отношение к себе как к людям, которые сделали «всё, что могли, и даже немного больше». Закончим пока на этом тему престижей и обратимся к гораздо более важной и интересной особенности данной серии нашего эксперимента.
Напомним, что все предыдущие вариации условий деятельности группы допускали для её членов обмен лишь очень простыми командами. И только подключение к решению, в общем, той же задачи нескольких достаточно сложных технических средств, используемых с разной эффективностью, создаёт в совместной работе принципиально новое измерение. Потому что на фоне явно отличающихся вкладов водителей становится оправданным движение внутри этой подгруппы не только мелких ситуативных, но и вполне содержательных указаний, касающихся, естественно, обращения с техникой.
Дело в том, что продуктивность использования человеком любого орудия, от каменного топора и до экскаватора или автопогрузчика, зависит, с одной стороны, от ресурсов данного орудия, а с другой – от возможностей работающего. Соответственно, если некогда весьма производительное средство давно не ремонтировалось и не отлаживалось, то его текущая эффективность может последовательно снижаться вплоть до полной непригодности. Точно также не стоит ждать выдающихся результатов там, где за вполне исправные инструменты, устройства, механизмы и т. д. берутся люди, прошедшие лишь самое предварительное обучение обращению с ними. Зато настоящий мастер даже из плохонького инструмента сумеет извлечь весь его потенциал и сильно не отстанет от тех, кто с меньшим искусством пользуется гораздо более совершенными средствами.
Исходя из чего эффективность произвольной орудийной деятельности можно описать следующей несложной формулой:
При этом ресурсы орудия, как уже отмечалось, по мере износа будут стремиться от некоей проектной величины к нулю, но могут отчасти восстанавливаться за счёт реставрации и ремонта. Тем не менее, если отвлечься от аварий и серьёзных поломок, то для небольших промежутков времени потенциал данного орудия вполне может быть принят за константу.
Напротив, человеческие умения пользоваться внешними орудиями как раз при активной работе развиваются и совершенствуются, а при отсутствии практики начинают угасать иногда до полной утраты. Так что, начинаясь с полного отсутствия, а затем по мере отработки «прибавляя в весе», специализированные навыки могут – строго поступательно или с паузами и просадками – выходить на уровень, позволяющий задействовать все ресурсы данного вида орудий. Правда, добиваться такого даже профессионалам удаётся не всегда и не всем, и, владея одними тонкостями мастерства, при возникновении проблем иного рода добросовестные специалисты сами могут порекомендовать обратиться к кому-то ещё, кто лучше разбирается именно в этой группе вопросов. А кроме тех, кто оспаривает первенство в виртуозности, во всяком деле, как тоже уже отмечалось, имеется масса просто крепких ремесленников, которые «не хватают звёзд с неба», но уверенно справляются с массой типовых задач, обычно составляющих более 90% практически необходимого объёма работы. Поэтому второй множитель в формуле логичнее всего будет определить как коэффициент, способный изменяться в пределах от нуля до единицы.
Говоря о возможностях человека, разумеется, нельзя не упомянуть и о том, что, помимо сформированности навыков, наша текущая работоспособность напрямую зависит от общего физического состояния. Сильная усталость, голод, жажда, эмоциональная взвинченность, банальный насморк и масса других создающих дискомфорт факторов могут в разы снижать обычную эффективность работы человека. Но для теоретической модели подобные сравнительно случайные отклонения от нормы будет удобнее вынести за скобки, предположив, что все члены экспериментальной группы чувствуют себя хорошо. Тем самым стартовые позиции для подгруппы водителей полностью выравниваются, и мы можем быть уверены, что различия в выработке определяются только их умением обращаться с техникой (которая, по условиям задачи, вся предоставлена из новой партии).
После чего остаётся лишь напомнить, что, во-первых, как и у всяких других человеческих действий, результативность действий с внешними средствами зависит от степени адекватности ориентировки в условиях деятельности и от качества исполнительских навыков данного человека. А во-вторых, что собственно моторные элементы навыков, включая навыки работы с техникой, оттачиваются только в ходе практического выполнения соответствующих операций в реальной или тренировочной обстановке. В силу этого, скажем так, мышечно-физическая составляющая возможностей человека является образованием достаточно инертным, и для заметного повышения её качества нередко требуются недели и месяцы систематических занятий. (Что, разумеется, не исключает помощи в совершенствовании методики таких занятий, но результаты подобных рекомендаций всё равно не проявятся быстро.) Тогда как понимание ситуации – особенно когда пояснения даёт настоящий знаток своего дела – может ощутимо улучшаться буквально за считанные минуты12*. Естественно, улучшая вслед за собой и объективные показатели ставших более продуманными действий работника.
Не менее естественно, когда человек, искренне заинтересованный в скорейшем решении поставленной задачи и лучше разбирающийся в том, как этого можно добиться, начинает давать указания на перестройку действий тем своим коллегам, чьи усилия не дают должного результата. Ведь уже много столетий назад, особо не вдаваясь в какие-либо психологические тонкости вроде изложенных выше, а исходя из обычного повседневного опыта, люди подметили, что хромой путник может опередить у цели всадника на скакуне, если знает дорогу. Так что вывод о прямой связи уровня понимания ситуации и эффективности деятельности это отнюдь не наше и вообще не современное открытие, а просто чуть более строго сформулированное поистине общечеловеческое наблюдение.
Другое дело, что там, где у людей нет общего мотива или хоть чем-нибудь привлекающей их всех промежуточной цели, так вот в таком составе даже самые разумные советы, скорее всего, останутся пустым звуком. И не потому, что слушатели будут сомневаться в продуктивности предлагаемого способа действий или считать, что выигрыш от следования получаемым рекомендациям окажется недостаточно весомым. Когда между формальными членами одного списка отсутствуют отношения реального сотрудничества и каждый погружён лишь в свои особенные задачи и проблемы, чьи-либо идеи по повышению эффективности будут восприниматься исключительно как попытки повысить свою