Читать онлайн Когда-то в России бесплатно
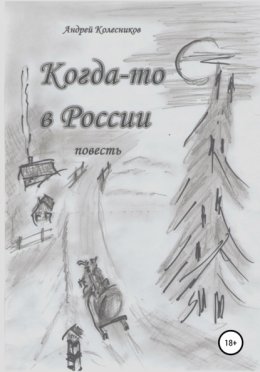
Предкам нашим, создавшим Великую Россию,
с благодарностью и восхищением посвящается.
Глава 1
В середине 17 века Русь была уже в Забайкалье. Основав в1648 году на реке Лене Якутск казаки и землепроходцы сделали его базой для освоения Восточной Сибири а затем и Дальнего Востока. Извечная мечта о «краях богоизбранных», где нет «ереси и злобы», ненависти и воровства», а есть «одна доброта, справедливость да любовь в сердце» влекли сюда все новых и новых людей, разных по своему положению, происхождению, вере, но единых только в своей авантюристической мечте о лучшей доле. К берегам Охотского моря, на Амур, Чукотку, Камчатку выходят первые отряды землепроходцев, начинается хозяйственное освоение края.
В 1822 году по указу Александра 1 «О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению» образуется Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, в состав которого вошли все эти территории, а также дальневосточные владения России на североамериканском континенте – Аляска и Алеутские острова. Вскоре вопрос укрепления и охраны дальневосточных рубежей стал насущным. Флот же, столь необходимый для этого, нуждался в незамерзающих гаванях, и русское правительство обратило внимание на бухту, расположенную в Уссурийском крае и удивительно напоминающую своей конфигурацией знаменитую бухту Константинополя, и поэтому и получившую такое же название – Золотой Рог. Здесь и был заложен в 1860 году новый форт Владивосток.
Выбор оказался удачным. Он отвечал всем требованиям: достаточной акваторией, возможностью круглогодичного базирования и защищенностью от господствующих ветров. Кроме этого бухта была закрыта со стороны моря, что делало ее защищенной от артобстрела с кораблей возможного противника. С момента появления русских на берегах Тихого океана и образования Семеном Шелковниковым Охотска к этому времени прошло уже более двухсот лет. Россия состоялась как колоссальная империя, раскинувшаяся от Тихого океана до западных границ, пролегших где-то далеко за Варшавой.
1862 год. Из столицы империи через всю огромность страны во Владивосток прибыла депеша, которую и вручил комендант форта полковнику Колесову.
– Уважаемый Василий Андреевич, – торжественно начал он, – позвольте поздравить Вас…
Но Колесов досадливо отмахнулся, пробежал взглядом текст и молча отошел к окну, выходящему на залив. Известие касалось отставки, которая вышла не только вследствие его настоятельной просьбы, но положена была ему и по возрасту. Двенадцатилетним мальчишкой он был зачислен в кадетский Михайловский корпус, затем служба в армейских частях на различных артиллерийских должностях, и вот уже 12 лет он в Восточной Сибири и Дальнем Востоке исправляет должность инспектора артиллерии. По мере того как губернатор Восточной Сибири Муравьев граф Амурский фиксировал документально прохождение границ в переговорах с китайцами, Колесов крепил посты, разбросанные по этой границе и побережью, пушками там, где это диктовалось необходимостью. И такая предусмотрительность принесла в лихую годину свои плоды.
Глядя на бесполезные потуги океанского шторма как-то уж значительно раскачать водную серость залива Василий Андреевич испытывал двоякие чувства: с одной стороны он добился того, чего хотел, с другой – жалко было хотя и неустроенной, но устоявшейся жизни, жалко было расставаться с сослуживцами, а в общем-той доли, которая высокопарно могла определяться как служение Отчизне, но без которой он себя уже не мыслил. Столь редкие за время службы отпуска он по большей части проводил в поместьях товарищей и то в молодых годах, когда служил в Европейской части; семьи не имел да никогда и не стремился к ее созданию. Все ему замещала служба, служба усердная и многолетняя.
Когда-то батюшка его , да будет земля ему пухом, отставной майор, получил после взятия турецкой крепости Анапа довольно значительный земельный надел под этой крепостью, примыкавший с юго-востока к крепостным стенам, вышел в отставку и остаток жизни провел в хозяйственных заботах, пытаясь выжать как можно больше из определенно каменистой земли. Насколько ему в этом сопутствовала удача Василий Андреевич даже толком и не знал, так как в поместье родителей бывал дважды: сразу после выпуска в офицеры и второй – как-то по дороге на Кавказ. Тогда еще живы были родители, но сейчас их давно уже нет на белом свете, а поместье сдано двоюродным братом в аренду, частью которой Колесов и пользовался, благодаря регулярным переводам брата. Вот и получалось, что возвращаться ему предстояло в края, о которых он имел уже довольно смутные воспоминания.
Как бы понимая переживания полковника комендант, будучи моложе годами и находясь в меньших чинах, тактично помолчал, а затем осторожно проинформировал
–Василий Андреевич, послезавтра случится оказия – отправляем в Хабаровку пустой обоз. Не соблаговолите ли возглавить, хотя уже и не являетесь состоящим на воинской службе.
Колесов какое-то время еще смотрел в окно, находясь во власти своих дум, потом повернулся:
– Ну что ж, раз такое дело, и оказия подвернулась, я согласен и прошу господ офицеров посетить мой дом завтра часа в три пополудни для прощания.
– Непременно будем все, господин полковник! – отрапортовал комендант.
Берегом залива Колесов направился домой – небольшую избу, срубленную солдатами – плотниками недалеко от берега, на возвышенности, дабы избежать подтоплений, которые здесь случались довольно часто и являлись следствием почти моментального вспучивания во время дождей реки Раздольной и других мелких ручьев и речушек, впадающих в залив Петра Великого.
Залив, где находилась бухта Золотой Рог, когда-то открытый англичанином Лаперузом (хотя туземцы, населяющие берега залива, утверждали, что задолго до прихода английского корабля здесь появлялись бородатые казаки-землепроходцы) и названный им залив королевы Виктории вскоре был переименован и получил имя первого русского императора.
Владивосток только начинался: там, сям были разбросаны деревянные почерневшие от дождей и ветра строения, служившие жильем, пакгаузами, мастерскими; кое-где топорщились над водой деревянные причалы; на рейде стояли несколько кораблей, еще с парусным вооружением. Все это на фоне небольших сопок, покрытых редколесьем, в ненастные дни выглядело хмуро и неуютно, и Колесову иногда казалось, что он уже никогда отсюда не уедет и только здесь придется скоротать свои последние года. Но такие ощущения приходили редко: за службой некогда было ни думать, не ощущать ничего другого кроме службы.
Войдя в сени Василий Андреевич крикнул:
– Степка!
Из комнаты выглянул слуга Колесова, мужчина лет сорока, находившийся у него в услужении более двадцати лет и приставленный к нему еще родителями.
– Степан Акимыч, – продолжил Колесов на вопросительный взгляд Степана (обращения – Степка, Степан, Степан Акимыч – соответствовали различным настроениям Колесова: веселому, раздражительному и желанию максимально привлечь внимание ),-Ну вот ,брат, выслужили мы с тобой полный срок и вышла нам чистая отставка. Так что укладывай пожитки и собирайся в дорогу дальнюю.
–И куды ж на сей раз ,Василь Андреич?
–Ты что глух стал или не понял ?Отставка, подчистую, едем домой, в Анапу.
–Господи! Батюшка Василь Андреевич! Да неужто правда, неужто родную сторонушку сподобит господь через столько лет увидать ,-Степан неистово закрестился и на глаза ему навернулись слезы.
Глава 2
В день отъезда, поутру, Колесов, собранный по дорожному, вышел из избы в сопровождении офицеров, кои пришли проститься с уважаемым всеми полковником, а заодно и выпить шампанского или чарку водки, что после вчерашней пирушки, посвященной проводам, было вовсе не лишним.
Стояла уже осень. Разыгравшееся накануне ненастье улеглось, ночью приморозило, воздух был свеж и чист так, что сопки, одетые в желтое, смотрелись отчетливо и ярко. Чемоданы и баулы были уже уложены в возок, на котором с вожжами на коленях сидел солдат-возчик. Выслушав напутствия провожающих и выпив по -русскому обычаю «на посошок», Колесов хотел было уже садиться в возок, но тут обнаружил отсутствие Степана. Принялись искать и звать его, но прошло несколько минут, прежде чем он появился из-за угла пакгауза и, запыхавшись, подбежал к телеге.
–Батюшка Василий Андреич, не извольте гневаться, кота нашего , Барсика, пристроил у хороших людей. Жалко животину, пропадет ведь бестия.
Сорвавшийся отъезд начали опять напутствовать здравицами, и вино опять полилось в бокалы. Неизвестно, сколько продолжалось бы это еще ,но от коменданта прискакал посыльный с просьбой « господина полковника поторопиться», так как обоз уже вышел. Возчик, повинуясь команде, ожил на облучке, занукал – зачмокал, задергал поводьями, застоявшиеся лошади рванули и возок, ломая кованым ободом колеса лед, прихвативший лужи, покатился вслед выступившему обозу. Обогнули длинную несуразную казарму , выбрались на тракт, лошади побежали веселее; за поворотом сопки показался хвост обоза, а за спиной в последний раз блеснула на солнце голубая гладь залива.
От головы обоза подскакал с докладом начальствующий над казаками хорунжий на красивом резвом коне вороной масти. Колесов сделал необходимые распоряжения на случай неожиданного нападения хунгузов, хотя казаки и солдаты, сопровождавшие обоз, и без этого знали все меры предосторожности: боевое охранение позади и впереди обоза было достаточно сильным, чтобы не допустить внезапного нападения хунгузов- бандитов, переходивших из Китая границу по Уссури и промышлявших в тайге грабежами и разбоями. Власти вели с ними беспощадную борьбу, в которой принимали участие и китайцы, и туземное население этих мест, но окончательно уничтожить этот разбойный промысел не удавалось. Также не удавалось, ввиду слабой заселенности этих мест, плотно перекрыть границу с Китаем. Стоявшие там казачьи поселения и военные посты были редки и в основном работали только на перехват уже возвращающихся назад разбойничьих шаек, да и то только в том случае, если имели своевременное об этом уведомление.
Колесову были известны причины, по которым эти края до настоящего времени были ненадлежащим образом заселены и освоены .В конце 17 века столь успешное до этого поступательное движение России в Сибирь было приостановлено Нерчинским договором с Китаем, опасавшимся деятельной активности северного соседа. Договор запрещал русским селиться по левому берегу Амура и отодвигал Россию от его берегов на север, в тайгу. В то время проблемы внешнеполитического характера (борьба с Крымским ханством, сидевшим занозой в подбрюшье Московии, постоянная напряженность с Турцией, мешавшей выходу к Азово-Черноморскому побережью, непостоянство вечно хитрящих европейских стран), переплетавшиеся с внутренними распрями в высших кругах, а также слабые людские ресурсы и отсутствие дорог заставило власти пойти на этот, казалось бы, позорный для России шаг. Но противостоять довольно мощной по своему многолюдству Цинской империи на тот момент было довольно безрассудно. На целых полтора столетия развитие и освоение Амурского бассейна и связанных с ним Восточной Сибири и Дальнего Востока было заторможено.Четкой границы договор не устанавливал. Китайцы жили по правую сторону реки, а по левую образовалась своеобразная ничейная полоса отчуждения, где не было ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни дорог, ни населения. На побережье Тихого океана один только Охотск первым в стране встречал рассвет, и являлся базой для дальнейшего движения на Восток. Именно отсюда открыта была и заселена русскими Аляска, отсюда отправлялись экспедиции по изучению Тихоокеанского побережья, а всюду были места пустынные и малоосвоенные.
Все эти годы Россия не жила спокойно: боролась за выходы к Балтийскому и Черному морям, упорно доказывая всему миру свое право на достойное существование. А на обустройство Дальневосточных окраин не хватало сил.
Однако в 40-х годах 19 столетия ситуация в этом регионе стала меняться: развивалась торговля, оживилось судоходство в Тихоокеанских водах. Англичане упорно стали исследовать берега, выискивая удобные бухты для стоянок судов. Китай стал постепенно превращаться в Английскую полуколонию. Эти обстоятельства обратили на себя внимание Николая 1, который, несмотря на опасения, высказанные канцлером Нессельроде и рядом высокопоставленных чиновников, о возможности разрыва с Китаем и неудовольствии Европы, особенно англичан, решил активизировать Дальневосточную политику и повелел: «Принять все меры, чтобы удостовериться, могут ли входить суда в Амур, ибо в этом заключается весь вопрос, столь важный для России». Причина этого указания кроется в том, что судоходный и имеющий выход в океан Амур являлся главным вопросом в деле освоения Сибири и Дальнего Востока, а знаменитые мореплаватели Крузенштерн и англичанин Лаперуз доказывали недоступность устья Амура со стороны моря. Был снаряжен бриг «Константин» под командой поручика корпуса флотских штурманов Гаврилова, который прибыл к устью Амура в августе 1846года. На байдарах поднялись на несколько миль вверх по реке, но из-за недостатка средств и времени возвратились без положительного результата. Основываясь на данных этой экспедиции, Нессельроде представил царю доклад, где значилось «…устье реки Амур оказалось недоступным для мореходных судов, ибо глубина на оном от одного с половиной до трех с половиной футов. а Сахалин полуостров, почему Амур не имеет для России значения» Резолюция, наложенная царем, гласила: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить».
И все же настоятельная необходимость освоения и изучения этих необъятных просторов требовала пристального внимания. В 1848 году генерал-губернатором Восточной Сибири назначается Н.Н.Муравьев, человек умный, решительный и энергичный. В команду к нему был назначен и Колесов
В 1849 году Невельский, капитан транспорта «Байкал»,исследует устье Амура и обнаруживает два глубоких фарватера в Амурском лимане, о чем докладывает Муравьеву. встретившись с ним в Аяне. «Сделанные Невельским открытия, -пишет Муравьев, -неоценимы для России. Это заставляет нас незамедлительно приступить к занятию устья Амура, или оно с юга может быть занято другими. Государь назвал поступок Невельского молодецким.» и добавил: «Где раз поднят Русский флаг, там он уже спускаться не должен».
Отвлекшись от своих дум, Василий Андреевич какое-то время рассматривал шедшее вдоль тракта редколесье из дубов, берез, редкой сосны и зарослей папоротника. Все это уже приняло осенний наряд и окрасилось в различные цвета: желтые, коричневые, бурые, местами красные, а затем завернулся в шинель и под монотонный разговор Степана с солдатом уснул. Несмотря на свои 50 лет был он еще крепок и духом и телом и тяжести, набежавших невесть откуда лет, не ощущал. В военных кругах Колесов слыл толковым артиллеристом, хорошо знающим свое дело, профессионально разбирающимся в существующих артсистемах и новейших методиках стрельбы, не зря и был назначен на должность инспектора. Одним из критериев проверки его профессионализма явилась Восточная война, которая по географии боевых действий была беспримерной. Хотя в историю она и вошла как Крымская, но коснулась не только Крыма, но и Дуная, Кавказа, Мурманска, Петропавловска и других мест. Основная задача войны, которую ставила перед собой коалиция, состоящая из Франции, Англии, Турции и Сардинского королевства, заключалась в том, чтобы загнать Россию вглубь континента и сделать ее зависимой от владельцев береговых зон. Если учесть, сколько усилий затратило Российское государство на борьбу за выход к морям, то надо признать исключительное значение этой войны для судьбы страны.
Еще за несколько лет до начала войны Колесов, обследовав то небольшое количество артиллерии, которое находилось в Тихоокеанских фортах, пришел к неутешительному выводу. И дело было не только в малом количестве пушек в береговых укреплениях, но и в том, что это были в основном устаревшие типы орудий столетней давности, чуть ли не времен первых землепроходцев. В случае появления неприятеля они не смогли бы оказать сколько то серьезного сопротивления. А между тем в иностранных флотах ( и уже на кораблях нашего флота тоже, хотя и не на всех) устанавливались давно орудия системы Пексана, отличающиеся большой разрушительной мощью, прозванные «бомбардами» Отдавая себе отчет, что противостоять с существующими пушками береговой артиллерии установленным на кораблях противника бомбическим орудиям будет просто невозможно, Василий Андреевич стал постоянно теребить военную бюрократическую машину империи своими рапортами о поставке на Дальний Восток хотя бы нескольких современных орудий. И буквально накануне войны сановный Петербург снизошел до его упорных просьб и прислал несколько бомбард, места установки коих были полностью отнесены на усмотрение Колесова. Также , по его настоянию ,кое-где старые орудия были заменены на новые,12-фунтовые образца 1845 года. Все это стоило неукротимой энергии и где-то даже определенного бесстрашия, что своим постоянным беспокойством раздражит и вызовет гнев чиновников военного ведомства.
Война застала его в Аяне- селе, расположенном на берегу живописной бухты Охотского моря, закрытой высокими скалистыми сопками и представлявшем из себя полтора-два десятка скромных домиков, за которыми виднелся купол церкви с золотым крестом. На берегу была поставлена батарея, неподалеку располагалась верфь и целый лагерь палаток. Здесь же находилась и фактория Российско-Американской Компании, под управлением которой находилась Аляска. Дорога от Аяна до Якутска через Нелькан по рекам Мае и Алдану занимала 14 дней.
Ранним августовским утром 1854 года жители этого небольшого прибрежного села были разбужены артиллерийской стрельбой. На укрепления и жилые постройки сыпались ядра и гранаты с видневшихся в тумане двух кораблей неизвестной принадлежности. Выскочив полураздетым из палатки, где ночевал, Колесов бросился среди разрывов на артиллерийские позиции. Всюду испуганные бестолково метались животные и люди, где-то уже были раненые, стонущие и просящие о помощи, билась в агонии лошадь с кровавым месивом вместо головы. Хотя от бастионов, сложенных из толстых бревен и засыпанных песком и щебнем во все стороны при попадании в них ядер брызжила щепа, пушки были не повреждены .Орудийная прислуга несколько суетливо из-за нервозности, вызванной внезапным обстрелом, но вместе с тем точно, быстро и безбоязненно, хотя и была необстрелянной, выполняла свою работу. Определив дистанцию до противника и произведя пристрелочный, Колесов немного подождал, когда медленно двигавшийся флагман наплывет на орудийный срез, и отдал приказ открыть огонь всей батареей. Первым же залпом корабль был накрыт. Полетели куски досок, обрывки такелажа, в районе мостика появился огонь. Второй залп был таким же удачным. Капитан корабля, поняв, что попал под плотное накрытие, поспешил вывести его из-под обстрела. Оба корабля выполнили поворот «все вдруг» и скрылись через некоторое время в тумане курсом в открытое море.
На батарее прекратили огонь, прислуга осматривала пушки, перевязывали раненых, подносили из погребов новый боезапас. Прибежавший Степан принес Колесову мундир и, так как санитары были заняты переноской раненых солдат в лазарет, сам стал обрабатывать Колесову небольшую рану на лбу, причиненную, видимо, осколком камня или щепой.
Смотрящие напряженно вглядывались в серую мглу, иногда принимая за корабли неприятеля седые космы сырого тумана, наползавшие с моря в самых причудливых, похожих на парусники, формах. И тогда по крику смотрящего все бросались к орудиям, занимали свои места в готовности начать стрельбу. Комендант форта выслал вверх и вниз по берегу отряды казаков на случай высадки десанта и сейчас с тревогой ожидал от них известий. В поселке в спешном порядке вооружались все кто мог носить оружие; в море был выслан комендантский весельный бот с целью разведки. Проблуждав в тумане около часа, разведчики вернулись ни с чем.
Около полудня туман рассеялся. Море, принимая в себя лучи запоздалого солнца, заискрилось бликами и слабо зашлепало в берег волной. Горизонт был чист, ни единой посудины нигде видно не было. Однако всю оставшуюся часть дня провели в тревожном ожидании. Ночью никто не сомкнул глаз. И только к концу следующего дня, когда от всех дозоров, высланных по берегу, пришли утешительные вести о том, что присутствие неприятеля нигде не обнаружено, напряжение стало спадать, и Колесов сел писать рапорт генерал-губернатору.
Закончил уже при свече словами: «…и с божьей помощью тот приступ был отбит, что в очередной раз показало мощь русского оружия и нерушимость рубежей Российской империи. А посему, Ваше высокопревосходительство, позвольте похлопотать о награждении особо отличившихся по их заслугам согласно прилагаемому списку…» Уже много позже из письма Муравьева Василий Андреевич узнал, что английский адмирал, командовавший в то время объединенной англо-французской эскадрой, после ряда провальных попыток по разгрому русских Дальневосточных форпостов и особенно позорной двойной неудаче при штурме Петропавловска-Камчатского, покончил жизнь самоубийством, о чем Муравьеву , в свою очередь, сообщил в переписке наш посол в Лондоне.
Глава 3
Вечером, еще до темноты, выбрав сбоку тракта большую поляну, остановились на ночлег. Рядом была река, что позволяло напоить лошадей и взять воду для приготовления пищи. Ездовые распрягали лошадей, задавали им корм, другая часть обозников пошла на заготовку валежника и дров. Ночи были уже довольно холодные, и дрова требовались не только для приготовления еды, но и для обогрева, и для отпугивания хищного зверья, которого в этих краях хватало. Когда стемнело, поужинали и пили чай, расположившись вокруг костра. Лошади похрумкивали сеном, дозорные несли свою службу, находясь за пределами освещаемого костром круга. Колесов улегся на приготовленное Степаном на возу ложе из сена, застланного попоной, и молча смотрел на огонь, прислушиваясь к неспешному разговору казаков и солдат.
Беседовали вяло, чувствовалась усталость после целого дня пути; темы затрагивались самые разные: от обсуждения событий дня до домашних дел, проистекавших где-то там, где каждый оставил частицу себя и откуда приходили редкие письма.
– Дядя Никанор, – спросил вдруг молодой щупленький солдатик бородатого рябого казака,– а почто у тебя на костер завсегда глаз начинает дергаться?
Никанор прикрыл левый глаз ладонью, придержал так руку и, оглядев конфузливо всех свободным глазом, спросил:
– Что и сильно дергается?
–Сильно не сильно, а заметно хорошо. Ай подбил хто, али сам повредил по пьяной лавочке?
– Было дело. – нехотя ответил Никанор.
– Дак расскажи, – не отставал солдатик, тайком подмигивая остальным.
– Чего пристал как банный лист. Напужался когда-то, вот он дергается.
– Ты-ы-ы! И напужался, -удивленно протянул щупляк, оглядывая мощную фигуру казака, – Кто ж тебя такого так напугати то смог?
Никанор немного помолчал и, поняв, что ему, по-видимому от надоедливого соседа уже не отделаться, потирая дергавшийся глаз, нехотя начал:
– Этому уже лет семь, как было. Несли мы службу на кордоне по Уссури там, где уже недалеко и Амур-батюшка. В тот день нас четверых послали в дозор по берегу в сторону Амура. День прошел спокойно. Верст эдак мы за 20 от поста отъехали. К ночи выбрали место закрытое со стороны тайги, а к воде открытое. До берега эдак саженей 20-30. Разложили костерок потаенный, чай вскипятили. А время в аккурат такое же было: осень и по ночам уже подмораживало. Ну, чтоб не замерзти, дров наготовили, валежнику запасли. Ночи то длиннехонькие уже были, чай не лето. Попробуй-то ее, ночь то, пересиди, если хоть немного не греться. Вот час от часу и греемся чайком. Из тайги нас не видать, а река вот рядом, как на ладони, гладкая такая, спокойная, а ночь звездная да лунная выдалась. Тихо вокруг, но как-то тревожно. То всегда по очередям спим, а тут чегой-то и не спится. Все сидим да прислушиваемся, как ждем чего. А был у меня дружок, Никадимом кликали. Так нас и звали: Никанор- Никадим и всегда везде вместе посылали. Я ему и баю: «Никадим, сходил бы ты воды в чайник набрал, что ли, вся уже закончилась, а я чаю сейчас настрогаю да заварю, чтой-то пробирать стало». Он и пошел с чайником к реке. А я взял охапку валежника и только в костер бросил, как с той стороны, куда Никадим ушел, крик да такой душераздирающий, что у меня кишки внутри слиплись. Смотрю, а Никадима нигде нет. Только шел и нет его, один крик в воздухе повис. Это потом до нас дошло, что он на землю упал, а в то время и думать о нем забыли. На нас от реки что-то смотрело, – казак замолчал, неспеша набил трубку самосадом, также неспеша прикурил от веточки из костра, затянулся и, оглядев притихших товарищей, наконец продолжил, – До сих пор не могу понять и толком рассказать, что это было. Какая-то огромная, с бочку, голова, вся косматая с огромной пастью. Но страшнее всего были глаза: огромные и горели они каким-то зеленым светом. Не знаю, сколько это чудище смотрело на нас, а мы на него, но нам показалось, что вечность. Забыли мы и про ружья и про то, кто мы. Ощущал я только ледяной холод поверх головы, так волосы от ужаса шапку приподняли. Тут валежник, что я в костер значит бросил, разгорелся, вспыхнул вдруг таким ярким пламенем, осветил все вокруг, и чудище это испугалось, что ли, а только опустилось в воду и исчезло. Только круги по воде пошли, как будто туда лошадь прыгнула. Мы какое-то время не могли друг другу ничего сказать, а потом пришли в себя, похватали оружие и к Никадиму. А он на земле лежит и трясется весь как в лихоманке. Привели его к костру, похватали все свои пожитки, на лошадей и хода от того места. К утру были уже недалече от поста, а когда развиднелось, и Никадим папаху снял, то увидели, что он весь как снег белый. Ну а у меня с того случая глаз к ночи на костер дергаться стал.
Никанор закончил рассказ, а слушатели, завертев головами в разные стороны, стали с подозрительностью вглядываться в темень. Некоторые крестились и, шевеля губами, творили молитву.
–А что же это было, дядя Никанор?, -спросил солдатик, глядя округлившимися глазами на казака.
–Да шут его знает. Сведущие люди потом баяли, что то китайский дракон был. Живет такой в Амуре.
–А может вам то поблазнилось? -спросил кто-то несмело.
–Что, сразу всем четырем и аж до икоты?-вскинулся Никанор, -Не дури. Я ж и вонь его до сих пор помню. Как из нужника перло. А лошадям, что тоже привиделось? Они, ежели б не стреноженные были, то поводья бы все порвали и ищи-свищи потом их в тайге. Не-е-ет такое не могло привидеться.
После рассказа Никанора голоса стихли, каждый переваривал услышанное, наступила тишина, а вслед за ней незаметно пришел и сон.
Глава 4
Когда на следующий день, утром, едва позолотились солнцем верхушки деревьев, обоз был уже в пути. Дорогу опять подморозило, и отдохнувшие лошади легко влекли подводы даже на подъем. Основные грузы во Владивосток пока доставлялись морем, но в необходимости сухопутного пути никто не сомневался. Он нужен был еще и психологически, как фактор, способствующий сколачиванию Уссурийского края в единое целое и делающий его частью страны. Колесов знал, что до прихода в эти края русских, дорог здесь совсем не было.
Сообщение осуществлялось по тропам: пешеходным и конным. Они прокладывались между редкими фанзами, звероловами и огородными. Пешеходная тропа была настолько узка, что из-за сжатости стволами деревьев, низкорастущих ветвей, бурелома была труднопроходима даже для простого пешехода, который весь полезный груз переносил за плечами, в котомке. По конной же могла пройти вьючная лошадь. Но и в том и в другом случае количество перевозимого груза было ничтожно мало. Дорога, по которой двигался сейчас обоз, была еще во многом не обустроена. То поднимаясь на сопку, то опускаясь в долину, чаще всего подболоченную после дождей, которые случались здесь часто, она пролегла между новым фортом Владивосток и расположенным у слияния Уссури с Амуром селением Хабаровка. Попадавшиеся по пути мелкие речки преодолевали в брод, кое-где были уже переброшены бревенчатые мосты . Через широкие реки переправлялись паромом. В сильно заболоченных поймах рек строили настилы из бревен. Во время дождей такая дорога становилась в большинстве мест непроходимой. Тогда обоз, застигнутый вне населенного пункта непогодой ,ставил палатки, крепил их от ветра ,заготавливал дрова и порой по несколько суток пережидал ее. В конечный пункт после пятисотверстного пути и выпавших на их долю мучений люди добирались вконец измотанными в провонявшихся дымом, а то и пропаленных кострами, одеждах; лошади были ребристы и качались от усталости. Им по прибытии первым делом засыпали овса, а сами шли в баню, где с наслаждением парились.
По утреннему ходко прошли верст десять, когда навстречу на темной от пота лошади, вскачь подымавшейся на сопку, показался урядник Храпов. Подскакав, он закричал тревожным голосом, указывая плеткой вперед:
–Ваше Высокобродие! Тайга горит! Там внизу в долине река. Так за той рекой пламя прямо стеной идет. Пылом так и жарит! Подождать надо, а то кони спужаются, да вместе со зверьем от огня спасаться учнут.
Обоз стал. Где-то впереди из-за деревьев начал расти высокий столб дыма, медленно двигавшийся в сторону Китая. Небо постепенно заволакивалось космами гари, и солнце потускнело.
Две собаки, сопровождавшие обоз, поджали хвосты и поглядывая на людей растерянно-жалостливыми глазами, попрятались под телеги. Лошади тревожно всхрапывали и нервно мелко подрагивали кожей. Оставалось ждать и надеяться, что естественный водораздел не даст огню захватить в качестве пищи лес на этом берегу и все обойдется. Пожары в тайге-страшное бедствие, не щадящее ни зверя, ни птицу, ни человека. Каждый понимал, если пламя перейдет на эту сторону, спасения не будет никому.
Подъехал на лошади хорунжий Захарьин:
–Слава богу ветер не в нашу сторону, глядишь и обойдется. Но ты, Храпов, все ж таки предупреди своих, кои впереди, чтоб в оба глядели за берегом и чуть что- одной ногой здесь. Будем тогда деревья рубить, пожар то верховой.
Урядник развернул коня и скрылся за увалом.
В томительном ожидании прошло около часа. Столбы дыма стали как- будто проходить стороной. Наконец прискакал гонец от Храпова с сообщением, что опасность миновала и можно двигаться дальше. Спустившись в пойму реки, люди увидели на другом берегу бесконечные остовы обугленных, дымящихся деревьев. Кое-где, на черной от гари земле, вырывались языки пламени, пожиравшие остатки кустарников и травяной растительности. Двигаться дальше, переправившись через реку, сегодня не имело смысла: до наступления темноты вряд ли бы успели пройти пожарище и найти нормальное место для ночевки; поэтому Колесов распорядился стать биваком здесь, на берегу, благо корм для лошадей и вода здесь были.
Воспользовавшись ранней остановкой казаки со стрелками организовали целую охоту на рыбу. Спустившись вниз по течению и перегородив реку в узком месте волосяными сетями, стали загонять в нее рыбу, швыряя в воду палки, камни и создавая невообразимый шум, двигавшийся медленно в сторону сети. Пойманной рыбы, кеты, с избытком хватило для всего отряда. К вечеру была готова душистая, наваристая уха. Колесов с Захарьиным сидели отдельно, около небольшого костерка, и слушали Степана, которому рыбалка навеяла далекие воспоминания:
–Помню мальчонкой еще был, годов так тринадцати – четырнадцати, и батюшка Ваш, царство ему небесное, покойничек Андрей Яковлевич с Вашим дядюшкой, братцем Вашей матушки, Георгием Михалычем, как-то собрались на ловлю рыбную, на Кубань- реку, и меня с собой взяли . А там, на этой самой Кубань- реке, значит , по-осени бо-о-о-льшие ловли казаки устраивали. Собирались со всей округи по нескольку сот человек, выбирали промеж себя атамана на эти дни, чтоб ,значит, порядок во всем был, да чтоб рассудить смог, если чего доброго спор какой возникнет. Ловили осетра, белугу, ну и сома, хотя особо, надо сказать, он и не ценился. Налавливали впрок, чтоб на зиму хватило, а поэтому и живали на берегу по несколько дней. А с нами, надо сказать ,еще и пес был, Джоном звали. Почему Джоном- не знаю. Джон да и Джон. Кудлатый такой волкодав, кавказских кровей. Вот прибыли мы на Кубань; народу видимо невидимо. Избрали ,как водится, атамана, рассеялись по берегу, шатры поставили и по команде на другой день к ловле притупили. Казаки станичными кошами стояли. Каждый кош в общий котел рыбу ловил, а потом они ее после рыбалки делили. Ловили переметами. А ну, целые тыщи крючков на дне, а осетр брюхом по дну трется, за какой-нибудь крючок да и зацепится. Рыбы, надо сказать, тогда тьма как много было, а особенно сома. Лягушки на берегу только и сидели, в воду лезть боялись. Бывало сгонишь их в воду, а они нет, чтоб на дно, значит нырнуть, так по поверхности эдак быстро-быстро пропрыгают вдоль бережка и через сажень, другую на берег выскакивают. А если какая зазевается, то тут же сомом и будет проглочена. Остановились мы с краю. Ни к какому кошу мы не относились и ловили отдельно. Разбили шатер, лошади тут же невдалеке паслись. Джон, правда, поначалу от многолюдства в неистовство приходил: шерсть дыбом, оскал звериный, лаем заходится. Пришлось его от греха на привязь к телеги посадить. На другой день он пообвык, и батюшка Ваш возьми да и отпусти его на волю. Где уж он день промышлял, чем занимался, неизвестно, а только не видно и не слышно его было. Рыбалка, надо сказать, у нас не клеилась. Толи удача рыбацкая была не на нашей стороне, толи то, что ловили мы сами по себе на несколько переметов, и шансов что-то зацепить было мало. За целый день двух осетров, да трех али четырех сомов взяли. Смотрю батюшка Ваш с дядюшкой чтой то не веселы; вечером ушицы похлебали, по чарке выпили и говорят, что мол, если завтра погода изменится (а оно небо тучами заволакиваться стало) то придется домой с пустыми руками возвращаться. Ночью ветер разгулялся, нет, нет да и дождь по шатру застучит. Утром встали мы, а просвету на небе не видно. Стало быть домой пора собираться и ехать не солоно хлебавши. Стали пожитки укладывать, глядь, а под телегой в траве целая куча осетров. Андрей Яковлевич что-то около десятка насчитал. Да огромные все, один к одному, фунтов эдак по пятьдесят и более. А Джон рядом сидит, весело так на нас поглядывает, морда довольная, обрубком хвоста виляет. Сразу видно – его работа. Батюшка Ваш с дядюшкой так и ахнули, что делать, ума не приложат. Андрей Яковлевич барин справедливый был и строгий, чужого никогда не позволил бы себе взять, и послал меня по казакам узнать, не пропадала ли у кого рыба. Ну я пару кошей обежал и все. Они же по всему берегу на несколько верст разбросаны, всех обежать, дня мало. Вернулся назад, доложил, что не нашел хозяев. А осетра живые, так и бьют хвостами по траве, а мне и в радость, что хозяева не нашлись, больно рыба хорошая. Делать нечего, загрузили мы добычу на подводу да и тронулись домой. Как не спрашивали потом все у Джона, как это ему удалось с такими рыбинами совладать, он только хитро так улыбался и хвостом вилял. С тех пор кликать его стали не Джоном, а Рыбаком.
Захарьин смеялся, а Василий Андреевич вспоминал, улыбаясь, родителей, какими они были, как относились друг к другу, и сквозь пламя костра ему представлялась их жизнь полная трудов, в основном – военных будней, расставаний и встреч, полного тревоги ожидания. Они были воистину созданы друг для друга и создали настоящую семью, ту, которая создается не в один день, венчанием и последующим застольем, а годами и десятилетиями доброго и уважительного отношения. Уважение друг к другу и забота друг о друге – основные черты семейных отношений. Молодая жена, войдя в дом мужа, становится не только женой и матерью нарождающихся детей, но и безраздельным членом этого рода. Она полностью принадлежит ему со всей его историей и традициями и является звеном, связующим его прошлое с будущим. Такой была и его добрая мать, которая из семьи своих родителей взяла лучшее и не навязчиво вплела это лучшее в общую канву отношений внутри новой семьи. За доброту, кротость и тихую заботу отец не чаял в ней души и, будучи человеком суровым и по натуре довольно жестким, относился к супруге своей уважительно и с нежностью. «Вот уж воистину, кроткая рука и слона на веревочке ведет»,-думал Колесов и о такой семье втайне мечтал и сам.
Глава 5
Ночь прошла спокойно. Следующие полдня двигались по выгоревшему лесу, вдыхая запах гари и стараясь как можно быстрее пройти эти удручающе безрадостные места. Но живой лес начался только за следующей речкой, и там же случилась трагедия. Обоз перешел только пойму реки. Солнце уже припекало и дорожная глина оттаяла, превратившись именно здесь, в низине, в густую вязкую массу. Бревенчатого настила в этом месте не было, и подуставшие лошади с трудом вытаскивали тонувшие в грязи по самые ступицы подводы.
Солдаты, подоткнув полы шинелей за пояс, спрыгивали в грязь и, чертыхаясь, толкали телеги, помогая лошадям. Последняя повозка с привязанной позади красивой верховой лошадью хорунжего Захарьина тоже нуждалась в помощи, но обоз и солдаты уже поднимались в гору, и ездовому пришлось ждать четверых казаков, следовавших позади в качестве арьергарда. Спешившись, они помогли вытолкать из грязи подводу и отстали, чтобы вычистить сапоги прежде чем сесть в седла, а ездовой, нахлестывая лошадей, ударился в догон за скрывшимся в тайге обозом. Заехав за утес, он оказался в одиночестве. Уставшие лошади перешли на шаг. И никакие понукания и подбадривания кнутом не заставили их опять зарысить. В этот момент с нависавшего над дорогой уступа метнулась огромная тень, раздался рев зверя и раздирающее ржание смертельно раненой лошади. Упряжка рванула, ездовой, откинувшись назад, дико закричал, испугавшись неизвестно чего больше: зверя или понесших от страха лошадей.
Выскакавшие следом казаки увидели тигра, стали стрелять на ходу, но не попали, и зверь, испугавшись шума, в два прыжка скрылся в чаще. На дороге остался лежать красавец – конь с перебитым позвоночником и разодранным боком. Жалобный тускнеющий глаз смотрел на людей, но вот по телу пробежала судорога, забились в агонии ноги, и он затих. Казаки постояли над ним в растерянности от неожиданности и быстроты случившегося, затем сняли уздечку и тронулись дальше.
Колесов, услыхав позади выстрелы, приказал остановиться. Вскоре из-за поворота вылетела несущаяся вскачь телега с кричащим солдатом. Было такое ощущение, что она вот-вот расшибется либо о последнюю подводу, либо о стволы деревьев. Но ездовой, здоровенный егерь, справился с лошадьми. Храпя, с оскаленными пастями, разодранными удилами, они осадили перед последней телегой, напирая на нее грудью и дышлом. Послали с новостью за хорунжим, который был с казаками в авангарде. Захарьин во весь опор поспешил назад, но исправить уже ничего не мог. Хотел было вгорячах организовать засаду в надежде, что зверь все –таки когда-нибудь выйдет из чащи к своей жертве, но вспомнив, что он не один и находится на службе, только махнул рукой и вернулся к обозу.
Горю Захарьина не было предела. Он так любил и лелеял своего коня, вырастив его с жеребенка, назвав Громом и, выездив, не раз брал призы на войсковых скачках. Гром, как пес ,был привязан к хозяину, всюду неотступно следуя за ним. В этот день хорунжий, жалея, привязал его к подводе, а сам ехал на казенном заводном. В течение оставшегося дня Захарьин ни с кем не разговаривал, на привале бродил с потерянным видом, сразу превратившись из сурового казачьего хорунжего в сильно расстроенного ребенка. Казалось, что он вот-вот заплачет навзрыд, а вечером, выпив стакан водки, закопался в сено и затих.
– За людьми в бою так не жалкует, как за животиной,– обронил старый Храпов, проходя мимо Колесова, и, помолчав, добавил,– Оно, конешно, сказать, и конь стоящий был.
Глава 6
К середине четвертого дня пути добрались до села, выросшего из когда-то небольшой старообрядческой деревеньки и раскинувшегося по обе стороны тракта. В селе был церковный приход, и поп, топорща животом рясу, вглядывался с крыльца небольшой церквушки в подходивший обоз. Старообрядцев здесь уже давно не было. Покинув свои добротно срубленные избы, они подались дальше в глушь в поисках другого мира с единственно правильным и существующим только для них богом.
Колесов решил остановиться здесь на дневку, чтобы дать людям и лошадям роздых, а заодно произвести и починку кой каких телег в местной кузнице. Пока распределяли казаков и солдат по дворам, распрягали лошадей, вездесущий Степан, обследовав село, принес Колесову приглашение местного священника остановиться у него. Отец Дмитрий проживал с матушкой Елизаветой в большом пятистенке, оставшемся от старообрядцев. Отличаясь большой терпимостью в вопросах веры, Колесов спросил с небольшой подковыкой:
– А как же Вы, батюшка, в капище-то старообрядческом обитать можете?
– Да как сказать, Василий свет Андреевич, церковь то наша тоже когда-то молельней старого обряда была. Да видно так Господу нашему угодно, чтобы истинная вера восторжествовала не только в жилище местного туземца, но и в молельне старообрядческой. А то ведь бегут, бегут не потому, что нас с Вами боятся, а от веры истинной, от света в темень лезут и прозябают там в невежестве своем. Хотя есть такие, что на путь истинный из заблуждений своих выходят, но единицы таких. Все им у нас еще внове и не совсем приемлемо, но мы с великим терпением и бережением стараемся развить в них проклюнувшиеся ростки сознания.
– Я видывал деревни старообрядческие, и скажу, что живут они чисто и зажиточно.
– Внешне, только внешне, уважаемый Василий Андреевич. А внутри, в душе, в потемках блуждают, как овцы заблудшие. Да иной раз где-нибудь в глуши такое мракобесие встретишь, что только диву даешься. Самодурство -вот ему истинное определение. Да что мы все о пище духовной, пора бы уже и о пище насущной вспомнить, -заволновался отец Дмитрий, которому, судя по его тучности, мысли об этой самой пище были далеко не безразличны.
– Прошу, Василий Андреевич, проходите в горницу. Матушка уже к столу собрала, отобедаем, чем бог послал.
Матушка под стать отцу Дмитрию, такая же пышная да румяная, поклонилась и напевно пригласила к столу:
–Милости просим отобедать, господин полковник. Лакомств особых у нас нет, но зато все свое домашнее, свежее. Пока попробуйте закусочек. А потом и пельмешки горячие подадим.
Стол был заставлен закусками тесно: топорщились в тарелке моченые грузди, белела хрустящая капуста, осыпанная пустившим слезу луком, дымилась миска с отварной рассыпчатой картошкой, на большом блюде под обжаренным луком источала аппетитный запах горбуша; отдельно стояли несколько запотевших графинов с разными настойками. Перекрестившись, приступили к трапезе. После довольно непритязательной пищи последних дней Колесову было очень приятно оказаться за таким гостеприимным и обильным столом, а три приличных стопки из разных графинов, выпитых по разумному настоянию отца Дмитрия в самом начале обеда, значительно увеличили и без того немалый аппетит.
– И давно Вы, батюшка, в этом приходе?,– утолив первый голод, спросил Колесов.
– Да уж четвертый год пошел. Пока еще годы и здоровье позволяют, слава тебе Господи, мотаюсь с молитвой по тайге с миссионерством, обращая в лоно истинной церкви заблудшие души. Туземцы, как малые дети. Настолько наивны и безграмотны, что порой жалость берет. Надо бы слово божье к ним нести на их родном языке. Но если бы он был один, а то столько разных племен: и удехи, и гольды, и тазы, а тут еще и китайцы с корейцами, и каждый на своем лопочет. Письменности же единой нет, у туземцев ее совсем нет. Вот и приходится искру света у них через толмача высекать. А что толмач? Сам толком мало что понимает, объяснить с пятого на десятое едва сможет. Школы строить надо, учить детей грамоте, чтобы и сами могли святые книги читать. А так вся их нищета от их же дремучести и идет.
–Что плохо живут?
–Да хуже некуда. Детишек плодят помногу, а взрастить их толком из-за этой самой нищеты не могут. Вот взять китайцев. Народ более культурный да ушлый и безграмотных да простодушных туземцев обирают как могут, а если копнуть поглубже, то не только их, но и дары края этого из-за наживы варварски губят.
–И в чем же это выражается?
–А взять хотя бы так называемые лудевы. Слыхали что-нибудь о них?
–Нет , не приходилось.
–Это способ охоты у них такой. Строят забор вдоль реки из бурелома, валежника, кольями укрепленного. В промежутках делают проходы, а в проходах тех ямы глубокие роют и маскируют. Зверь воды испить захочет, а река забором загорожена. Ищет проход, а в проходе яма –ловушка его поджидает. Да добро бы если б способ этот для добывания пропитания использовали, а то алчность людская пределов не знает. Особенно, когда пантовка идет, ну, панты когда заготавливают. Олень падает в яму, у него рога спиливают, а тушу в яме гнить оставляют. И такие заборы порою на двадцать – тридцать верст тянутся, а ям в них по полторы, две сотни. Вот и посчитайте, какой урон природе приносят. И примеров таких множество.
–И что же Вы, батюшка, предлагаете ?
–Предлагаю я властям светским на эти безобразия внимание обратить. Писал я в прошлом годе начальствующему над областью, но результата никакого нет. Ну, да я останавливаться не собираюсь. Пусть не думают, что я должен только духовными вопросами озабочен быть. По настоящему- это и есть духовность, с этого она и начинается. Намедни целый трактат обо всех этих безобразиях, какие с природой творят, на имя его Высокопревосходительства генерал-губернатора подготовил и буду Вас, Василий Андреевич, просить передать по назначению.
–Извольте. Буду рад чем-то Вам услужить. И не беспокойтесь, вручу лично, а если не доведется встретиться, то передам с верной оказией.
Матушка внесла миски с лоснящимися в масле пельменями. Батюшка налил к ним по стопке рябиновой.
–Ну, а наш русский мужик как житье-бытье свое здесь наладил?– выпив и закусив, продолжил разговор Колесов.
–По -разному. Ежели кто с головой да в стакан чрезмерно не заглядывает, тот живет хорошо. Здесь главное –не лениться и меру в питие знать, а край богатый и ,если с толком к нему подходить, то богатством своим он поделится. В лесах зверя разного, в реках рыбы изобильно. Земля, правда, только в поймах рек хорошо плодит, но там опасность затопления во время дождей есть. Так что, если поле хорошее иметь хочешь, то от реки валом-заставой его огораживать надо. У меня прихожанин есть, Федор Клыков, лет десять, как из самой России сюда перебрался; рукастый мужик, и голова хорошо соображает. Так вот он по такой методе поля свои и обустроил. Урожаи стабильные и удивительные для этих мест получает. А хлебушек здесь на вес золота ценится. Опять же земельку, земельку удобрять не забывает. И что делает, вывозит в поле навоз не только из-под своих коров и лошадей, но и с других подворий забирает, у тех, кто удобрять землю ленится. А земля она уход за собой оценит и такого трудолюбца старицей отблагодарит.
Колесов слушал с интересом, понимая где-то подсознательно, что и ему скоро предстоят заботы хозяйствования. Недолюбливая попов и даже как-то с неприязнью отнесясь вначале к отцу Дмитрию, он уже ловил себя на мысли, что ему симпатичен это священник, столь деятельно пекущийся о благополучии и края, и людей здесь живущих, какой бы нации они ни были. Казалось, его должны были бы интересовать только вопросы веры, да численность прихожан чтобы год от году росла. А его, как крупного администратора, интересовало и устройство дорог, и развитие сельского хозяйства, и образование, и сбережение природы, т.е. все то, без чего нормальной жизни здесь не мыслилось.
Еще долго отец Дмитрий рассказывал о мужиках и их проблемах, о туземцах с их образом жизни. Матушка Елизавета, не вмешиваясь в беседу, молча занималась рукоделием, что-то вязала в углу горницы под мерное тиканье ходиков, и Колесову даже показалось, что никакой это не Дальний Восток, а самая обыкновенная русская изба в обыкновенном русском селе, каких много в самом сердце России. Спать разошлись уже заполночь, после неоднократного чаепития. Снились Василию Андреевичу тучные золотистые нивы, добротные дороги и счастливые люди, усвоившие наконец уроки отца Дмитрия и избавившиеся от всех проблем. Проснулся он затемно от пения петухов, заливавшихся на все лады. Было это непривычно и по-домашнему уютно. Полежал, нежась, в постели с хорошим душистым постельным бельем. Вставать не хотелось, но, подчиняясь многолетней привычке, встал, оделся и рассвет встретил уже на ногах, отдавая последние приказания к выступлению. Везде по селу был слышен гомон людей, заскрипели ворота, заржали отдохнувшие лошади; к шуму не замедлили присоединиться и собаки со своим лаем. Обоз стал съезжаться к околице, выстраиваясь в походный порядок. Простившись с гостеприимными хозяевами, Колесов пошел вдоль улицы, отчитывая Степана за излишнюю расторопность: тот не стал отказываться от предложенных на поварне продуктов и чрезмерно загрузил их в подводу.
Захарьин был уже у околицы и, видимо не совсем еще свыкшись с потерей Грома, распекал какого-то солдата за плохо подогнанную упряж. Чем больше Колесов присматривался к нему, тем большим уважением проникался к этому еще молодому и ловкому казаку. Захарьин был знаменит на всю область как лихой наездник, отличный стрелок, а по части смелости, граничащей временами с большим риском, ему, пожалуй, и равных не было. На предыдущей ночевке, когда он предавался горю по случаю потери коня, урядник Храпов рассказал Колесову немного о своем хорунжем и о случае, который произошел с ними года три назад. Были они вчетвером в объезде, когда в тайге услышали далекие выстрелы. Было это летом и из-за обилия листвы звуки были приглушенными, а видимость ограниченной. Стали пробиваться на выстрелы, вскоре тропа нырнула в чащу, где конному не проехать. Оставив одного казака с лошадьми, втроем продолжили путь пешком. Через какое-то время подошли к поляне, на которой сквозь кусты виднелись какие-то мешки. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что везде все тихо, Захарьин, страхуемый остальными вышел на поляну, и обнаружил здесь два трупа. Это были китайцы-собиратели женьшеня. Этот не примечательный ничем корень, но довольно редкий, помогал от многих болезней, а потому ценился очень высоко. Ситуация здесь складывалась, скорее всего в таком порядке: бандиты подстерегли китайцев, подождали, когда те найдут и выроют корень, а затем убили и всю добычу забрали себе. Рядом была небольшая ямка, видимо, оставшаяся от корня, валялись ножи для извлечения женьшеня из земли и пустые холщовые сумки. Обследовав лес вокруг поляны, установили, что бандитов было не менее десяти человек. Захарьин, как старший разъезда, принял решение преследовать убийц.
–Я, признаться, заопасался,– рассказывал Храпов, -ведь их втрое больше, да и в лесу они не дети. Я на своем веку видывал таких не раз, им человека убить, что плюнуть. Ну и сказал Захарьину, что мол, может, и не надо за ними, того, гнаться, значить. Но он на меня с таким презрением взглянул, что я, почитай почти на двадцать годов его старший, чуть от стыда сквозь землю не провалился.
Солнце уже перевалило на вторую половину дня, и расчет свой Захарьин строил на том, что бандиты скоро станут на ночевку. Ведь тоже человеки, и есть, и спать хотят. Следопытом Захарьин был отменным, не зря с молалетства с отцом в тайге промышлял. По едва заметным и только одному ему понятным приметам повел он казаков в преследование. По его прикидкам, двигались они в часе ходьбы от преследуемых. Шли ходко, но осторожно, чтобы какая-нибудь птица не выдала их своим криком. Внимательно осматривали впереди тропу, чтобы избежать возможного заслона. Когда солнце коснулось верхушек деревьев, вышли к спуску в долину, где протекала речка. Любому путнику в самый раз было думать о ночлеге: и время к вечеру, и место подходящее. И поэтому бандиты, убившие китайцев, были где-то здесь, внизу, собирая, скорее всего валежник, готовились к ночлегу. Надо было выждать время, когда стемнеет, и свет костра укажет их точное место. Поэтому рассредоточились и залегли, давая отдых усталым ногам и наблюдая за местностью. Вскоре от реки потянуло дымком и запахом жареного мяса. Храпов отметил про себя, что расчет Захарьина оправдался и теперь надо уповать на бога и собственную ловкость. Когда же сумерки опустились на землю, стал виден и огонек. Стараясь ступать тихо, и не столкнуть вниз какой-нибудь камешек, по одному спустились с горы и, хоронясь за кустами и стволами деревьев, подошли к банде на расстояние видимости. оказались хунгузы, в количестве одиннадцати человек. Вели они себя беспечно, наверное, не раз совершали удачные рейды, вот бдительность и притупилась.
Перекусив и попив чаю, они готовились ко сну .В качестве часового был оставлен один бодрствующий, который сидел невдалеке под сосной. Вскоре усталость дала себя знать, и все уснули. Дремал сидя и караульный. Захарьин неслышно, благо ветер дул в его сторону, подошел к караульному и нанес удар подобранной заранее увесистой дубинкой по голове. Обмякнув телом, сторож завалился набок. Один из хунгузов по какой-то причине проснулся и кинулся к оружию, но был вовремя убит Храповым выстрелом из ружья. Остальные повскакали на выстрел, но в ужасе от невесть откуда свалившихся на них бородатых казаков подняли руки. Перевязав всех бандитов, до рассвета в полглаза отдохнули, а с рассветом тронулись в обратный путь, имея еще и поклажу: труп хунгуза, который обвязанным на палке несли его товарищи ,и самодельные носилки с оглушенным Захарьиным бандитом.
–Господин полковник! Обоз к выходу готов, -доложил хорунжий, прикладывая руку с висевшей на ней плеткой к косматой папахе.
–Разъезд уже выслал?
–Так точно, выслал.
–Ну, тогда трогай.
Колесову подвели лошадь. Вскочив в седло, он поехал рядом с Захарьиным, искоса посматривая на его понурую фигуру и желая как-то отвлечь его от тоски по коню, спросил:
–Я слышал, что ты коренной сибиряк?
–Так точно, господин полковник.
–Зови меня лучше по имени- отчеству. А позволь спросить, когда отец твой или дед переселились в Сибирь и из каких мест пришли?
–Отец с дедом тоже коренные, и прадед сибиряк. А когда и откуда пришли, кто его знает. Только дед у меня еще живой и с самого малолетства рассказывал мне со слов своего деда, а тот ему со слов своего, что пришли они сюда, в Сибирь то есть, еще с богоприсным Ерофеем Хабаровым.
–Ого! -удивился Колесов, -Так этому уже более двухсот лет будет. Древний у вас род, молодцы, что помните.
–Да, древний. Мой предок принимал участие в Кумарской битве. Слышали может о такой?
–Слышал немного, но конкретного практически ничего. Постой,но это же, если память мне не изменяет, было при государе Алексее Михайловиче. И что же дед тебе рассказывал об этом?
–Рассказывал, что случилась эта битва в Кумарском городке, что находится при впадении Кумары в Амур. Казаки обороняли этот городок и было их мало: всего 500человек при трех орудиях, а маньчжуров- более десяти тысяч. Да и пушек у них было поболе. Только наши ратному делу были лучше обучены и духом сильнее. Знали, что выстоять им надо во что бы то ни стало. Иначе вороги хлынут дальше в Сибирь, деревни и села разграбят, а людей убьют или в полон возьмут. Три дни маньчжуры огнем били по острогу. Потом пошли со всех четырех сторон на приступ. Командовал казаками Онуфрий сын Степанов. И встретили они врага из пушек и пищалей, а когда маньчжуры смешались под огнем, Степанов выбрал момент и ударил со своими в холодный бой. Не выдержали маньчжуры, началась в их рядах сумятица, и побежали они.
Захарьин замолчал и о чем-то задумался. Ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Колесов размышлял о народной памяти ,что вот так из поколения в поколение передаются события давно минувших лет, но память о них не ослабевает, являясь примером в воспитании каждого нового поколения. И этот хорунжий никогда не дрогнет, не спасует ни в какой ситуации ,ни перед каким врагом, дабы быть достойным своего предка и его памяти. Ни этой ли памятью и силен наш народ.
–А вот скажите, Василий Андреевич,– вдруг прервал молчание Захарьин,– давно хочу спросить, что это за сабля у Вас такая диковинная? Я таких и не встречал.
–Это не сабля, а шашка. Настоящая «гуру».Я ее с Кавказа вывез.
– И что значит шашка и что «гура».
– «Шашка «это в переводе с аварского, народ такой на Кавказе, означает длинный нож, а «гуру»-это клеймо мастера, который наиболее хорошо их делал. А отличается она от сабли не только тем, что она короче. Она удобнее сабли и легче. Ножны ее деревянные кожей обтянуты, не бряцают, и во время дождей рукоять не приржавеет к ножнам. Опять же она, как видишь, не имеет эфеса, что тоже в лесу удобно, не цепляется за ветви. Горцы их носят не на поясе, а за спиной, так удобней. Но самое главное в том, что центр тяжести клинка расположен не у рукояти, как у сабли, а в последней его трети. Вот это то и позволяет ей при ударе с замахом с гораздо большей силой обрушиваться на противника. При удачном попадании шашка способна развалить всадника пополам, до седла. Она мне хоть и не по уставу, но больно уж оружие хорошее и в рукопашной схватке незаменимое.
–И что,– спросил хорунжий, уже завистливо поглядывая на шашку,– помогла когда?
–Да , слава богу, ситуации такой здесь не представилось. Наверное, не те уже времена, чтобы на батарею пехота вражеская врывалась. Пушки далеко стрелять стали и от врага на приличном расстоянии находятся, пехоте сразу и не добежать.
Беседа была прервана появлением казака из передового дозора, присланного урядником. Подскакав, он доложил:
–Ваше Высокоблагородие, Храпов прислал сказать – какие-то люди вооруженные перешли дорогу и затаились обочь за деревьями. Что прикажете делать? Храпов просит казаков человек пять отрядить к нему, а то нам троим не сподручно выяснить шо то за люди.
–Хорунжий, берите четверых казаков, да поезжайте к Храпову, да отрядите стольких же назад, а остальным занять оборону вокруг обоза, мало ли что.
–Будет исполнено, господин полковник.
Захарьин резко развернулся на присевшей лошади и исчез исполнять приказание. Колесов достал пистолет, Степан порывисто дергал из телеги ружье, стрелки и оставшиеся казаки тоже взяли оружие на изготовку и заняли позиции по обе стороны обоза. Кто бы это мог быть не знал никто. Но большая доля вероятности была в том, что это банда хунгузов и возможно крупная, если вознамерилась напасть на хорошо охраняемый обоз. Появление таких банд было не такой уж и большой редкостью. Бандиты могли давно двигаться следом, наблюдая и готовясь к нападению, а теперь вот решились. И если это так, то их надо ждать отовсюду.
Все напряженно прощупывали взглядом почти сбросивший листву лес, особенно пристально – темные массивы ельника, беря их на мушку. Но везде стояла тишина. Тайга жила своей обычной, не потревоженной никем жизнью. Впереди тоже было тихо, не выстрелов, не криков. Через полчаса все прояснилось. Прибыл Захарьин и привел китайскую артель охотников из восьми человек, вооруженных какими-то еще допотопными кремневыми ружьями на сошках. Ружья эти даже не были забраны у них для безопасности, ибо произвести из них быстро прицельный выстрел не представлялось никакой возможности. Обуты они были в онучи для бесшумной ходьбы по лесу, так необходимой при скрадывании зверя; одеты бедно, но одежда из плохо выделанной кожи хорошо подогнана, чтобы не мешала при движении и не цеплялась за ветки. На лицах был вселенский испуг, из-за которого слова путного от них нельзя было добиться. Наконец на плохом русском старший артели, по виду уже старик, с грехом пополам объяснил, что они охотники, промышляют пушного зверя, и фанза их находится в одном дне пути от этого места, что люди они мирные и никогда никому зла не делали, хунгузов в этих местах не встречали. Их обыскали, но ничего противоречащего их словам не нашли. Колесов приказал отпустить китайцев, и они, очевидно приготовившиеся к самому худшему, еще долго стояли на дороге, кланяясь вслед уходившему отряду.
–Иван Кондратьевич,– обратился Колесов к Захарьину, оглядываясь на жалкие фигуры охотников,– ты заметил, что у них в сумах даже хлеба нет. Послал бы кого, пускай несколько хлебов отвезут им, крупы какой, соли. Да сам посмотри, чем мы с ними поделиться сможет.
– Есть, -с готовностью отозвался хорунжий и остановился, поджидая продуктовую повозку.
–Никанор, -окликнул он рябого казака, -Поскачешь сейчас назад к китайцам, отвезешь им чего в мешок соберем. Да смотри там, помяхше с ними, не напугай, а то разбегутся по всему лесу, не найдешь, -уже со смехом добавил он.
Глава 7
Дни проходили в движении под громыхание и тряску телег, ржание лошадей и понукания ездовых, а морозные ночи – у костров, с их утекающим к холодному небу теплом.
Время сродни дороге: течет время, движется к концу любая дорога. Уже в начале ноября остановились на последнюю ночевку, до Хабаровки, одного из нескольких поселков, заложенных четыре года назад по Амуру, оставалось около 40 верст и планировали на следующий день, если бог даст хорошую погоду и спокойную дорогу, к вечеру добраться до места. Люди изрядно устали от дорожных неудобств, жаждали помыться в бане и выспаться по человечески в постели. И поэтому в этот раз на привале было оживленнее, чем обычно; раздавались даже шутки, совсем было исчезнувшие в последние дни.
Колесов бездумно смотрел на разбрасываемые пламенем в разные стороны искры. Отрываясь от костра, они словно светлячки, не зная, куда им деться, с тихим мерцанием роились в черноте ночи. Захарьин лежал на сене, покрытом попоной, уставившись вверх, в ночное небо с щедро разбросанными по нему отливающими студеным блеском звездами.
–Как манят к себе эти звезды,– вдруг произнес он задумчиво, -Так казалось и воспарил бы душою к ним.
–Да ты, брат, оказывается поэт,– отозвался Колесов.– А душа суть не материальная и воспарить ею можно, оставаясь на земле.
–А что такое душа?– повернул голову к нему хорунжий.
–Я не философ, но на мой взгляд это критерии духовности, т.е. совокупность не только всех чувств человека, но и отношение его к добру и злу, справедливости и беззаконию, благородству и подлости. Главное улавливать разницу между этими понятиями и никогда не выходить за границу светлого начала. Душа заложена в человеке изначально, с самого рождения и есть она у всех людей. Нет души- нет человека. А вот какая она, одухотворенная или нет, зависит от воспитания.
–Так по вашему выходит, что душа есть и у нехристей?
–Конечно, и у них есть душа.
–Почему же все нехристи лезут к нам постоянно со злом и войнами?
–Вот потому и лезут, что, как бы сказали святые отцы, души у них заблудшие. А я скажу, что все мы заблудшие. Для нас они нехристи потому, что придерживаются своей веры и за нее готовы умирать. А мы их веры знать не хотим, считая свою самой правильной.
Несовершенен еще человек, много алчности, злобы, зависти, хотя ни одна вера, из существующих на земле, этих качеств не одобряет. Выходит, дело в нас самих. Думаю, придет время, не скоро, но придет, и все люди на земле поймут друг друга, и души их преисполнятся все-таки добром и пониманием не только ближнего, но и дальнего. Ведь по сути своей мы все одинаковы: две руки, две ноги, голова. Когда-то жили родами, а с появлением общих интересов объединились в племена, а затем и в государства. И дело здесь не в национальностях. Нации уже стали потом, с укреплением государств, и в нацию, в ту или иную, изначально вошли порой разные племена. Значит понимали они друг друга. А сейчас уже речь идет не о душе каждого конкретного человека, рода или племени, а о душе нации. И вот когда нации сольются в одну душу – душу всего мира, вот тогда наступит всеобщий мир на земле и благоденствие.
–И что же для этого надо?
–Надо неустанно одухотворять каждого человека. Делать его совершенным, воспитывать в соответствующем русле, а это уже политика государств и священнослужителей всех конфессий.
–Чудно Вы, Василий Андреевич, говорите, что душа у каждого человека есть, а как же душегубцы разные, убивцы да разбойники, у них тоже душа имеется?
– Да нет у них души, а посему не люди они. А раз не люди, значит не место им в человеческом обществе. Поэтому казнят их , на каторгу ссылают, по тюрьмам держат. Но это касается, как ты сказал, только отъявленных душегубцев.
–А враги отечества как же, тоже с душой?
–Настоящий враг тот, кто злобой звериной к тебе преисполнен, кто хочет землю твою и народ закабалить ,над могилами предков надругаться. Но в массе вражеского войска всегда есть люди, и поверь их не мало, которые никакой злобы к тебе не испытывают и земли твоей им не надо, и худого твоему народу они не желают. А то, что идут на тебя с оружием, то не по своей воле. Мать их тоже в муках рожала и они тоже божьи твари. Такого врага по возможности щадить надо. Пусть потом всю жизнь помнит и своим потомкам о твоем великодушии рассказывает. Я ведь видел, с каким рвением ты бросился выполнять мой приказ о передаче продуктов китайцам. Значит не очерствела у тебя душа, и находят в ней отклик нужды человека , даже если он не нашей нации и веры. Глядишь – вот так и сформируется всемирная душа.
–Ну, а пока есть войны,– после небольшой паузы продолжил Колесов,– и существуют настоящие враги, должно быть и соответствующее оружие, дабы их достойно встречать. А посему, Иван Кондратьевич, дарю я тебе на память свою шашку, которая, знаю, тебе понравилась.
Колесов достал из телеги шашку в ножнах, обмотанных пристежным ремнем, и подал ее ошарашенному Захарьину. Тот вскочил на ноги, растерянно, еще не веря в реальность происходящего, принял подарок, оглядел ножны, костяную, инкрустированную серебром, рукоять, медленно потянул из ножен клинок, словно пробуя плавность его хода, а затем, резко выхватив, молниеносными ударами дважды рубанул воздух и прислушался. Осмотр и проба шашки привели его в восторг. Он нежно поцеловал клинок и бросил в ножны.
–Ну, Василий Андреевич! Я не знаю, как и благодарить Вас. Да у меня и отдарить то Вас не чем.
–Не волнуйся, Иван, мне от тебя ничего не надо, а шашка мне уж без надобности.
Однако Захарьин, словно вспомнив что-то важное, сорвался с места, бросился к своим переметным сумам и оттуда достал что-то, завернутое в чистую тряпицу.
–Это корень- женьшень. Я его сам в тайге промышлял. Не побрезгуйте, Василий Андреевич, возьмите в подарок, может сгодится когда.
–Спасибо, Иван Кондратьевич,– ответил Колесов, разворачивая тряпицу и рассматривая небольшой корешок, чем-то похожий на человеческую голову.
Глава 8
На следующий день входили в Хабаровку под звон церковного колокола, приглашающего к вечерне, и собачий лай местных псов. Кинувшиеся было на незнакомых пришельцев, но отогнанные кнутами и плетками ездовых и казаков, они попрятались по подворотням и оттуда уже исходили злобой вслед обозу. За эти два года, что Колесов не был здесь, поселок заметно отстроился, и это сразу бросалось в глаза. Прибавилось жителей и военных, и Хабаровка уже больше напоминала большое русское село, а не богом забытый пост, расположенный на границе. Она была заложена в числе остальных 32 станиц и постов, которые основали казаки и солдаты Сибирских линейных батальонов по Амуру и Уссури в 1858 году, спустя одиннадцать лет после назначения Муравьева генерал-губернатором Восточной Сибири, который при вступлении в должность первоочередной задачей считал все-таки укрепление и освоение Тихоокеанского побережья ввиду большой политической и экономической активности там англичан. Поэтому все силы в вопросах освоения территорий и распределения людских ресурсов были направлены туда. Как нельзя кстати оказалось открытие судоходных фарватеров в устье Амура, который теперь на всем своем протяжении могучей артерией связал глубинные районы Сибири с побережьем и океаном. Это значительно облегчило освоение этих мест и делало его более осмысленно- естественным. В устье закладывается новый пост-Николаевск.
Еще в 1849 году в Забайкалье были передислоцированы четыре Сибирских линейных батальона. Однако этого количества было явно недостаточно, и выход Муравьев находит в создании нового казачьего войска – Забайкальского, которому он отводит большую роль в заселении Приамурья и Приморья. Оно создается в 1851 году. А спустя пять лет Амурская экспедиция образовывает три русских поста (Кумарский, Зейский, Хинганский ) и этим фактически завершает присоединение Приамурья к России. С этого момента начинается довольно бурное заселение и хозяйственное освоение как Приамурья, так и Приморья, где образовываются военные посты по рекам Уссури, Сунгач и на озере Ханко. Поселенцами являются опять же казаки, штрафные солдаты и даже, ставшие на путь исправления, каторжники. Но «Амурский вопрос» требовал не только фактического, но и политического урегулирования. Крайне необходим был договор с Китаем по решению пограничных вопросов, который бы закрепил сложившуюся ситуацию. В 1858 году заключается Айгуньский, а следом и Тяньзинский договоры, которыми была определена линия прохождения русско-китайской границы в основном по Амуру. В 1860 году полностью завершился процесс формирования дальневосточного участка границы. В этих достижениях – полная заслуга генерал-губернатора Муравьева Н.Н., проявившего себя не только великолепным администратором -хозяйственником, но и блестящим дипломатом. Это сухопарый, стройный, с высоким лбом и усталыми, слегка припухшими глазами человек не знал покоя. Чрезвычайно легкий на подъем, в чем не раз убеждался Колесов, он был постоянно в движении: то производил инспекционную поездку вдоль побережья на пароходе -корвете «Америка», или торопился в Китай на переговоры по пограничному обустройству, то, передвигаясь по Амуру, заботился об увеличении народонаселения и экономическом развитии этих мест. Не обходил своим вниманием Муравьев и запредельно далекие Аляску и Алеутские острова. Одно время нацеливал на поездку туда и Колесова с целью определения обороноспособности этих окраин. Но текущие дела постоянно требовали отложить эту поездку пока необходимость в ней естественным образом отпала.
В Хабаровке Колесов поселился на постоялом дворе, построенном с Сибирским размахом. Здесь было даже несколько отдельных комнат для приезжих, что в постоялых дворах встречалось довольно редко. Комната была небольшая с выходящей в нее тыльной стороной печи и радующей глаз светло-желтой новизной бревенчатых стен, сохранивших хвойный запах. На стенах висели 2-3 лубочные картины с незапоминающимися сюжетами, пестрый домотканный коврик и зеркало, под вышитой накидкой. Два стула, стол и главное – кровать, а не койка, дополняли все незатейливое убранство этой сибирской гостиницы. Степан поселился в соседней, общей, комнате и, подавая по утрам умываться и завтракать, рассказывал Колесову о новостях со всей округи, которые по вечерам завозили сюда разные путники, останавливающиеся на ночлег. Жизнь опять приобретала какие-то стабильные оседлые черты с устоявшимся бытом. Дни потекли похожие один на другой. После завтрака, не зная, чем заняться, Колесов шел на прогулку к Амуру, обедал поздно, затем валялся в кровати, читая или дремля, а вечером направлялся к какому-нибудь знакомому, коих здесь у него было мало, в основном -к командиру одного из Сибирских линейных батальонов, расквартированному в Хабаровке, подполковнику Дьяченко. Высокий, плотного сложения с короткой окладистой бородой он неизменно вызывал симпатию своим добродушно-веселым видом и какой-то основательной надежностью. Интеллектуально развитый он мог поддержать практически любую беседу. Вот и сейчас начали о литераторах и дошедших сюда новинках литературы, но затем разговор неизменно сошел к проблемам местного значения. А проблема в основном была одна – нехватка людей.
–Строим мы сейчас только за счет солдат. А отстроить мало, нужны люди, которые занимались бы торговлей, сельским хозяйством,промышленностью – одним словом, вдохнули бы жизнь в эти пока еще недостаточно освоенные места. Вот в Уссурийском крае в основном кто селится? Ответьте мне, Василий Андреевич.
–Если в основном, то казаки, да староверы.
–Вот, вот. А надо бы какие ни было стимулы на имперском уровне обозначить, чтобы крестьяне и из центральных губерний в эти места поехали. Да поддержать здесь их первое время. Чай крепостных уж нет, а с земелькой в России дело напряженно обстоит. А здесь просторы то какие, живи -не хочу.
–Как бы там ни было, уважаемый Яков Иванович, но за последние годы, вижу, населения гражданского поприбавилось. – высказал свои наблюдения Колесов.
– Да это в основном за счет каторжан освобожденных,– пояснил Дъяченко, разливая по стаканам только что заваренный чай,– берите вот к чаю баранки, Василий Андреевич.
–Позвольте, как каторжан?– удивился Колесов, беря стакан с чаем.
–Что? Разве не слышали? – в свою очередь удивился Дьяченко и, получив отрицательный ответ, стал рассказывать,– Будучи генерал-губернатором Николай Николаевич тоже ломал голову, кто хозяйствовать будет на этой земле. И не дожидаясь решения верховной власти, своей волей велел отобрать из каторжных, склонных к исправлению да не из числа отъявленных злодеев, подходящих людей. По всем рудникам отобрали около тысячи лиц мужеского пола и предложили им в обмен на свободу селиться по Амуру и хозяйствовать. Да они ни в какую: мол без баб никуда не пойдем. Пришлось такое же количество душ женского пола освобождать. А в том месте, где их собрали, церкви не было, чтобы, значит, брачный союз освятить. Так Его Высокопревосходительство выстроил их попарно, велел за руки взяться каждой паре и напутствовал словами: «Любите, детушки, друг друга и будьте вместе и в радости, и в горе». На том венчание и закончилось, а церковь уже потом этот брак правомерным признала.
–И что же дальше?
–А что дальше. Расселили их по Амуру по разным местам, где надо было. Солдатики им избы помогли да необходимые постройки поставить и кто с головой зажили припеваючи, ребятней обзавелись. Хозяйство у многих, коих я знаю, справное. Кое кто из них сейчас в удивление приходят, что прежде нужно было на каторгу попасть, чтобы так зажить. Говорят, вот уж воистину не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
–Так откуда же это хозяйство взялось? Нужны же были какие-то первоначальные средства. Откуда взяли? – недоумевал Колесов.
–Насколько я знаю: что-то выделили из губернской казны, а часть денег дал Муравьев из своих собственных средств. Этого на первых порах хватило. Построиться, как я уже говорил, им помогли. Ну, а остальное уже зависело от них самих, от их расторопности и умения. Почин на губернском уровне хороший был сделан, а теперь все от Петербурга зависит, и, если будут соответствующие решения приняты, то этот почин масштабное продолжение получит. А так народ постепенно прибывает, и, знаете, довольно интересные экземпляры встречаются.
–И чем же они интересны?
–Своими делами, идеями. Вот, например, недавно я был по службе в Николаевске. Есть там такой поручик Можайский, довольно толковый офицер.
–Позвольте, это не тот ли самый, что идеями воздухоплавания заражен?
–Да, да именно он. И согласитесь, идеи его довольно разумны и смелы. Я имел с ним продолжительную беседу на эту тему.
–Знавал я его, когда был там на монтаже крепостной артиллерии. Он ведь артиллерист и дело свое хорошо знает.
–Не будь он в малых чинах, лучшего приемника Вам, Василий Андреевич, трудно было бы определить .
–Пожалуй, соглашусь с Вашей оценкой качеств этого поручика, Яков Михалыч.
–А вот еще один пример: есть там же один коммерсант, фамилию, правда, его я запамятовал. Так он открыл ателье по выпуску м-м-м…Одну минуту, у меня здесь записано, фо-то-графических карточек.
–Не слыхивал о таковых.
–У него есть такой аппарат, который переносит, или, иными словами, проецирует отображение реального мира на эту карточку, в том числе и человека. Несмотря на довольно высокую цену, у него от предложений, говорят , отбоя нет. Я тоже было хотел свой портрет запечатлеть, но он к этому времени пребывал в отъезде. Остается надеяться, что завернет и к нам.
–Удивительно. Я о таком изобретении и не слыхивал.
–Да изобрел то вовсе и не он, а он только первый пользователь в наших краях этого изобретения. Теперь по поводу Вашей просьбы: переправить генерал – губернатору в Николаевск письмо Вашего священника. Курьера я планирую отправить после того, как снег ляжет. А судя по погоде,– молвил Дьяченко, выглядывая в окно,– этого можно ожидать и завтра. Записки этого батюшки я, с Вашего позволения, прочитал. Читал с интересом , и скажу, что весьма и весьма дельно предложено и, что главное, насущно- необходимо. Вот Вам и еще один пример толковых людей, пекущихся о пользе этого края, независимо от чинов и званий.
–Благодарю Вас, Яков Иванович. Однако, уже стемнело. Засиделся я у Вас, пора и честь знать. Пойду уж,– сказал Колесов, одевая шинель и, провожаемый хозяином, направился к выходу.
Глава 9
На следующий день наконец выпал снег. Первый же по-настоящему зимний день был необычайно морозен. Зима хладнокровной нянькой властно взяла все в свои руки и, укутав землю в белое покрывало, а реки сковав льдом, погрузила природу в долгожданный сон. На дорогах начал устанавливаться санный путь. Пора было думать и об отъезде.
Колесов вышел на прогулку и зажмурился от непривычной белизны, ударившей резко в глаза. Осторожно ступая, чтобы не поскользнуться, он прошел своим привычным маршрутом, удивляясь обилию детворы, высыпавшей невесть откуда и занявшейся своими ребячьими зимними забавами. Одни уже катали снежную бабу, другие, поодаль, воевали в снежки, а третьи с веселым гиканьем неслись с накатанной горки на чем попало: кто на салазках или доске, кто в деревянном корыте, а кто и, протирая штаны, на собственном заднем месте.
Амур, скованный льдом, прочность которого Василий Андреевич все-таки испытывать не стал, замер. Вокруг был необъятный простор, и от величия природы, обосновавшейся по берегам этой мощной реки, распирало в восторге грудь. Вдоволь налюбовавшись зимними красотами и, успев почувствовать жесткую хватку мороза, Колесов пошел обратно. Надо было отправлять Степана за покупкой саней; через пару дней дорогу укатают и можно двигать. Сани нужны были свои собственные для того, чтобы не перегружать раз за разом на почтовых станциях багаж, а менять лишь лошадей. Так экономилось бы и время, и вероятность утери чего-то из багажа сводилась к минимуму.
Выдав Степану определенную сумму ,Колесов отправил его на поиски подходящего возка на полозьях, напутствуя: