Читать онлайн Немножко Северной рабоче-окраинной лирики бесплатно
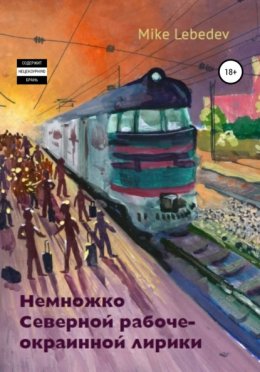
Короткое поясняющее предисловие
Совершали как-то летом всей семьей увеселительную прогулку по Москве-реке, под самый финал уже проходили под Новоарбатским мостом. И тут старший сынок, будучи уже мальчиком взрослым и разумным и, надо понимать, насмотревшись какой-то информационно-познавательной телепередачи – задал хороший вопрос:
– Пап, а вот это тот самый Белый Дом, по которому из танков стреляли? И что, прямо по-настоящему?
– Да, сынок! Ну то есть – снаряды вроде как не совсем боевые были, но стреляли ими – вполне по-настоящему. И как раз отсюда, да, вот с этого самого моста, вот оттуда заходили, и – прямой наводкой.
– А зачем?
– Хороший вопрос, малыш. Но это долгая история. Мы, кстати, с твоим будущим папой крестным здесь практически накануне были. Но не в тот самый день. А в тот день, вернее, в ночь, когда за два года до того Белый Дом этот самый защищали (но от других, от тех, которые потом сами обороняли… в общем, всё сложно), то мы, значит, с папашкой твоим крестным героическим – вот это точно были здесь, вот посмотри в ту сторону…
И вдруг:
– Пап, а ты что – это всё помнишь?!
– В смысле? Ну а как не помнить, если это всё на наших глазах происходило, нам уж по двадцать лет было! Тут уж наоборот, многое забываешь, в нашем-то возрасте…
– А я думал – это было так давно…
Ну не вчера, да. И тут вдруг дошло очевидное: для наших детей и штурм (штурмы) Белого Дома, и, скажем, татаро-монгольское иго – события по времени практически равноудаленные. Потому что это было – ДАВНО.
Или вот другой характерный пример. Тут, значит, болельщики одного популярного московского клуба сильно пригорюнились от того факта, что руководство определило под снос их старый ледовый дворец. Как физически и морально устаревший.
Оставим в стороне градостроительную и коррупционную составляющие процесса сноса спортсооружения. Казалось бы, нам, болельщикам совершенно другой московской команды – нам-то какое дело, пусть крушат и ломают.
Ан нет, дело есть. И дело это в том, что ледовый дворец этот – возводили на наших глазах, и после постройки – выглядел он вполне современно и продвинуто, по сравнению с теми же «Лужниками», к примеру. Что вызывало даже немножко чувство лютой зависти, у нашего-то клуба своего такого дворца не имелось. А теперь, оказывается – он морально и физически устарел. А мы по-прежнему здесь, и даже смотрим хоккей.
Стоп. Кажется, предисловие если что и поясняет, то или не совсем то, или не совсем понятно.
Короче. Я приглашаю тебя, дорогой читатель, совершить небольшую увлекательную прогулку по нашей Северной рабочей окраине и некоторым ее ближайшим окрестностям. Совершить и увидеть места, многих из которых уж давно нет, а если и есть, то совершенно в другом виде.
В этом нет особой ностальгии. Что грустить, ну да, раньше было так, а сейчас иначе, и, кстати говоря, потом будет как-нибудь еще.
Но есть очень легкое и светлое чувство от того, что места эти однажды случились в жизни, и они… И даже не только места. Люди – вот что гораздо важнее, ведь то или иное место на земле – по большому счету фон и декорация, люди – вот что главное, и многие из них – я действительно очень сильно хотел бы, чтоб они были здесь…
В общем – вперед. Путешествие начинается. Смотрите и слушайте внимательно, я расскажу вам много интересного, чего не расскажут другие! Просто я это всё – очень люблю.
«Старый лифт»
Когда я был маленький, то бабуля моя проживала в этом огромном «сталинском» доме на Войковской, ну знаете, угол Космодемьянских и Ленинградского шоссе, даже номер его звучал основательно: «Восемь дробь два», это вам не «корпус» и не «строение».
Нет, он и в самом деле огромный. Семь этажей. Двадцать подъездов. И если бы квартир было не всего по две на этаже, потому что квартиры большие – этих квартир была бы тысяча!
А внизу – и чего только нет! Булочная, бакалея, овощной, почта, ателье… ателье, кажется – даже два было! Может, не ателье, но чего-то точно было два. И всё это, пока идешь, нужно внимательно рассмотреть. А если вечером – то рассмотреть еще и троллейбусы, которые вдоль дома на ночь останавливаются, их тоже десяток умещается! Опускают свои «рога» и спят, как диковинные жирафы.
Да, огромный был дом. Был. Сейчас он меньше, и заметно. Это можно доказать с цифрами на руках.
Вход в подъезды со двора, а проходная арка от метро довольно далеко. Так вот, путь от подъезда до метро у нас с бабушкой занимал ровно 20 минут. Это точно, бабушка не терпела опозданий, и когда она вела меня в детский сад, мы из квартиры выходили всегда точно в 7.20, а точно в 7.40 мы стояли на платформе метро и смотрели на электронные часы. И это еще бабушка всегда торопила – «Миша, шагай быстрей, не смотри по сторонам, не отставай!»
А теперь? А теперь я выхожу из метро, делаю два с половиной шага до арки, потом еще два до подъезда, потом курю, глядя на наши окна, потом обратно, смотришь на часы – десять минут на всё про всё.
Это следствие Теории относительности Эйнштейна. Время летит быстрее, а пространство сокращается. Но не вообще, а твое личное. А потом однажды о-па – и пролетает и сокращается окончательно. И пространство, и время.
К бабушке я любил ездить, ну конечно, ну столько же всего интересного в коммуналке ее! И телевизор, который не начнет работать, пока кулаком сверху не получит, и дедова кровать, огромная, как флагманский корабль, и «чисельник» в красном углу, и сухари неизменно в старой, поколоченной супнице… сухари вкуснее всего! Ни у кого такие не получались, хлеб у бабушки вообще никогда не пропадал, но было бы странно для тех, кто родился в достопамятном 1913 году, хлеб… Сухарей насушить, еще голубям в сквер «у Волкова» отнести, но не пропасть, нет.
А телефон на стенке еще висящий, это уж при мне его поменяли на модный, на полочке. А то висел. И орать надо громко, если звонят соседям: «К телефону!»
Громко орать. Звукоизоляция отличная. Наша табличка у двери – «Киселёвы 3 звонка», деда давно нет, но всё равно, как память небольшая: «Киселёвы». Три звонка – но бабушка уже плохо слышит, и мама придумала так. На стенке есть такое место, где краска как бы пузырь образовывает. И если его отыскать и постучать, то как раз в бабушкиной комнате гулко так звучит: вот, вот это она слышит. Но отыскать – тоже ведь интересная задача!
Да, туалетной бумаги в коммуналке их не признают. Всё по олдскулу, нарезанная газета в кармашке. Дед хоть и был беспартийный, но коммунистов уважал, поэтому – никогда «Правда», а что-то попроще, типа «Социалистическая индустрия». Хотя – большая загадка, откуда эта «Индустрия» берется, ведь ни бабушка, ни соседка Ляля – газет не выписывают!
Но всё это, и сухари, и телевизор, и кровать, и индустрия – это чуть позже. Для начала – самое главное приключение.
Лифт, ну конечно! У нас-то дома и вообще никакого нет, но если где в гостях есть – то автоматический, скучный. А у бабушки в доме – всё опять же по олдскулу, чистый восторг!
Шахта обнесена сеткой, и всё видно. И этот «противовес», и как трос висит, а потом наматывается, всё скрипит, ролики крутятся, если нос прижать, то видно, как кабина из поднебесья опускается. А как всё это работает? Может, оттого и страсть у меня к сыскному делу, к физике и механике, и к Теории относительности? А если сорвется кабина? А, пружины внизу, вот же. А сколько будет лететь, если все-таки? А квадратный корень из 2h/g, даже если высоту шестого этажа взять за двадцать пять метров (в бабушкином доме высоченные потолки!), то всё равно получится меньше трех секунд. Недолго, но, говорят, хватает, чтоб жизнь свою пересмотреть, особенно, если ты не так много еще прожил!
Но вот – кабина прибыла: начинается самое интересное. Сначала стальную дверь открыть. Ручка тугая, и не всегда срабатывает, нужно найти верный угол атаки. Теперь вторые двери, деревянные с окошками. Это очень волнительно, надо ловко так нажать, чтоб они как-то сложились, а не наоборот. И наконец – нажать кнопку. А кнопки – с блюдца размером, как у страха глаза велики! Наш шестой этаж, тоже тугой.
Но это всё мне доверяют, и я справляюсь.
Не справляюсь я только с одним, и это печально: лифт так устроен, что маленьких детей одних он попросту не возит, не хватает твоей массы, если ты один! И так хочется поскорей вырасти.
Когда ты впервые понимаешь, что стал пусть и не взрослым, но взял какой-то рубеж? Да вот тогда, однажды зимой, зимы тогда были холодные и снежные, не как сейчас, много вещей на себя зимой надеваешь, тяжелее становишься. И в один зимний день – случилось чудо. Вошел в лифт, что-то там внизу щелкнуло, бац – поехал! Один! Ты теперь – большой!
…А потом однажды бабушки не стало, и комната ее «пропала», как тогда говорили…
Я иногда заходил в ее подъезд… вернее, не «подъезд». Бабушка хоть и не жила в Ленинграде, но говорила «парадное»: а всё потому, что и «черный ход» был, на Ленинградку выходил, все были заколочены, но и они были! И я иногда заходил в наше «парадное», просто посмотреть… и, наверное, да: последний раз зашел не тогда, когда повесили на дверь кодовый замок, ну что такое кодовый замок для питомца Северной рабочей окраины, нет… последний раз – когда увидел, что старый лифт поменяли на новый. Надежный, автоматический и скучный. И тогда, наверное, я стал взрослым окончательно. И время стало лететь стремительнее, а пространство – неуклонно сокращаться…
«Ну ты, с Посёлка!» Очерк об истории Водного стадиона
Папенька мой, Михаил Лебедев-старший – коренной водностадионовец, если угодно. В том плане, что он там и родился, и вырос. Причем тогда, когда никакого «Водного стадиона» еще не было. То есть сам-то водный стадион «Динамо» уже существовал, но вот одноименная станция метро открылась только в самом конце 1964 года.
А вот мама Таня – из понаехавших. Понаехавших в хорошем смысле, потому что на «Войковскую» они перебрались с 4-й Тверской-Ямской улицы, в порядке улучшения жилищных условий. Хотя чисто формально – не шибко улучшили, на Войковской тоже въехали в коммуналку, разве что комнат теперь в квартире всего было три, а на Тверской-Ямской – «плюс бесконечность», но не суть.
Да, ну и иногда, как бы желая подчеркнуть свое благородное, столичное происхождение – мама Таня иногда называла папеньку: «Ну ты, с Посёлка!» Ну в шутку, понимаете.
…Да, когда-то давно метро «Водный стадион» еще не было, поэтому местность в округе звалась «Посёлок».
Потому что имелось градообразующее Секретное Предприятие, оно и по сей день существует, но где оно расположено – это я не скажу, кому надо, тот и так знает, а Первые Отделы не дремлют. Существует – и достаточно.
Собственно, вся окружающая жизнь и была подчинена работе Предприятия. В бараках жили рабочие Предприятия, в школу и детский сад ходили дети рабочих Предприятия (и я в него тоже ходил, но много позже уже), в поликлинике они лечились, в магазинах отоваривались, и вся эта выражаясь современным языком «инфраструктура» принадлежала Предприятию.
И всё вместе эта акватория так и называлась – Посёлок.
Потом бараки снесли, наступала Эра Пятиэтажек, кто-то из местных в них и перебрался, кто-то разъехался, прибыли на поселение новые люди, метро опять же выкопалось, и новое имя местности сделалось «Водный».
Но, естественно, ветераны движа хранили и чтили традиции, и слово «Посёлок» в их речи сохранялось.
А впервые я узнал об этом при следующих романтических обстоятельствах.
С Водного мы тогда уже переехали, папенька служил на благо Безопасности Родины и дослужился на этой стезе до известных чинов. Однако кое-какие привычки «поселковых» не забыл и взял в новую жизнь!
Как-то по осени был он отпущен в отпуск, вечно отпуск ему давали в самую слякоть или холод, мы летом все вместе, наверное, раз или два всего отдыхали… короче, дали папеньке отпуск.
А в отпуске он первым делом отпускал бороду, отчего сразу делался похожим на будущего патриарха Кирилла в молодости, у папеньки даже погуще борода бывала, пожалуй.
А вторым делом он отправился прогуляться. И в небезызвестном в нашей местности овощном Подвале обнаружил продажу картофеля. Продовольственная Программа еще не вступила в силу, поэтому папенька разумно решил как следует затовариться корнеплодами на предстоящую зиму. Быстро вернулся домой, переоделся в подходящие процедуре вещи, схватил холщовый мешок и побежал обратно в Подвал.
Ну, какие вещи подходящими ему показались: телогреечка ватная, вещица старинная, цены немалой, бабушкино наследство, еще, кажется, Посёлок эта телогрейка помнила, штаны стеганые, сапоги кирзовые. Шапка если только была новомодная, вязаный «петушок». А так – чисто типичный обитатель Поселка (как я потом узнал).
Закупил папенька мешок картошки (10 коп/1кг), взвалил его на спину – и пошел домой.
А на улице нашей, помимо Подвала – располагалась еще и межрайонная Прокуратура. В силу чего по улице довольно часто прогуливался милицейский патруль из двух человек. Так было и в тот день.
Естественно, у личного состава патруля папенька вызвал самый неподдельный интерес. Ход мысли младших чинов понятен: идет по улице какой-то оборванец, в телогрейке какой-то драной, весь небритый, возможно, что и без определенного места жительства, за спиной мешок – да наверняка спер чего-нибудь!
– Предъявите документы, гражданин!
«Здравствуйте. Документы – это можно. Документы, граждане, в порядке».
Ну да. Внезапно. А с красной книжечки-то смотрит на них то же самое лицо, предположительно без определенного места жительства, только гладко выбритое и с майорскими погонами по бокам, занавес.
Вечером папенька эту историю со смехом маме Тане и мне рассказал, после чего мама Таня воскликнула:
– Да потому что сколько лет прошло, а одеваешься всё так же, как у себя в Посёлке привык!
Собственно, тогда я и узнал, что такое «Посёлок», откуда он взялся и куда потом исчез.
А тому, кто не знал – эту историю сегодня рассказал.
«Пельменная в начале Ленинского»
Когда мне исполнилось 13 лет, а было это в 1986 году – я стал бывать в Москве намного чаще…
Ну в смысле – так-то я и родился в Москве, и жил в ней всегда! Но пока ты маленький, то твоя личная Москва – не очень велика. Школа рядом, спортивная секция тоже. Ты, конечно, бываешь в театрах, музеях, в пионеры тебя на Красной площади принимают – но это, так сказать Москва «центральная», общеизвестная. А тут…
Короче, однажды мама Таня записала меня в математический кружок при Институте Стали и Сплавов. Вел его, кстати, совсем молодой тогда Александр Кириллович Ковальджи, если кто знает, о ком я, ныне он человек весьма значительный. И стал я самостоятельно ездить раз в неделю на метро «Октябрьская», и смотреть на Москву, ранее мне совсем неизвестную. И смотреть на нее широко раскрытыми глазами.
Станция «Октябрьская-кольцевая», кстати, сразу подарила мне одно удивительное открытие. Там же в дальнем конце – как небо голубое! Мама Таня мне так и сказала:
– Представляешь, мне в детстве сказали, что там так голубым светом светится, потому что неба кусочек! И я поверила!
И тут до меня внезапно дошло, что и мама моя тоже когда-то была маленькой девочкой, доверчивым таким ребенком, ну прям как я сам почти, вот как!
Да, но уже со второго раза я стал ездить один, без прикрытия. Причем – с большой охотой, и не только из любви к алгебре и геометрии. Появилась еще одна серьезная причина.
Занимались мы не в новом красивом здании МИСиСа, а в старом, немножко совсем по Ленинскому проспекту от метро пройти, до дома №6. Вот как раз по пути, в доме №4 – и была Пельменная! Прямо с большой буквы.
Запах от нее шел – ослепительный, сумасшедший, прямо пробивался сквозь окна и стены, и на всю улицу, на весь проспект!
А надо же понимать. Тебе 13 лет, ты молодой, растущий организм, и так есть постоянно хочется, а еще едешь обычно после тренировки, ну, пожуешь булку калорийную на ходу – но всё равно: страшно хочется кушать, прямо с большой буквы Ж, Жрать! И вот ты втягиваешь ноздрями этот обволакивающий запах, прямо с ног сбивающий… Но надо спешить: ждет же Александр Кириллович.
А, или не чисто пельменная, а просто точка общепита? Но запах был – точно пельменный!
А еще внутри, через окна заглядываешь, облизываясь – студенты стоят и кушают. И все такие большие, взрослые, невероятно умные. И ты сам – ну вот прямо как Буратино думаешь: «Вырасту, выучусь, поступлю в этот самый МИСиС, буду таким же умным. А главное – стану со стипендии каждый божий день ходить в эту Пельменную, чтоб не только нюхать, но и покушать уже однажды!» Вот такая образовалась Мечта.
Не всё, конечно, в этой жизни складывается так, как мечтается. И в МИСиС я не поступил, но, правда, поступил в другой институт, тоже хороший, Физтех, может, слышали и о таком.
И в Пельменной, верите, нет: я не побывал ни разу. Почти специально.
Запах, запах там ее остался! Много раз затем перепрофилировалось помещение, и под питательные, и под другие нужды – но Запах никуда не делся. Всякий раз, когда случается проходить или проезжать мимо – я его чувствую.
И не только запах. Удивительное место, почти единственное такое. Там всегда такое чувство – что вот ты еще маленький, и все впереди, и есть Мечта, что вот ты вырастешь, и непременно все сбудется, что ты захочешь. И мама твоя – тоже молодая, и вы вместе верите, что внизу, на «Октябрьской-кольцевой» – маленький, но кусочек самого настоящего голубого неба…
«Троллейбус 56»
Да, есть такой маршрут в Москве, и ходил он когда-то от Белорусского вокзала и до улицы Базовской. Где находится Белорусский вокзал – знают все. Где находится Базовская улица – знаем только мы, ветераны Северной рабочей окраины. Названа была улица в честь многочисленных, понятное дело, баз и прочих складов, некогда там расположенных, страшное было место, страшное и интересное! Но сейчас там новый район.
Было у Базовской улицы и своё сакральное значение. Там неподалеку располагается прославленное СПТУ-145, о котором…
«Пойдешь в ПТУ!» – кто из хороших учеников советского времени хотя бы раз не услышал от учителей подобной оценки своих умственных способностей? Только самые лучшие из нас.
Так вот. На нашей Северной рабочей окраине «Пойдешь в ПТУ!» – имелось в виду не абстрактное профессионально-техническое училище, а вот именно конкретное и то самое, под номером 145, что неподалеку от Базовской. Такая, значит, имелась репутация у этого богоугодного заведения, что следующая ступень – или в места лишения свободы, или под забор и спиться, а другого пути у его питомцев нет.
На самом деле – слухи, как водится, были слегка преувеличены. Вот лучший мой друг детства Олег Юрьевич – и поступил, и закончил, и ничего. Нет, много, конечно, интересного рассказывал, и да, хлюпикам там не место, и недаром там поблизости еще предусмотрительно и Школа Милиции расположена, но хлюпиком Олег Юрьевич и не был никогда.
Это вступительная лирика, теперь действительная часть.
До поры до времени пользоваться услугами Троллейбуса 56 мне лично доводилось редко. Для связи с Большой Землей у нас использовались автобусы 194 и 672, шедшие экспрессом до «Новослободской». Но затем однажды я поступил в ученики к Великому тренеру Дмитрию Владимировичу Серпорезюку, в клуб самбо имени Латышева, который располагался в местности «У Комсомольца». Тут-то и понадобился Троллейбус 56, потому что автобусы пролетали к/т «Комсомолец» без остановки, а рогатая машина шла, разумеется, «со всеми». И вот однажды…
И вот однажды иду я к остановке, а у нас там существует такой критический отрезок пути, когда остановку уже видно, но если именно в этот момент подъезжает автобус или троллейбус – то тебе на него даже с твоей феноменальной стартовой скоростью бега не успеть никак. Печаль, потому что опаздывать к Дмитрию Владимировичу на разминочную медитацию никак нельзя, а ждать следующего троллейбуса можно довольно долго. И вот, значит, иду я, смотрю, как подъехал Троллейбус 56, еще разглядел, что стоит на задней площадки еще один питомец нашего клуба, хороший парень. Звали его… как звали не помню, потому что фамилия ему была Заремба, и после выхода на широкие экраны кинокартины «Рэмбо. Первая кровь» его, самой собой, иначе как «Рэмбо» никто не звал, и своего истинного имени он, возможно, и сам не помнил.
И вот, значит, иду, печалюсь – и вдруг замечаю, что Троллейбус стоит по-прежнему. И двери открыты. И стоит. Хотя «рога» на проводах, то есть, вроде не сломался. Чуть ускоряюсь – стоит. Перехожу на бег, ну и стараюсь попасть в поле зеркала заднего вида, вдруг меня заметят и подождут.
Тут необходимо отметить, что водители автобусов у нас на «Селигерской» (тогда еще просто остановка, а не метро) не ждали никого и никогда. Да и что ждать, если они обычно битком набитые уходили, это еще бывало, что не все влезут, чего ждать-то!
А вот троллейбусы – их ведь часто женщины пилотировали, ну и да, иногда именно водительницы проявляли такую сердечную любезность, дожидались спешащих пассажиров. Иногда даже повторно открывали уже закрытые двери! Но, правда, только в том случае, если было четко видно, что пассажир действительно спешил, а не шел вразвалочку, а то каждого ждать – до Белорусского вокзала не доедешь и до конца смены.
Короче, включаю первую космическую, параллельно размахивая сумкой, чтоб лучше меня видно в зеркало, что я есть, и да, я очень спешу, влетаю в раскрытую дверь, и да, всё так: и Рэмбо, и водительница. Но не это главное.
Касса оборвалась! Ну да, где билетики брать, вот эта нижняя часть, куда деньги все ссыпаются – она, в принципе, на соплях держится, и вот оборвалась проволочка с пломбой. Весь пол в мелочи! Оказывается, если мешочек с деньгами рассыпать – они всю заднюю площадку могут покрыть.
«Это же Клондайк, Эльдорадо!» Мультфильм «Золотая Антилопа»! И Рэмбо с водительницей сидят на корточках и всё это богатство обратно собирают.
Был ли соблазн спереть немножко? Нет, конечно. Мы же были пионеры! Понимали, что водительница наверняка еще и материально ответственная.
Только Рэмбо под конец сказал:
– Ой, тётя! Тут двадцать копеек «юбилейные», а я их собираю. Можно я себе оставлю? А я свои двадцать положу!
– Да бери так, мальчик. Спасибо, что помогли, а то я и так из графика выбилась, сейчас гнать придется, а то нас ругают за это сильно, даже оштрафовать могут за опоздание.
Чёрт, а мне вот «юбилейная» не попалась. Если можно, то я бы взял, конечно!
Да, видать тогда я и исчерпал свою финансовую удачу, отпущенную свыше. Во всяком случае, сразу столько денег в руках я еще очень долго потом не держал!
Но не это главное.
Главное, во-первых – что мы успели на разминочную медитацию. Потому что тетя-водитель погнала довольно лихо. И даже проехала без остановки «Цветметавтоматика», заметив, что на остановке никого нет, и никто не выходит, тогда это еще не было мэйнстримом.
Ну и конечно – зато на память осталась отличная история, которую я часто вспоминал, глядя на Троллейбус 56, и еще Рэмбо, и тетку-водительницу, прям Шумахером себя показала!
Вот такая простая история. И только троллейбусов в Москве скоро не будет совсем.
«Школа №186. Буденовка и Евдокия Васильевна»
Да, у меня в детстве, как и у многих – была такая шапка-буденовка. И я ей вполне гордился, собственно, и сейчас горжусь.
Более того: то вариант «летний», а у меня и зимний еще имелся, и им я гордился еще больше, потому что такого точно ни у кого не было! Ну или мало у кого. (Я знаю, что это не совсем «буденовка», а общевойсковой, так сказать, шлем, но во дворе его называли именно так – прим.авт.)
Происхождение зимнего головного убора следующее: имелась у мамы Тани добрая знакомая, занимавшаяся индпошивом, помимо основной работы, она-то по заявке и изготовила отличный «самострок». Точнее, «самовяз», шапка была вязаная. Ну то есть – не прям в точности по лекалам Семена Михайловича и художника Виктора Васнецова, но вполне узнаваемая форма, и со «шпилем» наверху, и с вот этими широкими штуками внизу. Молодежь сейчас носит «снуды», и думает, поди, что это недавно придумали. Ничего подобного: если мою буденовку застегнуть, снизу как раз получался почти «снуд»: и модно, и тепло.
Правда, сама буденовка была белого цвета, только «снуд» был синий, но форма важнее цвета. Во всяком случае, при играх в войнушку при делении на «наших и фашистов», кто тут точно «наш» – вопросов не возникало. Очень, очень полезный был головной убор.
Но однажды буденовка сослужила мне дурную службу. Точнее, сначала дурную, но затем все обернулось как нельзя лучше, слушайте.
Долго ли коротко ли, однажды я вырос и пошел в первый класс. И вот однажды, уже ближе к зиме – родители все-таки решились определить меня на «продленку».
На продленке мне дико не нравилось (поднимите руки те, кому нравилось).
Во-первых и в-главных…
Вообще, свою первую учительницу Полину Алексеевну, скажу честно, я не очень любил. Как-то она не очень вязалась с общепринятым образом «Учительница первая моя», но сами понимаете – сорок лет педагогической практики, особенно на Северной рабочей окраине, испортят любой характер. Вот в третьем классе, когда Полина Алексеевна вышла на заслуженный отдых, а нам прислали Ольгу Дмитриевну – вот это был совсем другой разговор! Только после педучилища, не замужем, и на лицо, и на фигуру пригожа, и ножки, и грудь – это даже третьекласснику было понятно!
Да, так вот продленку вела назовем ее условно Мегера Сергеевна, и на ее фоне сразу стало ясно, что Полина Алексеевна – это практически мать Тереза, и отношение к ней тут же резко улучшилось. Но с продленкой – всё равно надо было что-то делать…
…И трудилась в нашей школе замечательный человек, Евдокия Васильевна. Видите, сорок лет прошло – а я ее помню. Не о каждом такое скажешь.
Язык не повернется назвать ее «уборщицей» или «нянечкой» – «Директор по чистоте», никак не меньше!
Среди прочих, две важных миссии исполняла Евдокия Васильевна.
Первая – утром присутствовать на входе в школу и зорко наблюдать наличие «сменки». То есть, для этого на вход обязательно ставились двое крепких учеников дежурного класса, но их еще можно было как-то уговорить, уболтать, шантажом и угрозами, но проскочить, то мимо Евдокии, если она подходила на усиление контроля – не проходил никто. Складывалось полное ощущение, что если, к примеру, «сменку» забыл бы сам директор школы Григорий Павлович – она бы и его развернула и отправила домой. «Забыл», «потерял», «перевесили», «украли», «мне только спросить» – аргументы ничтожные от слова о-малое.
Вторая миссия была обратна первой: на переменах Евдокия Васильевна стояла у дверей школы насмерть и не выпускала никого, ни по какому поводу: ни покурить, ни «мне к врачу», ни «я заболел, температура 40» – НИ-КО-ГО. Даже если бы заболел директор Григорий Павлович – сначала в медкабинет, к Татьяне Яковлевне, и пусть Татьяна Яковлевна лично подойдет и подтвердит. Или – жди звонка с четвертого урока.
Пришла зима, и обе линии повествования счастливо сошлись в «Эпизод 3. Миссия невыполнима».
Да, была зима, снег еще такой густой валил, тогда зима в Москве была не как сейчас!
И продленка наша долго гуляла, а потом мы пошли обратно в школу.
– Отряхни шапку от снега! – строго сказала Евдокия Васильевна одному из учеников.
Он отряхнул.
– Отряхни шапку от снега как следует!
Отряхнул еще раз.
– Отряхни нормально, кому говорят!
Шапка-то белая, напомню, что есть важнейшая художественная деталь. А Евдокия Васильевна старенькая уже, подслеповатая.
– ОТРЯХНИ СНЕГ С ШАПКИ!!!
Так они и стояли друг против друга. Причем один из них всё сильнее понимал свое безвыходное положение, а уж о том, какие меры социальной защиты применялись Мегерой Сергеевной к опаздывающим… «И живые позавидуют мертвым».
К счастью, тут подошел мой старший товарищ Тасик, который сходу (в отличие от меня) понял, в чем суть вопроса. После чего выдал мне свой «петушок», а сам проследовал внутрь и вовсе без шапки. Все-таки Тасик был старше и намного умнее, и вообще, и в житейских вопросах в частности.
Ну а я – длительное пребывание на свежем воздухе в состоянии эмоционального всплеска вылилось в ОРЗ, так что тот день, к большому облегчению, стал моим последним «продленным».
А там и весна пришла.
Ну а на следующий год – была куплена уже нормальная, пацанская шерстяная шапка-«петушок».
«Семен Михайлович Буденный скакал на рыжем кобыле…», как пелось в одной хорошей песне нашего детства. Вот такая простая история.
PS. Кстати говоря. Наша школа сравнительно новая, семидесятых годов, и номер 186 ей достался «по наследству», от одной из старых московских. Так вот: «первая» школа №186 располагалась на Большом Каретном, да, да, конечно, именно в ней и учился Владимир Высоцкий. Так что номер не простой, а «с репутацией». Но об этом – уже в другой раз.
«Славик»
Когда в 1979 году мы переехали в Бескудниково…
На самом деле наш район нынче именуется «Западное Дегунино», но тогда особо подробного деления не было. Большинство москвичей полагали, что Бескудниково – это такая московская дыра, куда не то что метро не ходит, но и автобусы с троллейбусами заворачивают редко и крайне неохотно. Да мы и сами, откровенно говоря, после долгого проживания в минуте ходьбы от «Водного стадиона» – считали именно так…
Одна из частей Бескудникова с давних пор зовется «Девятый квартал», или попросту «Девятый». История не сохранила информацию о кварталах с первого по восьмой, и существуют ли кварталы с номерами 10 и выше – науке неизвестно. Повезло именно Девятому: в честь него была названа остановка общественного транспорта. Так и повелось в речи аборигенов: Девятый да Девятый. Скорее даже, «Девятый» – это не квартал целиком, а остановка и небольшой пятачок с магазинами в цокольном этаже двенадцатиэтажной «башни».
Теперь сама история.
Был жаркий августовский вечер, а год был 1980-й или 81-й (сегодня трудно поверить, но когда-то в Москве случались жаркие августовские вечера!) И вот возвращается мама Таня с работы и рассказывает нам с папенькой следующую историю:
– Слушайте, мужики. Вышла я сегодня на Девятом, смотрю – бочку с квасом привезли. Народу – тьма! (ну да, жарко же – прим.авт.) Я подошла, смотрю – Валька из пятого дома стоит. Я прикинула – успею я до дома за банкой трехлитровой сбегать, пока ее очередь подойдет, или не успею…
А в начале очереди – какой-то шум. Я сперва подумала – кто-то без очереди пытается пролезть… а потом оказалось: ровно наоборот!
– Как это ровно наоборот? – удивились мы с папенькой.
– А вот так. В общем, стоит такая бабушка, вся культурная, и ее буквально всей толпой уговаривают без очереди взять. А она – ни в какую. И тогда какой-то мужик её чуть ни в охапку сгреб и к бочке переставил. И сказал: «Мать, ну ты что! Такого внука вырастила – неужто мы не пропустим!» А она еще смущенно так: «Ну просто Славик позвонил, сказал, заскочит, а его редко сейчас отпускают, а он когда приезжает, всегда кричит: бабуль, кваску бы!» Короче, я так поняла, что Славик этот у нее – не то футболист, не то хоккеист какой-то, чуть не за Сборную играет… И фамилия у него, только я не поняла, вроде на «Ф»…
Мама Таня у нас, конечно, Петров-Михайлов-Харламов и Шалимов-Шадрин-Якушев знала, но не более.
– Фетисов что ль?! – изумленным хором воскликнули мы с папенькой.
– О, точно: Фетисов! А что, правда известный хоккеист?
Ну тут мы с папенькой, хоть и были с детства топовыми поклонниками «Спартака», улыбнулись:
– Ну да. В общем, немножко известный, прямо скажем!
Так мы поняли, что не такая уж наше Бескудниково и дыра, раз тут проживают и бабушка Вячеслава Фетисова, и приятные, отзывчивые люди, любящие хоккей, как и мы. Короче говоря – будем жить!
PS. На маленьком островке суши между Дмитровским, Коровинским и улицей Селигерской издревле стояла хоккейная коробка. Намоленное место. Когда прошлым летом там затеяли очередную «точечную застройку», я очень переживал, не снесут ли… Но, к счастью, коробка уцелела. Просто всякий раз проходя мимо нее, я задумывался: уж не тут ли делал первые шаги в Большой Хоккей «Славик», сыгравший, между прочим, и один матч в составе «Спартака»! В общем, если у кого есть авторитетная информация – прошу поделиться.
«Голубятня в Ховрино»
Эпиграф. «А ты знаешь, что я твоим голубям
все бошки начисто поотрубала?..»( х/ф «Любовь и голуби»)
Голубятня – это такой атрибут старой Москвы, пережиток прошлого в хорошем смысле слова! Уж не знаю, остаются ли среди них реально действующие, но сами будочки стоят, держатся.
Старший сынок тогда еще совсем маленьким был, но спросил:
– Пап, это что такое?
Разъяснил ребенку, как умел, после чего последовал новый вопрос:
– А чего ее не сносят?!
Дети двадцать первого века! Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а что в Москве всё положено сносить – уже в материале!
Оттого не сносят, сынок, что на месте голубятни затруднительно пока все-таки построить дом на сто тысяч квартир, или торговый центр сходной площади – а так, кому она нужна. Вот и стоит себе спокойно.
У нас на Моссельмаше в начале 80-х была голубятня, и точно в рабочем состоянии. Как раз с кухни из окна было хорошо видно, как кто-то на голубятне стоит, руками знаки подает, а голуби нарезают круги над территорией будущего МО «Западное Дегунино». Я так не особо по малости лет проникался, в чем там особое удовольствие, но… с пониманием относился. Ведь с точки зрения нормальных людей, мы, болельщики футбола – тоже непонятно кто: сначала смотрят, как двадцать два потных мужика борются за один мяч, потом орут «Спартак – Чемпион!», потом неумеренно употребляют алкоголь и прочие деструктивные «активности».
А потом я прочитал книжку одну… Скорее всего, то была «Отрочество архитектора Найденова» Бориса Ряховского, как раз про «голубятников», это потом уже Сергей Соловьев «Чужая белая и рябой» снял по ней, но кино тогда еще не было, но в какой-то мере проникся. И «наш» голубятник рисовался тоже таким примерно: в тельняшке и кепке, с беломориной и выбитым зубом, как у хоккеиста А.Овечкина, чтоб свистеть сподручней, ну и так далее.
А потом перебрались в Ховрино, и тоже обнаружилась у нас голубятня под окнами. И, как можно было иногда наблюдать – некий мужик в нее иногда залезал. Голубей, правда, особо видно не было, но, во всяком случае, мужик имелся.
А потом мы купили новую машину, а через неделю ее угнали.
Но не до конца. Главное, я еще подумал – это чья же такая опять сигнализация орет, четыре утра, самый сон, тем более, опять только ребенка укачали… оказалась, наша орет!
Не до конца, потому что сигнализация – ерунда, у меня там еще одна «приблуда» стояла, которую ставил мне друг детства Олег Юрьевич, вернее, по его указанию – его же сосед по гаражу, классический такой пожилой алкаш-«золотые руки» и, возможно, тоже бывший голубятник.
Короче, не угнали, а по итогу только замок зажигания поломали, но это пустяк.
Это я к чему. Всё в этом лучшем из миров как правило случается не просто так. Встал вопрос о более надежном месте хранения транспортного средства, нежели просто «под окном». Я обошел окрестности и быстро нашел стоянку, так-то там «ракушки», но имелась площадка небольшая, и сторожа за долю малую ставили там железных коней.
Быстро ударили по рукам.
Сторожа у нас были замечательные. Звали их Мишка, Женька и Славка, а четвертого забыл уже, но тоже в лучших традициях русской интеллигенции, «поколения дворников и сторожей».
Так-то ты каждый день одного из них видишь, сутки же через трое, но однажды я застал Славку и Женьку вместе, причем обсуждали они некоего «Художника» и его пошатнувшуюся трудовую дисциплину.
О чем-то уже смутно догадываясь, я спросил, кто такой «Художник», и отчего столь нелестные эпитеты звучат в его адрес.
– Да Мишка наш! А ты не знал?
Не, не знал. Короче, оказался и впрямь художник, пишет, выставляется по каким-то полуподпольным лесным вернисажам…
Спустя какое-то время обнаружилось, что и сторож Евгений не чурается тайных восточных духовных практик и прочей эзотерики. Вспомнилось бессмертное:
«Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Окрепнуть морально и физически. Припасть к живительным истокам… А тут?! Какие-то дзенбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения!» (С.Довлатов, «Компромисс»)
В общем, через какой-то еще временной отрезок уже не оказалось большим сюрпризом то, что голубятник, который ходит в нашу голубятню и сторож Слава – это одно и то же историческое лицо! Да там и идти было – две минуты.
Стоило, конечно, поподробнее расспросить Славку, как оно вообще сейчас с делом голубеводства в Москве… Но утром же приходишь – на работу быстрей, вечером возвращаешься – устал, не до того, в другой раз, не его смена…
А потом как-то внезапно начали прокладывать Клинский проезд, и стоянку быстро сломали. Вернее, часть передвинули, но исчезла свободная площадь, и сторожам там сделалось нерентабельно. И больше я никого из них и не видел ни разу…
А потом в процессе сноса ХЗБ (Ховринская Заброшенная Больница – прим.авт.) и «ракушки» досносили окончательно.
Но вот голубятня осталась. И пока стоит. Как атрибут старой Москвы и пережиток прошлого в хорошем смысле слова.
Книжный магазин «Недра»
Да, существовал и такой в Москве! Не такой знаменитый, конечно, как «Дом Книги» на Новом Арбате, ну или «Москва» на Тверской, тогда еще улице Горького – ну так и расположен он был не в центре, а у нас на Северной рабочей окраине. И, в общем, пользовался он заслуженной популярностью среди читающей прослойки местного населения. Имелись у «Недр» свои неоспоримые достоинства. Ну во-первых…
Да, так располагались «Недра» на Коровинском шоссе, как сказали бы юные герои «Кондуита и Швамбрании» – на самом краю географии. Причем практически уже в конце обитаемой его части, далее из социально значимых объектов наблюдались лишь прославленное СПТУ-145 и Школа Милиции, а там уже промзона, ТЭЦ-21 и Кольцевая. То есть, при поездке в «Недра» надо было ехать ОТ центра, что для нас, ветеранов движа – большая редкость. Так что попадая на излет Коровинского, в голову приходила та разумная мысль, что мы имеем счастье проживать еще не в самой черной московской дыре, есть дыры и почернее.
Запах, неповторимый запах книжного магазина! Вот он в «Недрах» присутствовал в самой нужной концентрации.
В детстве я очень любил читать, да, собственно, я и до сих пор люблю. Просто сейчас, попадая в книжный – возникает периодически то ощущение, что все стоящие книжки ты уже прочел, а от современных авторов ждать каких-то особенных сюрпризов не приходится. Настолько, что иной раз, скрипя сердцем, приходится самому браться за перо для описания людей и событий, которые стоят того, чтобы быть описанными, но никто этого толком сделать не может.
А в детстве – всё гораздо лучше, ты же всех этих вкусно пахнущих книжек еще не читал! Вот это волшебное чувство, когда берешь аккуратно книжку, аккуратно раскрываешь, смотришь, что там… причем на любую тему, и художественную, и научную. Я в этом плане был как мой тезка Мишка из «Веселой семейки» Носова, который однажды приобрел издание ««Обратные тригонометрические функции и полиномы Чебышева», я тоже всё подряд готов был читать, ну или по крайней мере – рассмотреть внимательно. Ведь когда-нибудь ты вырастешь, поумнеешь и обязательно поймешь, про что идет речь в данной умной книжке!
А еще у книжного магазина в моих глазах имелся вот какой плюс. В нашем родном «Кругозоре» на Ленинградке, помимо собственно книг, присутствовал еще и отдел грампластинок, и, пожалуй, половина самых любимых пластинок детства, включая «Бременских музыкантов», ясное дело – половина минимум была куплена как раз в «Кругозоре». В «Недрах», честно сказать, я пластиночного отдела не помню – но на генетическом уровне сохранялось: книжный – это не только собственно книги, но и отличные пластинки!
Название еще очень нравилось. При всей, так сказать, исконности слова – очень загадочно, даже прям по-заграничному звучит, если прислушаться: «Недра». Прям Nedra. Типа кроссовок Adidas или хоккейных клюшек Jofa, типа того. (На самом деле название связано с тем, что это был профильный книжный по теме геологии и прочего горнодобывающего дела, отсюда и «Недра» – прим.ред.)
И еще были два плюсика у «Недр», непосредственно с книгочитанием не связанных, но тем не менее.
Рядом с ними располагалось ближайшее к нам фотоателье. Так-то у меня отец сам хорошо фотографировал, и печатал тоже сам. Но периодически ведь требовались и официальные, так сказать, снимки, с уголком там, «ну, шесть на девять». И первый раз меня отвезли в это фотоателье, когда прошел отбор в секцию плавания стадиона «Динамо», соответственно, срочно потребовалось фото на пропуск. И меня отвезли как раз в то фотоателье, и гордо так сидишь там на стульчике, позируешь, гордо, ну конечно! Много кого не приняли, некоторые даже утонули прямо во время творческого конкурса, а ты – выплыл, тебя – приняли! Ну и потом еще в «Недра» зашли, и какую-то интересную книжку купили. В плавание на «Динамо», правда, я в итоге проходил чуть больше месяца, а потом тоже утонул сильно простыл, ну и закончилось всё – но добрая память про фотоателье осталась. Тем более, что чуть позже, когда в пионеры принимали – тоже нужны были «строгие» фото, и тоже – гордо. Тебя же в «первом потоке» принимают, в Музее Ленина!
А еще – там же поблизости имелась такая архитектурная деталь, которая меня привела в полный восторг и зависть, собственно, и сейчас приводит. Там между двумя домами имелись такие общие балконы-переходы. Ух ты, вот это здорово! Интересно, а они какому дому принадлежат? Или, наверное, напополам? А есть ли между ними проход? Вырасту – обязательно перееду жить в такой дом, и чтоб друг твой лучший жил рядом. И тогда – можно будет ходить друг к другу в гости прямо не выходя на улицу, ну замечательно же!
Да, вот сколько радостей сулили «Недра», сколько полезных ископаемых в этих самых недрах таилось, в чем-то неспроста их название – и книжки, и фотоателье, и балкон! А казалось бы – ну, обычный с виду книжный магазин, на самом конце географии, на краю Северной рабочей окраины…
И до сих пор читающие ветераны движа, если им потребуется описать эту точку пространства, непременно скажут: «Ну там, где Недра!»
«Книга – твой друг. Береги Книгу!»
«АРЗ-9. История одного завода»
Объезжая тут как-то заповедные уголки Северной рабочей окраины, из тех, что не на виду – с болью в сердце обнаружил, что нет больше на карте столицы завода АРЗ-9 (АвтоРемонтный Завод №9). И что скоро на его месте вознесется очередной ЖК на 146 этажей от Застройщика… (здесь могла быть ваша реклама), двор без машин, ипотека и рассрочка, все дела…
«Да подумаешь! – скажет кто-то, – Вон, целый ЗИЛ снесли, красу и гордость, символ Эпохи, а тут – какой-то авторемонтный заводишко».
Ну да. Но ЗИЛ – общенародное достояние. А АРЗ-9 – наше личное. Слушайте, и вы поймете почему.
Вообще говоря, лучшим местом для прогулок и приключений у нас был Третий Автокомбинат. Там была «любовь с интересом»: «Трёшка» обслуживала, среди прочего, туристические маршруты по Москве и Золотому кольцу, имела в своем составе красивые «Икарусы», а в «Икарусах» этих иностранные туристы иногда оставляли за собой мусор в виде банок из-под пива, а пивная банка для советского школьника – это была большая ценность! И на «Трешке» этими банками вполне можно было разжиться. Но «Трешка» была далеко, а АРЗ-9 – рядом. И полазить там по стоящим на «вечном приколе» грузовикам и автобусам, а подобное маленькое «кладбище» имелось при любом автопредприятии – тоже было Приключение! Там же столько всего интересного можно увидеть, скрутить да свинтить!
Но потом мы немножко повзрослели, и однажды…
Однажды, в шестом классе, вместо урока труда – отправились мы туда типа «на практику». Не УПК еще, но что-то уже приближенное к реальной будущей жизни.
Больше всего, конечно, юным экскурсантам понравился автомат с бесплатной газированной водой! Стакан, правда, отсутствовал, по причинам, о которых мы уже догадывались – но препятствием для того, чтоб вдоволь испить «шипучки» это не стало. А также облиться и обрызгаться с головы до ног. Хотя это и не было главной целью визита.
Потому что затем мы прошли в специальное помещение и там, под руководством одного из специалистов предприятия, освоили «скрутку» спидометра от ЗИЛа (точнее «одометра» – прим.авт.) , где ЗИЛ – уже автомобиль, а не завод. Ну то есть – натурально: разобрали, как нам было показано, покрутили вот эти колесики, поставили все на «0», собрали обратно. А затем еще надо было воткнуть устройство на специальный стенд, рядом с откалиброванным, ну и если стрелка твоего спидометра при включении колышется в такт с образцом – молодец, это «пятерка»!
Мой работал! Нас таких половина оказалась рукастых! До сих пор ума не приложу, зачем там нужно было столько обновленных спидометров, но не суть. Главное, с того дня я спокоен: случись в этой жизни что, уже где-нибудь под вывеской «Скрутим пробег!» на кусок хлеба я всегда себе заработаю…
Долго ли коротко ли, а настало время ответного визита. И уже к нам на урок труда пожаловал один из сотрудников АРЗ-9. Причем первое впечатление было таково, что если кто и утаскивает из автомата с газировкой стакан – то перед нами первый подозреваемый. Впечатление, однако, оказалось в чем-то ложным.
Сперва заморский гость долго и нудно информировал нас о назначении некоего «пальца», о его миссии в бесперебойной работе одного из грузовых автомобилей. А затем, подкрепляя теорию практикой, было предложено нужного сорта резьбу на этом пальце нарезать. Ну, не сейчас, а после его ухода, в качестве «дополнительного упражнения». Там на самом деле ничего сложного нет, но нужна аккуратность и точность, все-таки не на выставочную полочку подле мастерских «Ими гордится Школа!», а в настоящий автомобиль пойдет.
Тут народ немножко загрустил, но наш Учитель (с большой буквы) Труда, святой человек Александр Васильевич Кузнецов после занятия собрал всех рукастых и сказал без обиняков, как ему и было свойственно:
– Делайте нормально, не как руками из жопы растут. Светит такая тема, что заплатят вам реальных денег. По расценкам РАБИСа, конечно, но все-таки…
Мы, конечно, информацию восприняли с недоверием. Но Александр Васильевич не зря был рукоположен в районные методисты по своему предмету и вообще имел репутацию человека, который слова на ветер бросает крайне редко.
Потому что «пальцы» в нужном количестве были нарезаны, замерены штангенциркулем со всей тщательностью, а потом куда-то отправлены. А потом прошел месяц, пришла Весна, и как-то все позабыли, а потом…
А потом однажды пришла в школу натуральная ведомость, с печатью АРЗ-9, пахнущая машинным маслом, бензином и ветошью для протирки. Таким-то и таким-то – зайти в канцелярию, расписаться и получить, исходя из качества и количества выполненных слесарных работ.
Шесть рублей с копейками. Две мятых трешки и горстка мелочи. Ну, в принципе, для шестиклассника времен Перестройки и Гласности… но дело не в сумме, конечно.
«Что остается от песенки, когда ее спели?» Что остается от детства, когда оно условно заканчивается?
Первый настоящий друг, первый класс, первая учительница, первый глоток портвейна все с тем же первым настоящим другом, первая затяжка, первый поцелуй, ну куда ж без него… и первые настоящие деньги, которые ты заработал собственными руками. Первые. Самые настоящие.
Да, а АРЗ-9 теперь уже совсем, окончательно – нет на этой земле. Да и много чего и кого уже нет… «Но мы-то помним!»
«Новослободская»: как я чуть Родину не предал
«Новослободская» для меня – станция детства, так сказать. И я бывал на ней чаще, чем на любой другой. Но не потому, что мы там жили, а потому что автобусы из нашего Бескудникова приезжали на «Новослободскую», другого метро ближе не было. Соответственно, несколько «тёплых ламповых» историй на эту тему, и эта условно первая.
Станция «Новослободская», как всем прекрасно известно – одна из красивейших станций московского метрополитена. Немудрено, что и в незапамятные уже времена – для иностранных туристов именно «Новослободская», наряду с «Маяковской», была обязательный пункт «подземной программы». Неизменно интуристы с интересом рассматривали витражи, фотографировали их, цокали языками от восхищения – а потом писали в своих отчетах в соцсетях примерно так: «Novoslobodskaya station is really must see! It’s amazing and wonderful! Что касаемо самих аборигенов, то есть, русских – сами moskvichi на фоне всей этой красоты смотрятся особенно угрюмо…»
А, не было тогда еще соцсетей… но смысл тот же.
Насчет красот – всё верно. Насчет угрюмости москвичей – не очень. Правильнее было бы сказать – «сосредоточены и собраны». А всё дело в том, что «Новослободская» с чисто транспортной точки зрения – на какое-то время осталась последней станцией Кольцевой ветки, не имевшей своей «радиальной». Так что огромный район Москвы, и Дмитровское с Коровинским шоссе, и то, что называли общим словом «Бескудниково», и еще ряд местностей и «локаций» – все, все их жители так или иначе прибывали на «Новослободскую». Многие – протрясясь в битком набитом автобусе не менее получаса, а то и больше. Немудрено, что некоторая многолюдность наблюдалась на «Новослободской» постоянно, а пассажиры – волей-неволей имели вид собранный и сосредоточенный.
…И жил как раз в транспортном бассейне «Новослободской» один юный москвич. И была у него Мечта…
Конечно, в детстве различных мечт у каждого много, но среди прочих имелась и такая, на первый взгляд незатейливая: получить однажды вязаную шерстяную шапку, в просторечии именуемую «петушок».
А всё дело в том, что бытовало на их Северной рабочей окраине такое поверье, что ли… или традиция… Короче, кроличья шапка-ушанка – считалась в чем-то атрибутом совсем юных несмышленышей. Детей. А настоящий пацан – должен был ходить в шерстяной. С детей – какой спрос, а пацана уже можно попросить ответить на ряд системообразующих вопросов: «С какого-то ты, пацан, микрорайона, что здесь так смело гуляешь?», «За какой спортивный клуб ты, пацан, болеешь?» «Знаешь ли ты, пацан, Серого и Лысого?» То есть, шерстяная шапка – это был некий знак перехода на новую возрастную ступень, определенный авторитет, готовность отвечать за свои слова и поведение.
И однажды Мечта – сбылась. Мама Таня, конечно, долго упиралась на тему «Она же насквозь продувается, простынешь сразу, а тут ушки опустил, тесемочки завязал – и голове тепло!», но однажды шапка была куплена. По знакомству, у какой-то полуподпольной вязальщицы, за целых 10 рублей, и не просто обычная «Лыжня России-1982», а синяя, с белыми звездами, красным отворотом и надписью USA. Круче была бы только чисто красно-белая и с надписью «Спартак Чемпион!» или, к примеру, «Iron Maiden», но совсем начинающему пацану ходить в такой было бы уж слишком рискованно.
Но и без того: о качестве шапки убедительно свидетельствует тот факт, что в первую же зиму ее трижды пытались с юного москвича снять молодые жители других микрорайонов. Причем если в первых двух случаях удалось справиться своими силами, то в третий – пришлось прибегнуть к недостойному в чем-то приему. Оповестить претендентов на головной убор, что его текущий обладатель – проживает в одном подъезде с самим Тасиком Сорокиным, и если что…
Ну это да. Вся округа хорошо знала, что Тасик бьет на самом деле крайне, крайне редко, но если уж доходит до этой крайности – то бьет он всегда ровно один раз, после чего оппонента неизменно уносят на носилках. Конечно, призывать на помощь «брата, кума и свата», а также авторитет старших товарищей – в какой-то мере было «не комильфо», но не возвращаться же было домой с непокрытой головою! А информация о соседстве с Тасиком возымела должное действие.
В хорошей истории все линии повествования неизменно сходятся в одну пространственно-временную точку – и сейчас именно это и произойдет.
Однажды привычно шел юный москвич по станции «Новослободская», а интуристы восторженно фотографировали архитектурные детали, и юный москвич даже любезно ускорился, чтоб не загораживать их собой. Щёлк, щёлк, еще вспышка. И вроде москвич отошел уже далеко, а как будто все равно вспыхивает прямо в лицо ему…
И тут страшная мысль буквально пронзила его молодые мозги. Шапка! Это его самого фотографируют интуристы! Среди которых, возможно, находятся и представители стран блока НАТО и вообще вероятного противника… а у него на башке – буквы USA!
И тут же представились москвичу заголовки завтрашней империалистической прессы, какой-нибудь «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс»:
«Несмотря на самый разгар холодной войны, московские школьники практически не таясь демонстрируют свою приверженность идеалам свободы и демократии…»
«Невзирая на все усилия коммунистической пропаганды, бесстрашные юные москвичи с гордостью показывают свое стремление к светлому капиталистическому будущему…»
И тому подобное.
(голосом Данилы Багрова из к/ф «Брат-2») Зря вы так. Я Родину люблю…
Да, это на Северной рабочей окраине – и в самом деле круто. Но то – как бы наши внутренние дела и разборки. Кто за Спартак, а кто за ЦСКА. Кто за «итальянцев», а кто за «хэви метал». А тут – внешняя политика. Тут совсем другой разговор. Тут – да практически измена Родине!
Решение созрело мгновенно: тут же сорвал с себя юный москвич шапку и засунул в карман. И победоносно поглядел на интуристов. И даже показал им нечто вроде «среднего пальца», только жест этот тогда еще не был широко известен. «Накося-выкуси! Русские не сдаются!»
И опустили в печали свои объективы интуристы. Их можно было понять: такой пропагандистский материал сорвался, такой ведь «хайп» можно было поднять, такой «холивар» учинить… ан нет.
И неизменно с того дня москвич снимал в метро свою крутую шапку…
Прошло много-много лет. И страна стала совсем другая, и иные идеалы восторжествовали, и «Новослободская» обрела долгожданную пересадку и помощь в лице «Серой ветки». Неизменно одно: по-прежнему она – одна из самых красивых станций, и по-прежнему много на ней любопытствующих иностранных граждан. И глядя на них – бывший юный москвич, пусть и давно уже не юн, но все равно вспоминает давнюю историю. Вспоминает – и улыбается.
«Эстакада на Фестивальной, Часть 1. Дао погруз-разгруза»
Возведение «платной Ленинградки» и входящей в ее состав эстакады радикально изменило не только транспортную ситуацию на Северной рабочей окраине, но и, не побоюсь этого слова, ее богатый внутренний мир. В частности, нарушено было плавное течение улицы Зеленоградской, ставшей мне родной за 15 лет на ней проживания, и теперь она состоит как бы из двух частей, Моссельмашевской и Ховринской, так сказать.
Теперь таких улиц у нас три. Смольная ведь тоже сначала упирается в Парк Дружбы, но затем благополучно и в чем-то символически вновь возрождается к жизни подле Аксиньинской церкви. Схожим образом ведет себя и улица Флотская, которая вроде бы втыкается в Онежскую, но затем продолжается в районе так называемого квартала «Чикаго». Таким образом, по данному показателю Северная рабочая окраина явно опережает все прочие районы Столицы, что, безусловно, является законным поводом для гордости всех ее жителей.
Но сейчас не об этом.
Пока трассу строили и крушили всё вокруг, я с некоторой тревогой поглядывал на одно неприметное здание на улице Талдомской, не угодит ли и оно под бульдозер. То есть, если бы и угодило, то ничего страшного, конечно, не случилось бы, но все-таки…
Когда-то давно, на заре еще «лихих девяностых» в полуподвале того здания располагался склад одной богоугодной организации частной формы собственности, а я на этом складе в летние каникулы трудился младшим грузчиком под началом великого человека Александра Тимофеевича Каравайцева…
Тимофеич был, конечно, персонажем ослепительной мудрости. Сколько жизненных уроков он преподал юному студенту – и не перечесть! И это помимо чисто практических навыков (вы умеете таскать пианино по лестнице? Я умею). А четыреста сравнительно честных способов спереть какую-нибудь полезную в хозяйстве вещь прямо из-под носа у приезжего экспедитора? (но об этом – в другое время и в другом месте).
А однажды…
А однажды к Каравайцеву приехал какой-то его дружок, коих у него было множество, после чего они долго о чем-то беседовали на детской площадке, а я сидел в сторонке на лавочке и любовался окружающим летним пейзажем, который был прекрасен, потому что отдыхать – не работать, особенно в условиях повременной оплаты труда.
Причем приехал дружок не просто так, а на «мерседесе». «Мерседес», правда, был примерно такой же модели и года выпуска, как у Владимира Семеновича Высоцкого в кинокартине «Спасибо что живой», но все равно: иметь свой «мерседес» летом 1992 года было довольно круто. Особенно с точки зрения бедного студента.
Потом полуденный гость уехал, а Каравайцев подошел ко мне и спросил:
– Знаешь, кто это был?
– Откуда же мне знать, Александр Тимофеевич?
Здесь Каравайцев неторопливо закурил, а потом задумчиво молвил:
– В принципе, такой же грузчик, как и мы с тобой. Такой же пролетарий умственного труда. А ездит на «мерседесе». И знаешь, почему?
– Почему, Александр Тимофеевич?
– Потому что знает, ЧТО грузить. А еще важнее – КУДА!
В переводе с образного языка мастера Каравайцева это означало дословно следующее: «Неважно, что ты всего лишь грузчик. Просто будь самим собой и всегда прислушивайся к голосу своего истинного «Я», а на мнение окружающих насчет тебя клади большой хрен – и сердце твое откроется для радости, и внутренняя гармония не заставит себя ждать».
Говорю же – великой мудрости был человек. Личные психотерапевты и новомодные «бизнес-коучи» говорят нам, в общем, то же самое, ну разве что чуть более сложными словами, и берут за это, между прочим, большие деньги. А Каравайцев всё уместил в два предложения – и абсолютно бесплатно!
Так я, в общем, с того дня и стараюсь жить. И всякий раз, пролетая с ветерком по новой эстакаде, непременно бросаю взгляд на склад, которого давно уж нет…
«Важно, что ты грузишь. А еще важнее – куда!»
«Автобус 65: самый лучший маршрут во Вселенной»
Конечно, большинству жителей Москвы, не говоря уж о гостях столицы, этот номер ничего не скажет… но я-то знаю, что это так!
Причем знаю достаточно давно. Еще с 1979 года, когда мы с «Водного» перебрались на совсем уж Северную рабочую окраину. Но зато в детский сад я весь последний сезон дохаживал в свой старый, ну и пусть, что из дому мы с отцом выходили в 7.00, затемно еще – зато сколько всяких приключений и открытий ждало каждое утро!
Для начала – надо было с нашего длиннющего пешеходного моста через железную дорогу высмотреть: какой сегодня подойдет автобус: ЛиАЗ или Икарус? Лучше Икарус. Во-первых, влезут все (хотя в час-пик не факт), но главное – в Икарусе, если пролезть между толпящихся товарищей взрослых к самой кабине водителя, то оттуда отличный обзор всего маршрута следования, в «нашем» ЛиАЗе и места меньше, и видно заметно хуже.
Вот теперь можно смотреть, наслаждаться и заодно – очень о многом размышлять.
На «Шестьдесят пятом» – очень много поворотов! Вот автобус 194, который от нашего нового дома кочумает до «Новослободской» – он скучный, он почти все время едет по прямой, а на шестьдесят пятом – целых пять раз поворачивает!
Еще на «Шестьдесят пятом» – самые разнообразные названия остановок. Есть и «улицы» (но это везде есть), но есть и «бульвар» – Кронштадтский, есть и «набережная» – Лихоборская. И конечные – одна «платформа» (Моссельмаш), другая «стадион» (Водный). На каком еще маршруте столько? Вот то-то же.
Еще на «Шестьдесят пятом» есть целая улица, Онежская, на которой он вообще остановок не делает, выезжает на нее, а потом съезжает. Где еще такое? Нигде.
Говоря об улице Онежской, сразу надо вспомнить и об остановке «Сенежская улица». Онежская, Сенежская – это опечатка, или что? Можно спросить взрослых, но лучше ведь самому подумать!
А еще есть остановка «улица Нарвская», а перед ней поворот плавный – и вот там раз в месяц стабильно кто-то из автолюбителей вылетает с трассы – почему? (Когда я сам сел за руль, то почти первое, что сделал – чуть не вылетел на повороте улица Нарвская. Возможно, сработала детская память, а может – там эта подстанция электрическая и вправду наводит волны напряжением 100 тысяч вольт…)
А еще дальше – колокольня из-за домов торчит разрушенная, высоченная такая! То есть, я уже знаю, что это колокольня – но гораздо интереснее думать, что это башня рыцарского замка какого-нибудь!
А слева – «Завод нестандартного оборудования им.А.Матросова». Что такое «им.А.Матросова» – это я уже знаю. А вот что такое «Нестандартное оборудование»?
А еще водители автобуса №65 очень много читают и курят. Бывало, вечером стоим обратно ехать, домой уже – и все автобусы уже тронулись и своих пассажиров забрали. Только наш: или курит, или читает. Или вообще куда-то ушел. В общем, еще один плюсик в копилку исключительности.
А еще… Это я только начал перечень! Но, в общем, ситуация ясна: второго такого «номера» нет и не предвидится.
Даже сам номер – очень похож на хоккейный счет, причем победный. 6:5 – это значит, что наши выиграли в упорной борьбе!
А потом…
Потом однажды я вырос, но все равно любил ездить на «шестьдесят пятом». И если с моста еще видел, что он трогается – то всегда успевал слететь вниз по ступенькам и запрыгнуть на подножку. Вот как я любил шестьдесят пятый, и какой был молодой и быстрый.
А потом…
Потом однажды мост на «Моссельмаше» закрыли на длительный ремонт и восстановление, 65-й продлили, но как будто вынули из него жизненную силу. До «Ховрино», когда было нужно – удобнее было ехать от Речного вокзала, а там – свои порядки и свои законы. И – свои маршруты.
И, бегая периодически через парк «Грачевка» на «свою» сторону – оставалось лишь с некоторой грустью смотреть на сделавшийся вроде как ненужным 65-й. Ну не садиться же в него чтоб ехать просто так!
К счастью, сколь ни долго ковырялись мастера – а однажды Мост открылся заново, и к 65-у вернулась его Сила. Тем более, что к тому моменту я уже проживал так, что он ходил у меня под окнами.
Сила пребывает с ним и поныне, а после ископания метро «Ховрино» её даже прибавилось.
Конечно, заметно чаще до метро едешь на номере 188. Но если первым подойдет «65» – это верный знак того, что день сложится удачно.
Ну, вот как сегодня!
Вкус Хоккея. Часть 1, «Лужники»
Чем пахнет хоккей? Ну, если брать очевидное – то, конечно, зимой, льдом, пропотевшими свитерами спортсменов, деревянными сиденьями в «Лужниках», мороженым в вафельном стаканчике в перерыве, а еще – изолентой, которой раньше крюки обматывали, это вообще волшебно, а еще… Но это такие запахи «общего свойства». Для всех, на поверхности, так сказать.
Мой хоккей еще пахнет теплым сентябрем и пельменной на «дальнем» выходе из «Спортивной», чур, не смейтесь!
Отец тогда достал билеты на самый первый матч сезона, ну, как бы вывеска сама за себя: Спартак – ЦСКА!
Вообще говоря, именно на дерби я был впервые. Так-то мы довольно часто ходили, но, во-первых, на Спартак – ЦСКА неизменно аншлаги и sold out, а в-главных – не очень-то я именно на встречи с друзьями-армейцами рвался. Ну, как бы все-таки хотелось не просто на хоккей сходить, а чтоб и выиграть еще желательно, а в то время, сами понимаете – статистика была неумолима и далеко не в пользу красно-белых.