Читать онлайн Иностранная литература №08/2011 бесплатно
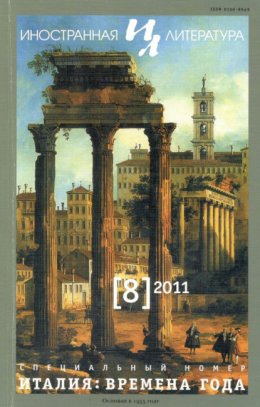
Ежемесячный литературно-художественный журнал
Составители номера
Е. Солонович и А. Ямпольская
До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.
Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”
© “Иностранная литература”, 2011
Адриано Дель Аста
Директор Итальянского института культуры в Москве
Решение посвятить специальный номер журнала “Иностранная литература” произведениям современных итальянских писателей как нельзя лучше вписывается в рамки перекрестного года – года русского языка и культуры в Италии и итальянского языка и культуры в России.
Подобное решение вызывает радость по ряду причин: престижность журнала, значительность отобранных авторов, а также то, что настоящий номер дает возможность продолжить и развить многолетнюю традицию, которая оставила заметный след в истории культур наших стран и отнюдь не ограничивается узкими рамками профессиональных сообществ.
За долгую историю межкультурных связей многие русские писатели посещали Италию и даже оставались там жить: достаточно назвать Гоголя, неоднократно приезжавшего в Рим, или Вячеслава Иванова, который после трагедии революции обрел в Италии не только достойное убежище, но и мощный стимул для дальнейшей творческой и частной жизни – в ней, говоря словами Иванова, которым суждено было стать крылатыми, он постепенно учился “дышать обоими легкими”. Нельзя не упомянуть в этом ряду “Доктора Живаго”. Публикация романа в Италии сыграла огромную роль в том, что Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии, и, хотя это решение вызвало немало споров, награда стала прежде всего свидетельством уважения бесспорных достоинств писателя, чей роман не получил должного признания на родине.
В истории наших культур переводы всегда занимали особое место: показательна в этом смысле судьба упомянутого выше романа Пастернака, поскольку она доказывает, насколько важна работа переводчика, который знакомит с произведением зарубежного автора того, кто не может прочесть его в оригинале, и сколь широкие возможности предоставляет она писателю, открывая перед его талантом новые, неожиданные пути развития.
В этом смысле история наших литератур знала немало ярких моментов, которые хочется вспомнить, говоря слова напутствия этому номеру “Иностранной литературы”, и которые и в будущем послужат нам путеводной звездой.
Я имею в виду тот глубокий след, который оставили Анна Ахматова – переводчик Леопарди и Ребора – переводчик Л. Андреева, Толстого и Гоголя. В случае Ахматовой и Леопарди поражает не только удивительное созвучие душ поэтов, но и готовность раскрыть душу, осознав ответственность перед историей. Леопарди обращается “К Италии” с призывом вновь стать свободной; говоря от имени своего народа, Ахматова в “Реквиеме” “смогла описать” трагедию столкновения с “веком-волкодавом”. В случае Реборы ответственность перед историей – неотъемлемое свойство русской литературы – определила тот путь, который сам писатель воспринимал как призвание: в своей жизни и творчестве он следовал “порыву” – такому же, какой ощущается у русских писателей. Ребора говорил, что русская литература, “приняв прекрасное обличье, ибо она была хороша, для того чтобы скорее достучаться до сердец, продолжала свое странствие, служа делу веры и стремясь открыть нам самим наше истинное лицо, проявляя невиданную твердость духа, чтобы даровать нам истинное искупление – свободу насладиться свободой”.
Этот призыв обращен к обеим нашим литературам, на этот вызов им придется ответить: дабы, будучи совершенно свободными от служения чему-либо, кроме прекрасного, они на самом деле сумели подарить своим читателям “свободу насладиться свободой”.
Стефано Бенни
Рассказы
Переводы Ирины Боченковой и Натальи Симоновой
© Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1997, 2007
© Ирина Боченкова. Перевод, 2011
© Наталья Симонова. Перевод, 2011
Бумеранг
В один прекрасный день синьор Ремо возненавидел свою собаку.
Вообще-то он был неплохим человеком. Но что-то сломалось у него внутри, после того как он овдовел. Он потерял жену, но у него осталась собака – этакий мопс-шнопс, черный и толстый, с оттопыренными, как у летучей мыши, ушами. Его звали Бум, сокращенно от Бумеранг: достаточно было бросить палку или мячик, как он тут же приносил их обратно.
Когда-то синьор Ремо и Бум подолгу гуляли вместе, обсуждая человеческий и собачий мир, Декарта и Лесси. Тогда они прекрасно понимали друг друга. Теперь они больше не разговаривали. Хозяин сидел в кресле и смотрел в пустоту, а Бум, свернувшись калачиком у его ног, с безграничным обожанием смотрел на хозяина.
Именно этот взгляд, полный абсолютной преданности и слепого доверия, особенно раздражал синьора Ремо.
Жизнь состоит из потерь, одиночества и боли. Какая польза на этой ужасной планете от такого нелепого существа, которое виляет хвостом, скулит от радости и наполняет своей необъятной лохматой любовью опустевший дом?
Сначала хозяин перестал кормить собаку. Бывало, оставлял ее без еды два дня подряд. Но Бум продолжал изводить его своей привязанностью. Когда синьор Ремо ел, пес ничего не просил и даже не приближался к столу. Смотрел с кротким любопытством, а в глазах читалось: “Что ж, если ты наелся, то и я сыт”. И чем громче и демонстративнее хозяин чавкал, тем нежнее становился взгляд Бумеранга. Когда же, наконец, ему давали поесть, он не мчался как безумный к своей миске, нет… Он сдержанно и благодарно вилял хвостом, будто говорил: “Если ты держал меня голодным, значит, у тебя были на то веские основания. В любом случае, спасибо, что сегодня ты обо мне вспомнил”.
Не исключено, что хозяина мучила совесть – настолько, что он заболел. У него поднялась температура, и Бум неотлучно сидел у его постели. Ночью, просыпаясь в полубреду, синьор Ремо видел широко раскрытые влюбленные собачьи глаза и длинные, поднятые как антенны, уши. Казалось, пес говорил: “Я и смерть загрызу, если она посмеет приблизиться к тебе, хозяин”.
Всей своей зачерствелой душой синьор Ремо ненавидел Бума за эту безмерную любовь. Он не выводил его на улицу четыре дня.
На пятый день Бум открыл лапой дверь балкона и там стыдливо помочился. Теперь он выходил через день: обмен веществ сократился до двадцати капель мочи и одной горошины фекалий. Пес не скулил, не проявлял никакого беспокойства, но иногда смотрел из окна в сад, издавая тоскливый вздох, только и всего.
Хозяин выздоровел и, не успев подняться на ноги, ни за что ни про что пнул собаку.
Бум залез под кровать, и синьору Ремо стало стыдно.
Он позвал его, Бум подошел. Сделав над собой усилие, хозяин приласкал его и сказал:
– Бум, к сожалению, придется с тобой расстаться. Я больше не могу о тебе заботиться. Скажу тебе больше, правда, ты не поймешь: я тебя ненавижу.
Пес посмотрел на него с бесконечной преданностью и любовью.
Почему он не отдал его в собачий приют или кому-нибудь из знакомых? Прежде всего из-за лени. Но еще и потому, что помнил слова покойной жены. Она сказала: “Ремо, если я умру, прошу тебя, не бросай нашего Бумчика”.
Тогда Ремо рассердился: как это ей пришло в голову, что он на такое способен?
Но бедная Дора знала своего мужа: он мог быть жестоким.
В смерти жены он увидел предательство.
И сейчас, предавая собаку, мстил за это судьбе.
Итак, синьор Ремо сел в машину и повез Бумеранга за город. Прежде он уже не раз привозил его туда, давая возможность набегаться вволю. Пес бежал впереди, хозяин шел за ним. Ремо давно обратил внимание на побежку Бума. Пес прихрамывал, через каждые десять шагов поднимая заднюю лапу, будто бежал по раскаленной поверхности.
Он и жена находили эту его побежку комичной.
Теперь же хозяин с отвращением смотрел, как трясется толстый зад Бума.
Отойдя подальше от любопытных глаз, он привязал собаку к дереву и зашагал прочь, даже не обернувшись.
Дома синьор Ремо старательно приготовил ужин, чего не делал уже давно.
Миску Бума он пинком отправил в угол.
А поводок с намордником выбросил в мусорное ведро.
Часа в три ночи он услышал, как кто-то скребется в дверь. Это был Бумеранг.
Мокрый и грязный, он радостно прыгнул на хозяина и совершил победный круг по квартире. Он ни о чем не догадывался. В его наивном собачьем сердце не было места для такого понятия как предательство.
От злости синьор Ремо плохо спал. Во сне он видел варварское истребление тюленей и меховые шапки из пуделей.
На следующий вечер он посадил Бума в машину, проехал сто километров по автостраде и оставил собаку на парковке у придорожного ресторана.
Вернувшись в город, синьор Ремо отправился в кино на фильм об ожившем доисторическом чудище, которое держало в страхе всю Америку. В одном эпизоде этот монстр колотил хвостом. Почему-то синьору Ремо вспомнился хвост Бумеранга. Наконец чудище было уничтожено благодаря смертоносным ракетным ударам и яростным словесным перепалкам. В ту ночь синьор Ремо сладко спал. На следующий день в супермаркете он встретил хозяйку Томмазины, подружки Бумеранга.
– А где Бум?
– Увы, – синьор Ремо развел руками. Дама сочувственно вздохнула. Больше она ничего не спросила, проявив удивительную деликатность. Коснулась руки синьора Ремо:
– Представляю, как вам тяжело!
– И не говорите.
Поднимаясь с покупками по лестнице, синьор Ремо услышал знакомый звук, спутать который невозможно ни с чем другим: скрежет когтей по мраморному полу.
На лестничной площадке его ждал Бумеранг.
Синьор Ремо закрылся в туалете и просидел на унитазе всю ночь. За матовой стеклянной дверью угадывался ненавистный силуэт поджидающего Бума.
На рассвете обеспокоенный пес стал царапать стекло.
– Пошел вон, сволочь, – зарычал синьор Ремо.
Бум завилял хвостом: какое счастье, хозяин жив!
Спустя два дня синьор Ремо снова посадил Бума в машину и ехал целый день, пока не добрался до берега моря. Там они погрузились на паром. Чьи-то дети играли с Бумерангом, а какой-то человек заметил:
– Счастливчик, отправляетесь в отпуск с собакой. Моя, к сожалению, слишком большая. Сразу видно, что вы не можете жить друг без друга.
– Вы угадали, – ответил синьор Ремо.
Вечером синьор Ремо привел Бумеранга на пляж и кинул палку в море.
Бум поплыл, взял палку в зубы, вернулся на берег. Естественно, хозяина там уже не было.
На обратном пути, на пароме, синьор Ремо выпил одну за другой две рюмки коньяка, и его стошнило.
Прошла неделя. Синьора, которая видела, что Бум вернулся, спросила, куда он опять подевался.
– Я надеялся, – ответил синьор Ремо, – что это больше не повторится, но увы…
На лице дамы появилось выражение сочувствия, и даже собачка Томмазина пустила слезу – может, из жалости, а может, у нее просто глаза слезились.
Всю неделю синьор Ремо был не в духе, но отнюдь не из-за отсутствия Бумеранга. Напротив, он обратил внимание, что ковер и диван в гостиной все еще воняют псиной, и обильно опрыскал их освежителем воздуха.
Синьор Ремо был не в духе, потому что сломался телевизор.
Наконец пришел мастер.
Покопался в телевизоре, поболтал о том о сем, и тут на глаза ему попалась миска Бумеранга.
– У вас есть собака? – спросил он.
– Уже нет.
– Ау меня теперь есть, и это целая проблема. Представьте себе, я отдыхал на море. Возвращался назад на пароме, вдруг какая-то толстая уродливая собака запрыгнула к нам в машину. Дети стали канючить: “Папочка, эту собачку бросили, давай возьмем ее, ну пожалуйста”. Дети есть дети…
– Конечно, – отозвался синьор Ремо.
– В общем, она у меня в машине. Хочу отдать кому-нибудь. Вы, случайно, никого не знаете?
– Какого цвета собака? – спросил синьор Ремо, похолодев.
– Черная. С ушами, как у летучей мыши.
Мастер ушел. Телевизор работал. Синьор Ремо сидел перед ним, но на экран не смотрел. Он смотрел на дверь.
Через мгновение он услышал звук скребущих по плитке когтей.
Синьору Ремо вспомнился страшный фильм из детства: о живых мертвецах и скелетах, выходящих из могил. Но тот страх не шел ни в какое сравнение с ужасом, который он испытывал сейчас.
Бумеранг – ласковый зомби – вернулся. Он еще больше растолстел, дети постоянно пичкали его едой. Доверчивые собачьи глаза светились неизменной любовью, преданностью и другими благородными чувствами.
– Неужели ты не понял, что я тебя бросил? – закричал синьор Ремо.
– Значит, было за что. Ты – мой мудрый хозяин, я люблю тебя еще сильнее, чем прежде, – ответил за собаку хвост.
И тогда у синьора Ремо родился гениальный план.
Он уедет – уедет не просто в другую страну, а на другой континент. Он все взвесил и обдумал. Забрал из банка свои сбережения, купил белый пиджак и соломенную шляпу. Однажды утром запер Бумеранга на балконе и был таков.
Четырнадцать часов летел он на самолете.
Ступив на землю, синьор Ремо сразу почувствовал себя другим человеком. На выдаче багажа он оказался рядом с загорелой девушкой и улыбнулся ей.
Да, теперь он далеко, далеко от всего. Вместо запаха псины – запах тропического моря и солнца.
И тут он стал свидетелем странной сцены.
Какая-то женщина стояла рядом с двумя полицейскими и плакала. Она указывала на клетку для собак, только что выгруженную из самолета.
– В чем дело! – визжала она, – где мой Руфус?
– Синьора, не волнуйтесь, – успокаивал ее полицейский, почесывая в затылке. – То, что вы говорите… такого не может быть.
Из любопытства синьор Ремо подошел ближе.
И услышал, как полицейский разговаривает с сотрудником отдела по розыску багажа.
– Непонятная история. Эта дама отправила свою собаку по всем правилам, в клетке, в багажном отсеке. А теперь она утверждает, что там не ее собака.
– Невозможно…
– Моя собака – ирландский сеттер, – всхлипывала дама, – а это какой-то жирный, противный барбос. Я прекрасно помню, что он бегал по аэропорту без хозяина!
– Вы хотите сказать, синьора, кто-то подменил вам собаку?
– Нуда… – засмеялся сотрудник багажного отделения. – Или барбос сам открыл клетку и залез в нее вместо вашей собаки.
– Не смейтесь, – сказала дама, – вы не знаете, какие собаки умные!
Синьор Ремо не стал дожидаться, пока откроют клетку. Он мчался по коридорам аэропорта, волоча за собой чемодан на колесах, и слышал за спиной бешеный галоп Бумеранга. С разбега он запрыгнул в такси и выдохнул:
– Отель “Тропикана”, быстро.
– Не могу, мистер, – ответил таксист. – Перед машиной улеглась какая-то собака и не дает мне проехать.
Синьор Ремо поднялся в свой номер на последнем этаже гостиницы. Открыл балконную дверь. Бумеранг, довольный, обнюхивал ковер.
Синьор Ремо снял белый пиджак и шляпу.
Посмотрел на море и далекий горизонт.
Разбежался и прыгнул.
Последнее, что он видел, был Бумеранг, толстый, как бомба. Он падал рядом, не сводя с синьора Ремо обожающих глаз. Новая игра, хозяин?
Местная газета посвятила статью этой грустной и трогательной истории.
Похоронили их вместе.
Обычный рейс
Алина в который раз совершала магический обряд – исполняла танец спасения. Гибкие руки рисовали в воздухе фигуры, заученные до автоматизма, а пассажиры не обращали на эти знаки судьбы никакого внимания.
Пассажиры – по причине ли суеверного страха или, наоборот, равнодушия – предпочитали не смотреть на Алину. Совсем скоро этот танец унесет их ввысь, за облака, далеко от надежной земли.
Танцуя, Алина сняла желтый жилет, затем надела таинственную маску, повторяя древнюю формулу.
– В случае необходимости кислородная маска выбрасывается автоматически. Наденьте маску, как показано в инструкции, дышите нормально…
Завершая танец, Алина широко развела руками, затем снова соединила их, указывая куда-то вдаль. Окинула взглядом пассажиров и продолжила вещание оракула:
– В нашем самолете имеется три аварийных выхода… пожалуйста, обратите внимание на ближайший к вам…
И Алина трижды повторила магический жест.
– От лица компании “Алиспринг” мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета, выполняющего рейс по маршруту Милан-Лондон… Во время взлета ремни безопасности должны быть пристегнуты, мобильные телефоны выключены. Желаем вам приятного полета.
Грациозно повернувшись, Алина исчезла, заняла свое место и пристегнула ремень. Едва начав танец, она уже поняла, кого из пассажиров этого рейса судьба предназначила ей. Как-никак, за двадцать пять лет работы налетала не меньше двадцати тысяч часов. Годы берут свое, но она по-прежнему красивая женщина – длинноногая, медноволосая, с улыбкой, которая ободряет детей и взрослых.
У Алины была привычка: во время приветственного танца она изучала пассажиров. Интуиция безошибочно подсказывала ей, кто на этот раз станет Проблемой. Надоеда, трус, истеричка… – словом, тот, кто весь полет будет требовать ее внимания, ее терпеливой заботы. А ей ничего не останется, кроме как обольстить и приручить его, – такая профессия. И пусть этот рейс для нее один из последних, свою работу она привыкла делать на совесть.
Проблема сидела в кресле 14К. Между скучающим менеджером и девочкой, не замечающей вокруг ничего, кроме своего айпода.
Толстяк в куртке тошнотворно-желтого цвета, по лицу стекают струйки пота, глаза навыкате, как у жабы. Лицо тоже желтое. Судя по всему, непреодолимый страх мучил его еще до посадки в самолет.
Что ж, отныне твое имя – мистер Трухилло, – подумала Алина. – Я принадлежу тебе, а ты – мне.
У Трухилло была клетка с котом, которую он с самого начала не знал, куда пристроить. Ворчал себе под нос, недовольный всеми и вся: пассажирами, которые слишком медленно занимали свои места, теснотой самолета.
Заметить его нервозное состояние не составляло никакого труда.
Он единственный с судорожным вниманием следил за тем, как она демонстрировала спасательный жилет.
При словах “кислородная маска” шумно вздохнул.
Беспрестанно крутил клапан подачи воздуха.
Подпирал коленями кресло перед собой, готовый в любой момент дать отпор, если сидящий перед ним человек попытается откинуться назад.
Потел, как сыр на солнце.
Тем временем кот начал недовольно мяукать, поддерживая хозяина.
Трухилло боялся взлета, но Алина знала, что, как только самолет наберет высоту, от этого типа не будет покоя. Так оно и вышло.
Ровно через минуту после взлета, на высоте в тысячу метров, Трухилло поднял руку, привлекая внимание бортпроводницы.
– Простите, синьорина, могу я пересесть туда, вперед? Здесь очень неудобно, мало места, кота некуда пристроить.
Алина улыбнулась.
– Конечно. Второй ряд вас устроит? Сиденья там немного шире, будет место и для клетки.
Трухилло вытаращил глаза: не мог поверить, что ему пошли навстречу.
– Все в порядке? – спросила Алина.
– Ремень не застегивается, – ответил Трухилло.
– Разрешите, я вам помогу.
Алина умело обхватила спасительной лентой брюхо пассажира. Одарила его улыбкой и исчезла, повернувшись на каблуках.
Трухилло продержался ровно восемь минут, а потом снова вызвал бортпроводницу.
– Простите, синьорина – спросил он, – кондиционер работает? Здесь такая жара, просто невозможно дышать.
– Температура в салоне двадцать два градуса. Кондиционер включен, вы почувствуете, скоро станет прохладнее, – успокоила его Алина.
– Надеюсь, – сказал Трухилло.
– Мяяяяаау, – сказал кот, сверля Алину пронзительным взглядом.
Он тоже был толстый, тошнотворно-желтого цвета. Четвероногий Трухилло!
– Ваш котик часто летает? – спросила Алина.
– Редко, – буркнул Трухилло. – Самолеты плохо приспособлены для котов, да и для людей тоже, я бы сказал. Удивляюсь, как вы можете работать в таком узком проходе.
– Ко всему привыкаешь, – улыбнулась Алина и пошла за тележкой с напитками. По пути успокоила плачущего ребенка, проверила ремень у одного из пассажиров. Поравнявшись с Трухилло, она заметила, что тот, вывернув шею, с тревогой смотрит назад.
– Что будете пить?
– Ничего. Подождите, мне нужно вам что-то сказать.
– Сейчас закончу разносить напитки и вернусь.
– Умоляю, поскорее! – в его голосе чувствовался панический страх.
Действительно очень трудный пассажир…
Алина, как добрая мать, раздала половине пассажиров теплые соки, окаменелые крекеры и отсыревшие кексы. Трухилло не выпускал ее из виду, следил за каждым движением. Оставив тележку с напитками, она подошла к его креслу – на этот раз без улыбки, чтобы не поощрять лишний раз.
– Чем могу вам помочь?
– Я боюсь показаться паникером, но… Видите того мужчину в пятом ряду?
– Вижу.
– Я… Вообще-то я не расист… но думаю, что он араб.
– Ну и что?
– Как “ну и что”? Вы не заметили? Он вынул что-то из кармана… какой-то предмет, похожий на таймер…
Алина вздохнула. Ничего не поделаешь – придется проверить; в конце концов, это ее работа. Она прошла к пятому ряду и тут же вернулась.
– У господина в руках карманный калькулятор, такими разрешено пользоваться во время полета. И он не араб, он сицилиец, у него сицилийский акцент, я слышала, как он говорил с кем-то во время посадки.
– Ох, извините, – сказал Трухилло, – но знаете, сейчас стоит только включить телевизор… открыть газету… Летать стало небезопасно.
– У нашей авиакомпании самые надежные системы контроля. Конкуренты нам завидуют, – улыбнулась Алина. – За сорок лет ни одного происшествия.
– Это еще не гарантия, – угрюмо произнес Трухилло.
Сам боится, а накаркивает! Редкий зануда и трус. Хуже – только пьяные дебоширы. Придется терпеть, думала Алина. Еще несколько рейсов, и все, выхожу на пенсию. Она поправила волосы и пошла в отсек бортпроводников поболтать с Барбарой, молоденькой блондинкой, тысяча часов налета.
– Есть проблемы? – заботливо спросила Алина коллегу.
– Нет, ничего особенного, – ответила Барбара. – Одну малышку постоянно тошнит, да какой-то старичок набивается в кавалеры.
– Повезло тебе, – засмеялась Алина. – Ауменя – паникер: толстяк, который до смерти боится террористов.
– Я видела. Хорошо, что это твоя зона. Слушай, а как тебе блондин в пятнадцатом ряду?
– Рядом с усатым парнем?
– Да. Нравится?
– Выбрось его из головы. Держат друг друга за ручку с самой посадки – он и он.
– Скажешь тоже, – не поверила Барбара.
– Налетаешь двадцать тысяч часов, много чего узнаешь, – засмеялась Алина. – Но, может, я ошибаюсь. Зато я точно знаю, что господин Трухилло скоро опять меня позовет, вот увидишь.
Не успела она это сказать, как загорелась лампочка вызова – разумеется, с места 2С.
– Нужна помощь? – спросила Алина. Она заметила, что нервы у пассажира совсем сдали. Рубашка расстегнута, за ворот стекают ручейки пота.
– Синьорина, вы можете сказать, что я все преувеличиваю, но на сей раз я хорошо рассмотрел. Проносить на борт жидкости запрещено, верно?
– По правилам, да, но зависит от человека, производящего досмотр.
– Прекрасно. Видите ту девушку? Вон ту, с восточными чертами лица?.. Она только что взяла в руки флакон и стала тереть… А если это взрывчатка?..
– Не думаю. Но я проверю, – вздохнула Алина.
“Это уж слишком! – подумала она. – Хуже, чем я ожидала”. И направилась к подозрительной пассажирке.
Подошла, посмотрела. Девушка пыталась минеральной водой оттереть пятно на брюках. Тоже мне террористка!
– Не волнуйтесь, – Алина с натянутой улыбкой вернулась к пассажиру. – Эту воду девушка взяла у нас, в самолете.
– Может быть, – ответил Трухилло и обиженно отвернулся к иллюминатору. Алина почувствовала себя виноватой.
– Нам лететь еще полчаса. Не хотите перекусить?
– Нет, – Трухилло был явно недоволен, – не люблю еду из полуфабрикатов. И потом, осторожность не помешает.
– При чем тут осторожность?
– Еда может быть отравлена. Вы что, газет не читаете? Совсем недавно такое случилось на борту Сингапурских авиалиний. И потом, я должен держать под контролем все, что происходит в самолете, понимаете?! – Он смотрел на Алину безумными глазами. – Нам всем необходимо быть бдительными, любой пассажир может оказаться потенциальным террористом, и вы, вместо того чтобы пичкать их соками, должны к ним присматриваться. Как вы можете быть такой спокойной?
– Это обычный рейс. А вы всех подозреваете, в каждом видите террориста.
– Конечно, вижу! – воскликнул Трухилло. – Посмотрите на того бородача, он не итальянец. Он читает арабскую газету…
– Он не араб, он грек, – вздохнула Алина.
– А его соседка, та, смуглая, видите? Она сняла сверху сумку… что она в ней ищет? Кажется, достала патрон…
– Это губная помада.
– Смейтесь, смейтесь! Вы думаете, я сумасшедший. Удивляюсь вашему спокойствию, – рассердился Трухилло. – Повторяю, что от каждого можно ожидать…
– Я работаю двадцать пять лет и думаю, некоторый опыт у меня есть. Я бы заметила, если что-то не так.
– Вы ошибаетесь, вот увидите, – сказал Трухилло. – Кое-кого вы не учли, не заметили.
– Кого же?
– Толстого нудного господина с котом, – Трухилло перешел на шепот.
– Вы шутите, значит, вам уже лучше, – с облегчением сказала Алина.
Лицо Трухилло раздулось и покраснело. Голос стал плаксивым, как у капризного малыша.
– Видите ли, дорогая стюардесса с двадцатипятилетним стажем, может, вы и привыкли к страху, а я – нет! Вот уже много лет, как он не оставляет меня ни на минуту. Я смотрю телевизор, читаю газеты, слушаю речи и всякий раз ощущаю, как в мою плоть вонзается нож беспокойства, тревоги. Но я не могу этому противостоять – только специалисты все понимают, только сильные мира сего знают подробности. Вся правда – в черном ящике или там, где собираются заговорщики, а нам остается лишь страх. Мы боимся тех, на кого вы все нам указываете, указываете каждый раз на новых врагов. Они где-то далеко, в чужих странах, они против нас, против меня, и с каждым днем становится одним врагом больше. Моя жизнь наполнена страхом, переполнена им. Я устал, я больше не хочу такой жизни… Это правда, синьорина…
– Полно, ну что вы…
– Позвольте, я закончу. Постоянный страх отравляет мне жизнь, но я отомщу. Хотя бы один раз, синьорина, я им покажу, я всех вас напугаю. Почему вы не спросите меня, как?
Лучше ему не перечить, он явно сумасшедший, про себя решила Алина.
– Вы – настоящие садисты. Вы точно знаете, кто наши враги: арабы, талибы, чеченцы, антиглобалисты, бородатые террористы. Этих вы нам назвали. А что, если вдруг кто-то, кого нет в вашем черном списке – нормальный, обыкновенный человек, самый обыкновенный, – станет тем новым врагом, которого надо бояться?
– Какой еще человек?
– Такой, как я. Тогда все полетит к чертям: предрассудки и металлодетекторы, профилактические бомбардировки, досмотры. Вы только подумайте: обыкновенный толстяк, такой, как я, с толстым, внушающим доверие, котом в клетке садится в самолет. А прежде он рассылает в газеты письмо с угрозой этот самолет взорвать. Но в письме, которое завтра получат все газеты, толстый господин не объясняет как и почему. Ничего не объясняет – ни слова из того, что я рассказываю вам, синьорина. Вам я объяснил, почему хочу это сделать, но вот как – говорить не буду. Скажу только, что я повар, изучал химию, бомба – это мой кот, и здесь использована лимонная кислота…
– Все, хватит. Это уж слишком. Пора готовиться к посадке, – раздраженно прервала его Алина.
Но толстяк удержал ее за руку.
– Нет, синьорина, посадки не будет. Мне жаль вас, вы расплачиваетесь за чужие грехи. Еще немного, и я перестану бояться, пусть теперь боятся другие. Отныне и впредь все будут испытывать страх при виде толстяков и кошек, вместе или по отдельности. Психологи, социологи, криминологи обратят внимание на опасность ожирения, чрезмерной любви к животным, хорошей кухни. Сыщики станут искать тайные организации, изучать исторические события, исследовать идеологические влияния и взгляды фанатиков, но не найдут ничего, кроме моих бесполезных сорока лет, проведенных у плиты. Все стереотипы будут опрокинуты. Как вы тогда поступите? Оккупируете страну поваров? Перестанете сажать толстяков в самолеты? Посадите в тюрьмы кошек?
– Всему есть предел, – Алина вырвала руку. – Вы просто сумасшедший. Вы мне мешаете.
Быстрым, нервным шагом она направилась к коллеге, ответственному за безопасность полетов.
– Вон тот толстяк во втором ряду – настоящий маньяк. Не думаю, что он опасен. Но лучше, если ты успокоишь его.
– Вон тот, в желтой куртке? Который ухмыляется?
– Он самый. Зубы скалит, идиот…
– Еще чего не хватало – бояться таких, как этот.
– Вот именно, – согласилась Алина.
Кот противно мяукнул. Раздался взрыв.
Рождественский вертеп
Есть места, обязанные своей славой великому сражению или марке вина, есть края, получившие известность благодаря тому, что в них родился знаменитый поэт, актер, мафиози. Края, славящиеся своими монастырями или карнавалами, оливковым маслом или сыром. Одни города связаны в нашей памяти с тем, что на них сбросили атомную бомбу, другие – с громким убийством, третьи – с названием торта или с маршрутом летнего путешествия.
Наш городок, который населяют и богохульники, и люди благочестивые, с незапамятных времен знаменит живым вертепом.
Больше всего мне запомнился рождественский вертеп двадцатилетней давности.
Было это за год до землетрясения, снега тогда навалило не меньше метра, и грузовик Моргайте занесло на скользкой дороге так, что он едва удержался на самом краю обрыва, о чем свидетельствует ex voto[1] на стене местного клуба.
Я уже сказал, что постановка рождественского сюжета нам всегда удавалась; мы гордились победами в соревновании с соседями по долине, которые тоже не упускали случая представить к Рождеству свои живые вертепы. В тот год наш подготовительный комитет состоял из дона Карамболы, следившего за исторической и религиозной стороной представления, синьора Пены – нашего мэра, ответственного за проведение мероприятия и за безопасность, и, наконец, портнихи Лучаны – декораторши и костюмерши. Увы, всех троих уже нет на свете, но память о них живет в наших сердцах. В тот год мы хотели устроить представление с небывалым размахом, потому что соседний городок Кастелькьяро объявил о подготовке сенсационного вертепа на деньги спонсора, фирмы “Суперсвет”: повсюду лампочки и мерцающий ангел. Еще у них была самая лучшая Мадонна, способная часами стоять не моргая, в одной позе: не иначе как ее накачивали наркотиками. В другом городке, Монтевелло, гвоздем программы были двести живых овец вокруг яслей с младенцем. После представления площадь устилал ковер из дерьма, но зато какой эффект! В Ка-ди-Бассо был лучший Младенец Иисус – карлик с мелодичным голосом – и лучший вол – белый великан: когда он дышал, пар шел, как из фабричной трубы. Вот какие силы нам противостояли, вот с кем нам приходилось соперничать, выдумывая каждый год что-то новенькое. Моргайте предложил:
– Давайте устроим вертеп в грузовике. Святое семейство – в кабине, вол и осел – в кузове.
– Да, а Бог будет регулировщиком, – ехидно заметил дон Карамбола.
– А мне нравится! – обрадовался Ато, местный дурачок.
Поскольку дон Карамбола всегда прислушивался к Ато, ему пришлось согласиться: на Богоявление[2] волхвы прибудут не на верблюдах, а на грузовике. Началась подготовка. В тот год было много трудностей, сложней всего оказалось выбрать главных действующих лиц. Искусство, как говорится, требует жертв. Мария Кармела, которая три года выступала в роли Мадонны, забеременела, но не от Святого Духа, а от простого смертного – трактирщика. Следовало бы объявить конкурс “Мисс Мадонна”, но как это сделать в городке, где одни старики и старухи? И тут кто-то вспомнил про Людмилу.
– Но ведь она иностранка! – возразили святоши в юбках. – Говорят, у себя на родине она разгуливала с пистолетом.
– Зато всегда ходит к мессе, к тому же работящая и собой хороша, – заметил дон Карамбола.
Когда он произносил “собой хороша”, по его рясе будто промчалась бегущая строка: “Чего греха таить, лакомый кусочек”. В общем, назло традиционалистам и ксенофобам Мадонной у нас впервые выбрали блондинку да еще иностранку. С Иосифом каждый год возникали проблемы. За несколько лет перед этим святой так набрался, что уснул прямо в яслях, приведя в ярость Мадонну. Иосиф следующего года был славный малый, но борода у него все время сползала, к тому же он был немного педик и подмигивал ангелу. В конце концов нашли отличного Иосифа – рыжая борода, ясные глаза, католик, рабочий-краснодеревщик. Однако он женился и через год потолстел на двадцать килограммов, так что ему в самый раз не Иосифом быть, а волом. Тогда Иосифа – с черной бородищей и безумными глазами – пришлось взять напрокат в соседнем городке. К несчастью, у этого оказалась аллергия на сено. Минуты через две он начал громко чихать, брызгая слюной, как шрапнелью, да так, что один плевок попал Младенцу на голову. Иосиф стал опухать на глазах и его с приступом астмы унесли на носилках. Вот почему теперь Моргайте предложил кандидатуру своего коллеги Донато. Тот, хотя родился на юге, был высокий блондин с всклокоченной бородой.
– Нет, – сказал священник, – он богохульник. Не успеет проснуться, как уже сквернословит.
– Он хороший парень, работяга, и грузовик свой не паркует где попало, – сказал мэр.
– Ладно, но пусть обещает не сквернословить, – согласился дон Карамбола.
– И не подумаю, – ответил Донато на сделанное ему предложение. – Тоже мне удовольствие – стоишь на холоде, с палкой, в яслях этот малявка нюни распускает. Мадонна попадется какая-нибудь снулая монашка – ни рыба ни мясо.
– Мадонной будет синьорина Людмила, – сказала портниха Лучана, посмотрев на Донато сияющим взглядом сводни.
– Людмила, блондинка из пекарни?
– Она самая.
– Ладно, если больше некому… – согласился Донато.
И отправился чинить карбюратор – ничто так не успокаивало его, как копание в моторе; при этом он саданул себе молотком по пальцам, перепачкался в масле, сломал отвертку, после чего, исчерпав лимит ругательств на месяц вперед, смиренно предстал перед портнихой Лучаной и получил от нее овечий жилет, сандалии и посох. Жилетка оказалась блошиным мотелем, ремни сандалий врезались в икры, от посоха несло навозом. Но с появлением Людмилы Донато забыл обо всех запахах и приободрился. Половина Людмилиного лица была скрыта голубым покрывалом, но другой половины оказалось достаточно, чтобы привести в движение поршни в сердце Донато.
Марию и Иосифа поставили рядышком, над яслями с Младенцем Иисусом – его тогда изображал Луиджино, тот самый, который со временем стал грабить бензоколонки. Повалил снег, как в кино, но супруги не обратили на это внимания, зачарованно глядя друг на друга. Волу вдруг приспичило, он загадил все вокруг, однако супруги ничего не заметили. Младенец Луиджино – сын кузнеца, крепыш, но неморозоустойчивый – начал приобретать синюшный оттенок, однако святая парочка и этого не заметила. Хорошо хоть ангел – то есть Аугусто, в миру пиццайоло, – знаками показал, что Младенцу не мешало бы согреться.
Младенца укрыли электрическим одеялом – еще немного, и сено бы загорелось, но влюбленные, естественно, ничего не заметили.
Наконец дон Карамбола призвал Иосифа и Марию максимально сосредоточиться, и ровно в одиннадцать все было готово. Перед яслями, освещенными фарами грузовика Моргайте, разместились статисты, в том числе двенадцать пастухов с овцами на плечах. Беднягу Ато, как всегда, преследовали неудачи: его овца все время испражнялась, горох сыпался за воротник. Были там и другие второстепенные персонажи рождественской истории. Коммунист Моргайте в роли дровосека читал от скуки газету “Унита”, за что и получил выговор. Ангел нетвердо стоял на ногах, расшитая бисером рождественская звезда – произведение портнихи Лучаны – ярко сияла и искрилась. Вол и осел подрались. Вола угомонили огромной порцией чечевицы, а осла – успокоительным уколом. В итоге у вола началась отрыжка, а сонный осел захрапел. Главные действующие лица ненадолго отлучились, чтобы выпить чего-нибудь горячего. В полночь, когда зрители торжественной процессией подошли к пещере, кто-то заметил на шее у Иосифа следы губной помады, а у Мадонны на покрывале – прилипшее сено. Такой поворот сюжета сценарий не предусматривал. Но их простили – все-таки Рождество. К Новому году они уже жили вместе. На Богоявление волхвы устроили триумфальный въезд на фуре. Доехали только Гаспар и Валтасар, пьяный Мельхиор вывалился по дороге. Но все равно успех был небывалый.
– Знатный вышел вертеп, – радостно сказал пьяный Моргайте. – Не хватало только Ленина.
Дон Карамбола сделал вид, будто не слышит.
…и ты не один
В том, что я одинок, виноваты китайцы.
Все началось, когда закрылся овощной магазин на первом этаже моего дома. Хозяин сказал, что из-за этих китайцев, пакистанцев – уродов косоглазых, продают в своих лавчонках гнилые тыквы и кладбищенскую траву – никакой работы для итальянцев не осталось. Конкуренция.
Магазин закрылся.
Мальчишки разукрасили двери рисунками и надписями.
Под одним рисунком было написано:
БОЛЬШЕ СМЕЕШЬСЯ, БОЛЬШЕ ПЛАЧЕШЬ
Философы сраные. Попробуй-ка засмеяться или заплакать посреди улицы.
Людям нужно, чтобы с ними разговаривали. А если не с кем поговорить, начинаешь думать. Я только этим и занимался. Столько думал, что горло начинало болеть – там оседают все печальные мысли.
Думал о том, как я одинок.
Ни женщины – хоть какой-никакой, чтоб улыбка, голос, грудь, – ни друзей настоящих.
Один всего-навсего приятель, да и у того вечно болит живот.
Наверное, все дело в том, что я некрасивый, с большим носом, как у боксеров. Правда, сломанные боксерские носы смотрятся сексуально, не то что мой – круглый, точно пробка от шампанского. Волосы у меня густые, но с жесткими завитками, как у барана, так что мне далеко до тех красавчиков из рекламы с их аккуратными прическами. А еще рожа у меня красная, будто мне всегда холодно. Даже летом.
И я не очень разговорчив.
И анекдоты рассказывать не умею.
И работа у меня паршивая – кладовщик на складе медикаментов.
Аспирин стерегу.
По воскресеньям хожу в парикмахерскую, что еще делать в выходной?
А парикмахер не знает, что делать с моей овечьей шерстью: стрижет, приглаживает, чешет – никакого результата.
Прошу меня побрить, хотя, честно говоря, брить-то и нечего.
Я хожу в три разные парикмахерские, чтобы никто не сказал: “Опять он здесь. Ходит каждое воскресенье, как будто делать ему больше нечего”.
Телевизор смотрю, но любимой команды у меня нет. Притворяюсь, что болею за “Ювентус”, но, если “Ювентус” проигрывает, мне наплевать.
На кого мне не наплевать, так это на Ирис.
Ирис работает в баре, маленькая розовощекая блондинка с пухлым ртом. На ней всегда такие джинсы, что, когда она поворачивается, ползадницы вылезает наружу; в боках слегка полновата, но башню у меня все равно сносит.
Она никогда мне не улыбается.
Всем улыбается, а мне – никогда. Капучино делает, но это ее работа, вот и все наши отношения.
Я бы и рад закрутить с ней, да не знаю, с чего начать.
Остается только дрочить. Шквал дрочилова. Под фильмы, которые крутят по местному каналу после полуночи, или под девушек месяца из “Плейбоя”, иногда под комиксы про Сатаника[3] – остались с армейских времен.
Не хватает смелости купить порно. И потом, что изменится? Дрочилово и есть дрочилово.
А ведь такие, как я, на дороге не валяются. У меня и квартира есть – удобная, по наследству досталась, – и большое сердце, и почти чистая душа. Книги люблю читать, разные, особенно исторические. Про военные кампании. Мне нравятся полководцы – Наполеон, Нельсон. Они – не помню, кто это сказал, – одиночки. Не такие, конечно, как я. Они удаляются от людей, уходят на вершину горы или на нос корабля, а люди про них говорят: надо же – такой великий и такой одинокий! А потом они возвращаются и командуют тысячами солдат, сотнями кораблей. Жозефина особенно возбуждала Наполеона, когда не мылась. Если бы от Ирис немного пахло потом, я бы все равно от нее не отказался, но она разве даст.
В общем, во всем виноваты китайцы, из-за которых закрылся овощной магазин.
В нем начался ремонт, я видел.
Не прошло и месяца, как на этом месте открылся магазин сотовых телефонов.
“Голоса” – так и назывался. Когда я его увидел, у меня аж дыхание перехватило. Потрясающая роскошь для нашего района. Разноцветные, как насекомые, телефоны – зеленые жуки и черные тараканы, серые сверчки и розовые бабочки. И разные аксессуары: провода, наушники, леопардовые футляры, чехольчики со стразами.
И продавщицы там были потрясающие. Две брюнетки, куколки, в одинаковых костюмах вишневого цвета – как двойняшки, и помада вишневая в тон форме. Ту, которая любезнее, я прозвал про себя Черешенкой, а другую, серьезную, – Вишенкой. Приветливые, уверенные и соблазнительные. Через несколько дней их тут все уже знали.
Я не заходил – стеснялся, но отирался поблизости и все глазел на них и на магазин.
Как-то утром в витрине я увидел рекламу, которая перевернула всю мою жизнь.
Море – чистое, как хрусталь. На пляже разлеглась красотка в бикини; я как раз отдрочил накануне, когда ее показывали по телеку. Она прижимает к уху телефон – золотистый, новенький, ослепительно-блестящий.
СОЛНЦЕ: ОДИН ЗВОНОК – И ТЫ НЕ ОДИН
“Солнце” – это марка мобильного телефона “Sole SS300”, новая модель “Densetsu”, китайская или японская, в общем, тоже от косоглазых.
Красотка болтает по телефону, а по берегу к ней уже мчится орава парней и девчонок, – ее друзья, которых она ждет, – все с мобильниками, все с прямыми волосами.
У меня никогда не было сотового телефона. Зачем? На складе есть телефон, и дома – старый, дисковый, в одном отверстии палец все время застревает.
К тому же мне никто не звонил.
Я никогда не представлял себя с мобильным телефоном.
Как-то раз я смотрел через стекло витрины на продавщиц, и Черешенка мне улыбнулась. Не просто улыбнулась – вышла на улицу и спросила:
– Хотите посмотреть наши спецпредложения?
“Спецпредложения”, именно так и сказала.
Возможно, в этот момент не было покупателей, однако она вышла ради меня и спросила именно меня, не интересуюсь ли я их спецпредложениями.
От нее чудесно пахло, влажный рот произносил слова быстро и гладко, сразу видно – заучено крепко. Она объяснила мне, какие бывают тарифы и в чем преимущество каждого, рассказала про опции, а еще про то, сколько эсэмэсок я могу отправлять – тысячу или даже больше. Я тогда не знал, что это такое, слушал с открытым ртом: тысяча эсэмэсок, черт возьми, – и в голове роились невероятные фантазии.
Она говорила и улыбалась, а я смотрел на ее губы и думал, что обращается она ко мне так, будто мне позарез нужен мобильник. Черешенка между тем объясняла:
– Конечно, тариф надо выбирать в зависимости от того, куда вы чаще звоните: по работе, или друзьям, или на какой-то один номер – своей девушке, маме…
Она обращалась ко мне как к человеку, у которого есть девушка и мама.
То есть мама, конечно же, у меня была, царствие ей небесное, но Черешенка считала, что у меня может быть и девушка.
Я улыбался и кивал головой; в магазин зашла влюбленная парочка, они тоже стали прислушиваться к рассказу Черешенки. Так мы и стояли втроем, знатоки сотовых телефонов, а девушка сказала своему парню:
– Я хочу посмотреть такую же модель, как у молодого человека.
Молодой человек – это я, у меня в руках модель, которая заинтересовала девушку.
На одном дыхании я выпалил Черешенке, что она меня убедила: я беру “Sole SS300”.
Потому что один звонок – и ты не один.
Черешенка сказала:
– Это новинка сезона, но золотистого цвета сейчас нет, есть красный.
– Как солнце на закате, – пошутил я.
Черешенка улыбнулась, и Вишенка тоже. Шутка удалась.
Я выбираю тариф “три к одному” – что это такое, не знаю, но название красивое, похоже на групповуху.
Затем мне приходится заполнять множество бланков с личными данными; вишневые близняшки стоят рядом и подсказывают: подпишите здесь и еще вот здесь, – как будто мы уже друзья.
Я выхожу на улицу с огненно-красным тараканом в руке. В коробке аксессуары и инструкция. Иду изучать все это в бар.
И вот вам первый знак того, что жизнь моя круто изменилась.
Подходит Ирис. В своих коварных джинсах, с выразительным пупком. Убирает со столика, но вдруг распахивает глаза и говорит:
– Какой симпатичный! Это “Sole SS300”, правда? И фотоаппарат есть?
– Думаю, нет, – отвечаю я, ни жив ни мертв.
– А у меня старая модель, – продолжает она, – дашь посмотреть твой?
Я кладу телефон ей на ладонь, а в голове проносится: сопрет, сейчас убежит с моим сотовым, бросит бар, работу и вообще все. Но она опытной рукой ощупывает мобильник, заставляет его издать парочку радостных вскриков и неожиданно сообщает:
– У тебя есть блютус.
– Ну да, – говорю.
– Круто. Мой парень обещал мне такой на день рождения.
Ирис поворачивается, показывая ниточку трусов. Как ни странно, меня не огорчает ее сообщение о парне, я счастлив, что она со мной заговорила. Я представляю, что она – моя девушка. Мы вдвоем на пляже… Солнце: один звонок – и ты не один.
Я иду на работу и чувствую себя совсем другим человеком, я ощущаю в кармане маленький, вселяющий уверенность предмет. Смотрю на людей – некоторые идут, прижимая телефон к уху, разговаривают. Я представляю себя на их месте, но мне никто не звонит.
Никто мне пока не звонит, я только что купил телефон! – хотелось мне закричать им всем.
Вот он, я достаю его, делая вид, будто проверяю сеть.
Я уже знаю, что так говорят: у мобильных телефонов, как у рыбаков, есть сети.
Когда я держу в руке Солнце, я вижу во взглядах неожиданную теплоту, неизвестное прежде единение. Близость. Сплоченность посвященных. На складе меня встречает охранник Барбьери: усищи, форма, пистолет. Этот тип вечно надо мной издевается.
Он хочет открыть рот – конечно же, для того чтобы выдать очередную идиотскую шутку, – но я достаю из кармана телефон.
На мгновение он замирает.
– Значит, ты решился.
– Специальное предложение, – отвечаю я, – с блютусом.
– У меня тоже. Можно футбольные матчи смотреть. Иногда от него есть польза.
Он достает черный аппарат, экран в два раза больше, чем у меня. Еще бы! У Барбьери все должно быть больше. Но сегодня он меня не подкалывает. А когда я ухожу, прощается.
Так проходит два дня.
Ирис теперь тоже здоровается, но мне этого мало: нужно ловить момент, начинать новую жизнь. Телефон есть, прекрасно, но никто мне не звонит. Я дал свой номер Барбьери. Дяде из Кампобассо. И еще – Джиджи, тому самому, у которого вечно болит живот.
Барбьери прислал мне сообщение, буквы видно плохо:
ГОВОРЯТ, СУХОДРОЧКА ПОРТИТ ЗРЕНИЕ.
Не ахти какая, но все-таки первая эсэмэска, и я ответил:
СПАСИБО.
Дядя из Кампобассо мне не звонит. Джиджи тоже.
Как-то раз я проходил мимо витрины “Голосов”, хотел посмотреть новинки. Черешенка узнала меня и жестом пригласила войти.
– Как телефон?
– Отлично.
И в этот момент – о чудо – в моем кармане заиграла музыка. Чудесная, волшебная мелодия.
– Вы не отвечаете? – спрашивает меня Черешенка.
– В каком смысле?
– У вас телефон звонит…
– Ах да, конечно, – говорю я.
Кто-то ошибся номером. Мне бы сказать: ничего страшного, ну что вы, звоните, когда хотите.
– Кто-то ошибся номером.
– Бывает. Может, вам не нравится мелодия звонка?
Не мог же я признаться, что слышу ее впервые.
– Нет, по правде говоря, немного… ретро, – не теряюсь я. – Мне бы хотелось что-нибудь современное. У вас можно купить?
– Ничего покупать не нужно. В вашем мобильном телефоне шестьдесят разных мелодий. Хотите, выберем вместе?
Я рядом с ней, ее кукольное личико совсем близко от меня, пальцы уверенно бегают по клавишам.
– Вот, послушайте. Называется “Забвение”, вальс. Потанцуем? – хотел я спросить, но не решился.
– Или эта, “Горячий джангл”. Или “Арабская ночь”. Вам нравится “Арабская ночь”? Лично мне нравится вот эта. “Рифф-рафф” называется. Забавная, правда?
Странные звуки, будто мышь стонет.
– Хорошо, оставьте эту.
Всю неделю я занят учебой – по вечерам читаю и перечитываю инструкцию. Теперь я знаю о своем телефоне все: установил время, число, две красные рыбки на дисплее, знаю назначение каждой кнопки, нашел функцию “индикатор соты” – что это такое, непонятно, но мне нравится. Каждый день меняю мелодию звонка, умею пользоваться меню “Контакты”, правда, номеров там немного – я занес туда телефоны парикмахеров, аэропорта, неотложки и три номера, выбранные наугад в телефонной книге. Постоянно звоню Джиджи, чтобы спросить, как дела. Отправил Барбьери эсэмэску:
ОПАЗДЫВАЮ. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ЗАДЕРЖКА —
а он ответил:
ЗНАЧИТ, ТЫ БЕРЕМЕННА.
Не понял.
Все-таки теперь он со мной здоровается, показал свой пистолет, объяснил, что он шестнадцатизарядный и с двадцати метров пробивает листовую сталь.
Могу сказать, что у меня появился новый друг. Дерьмовый, но все-таки.
Однако проблема остается: мне никто не звонит.
Все утро, сортируя маалокс и назепам, я обдумывал ситуацию, и вдруг меня осенило.
Мне в голову пришла идея, которая изменит всю мою жизнь.
После работы иду в центр города. Неспешно прогуливаюсь, высматривая человека, говорящего по сотовому. Вот и он, господин в элегантном пальто, так называемом лодене, – вот он подходит ближе, и я быстренько достаю свой телефон. Подношу его к уху, как будто отвечаю на звонок. Останавливаюсь посреди тротуара. Передо мной Лоден – остановился, размахивает руками. Мы стоим в одинаковых позах, оба с мобильниками, оба что-то кричим в трубку. И неожиданно Лоден жестом показывает мне, как достал его разговор. Я жестом отвечаю: и меня тоже.
Разве это не удивительно?!
Я подружился с незнакомым человеком, о существовании которого минуту назад даже не подозревал. Я могу строить догадки, кто же ему так надоедает: бестолковый коллега, или друг с больным животом, или красивая женщина.
Гуляю до позднего вечера среди освещенных витрин, вижу “Голоса” на каждом углу и все время громко болтаю по телефону.
– Инженер, я сейчас не могу говорить…
– Нет, Карла, сегодня вечером не получится…
– Барбьери, что вы себе позволяете, это хамство!
– Не морочь мне голову, выпей маалокс и ложись спать…
– Конечно, но пенальти не было…
Перехожу от одной темы к другой, говорю то весело, то строго. Люди смотрят на меня, ловят мои слова, в их глазах я замечаю восхищение: этот господин не расстается с телефоном – сколько у него дел, сколько женщин, сколько друзей, а что касается пенальти, по-моему, он прав.
Началась новая жизнь.
Неделю назад я был одинокий человек, ходил как в воду опущенный, а сегодня я на глазах у всех обсуждаю по телефону свои дела, женщин, футбол и все такое.
Когда есть Солнце, один звонок – и ты не один.
Репертуар у меня небольшой – всего несколько тем.
В бар, где работает Ирис, я захожу, делая вид, будто болтаю по телефону с женщиной: говорю шепотом, смеюсь. Кажется, будто Ирис все равно, но я уверен – она ревнует. Раньше я всегда ждал, а сейчас она сразу предлагает мне капучино.
Однажды даже добавила в кофе взбитые сливки, хотя я не просил.
Еще немного – и она моя.
На складе, наоборот, говорю громко:
– Дорогая, не звони мне на работу, пожалуйста.
Барбьери больше меня не подкалывает. Пригласил пойти вместе с ним пострелять в тире. А я показал ему, как установить в телефоне мелодию звонка “Фанфары берсальеров”.
Дома, после ужина, иногда подхожу к окну, разговариваю по мобильному, смеюсь. Прохожие поднимают головы и смотрят.
Это еще не все.
Мне бы хотелось больше внимания. Я заметил, что у многих по два телефона.
В “Голосах” распродажа. Скидки на весь ассортимент. Потрясающе низкие тарифы.
Захожу смело – как-никак, я уже не новичок. Ко мне с любезной улыбкой подходит Вишенка.
– Я бы хотел купить еще один телефон, – говорю уверенно. – Думаю, он мне не помешает.
– Разумеется, – отвечает она. – Один для работы, другой – для личной жизни.
И хлопает ресницами, когда произносит “для личной жизни”.
Черешенка все-таки приветливее – улыбается мне издалека; жаль, что она сейчас разговаривает с какой-то старушкой, которая совершенно не разбирается в мобильных телефонах. Вишенка не такая милая, зато у нее большие титьки и глаза с поволокой. А еще – темная помада, как у вампирши.
Вишенка тоже все знает наизусть. Показывает мне десять мобильников, один лучше другого. Я выбираю черный, с фотоаппаратом. Снова бумаги, подписи, инструкции.
И вот я иду в бар, где работает Ирис, и выкладываю на столик сразу два телефона.
Ирис говорит:
– Вот это да! С фотоаппаратом!
Я тут же, не раздумывая, начинаю ее фотографировать. Она не возражает, только смеется.
Теперь она моя, в меню “Галерея” моего телефона, на заставке. Для дрочилова? Ничего подобного. Я уже другой человек. Я знаю, что скоро в моем архиве будет сто, тысяча таких девчонок. Моих знакомых или подруг.
Но на следующее утро происходит нечто неожиданное. Вхожу на склад, разговаривая по сотовому с таинственной подружкой, и тут Барбьери, который явно не в духе, обращается ко мне:
– Одно из двух: либо твоя девчонка редкая зануда, либо ты только делаешь вид, что с кем-то болтаешь.
Не думаю, что он действительно так считает. Но я боюсь разоблачения и в тот же вечер нахожу гениальный выход. И как это не пришло мне в голову раньше?! Я могу звонить с черного телефона на красный! Самому себе! Готовлю быстрый вызов на черном, нажимаю в кармане кнопку, и раздается звонок красного телефона. Звук установлен на максимальную громкость, все оборачиваются. Кто-то сомневается? Да, вот теперь мне по-настоящему звонят!
Победа! Мой телефон звонит повсюду: на улице, в автобусе, на работе. Я обстреливаю Барбьери мелодией “Рифф-рафф” и вальсом “Забвение”. Проделываю этот фокус даже в церкви и в ответ на упрек какой-то старушки объясняю:
– Простите, это моя старенькая мама, если я не отвечу, она будет волноваться.
– Тогда конечно, понимаю.
И на тихой старой площади, вечером, снова звучит мой “Горячий джангл”, и люди смотрят на меня, а я фотографирую закат. Телефон звонит, звонит, даже ночью – для моих соседей. Ведь я – деловой человек.
Но однажды происходит беда: манипулируя телефонами в карманах, я роняю один из них. Дисплей разбивается.
Покупаю еще два мобильных про запас. Отдаю в ремонт разбившийся, теперь у меня четыре телефона.
В два раза больше, чем пистолетов у пистолеро. Я могу сделать так, чтобы два из них зазвонили одновременно, вот смеху-то будет!
Но я хочу большего.
Я решил, что сегодня вечером приглашу Ирис прогуляться, плевать мне на ее парня.
Я разработал четкий план: сначала зазвонит черный телефон, и я накричу на Барбьери. Потом зазвонит красный – и я поругаюсь с некоей Чинцией. Потом я скажу Ирис: что же, вечерок у меня освободился, не хочешь меня утешить? Я покажу тебе, какие фотки может делать “Sole Black 123”. Можно ли отказать парню, у которого четыре постоянно трезвонящих мобильника, такому абоненту, как я, – такому уверенному, сексуальному?
Но к Ирис нужен особый подход. Новый телефон. Я видел один – размером с ладонь, похож на маленький компьютер, можно закачивать различные мелодии звонка – “Набукко”, например, или Рамаццотти, любимого певца Ирис. Захожу. Много народу. Черешенка как-то странно на меня смотрит, здоровается холодно. Стою в очереди. Улыбаюсь Вишенке, но та чересчур серьезна, говорит с каким-то рохлей, явным неоабонентом. “Не мешало бы им увеличить персонал”, – обращаюсь я к даме, стоящей впереди меня. “Целый час убиваешь на то, чтобы получить новый номер”, – отвечает она. “Вы правы, – откликается какой-то господин, – у меня вот телефон украли, а вернуть себе старый номер – одно мучение”. – “Представляете, у меня четыре номера, это безумие. А какой у вас тариф, офис или бизнес? А международный роуминг?”
Разговор избранных. Разговор посвященных. Разговор мечтателей.
Наконец-то я оказываюсь перед Черешенкой. Притворяюсь, что отвечаю на звонок:
– Знаешь, Чинция, не будем сейчас об этом… Я в “Голосах”, покупаю новый телефон… Дам ли тебе номер? Не знаю, ладно, заканчиваем…
Прерываю разговор и – Черешенке:
– Простите, но сегодня утром просто наказание какое-то.
Черешенка смотрит мне прямо в глаза. Не нравится мне этот взгляд. Раньше вот так смотрела на меня Ирис – до того, как жизнь моя изменилась.
– Странно, что у вас звонит телефон, – холодно произносит Черешенка, – этот номер должен быть заблокирован.
– Заблокирован? Вы шутите?
– Нет. У вас не оплачена даже первая квитанция. Тысяча сто десять евро. На вашей кредитной карте нет денег, такую информацию мне выдает компьютер. Все ваши четыре номера заблокированы. Поэтому я не могу дать вам новый.
Только теперь я понимаю, что на радостях промотал целое состояние – вот уже месяц как я не проверяю свой счет в банке. Мобильные телефоны, абонентская плата, налоги… Даже звоня самому себе можно наговорить на круглую сумму. Я совершил ошибку.
– Не может быть… Надо будет спросить мою секретаршу, – бормочу я. Иду к выходу.
Но за спиной слышу чей-то голос:
– Вот это да, покупают по четыре телефона, а потом оказывается, что нет денег на их оплату.
– Как дети, – вздыхает дама, старая маразматичка.
Я ухожу, но в ушах звучит насмешливый голос Черешенки. Наверное, она говорит клиентам: открою вам один секрет. Представляете, что у него в распечатке звонков? Знаете, что он делал?
Онанист телефонный! Сам себе названивает! Тариф У2: урод-звонит-уроду! И волосы у него, как у барана!.. И ну хохотать…
Возвращаюсь, шпионю через стекло витрины.
Нет, никто не смеется.
Или увидели меня и перестали.
Вот как все было, доктор.
С того дня я не мог спать. Ночами слонялся по дому. Смотрел на свои телефоны – немые, бесполезные. Они больше не зазвонят.
Я снова оказался один.
Вы говорите, что я и раньше был одинок, никто мне не звонил, я просто ломал комедию.
Нет, раньше было по-другому.
Хотите, называйте это комедией, но тогда я был одним из них, одним из абонентов мобильной сети.
Плохо быть одному, но еще хуже снова стать одиноким.
В общем, вчера утром я пришел на работу. Дождался, когда Барбьери пойдет в уборную – я знаю, что перед этим куртку и пистолет он оставляет на стуле.
Я взял пистолет.
Пошел в “Голоса”.
Не для того, чтобы грабить. Чтобы отомстить.
Я стрелял по витрине. По самым дорогим телефонам. Сделал пять или шесть выстрелов. Стекло, телефоны – все превратилось в осколки, Черешенка кричала. Тем хуже для тебя, предательница!
Потом пошел в бар. Хотел напугать Ирис. Но у этой потаскушки был выходной.
И тогда я стал стрелять по игральным автоматам, по телевизору, по холодильнику.
Когда я вышел оттуда, поверьте, я хотел сразу пойти к вам, доктор, хотел пойти в полицию и сдаться.
Но увидел тех двоих. Двух китайцев. Японцев, вы говорите, да какая разница. Их мобильник зазвонил – крошечный, но живой, – и мужчина ответил по-японски. Потом он передал телефон жене, она тоже стала говорить.
Мне никто никогда не звонит, а им – из Китая!
Это они во всем виноваты, это из-за них на месте овощного магазина появились “Голоса”.
И они смеялись.
А я не понимаю по-китайски, может, они смеялись надо мной.
И тогда я выстрелил, доктор.
Не хотел, но выстрелил.
Я знаю, что у него дырка в животе, но ведь это японец, его всегда можно починить, правда?
Почему вы так на меня смотрите?
Простите, это “Sole Wsb” у вас на столе? С Интернетом и футболом в прямом эфире?
Можно посмотреть?
Перевод Ирины Боченковой
Обычный вокзальный бар
Набитый битком вокзальный бар в городе Б. гудел. То были дни массового отъезда на отдых, сравнимые разве что с еврейским исходом. Жертвы отпускной лихорадки с чемоданами и рюкзаками штурмовали вагоны, не дожидаясь, пока оттуда высыпят такие же, как они, любители летнего отдыха; толпились, изнуренные жарой, на перронах; сбивались в живописные группы, напоминающие не то рождественские вертепы, не то армейские привалы.
В погоне за ледяными банками и влажными бутылками люди теснились у касс бара и, выбираясь из очереди, держали свои трофеи высоко над головой, словно хоругви во время крестного хода, или по-матерински прижимали к груди. Солдаты пялились на розовощеких северянок, гитары альтернативнослужащих стукались о телеобъективы самураев, монументальные мамаши не спускали глаз со своего беспокойного выводка, папаши, навьюченные как ишаки, пытались последним свободным пальцем удержать на поводке собачонку, одуревшую от духоты. Пока терпеливые железнодорожники что-то объясняли командиршам отряда монахинь, вооруженных четками, мимо двигалась плотная группа молодых людей, и принты на их футболках сливались с принтами на рюкзаках в огромный полип, готовый проскользнуть в вагон через единственное окошко.
Четыре африканца, каждый со своим бутиком, с переменным успехом раскладывали товар; пятый отдыхал, улегшись среди бус, деревянных жирафов и солнечных очков, – как султан в королевстве, выставленном на продажу.
Две старушки в черном, проездом с островов, резали сыр для кучки ребятишек в трусах. Тучный, потный мужчина в шортах цвета фуксии с надписью “SportLine” пил пиво прямо из бутылки, смело демонстрируя всем ляжки тираннозавра. Бомж нес все свое богатство: в одной руке сложенный картонный дом, в другой – гардероб.
Светловолосая лань – надушенная красавица – проскользнула вперед между столиками, распаляя воображение солдат, в том числе альтернативщиков; но, увы, тут же к ней присоединился Геркулес в светлой майке-сеточке и вежливо встал в очередь, возвышаясь над коренастыми калабрийцами и шустрыми девушками из Романьи, чувствующими себя в предвкушении курортных дискотек гонщиками в поул-позишн на старте “Формулы 1”.
Ждали проходящего отправлением в 9:06, но он опаздывал; дополнительного на 9:42; 10-часового, второй класс в середине и в хвосте состава. Все прислушивались к объявлениям: “Поезд из…”, “Поезд на…”
Только два посетителя бара, словно отгороженные от толпы невидимой ширмой, выглядели безучастными на фоне всеобщего безумия.
Один – старый, голубоглазый, в поношенном костюме цвета хаки, с тросточкой, в сандалиях и шерстяных носках. Другой – приземистый, коротко стриженный, в зеркальных очках и в синем элегантном костюме. Они сидели у самого входа. Старик, назовем его Разговорчивый, потягивал пиво. Мужчина в темных очках, назовем его Неразговорчивый, лениво пил холодный кофе.
Разумеется, Разговорчивый хотел завязать разговор, а Неразговорчивый – нет. Но в подобных ситуациях любой разговорчивый всегда находится в более выгодном положении. Ему достаточно лишь раскрыть рот. Так оно и случилось.
– Да уж, народу сегодня… – начал он.
– Порядочно, – буркнул Неразговорчивый.
– Мне нравится, – продолжил Разговорчивый, нисколько не обескураженный односложным ответом. – Я хочу сказать, переполненный вокзал может действовать на нервы, зато пустой нагоняет тоску. И вот еще, как бы это вам объяснить… Люди, которые едут в отпуск, несмотря на суету, кажутся мне более радостными, более счастливыми, вы согласны?
– Допустим, – сказал Неразговорчивый, выражение глаз которого скрывали от собеседника зеркальные стекла очков.
– Лично я никуда не еду, – сказал Разговорчивый, которого было уже не остановить. – У моей жены больное сердце, и по совету врачей этим летом мы остаемся в городе. Но мне нравится приходить сюда, потому что улица, где я живу, словно вымерла – впечатление такое, будто опять ввели комендантский час. А здесь, на вокзале, полно народу, красивые юноши, красивые загорелые девушки. И люди кажутся лучше, больше смеются, громко окликают друг друга, шутят. Может, потому что, уезжая, надеются найти что-то хорошее там, куда едут. Едут-то за этим, правда?
– Здесь и те, кто возвращается из отпуска, – заметил Неразговорчивый.
– Верно, возвращаются; и тогда я с удовольствием наблюдаю, как человек выходит из вагона, оглядывается, идет по перрону и, увидев наконец встречающего, бросается к нему. И как они обнимаются – не каждый день такое увидишь! А с каким чувством целуются! В такие минуты все друг друга любят, хотя, может, через час они поссорятся, и снова все вернется в привычное русло. И приехавшему есть что рассказать; даже если во время отпуска не случилось ничего особенного, в рассказе появляются новые краски, и неожиданно дни отдыха становятся ярче, чем были на самом деле: плохое оказывается смешным, хорошее – неповторимым. Согласны?
– Не знаю. Никогда не рассказываю о том, что было со мной во время отпуска…
– Немало и таких, как вы, – таких, что держат все в себе, как драгоценную тайну, лелеют всю зиму воспоминания, словно комнатное растение, купленное летом. И, может быть, вернувшись из отпуска, замечают, как они соскучились по своему любимому старому городу. Улица, где они живут, уже не кажется им такой унылой, как обычно. Они строят планы, думая про себя: “Эта зима будет лучше, чем прошлая”. Возможно, этим планам и не суждено осуществиться, но что с того? А те, кто уезжает? Пусть от подготовки к поездке они устают больше, чем за неделю на работе, зато они надеются. Надеются, что в местах, куда они едут, их ждет что-то новое – то, что изменит их жизнь. А может, им достаточно будет нескольких летних фотографий, чтобы рассматривать их зимними вечерами. Как вы думаете?
– Думаю, – ухмыльнулся Неразговорчивый, – что вы злоупотребляете пивом.
– Вы как моя жена, – вздохнул старик, – она тоже так считает. Но знаете, как только я понял, что никуда не поеду, я сказал себе: что же мне теперь – сидеть дома, бурчать себе под нос, смотреть передачи о пробках на дорогах или завидовать тем, кто уехал? Когда я прихожу сюда, то чувствую себя частью праздника, представляю, что я на море, в горах или там, где меня ждет что-то особенное. Посмотрите, например, на ту девушку: у нее на спине написано “Ocean Beach”. Глядя на нее, я вижу себя под пальмами, вдыхаю свежий морской воздух.
– Вообще-то “Ocean Beach” – это марка рюкзаков. Свежий морской воздух, говорите? Здесь, где нечем дышать из-за давки?
– Вы правы, – сказал Разговорчивый. – Я тоже не выношу толпу. Ненавижу очереди, задыхаюсь в потоке машин, еле сдерживаюсь, хочется схватить палку и всех разогнать – прочь, прочь, дайте мне немного места, хотя бы несколько метров. А ночью шум спать не дает: мопеды, в окнах злые лица, и каждый думает, что он единственный изнемогает от духоты. Да, иногда я прихожу в бешенство, но потом спрашиваю себя: разве жить в обществе не означает защищать личное право на часть пространства, на воздух, на тишину, на уважение, на надежду – при этом не видя повсюду врагов, агрессоров, нахалов, которые норовят пролезть вперед. Вот вы, если на улице вас кто-то толкнет, что подумаете? Что он это сделал нарочно?
– Ну и вопросы, – вышел из себя Неразговорчивый. – Да о каком уважении вы говорите, не видите, сколько здесь в баре бомжей, сколько никчемных, жалких людишек?
– Может, вы и правы. Но не смотрите на них в те моменты, когда им плохо, когда они сломлены, раздавлены. Посмотрите на них, когда они встают на ноги, когда они веселы, когда воспряли духом. Видите того негра: тащит на себе черт знает что, чтоб продавать это черт знает что на черт знает каких пляжах, да еще при этом поет! А вон та старушка – какое наслаждение она получает от сигареты. А те два молодых человека, которые, мягко говоря, не отличаются элегантностью… Но обратите внимание, как они спят, обнявшись, прямо на полу…
– Да, понимаю, о чем вы думаете, – продолжил старик. – Что вы не такой и что вам до них дела нет. И все-таки я уверен: и вы тоже, хотя бы раз в жизни, оказывались в такой ситуации, что вызывали жалость. Но последнее время в этой стране все чаще выкидывают людей на помойку. Срок годности у них сократился, как у йогурта. Старый – он! – срок вышел. Наркоман – он! – больше месяца не протянет. Безработный – он! – все равно плохо кончит. Боже упаси, я не о политике. Но если уж мы об этом заговорили, у нас граждане только те, кто идет в одном темпе, – не знаю, интересуетесь ли вы велоспортом; или нет, хуже – те, кто ходит строем или кто гребет деньги лопатой.
– Не горячитесь, – отреагировал Неразговорчивый, – не хотите говорить о политике, а целый митинг устроили!
– Вы правы, я болтун. Но я каждый день вижу, как люди набрасываются друг на друга ни с того ни с сего, ненавидят тех, кого не знают, повторяют телевизионную муть, вместо того чтобы говорить о том, что их волнует. Как тут не прийти в ярость?! И мне все равно, поднялись акции на бирже или упали. Меня беспокоит, растет или падает алчность и жестокость. И вот что я вам скажу. Какая там нищета, какой кризис! Мы такая страна, что могли бы экспортировать радость, как апельсины, помогать другим странам, могли бы быть народом, дарящим надежду, – вместо того чтобы всего бояться и устанавливать видеонаблюдение вокруг дома.
– Не валите все в одну кучу. Порядок, конечно, нужен, – фыркнул Неразговорчивый.
– Вы правы, правы, я преувеличиваю. Хотел только объяснить вам, почему я провожу здесь все свое время. Просто думаю, жить нужно так, словно на следующий день уезжаешь или, наоборот, возвращаешься. Тогда начинаешь больше ценить и то, что оставляешь дома, и то, что приобретаешь. Боль легко услышать, она обрушивается на тебя, кричит, у нее ужасный голос, от нее никуда не спрячешься. У надежды голосок тоненький, не сразу понимаешь, откуда он доносится, чтобы найти ее, обшариваешь все углы. Или – идешь на вокзал.
– Пустые слова, – произнес Неразговорчивый, посмотрев на часы. – Навести порядок в стране гораздо сложнее.
– Согласен, – сказал старик, улыбаясь. – Извините, что пристал к вам со своими разговорами, вижу, вы уезжаете. Надеюсь, вы едете в приятное место и замечательно проведете отпуск.
– Спасибо, – ответил Неразговорчивый и пошел к выходу, продираясь сквозь толпу.
Трудно говорить с человеком в черных очках, подумал старик. Невозможно догадаться, что он думает на самом деле. Может, я надоел ему. А может, в чем-то он со мной согласился. Похоже, некоторые боятся говорить о надежде. И все равно, мне нравятся люди, которые приезжают и уезжают. Да, они могут быть жадными, нервными, безалаберными, ленивыми, грязными, они толкаются и занимают чужие места, но у них есть право попытаться еще раз, попробовать найти свое место под солнцем или, вернувшись домой, начать все с нуля. Да, с нуля, хотя бы один раз в жизни – прежде чем сдаться. Не так много, но хоть что-то.
Мимо него к прибывающему поезду пробежала семья. Мальчик неуклюже тащил за собой громыхающий трехколесный велосипед. Девочка на бегу придерживала рукой соломенную шляпу, чтобы не слетела. Отец – в рыбацкой жилетке с тридцатью карманами, ясное дело, не вспомнить, в какой из них сунул билеты. Жена обшаривала его, ругая. Бомж смеялся, наблюдая за ними. Заснувший негр проснулся, зевая, как лев.
Старик допил пиво, вытер лоб и вышел, пошатываясь, на первую платформу. После бара с кондиционером он словно нырнул в кипящий бульон. Увидел Неразговорчивого, который направлялся к выходу. Кажется, уже без чемодана, а впрочем, какая разница. Старик слишком увлекся, разглядывая людей. Ему показалось, он что-то понял, что-то важное, что понадобится ему в последующие, оставшиеся годы.
Если бы у меня была тетрадь, я бы сделал в ней запись, подумал он.
“Сегодня, вокзал в Болонье, 2 августа 199… XX века, десять часов двадцать минут, народ радуется, потому что уезжает, и я делаю вид, что тоже еду”.
Перевод Натальи Симоновой
Тициано Скарпа
Фундаментальные вещи
Роман[4]
Перевод Геннадия Киселева
© 2010 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
© Геннадий Киселев. Перевод, 2011
1
Твоя мама пошла прогуляться. С момента твоего рождения она впервые отходит от тебя так далеко. Мы остались дома одни, ты и я. Ты заплакал. Я взял тебя на руки, побаюкал, но ты продолжал реветь. Я ходил взад-вперед по коридору, держал тебя одной рукой, а другой гладил по головке, напевая при этом что-то вроде колыбельной. Все без толку. Ты голосил еще громче. Уткнулся мордашкой в мое плечо и оглушал меня.
– Что такое, маленький мой?
Я говорил с тобой, чтобы ты непрерывно слышал звук моего голоса. Я менял тембр голоса, поскольку колыбельная не возымела никакого действия. Я шептал тебе на ушко:
– Что такое?
Я уже начал думать, что это из-за меня. Может, я что-то не так делаю, ну, не знаю, неправильно тебя держу. Мне еще нужно наловчиться.
Через какое-то время я позвонил твоей маме и специально поднес трубку к твоей роташке, пока ты кричал.
– Слышишь? – спросил я у Сильваны.
– Уже иду, – сказала она.
И часа не выдержали друг без друга.
Я подождал. Я не знал, что делать. Ты по-прежнему ревел. Тогда я аккуратно положил тебя животом вверх на кухонный стол. У тебя было багровое личико, глазки исчезли в складках, ручонки скрючились. Я уставился на тебя, не понимая, как из такого крошечного тельца могут вылетать такие громкие и резкие звуки.
Я стянул с себя свитер. Расстегнул рубашку, снял ее. Скинул заодно майку и остался голым по пояс. Снова взял тебя на руки и поднес к груди, опустив чуть ниже.
Никаких инструкций тебе не понадобилось. Твои малюсенькие губки сами начали поиск. Проторили себе дорожку по коже, в волосах, чуть не выщипав их. Было немного щекотно. Отыскали сосок (не знаю, как ты понял, что это сосок: мой сосок такой маленький.) Начали методично сосать. Твои щеки двигались сами по себе. Они выполняли процедуру, известную несколько миллионов лет. Но на сей раз что-то не сработало. Ты нахмурил лоб. Не мог поверить, что краник уже пересох. Ухватился пальцами за волосы на моей груди и потянул. Принялся сосать сильнее, с жадностью. Мне стало больно.
Извини, но тебе следует как можно скорее понять, что молоко пойдет не из каждого соска, к которому ты присосешься. Лучше усвоить это сразу.
– Извини, малыш, – произнес я уже вслух. Кто знает, сколько раз, начиная с этого дня, я не смогу дать тебе того, в чем ты нуждаешься.
Ты самозабвенно продолжал сосать, пожалуй, еще ненасытнее. Наверное, я внутренне содрогнулся и скорчил гримасу.
– Неплохо бы и мне это усвоить, – пробормотал я.
Не знаю, кто из нас двоих уступил первым. В какой-то момент ты оторвался от моей груди. Закинул голову и завопил что было мочи. Я глянул на грудь: сосок немного покраснел. Я его потер. Услышал шум за дверью, в замочной скважине повернулся ключ. Я рванулся, схватил одежду и едва успел зайти с тобой на руках в ванную. Я осмотрел твои губы. На какое-то мгновение мне показалось, что они измазаны моей кровью.
2
Сынок, я потратил очень много времени, чтобы понять одну простую вещь: взрослые не говорили мне правды. До меня это дошло лет в четырнадцать. Именно в этом возрасте я осознал, что они не говорили мне, как в действительности обстоят дела. Не потому что взрослые были плохими. Просто они не могли.
Знаешь, ведь отец в детстве не отведет тебя в сторонку и не скажет: “Ума не приложу, как мы дотянем в этот раз до конца месяца”. И математичка не признается тебе с легким сердцем: “Я не вызвала твоего соседа по парте, потому что втюрилась в него”.
Что такое любовь, что такое власть. Что такое деньги, болезнь, смерть. Взрослые скрывали от меня правду о важных вещах. Я взялся за перо, чтобы не совершить той же ошибки. И еще потому, что вряд ли сумел бы сказать тебе все это с глазу на глаз.
Так-то вот.
Я купил эту тетрадь для тебя. Не смотри на почерк, главное – смысл тех слов, с которыми я к тебе обращаюсь.
(Хотя нет, главное как раз почерк. Главное не смысл, а то, что в нем отразился мой порыв и что одно уже не отделить от другого.)
Взрослые думали, что мир рухнет, если они будут честными до конца. Я смотрел на мир вокруг себя, и он мне не нравился (откровенно говоря, мой внутренний мир мне тоже не нравился). Я видел, что и взрослым он не нравится. И я не понимал, почему они его защищают (ведь не говорить о том, каков он на самом деле, означало защищать его). Они молчали, или говорили о другом. В основном о футболе.
Мне было четырнадцать лет. Я ненавидел их. Всех. И отца тоже.
(Ну вот, начать-то я начал, но совершенно не представляю, что из этого выйдет. Ума не приложу, в какой манере тебе писать. Постараюсь не городить лишнего, чтобы особо не утомлять. От мата тебя начнет коробить. А без него ты решишь, что я притворщик. Стану заигрывать, примешь меня за подхалима. А не стану и примусь описывать все от и до – помрешь со скуки. Заговорю по душам – хуже не придумаешь! Через слово буду кривляться и паясничать. Либо рассмешу, либо набью оскомину, а ведь хотел втереться в доверие. Постараюсь не пересаливать, да боюсь, получится слишком пресно.) (Вот что такое отец. Его или слишком мало, или слишком много. Что бы он ни делал, все не так. В каком-то смысле это даже радует. Вечно ты будешь непутевым, твержу я себе. Помни об этом с самого начала. Так что успокойся и действуй. Без оглядки. Все и так пойдет наперекосяк. Пиши, пиши своему дитяте. Сам напросился, твержу я себе, теперь иди до конца.)
3
(Когда ты спишь, это впечатляет. Ты словно познаешь во сне какие-то фундаментальные вещи, основы жизни. Может, ты видишь сны. Тебе снится, что ты дышишь, перевариваешь пищу.)
Каким ты станешь в четырнадцать лет? Как будешь выглядеть, читая эти строки? Мне не удается представить тебя. По твоему теперешнему лицу мало что можно понять. Да, ты похож на твою маму, очень похож. Но если оторвать взгляд от твоих глаз (что не так-то просто) и хорошенько присмотреться к другим частям тела, то мне уже кажется, что нос у тебя мой. Хотя с возрастом лица меняются. Детские лица попеременно напоминают лица отца и матери. В какой-то момент они приходят в равновесие. А через год-другой идут своим путем, удаляясь от облика родителей.
Желаю тебе, пока сможешь, держаться поближе к маминому лицу. Оно того стоит. Сильвана настоящая красавица. Не то что я. Тут и говорить не о чем. Кроме твоей внешности, я не могу представить и твоего характера. Что ты будешь думать обо мне. Я полагаю, в четырнадцать лет ты плюнешь мне в лицо (или тебе захочется плюнуть). Это нормально. Тебе уже будет в напряг меня выносить. Так и должно быть. Иначе ты никогда не повзрослеешь.
4
С тобой пришел познакомиться Тициано. Мама только вынула тебя из ванной. Ты весь лоснился от воды.
– Ну и полуфабрикат, – сказал Тициано, увидев тебя голеньким. – Свежая куриная грудка в целлофановой упаковке.
У Тициано нет детей. Ему и так хорошо. Он вечно насмехается надо мной, потому что я никогда не скрывал от него, что хочу детей. Вот и сейчас, когда ты родился, он без зазрения совести говорит, что думает. В нашем с Сильваной присутствии. Куриная грудка в целлофановой упаковке!
Хотя он прав. Ты неправдоподобно гладкий. И впрямь какой-то сырой. Я посмотрел на Тициано и Сильвану, на их и на мои руки. Наша кожа еще молодая, но уже грубоватая.
– А ты протухший судак. Тьфу! – съязвила Сильвана.
Сегодня, когда я переходил улицу, передо мной проехал на велосипеде старик. Я часто его встречаю. Обычно он носит коричневую шляпу. У него темно-лиловый нос, смуглое нездоровое лицо, одного цвета со шляпой. Не думаю, что он болен. Он такой уже много лет. Просто он старый. На лице застыла вечная гримаса отвращения. Он не злится на мир. Старик испытывает отвращение к самому себе. Он обижен на собственное тело.
Жизнь готовит нас на медленном огне, и мы подрумяниваемся изнутри. Я объят своим пламенем. Тебе придется наблюдать за тем, как я увядаю. Я превращусь в страшного заморыша, но прошу тебя, постарайся запомнить тот слабый свет, который я испущу, сгорая.
5
Мы вышли с тобой одни. Наша первая прогулка вдвоем. Я не отрывал глаз от твоего личика, разве что изредка поглядывая на светофоры и пешеходную дорожку. Постоянно проверял по твоему выражению лица, все ли в порядке. Окружающий пейзаж полностью сосредоточился на твоем лице. Так будет еще какое-то время, сказал я себе. Отныне мир сожмется и примет твои очертания, яркие, выпуклые. Ты стал самой плотной точкой вселенной. Тебе достаточно подать слабенький голосок, чтобы полностью мобилизовать меня. Я люблю твою маму, но сейчас центром мироздания являешься ты.
Я гулял, глядя на тебя и не замечая, куда иду. Неожиданно я очутился перед супермаркетом. Делать нечего, зашел. Разумеется, я не мог припарковать тебя одного, а сам пойти за тележкой. Вместо нее я продолжал толкать по проходам супермаркета твою коляску.
Я взял с полки бальзам для мытья посуды. Пузырек был маленький и помещался в руке. Я прижимал его к ручке коляски. Потом взял пакетик орешков. Еще я увидел упаковки яблок по сниженным ценам, но не знал, куда их такие большие девать, – так ни одной и не взял. Потом передумал, уложил бальзам и орешки в коляску, у тебя в ногах, и взял упаковку яблок. Понес ее в руках. Упаковка тяжелая, такую в коляску и не положишь.
(Потерпи, я рассказываю все по порядку, чтобы было понятнее. В конце концов, все вышло само собой, не нарочно.)
(Я робею перед тобой. Боюсь, прочитав эти строки, ты будешь во всем меня упрекать. Вот я и пытаюсь дойти до мельчайших подробностей, чтобы оправдать каждую свою фразу. Здесь все подчиняется твоему взгляду. Я чувствую себя как на суде. Приговор выносишь ты.)
Я продолжал набирать покупки, укладывая их сначала у тебя в ногах, потом вокруг тебя. Я аккуратненько размещал их на шерстяном одеяльце вдоль бортиков коляски. Бальзам для мытья посуды, пакетик орешков, йодированную соль, соус “песто”, самоклеющиеся настенные крючки, одноразовые трехлезвенные бритвы. Кассирша растерянно смотрела на меня, пока я вынимал все это из коляски и раскладывал на маленьком кассовом конвейере. Я обложил тебя товарами: пузырьками, пакетиками, банками, этикетками с указанием срока годности и штрихкодами. Вокруг тебя уже сияет товарный ореол.
6
В какой-то момент ты почувствуешь ко мне ненависть. Я уже начинаю свыкаться с этой мыслью. Готовлю себя. Ты только-только родился, и, если я не слишком преувеличиваю (и не умру раньше), впереди у меня целых четырнадцать лет твоего расположения. И уж я не премину этим воспользоваться, чтобы выдержать удар, когда тебе будет неприятно от одного моего вида. У меня в запасе четырнадцать лет. И я постараюсь сделать так, чтобы ты не слишком сильно меня ненавидел в переходном возрасте.
(В первую очередь, чтобы не раздражать тебя, я не должен больше писать “маленький мой”. Если тебе, четырнадцатилетнему, что и будет действовать на нервы, так это то, что тебя все еще считают маленьким. Или что кто-то вечно напоминает: ты таким был.)
(Может, я все делаю не так. Может, не надо описывать тебя беспомощным новорожденным на руках у родителей. Может, в первую очередь четырнадцатилетнему мальчику нужно, чтобы ему не напоминали всю дорогу, что он был ребенком. Он и так был им до недавнего времени. Нет, это невыносимо. Он и слышать об этом не желает. И его можно понять. Он становится сильным, обходится без посторонней помощи.)
(Это все равно что пытаться надеть на бабочку пустой кокон, только что сброшенную и еще влажную оболочку. Я и есть эта оболочка, эта жижа, которая никак от тебя не отлипнет. Я должен набраться сил и насладиться твоим взлетом.)
7
Как мне тебя называть? Я еще не свыкся с твоим именем. В конце концов, я уступил твоей маме, и мы назвали тебя так, как хотела она. Впрочем, у меня не было никаких мыслей по поводу того, как тебя назвать. Я бы немного подождал, узнал бы тебя получше. Ты проявил бы какие-то черты, соответствующие определенному имени. Ну, скажем: “Когда плачет, он норовит растянуть звук “э” и делает так: э-э-э. Вот и назовем его Эмануэле!”
“Наоборот, дадим ему такое имя, которое как можно меньше напоминало бы его плач. Назовем его Арнольдо”.
Это я так, в шутку. Было бы правильно, думал я, выслушать первым делом тебя, чтобы понять твое истинное имя, звук, на который ты будешь откликаться всю свою жизнь.
– Настоящее мужское имя, – настаивала твоя мама. – Мужское. Как раньше.
Так Сильвана произвела на свет и твое имя. Теперь она склоняется над тобой и нежно шепчет:
– Марио, Марио.
Пускай будет Марио, я не возражаю. Я пришел в адресный стол официально зарегистрировать тебя. Я уверенно внес твое имя в книгу записей живых слов. Но я не спешу называть тебя по имени. Вначале мне хочется рассмотреть тебя таким, какой ты есть. Младенец. Новорожденный. Комочек розовой кожи. Сырой полуфабрикат, как говорит Тициано. Организм, способный дышать и кричать. Внутри тебя бьется маленькое сердце. Ты наш ребенок.
Мы называем тебя по имени, хотя тебе всего несколько дней от роду. Ты еще не настоящий “ты”, хотя у тебя все есть. Интересно, когда ты начнешь выделяться на смутном фоне человечества? Ты впишешься в принадлежащую тебе фигуру, придав ей все более узнаваемые черты. Ты примешь свой внешний облик, наделенный твоей индивидуальностью, начнешь быть самим собой. Ты уже весь тут, кроха. Рано или поздно в тебе появится и твое я.
Мне хотелось бы называть тебя попросту сыном, сыночком, но это звучит слишком приторно. Это напоминает какие-то невообразимые ситуации, далекие эпохи. Возможно, на самом деле их никогда и не было. Их могли инсценировать в какой-нибудь рекламе или телепостановке с урезанным бюджетом, в котором сэкономили на сценаристах. Вряд ли еще где-то отец обращается к сыну “сыночек, сынок”. И потом это высокомерно, по-собственнически. Я бы не смог так к тебе обращаться, когда ты начнешь говорить и понимать эти слова. Я решил рассказать тебе, каким образом устроен этот мир. Но все еще не пойму, как к тебе обращаться.
Марио, сынок, дитятко мое, кровиночка моя, малышик мой новорожденный, малютка моя неоперившаяся, человечек мой бессловесный, я пишу тебе из глубин твоего рождения, из самых первых дней твоей жизни, я тянусь к тебе, надеясь, что ты прочтешь меня в свои четырнадцать лет, в другое время и в другом месте. Прочти эти строки таким, какой ты есть, со всей своей душевной чуткостью и силой духа. Я люблю тебя.
8
Как я мог совершить такую глупость? Я притащил тебя в супермаркет до того, как ты увидел море! Полный идиот. Теперь уже ничего не исправишь. Ты навсегда останешься ребенком, увидевшим супермаркет раньше моря. Впрочем, если подумать, так оно гораздо логичнее.
Все равно это ужасно. Ладно, если бы ты родился в Падуе, Милане или Болонье. Но здесь, именно здесь, на этом острове! Место, где ты появился на свет, имеет форму соломки. С одной стороны его омывает море, с другой – полузакрытая акватория, этакое прибрежное морское озеро с соленой водой. На самом острове, вдоль всей соломки, протянулись улицы. Хотя улица вообще-то всего одна, без начала и конца. С обеих сторон дома и магазины. Они обращены в глубь острова и выходят на асфальтированные дорожки. Делают вид, что находятся в самом обыкновенном материковом городке. Так, словно вы можете жить в глубине острова, притворяясь, что ни справа, ни слева от вас нет никакой воды.
Сегодня я попробовал пересечь остров по горизонтали, от берега до берега. От северо-западного берега до юго-восточного (от лагуны до моря.) Я насчитал шестьсот одиннадцать шагов, плюс-минус полкилометра. А вот точной длины я так до сих пор и не знаю. Километров десять, не меньше. Предлинный и преузкий остров. Говорю же тебе, соломка.
Зимой купальни защищены плотиной из песка. Когда-то в конце купального сезона деревянные кабинки разбирали, а по весне собирали снова. Теперь осенью приезжают экскаваторы, делают длинную насыпь высотой два-три метра, подальше от воды, за первым рядом купальных кабинок. Песчаная плотина в состоянии защитить их от яростного натиска моря. Насыпать ее быстрее, да и стоит это дешевле, чем разборка и сборка кабин. При этом возникает странное впечатление, будто собирается строительный материал для гигантского замка из песка или еще недоделанной китайской стены, которую нужно утрамбовать с помощью лопатки и ведерка.
Конец ноября. Море набегает на берег низкой широкой волной. Тонкие полоски плоской воды. Новая полоска накрывает предшественницу, за ней спешит следующая. Вода внахлестку застилает воду. Барашки, глубиной в несколько сантиметров, растягиваются на десятки метров. Они приносят достаточно воды, чтобы залить складки песчаного дна, похожие на сморщенную нёбную полость. Вдоль кромки берега возникает зеркальная гладь. Море специально нарезает воду тонкими полосками, чтобы в них отражалось небо. Выходит незамутненная лазурь.
Я шел по зимнему песку, твердому, тяжелому. Толкал перед собой коляску, в которой был ты. Приятно было оборачиваться и смотреть на наши следы. Две параллельных, чуть изогнутых, колеи, посредине отпечатки моих ног. Мой путь внутри твоего, моя дорожка в твоей дороге.
Вдалеке на пенистых пластинах волн я приметил стайку необычной живности белого цвета. Наверное, медузы выплыли наконец подышать под безобидным зимним солнцем.
(Я знаю, медузы водятся в теплых морях, на воздухе они разлагаются. Все это происходит летом, а как они зимуют, я понятия не имею. Погружаются ли они в спячку? Может, они превращаются в кусок прозрачного, опалового льда, дрейфующего на поверхности воды.)
Я подошел ближе и увидел, что это были всклокоченные барашки размером с батон. Гонимые ветром, они скользили по водной поверхности, кувыркаясь на морской глади.
При соприкосновении с водой пузырьки закипали и перемешивались. Барашки дыбились, словно карабкаясь на самый верх, затем опадали и тянулись вперед. Вся эта кишащая масса казалась живым существом.
Какое-то время я неотрывно наблюдал за происходящим.
Потом вытащил тебя из коляски, приподнял и подставил ветру. У тебя был смешной и торжественный вид: стеганый комбинезон, на голове перекосившаяся вязаная шапочка. Я принял солидную позу, расставил ноги и, выпятив грудь в сторону моря, возгласил:
– О яростные буруны, о пузырьки, теснящиеся в сгустках пенных волн, о беспокойные личины жизни, о суррогаты резвых тварей, парящих по морской глазури, живите же и здравствуйте! Я сострадаю вашей грусти, о вы, бегущие на берег вновь и вновь. Не будучи живыми, вы ими кажетесь. Способны вы лишь взор дурманить всех тех, кто видит вас издалека и поначалу принимает за живых. Вы упиваетесь притворной жизнью, берете вы ее в кредит от затуманенных обманом глаз. Мне жалко вас, покладистые пузырьки, я разделяю ваш порыв: стремились вы живое формой наделить. Мне жаль пластины волн, по коим вы скользите: подобно вам они изображают то, чего и вовсе нет. В них преломляется вся бездна неба. Пластины, глубиной не больше дюйма, вбирают в тоненькую оболочку безбрежные просторы небосвода! Мне жаль и вас, – и тут я поднял голову, направил взгляд за горизонт и приподнял тебя повыше, – о дорогие облака, гигантские пары, которым нет покоя в оцепеневших контурах, изменчивые формы, клубы, клубящиеся живо, не живя! Мне жаль вас всех, напыщенные существа, стремящиеся жажду жизни утолить напрасно. Я преклоняюсь перед вашей многосложной грацией и говорю вам с уважением: я, Леонардо Скарна, можно просто Лео, и моя жена, Сильвана Кодусси, соединили наши жизни не из притворства или показухи ради; слепили мы комочек клеток, который в самом деле жив, он жив, и все тут, – это Марио!
(Естественно, ничего этого я не говорил. Я бы никогда не смог вот так сходу нагородить столько высокопарной чепухи. У меня и духу бы не хватило. Тем более, что рядом со мной был человек в резиновых сапогах. Он исследовал песок с помощью полуметровой палки. На одном конце палки было кольцо, на другом, под рукояткой, – жестянка. Наверное, металлоискатель. Думаю, тип в сапогах выискивал какие-нибудь цацки, посеянные летом отдыхающими. Внутри меня вовсю звучала речь о пене, пластинах волн, облаках, я весь кипел, но постыдился сойти в глазах незнакомца за сумасшедшего.) (Сейчас я стыжусь того, что постыдился.) (Почему я такой? Почему мы такие? Что за чистоплюйство мешает нам открыто проявлять наши чувства? И сколько вреда приносит нам их подавление? Разве они не черствеют, если их все время держать в себе? Может, мы не хотим выставлять их напоказ из ревности, чтобы не делиться ими? Невыраженные чувства, которые мы приберегаем только для себя, лечат нас. Они источают целебный внутренний свет и служат нам тайным оберегом, созданным нами для нас же самих. Лишь мы одни можем правильно их понять, именно потому что они не выражены.) (Правда, я все равно написал об этом и сам себе немного смешон.)
9
Не то чтобы взрослые все время говорили неправду. Просто они не могли сказать правды. Они по-своему берегли меня. Не мог же отец выплескивать на ребенка свои переживания. У меня было счастливое детство. Еще и потому, что отец скрывал свою нерешительность. Он боялся прослыть неудачником.
Сегодня многие открыто признаются, что у них было несчастливое детство. Тот, кто испытал в детстве счастье, повзрослев, испытывает чувство вины. Пусть это были дети богатых родителей, пусть их любили. Став взрослыми, они все равно найдут, на что попенять. Никтошеньки не скажет тебе, что у него было счастливое детство. Все как один твердят, что были бедными или, по меньшей мере, несчастными детьми. Они знают, что не достойны жизни, особенно – жизни на этой части планеты, самой богатой и пресыщенной. Поэтому, вопреки совести, они убеждают себя, будто у них было хотя бы несчастливое, мучительное детство. Ничего подобного не было и в помине, но так они оправдывают свое существование.
Я был счастливым ребенком. Потом, в четырнадцать лет, понял, что все это – сплошной обман. Теперь твой черед.
10
Ты родился совсем недавно. У тебя есть глаза, но нет взгляда. Ты смотришь так: открываешь глаза и впускаешь в них свет. Ты не фокусируешь лучи. По крайней мере, мне так кажется. Я встаю перед тобой и смотрю на тебя. Ты на меня не смотришь. Ты видишь меня. Но не как отдельный предмет. В тебя входит все сразу: фигура и фон. Я не выделяюсь в твоем восприятии. Я составная часть всего, что входит в тебя через глаза. Для тебя я тусклое пятно света.
Сегодня я повез тебя в коляске на берег. Но не на морской берег, а на берег акватории, по ту сторону острова, вдоль его северо-западной кромки. Задником мне служил небольшой засаженный деревьями сквер возле причала водных трамвайчиков. Я встал под деревьями. Поднял тебя на вытянутых руках. Мы оказались лицом к лицу. У тебя были открыты глаза. Перед твоими глазами были я и деревья. Я подгадал так, чтобы в объектив твоего взгляда попала моя голова в окружении темно-зеленой листвы и ветвей деревьев. Я поместил свою голову в тенистый нимб.
Я держал тебя до тех пор, пока не заболели руки. Тогда я опустил руки и опустил тебя на свои колени. Отдохнув минутку, я снова поднял тебя так, чтобы ты видел сам (если глагол “видеть” вообще применим к твоей манере таращиться.) Ты вбирал в себя окружающий мир, оставаясь таким же загадочным. Присутствовал, отсутствуя, или отсутствовал, присутствуя. И не переставал во что-то всматриваться, не моргая. Я продлил выдержку, словно перед фотоаппаратом с открытым объективом. Мне хотелось прочно запечатлеть в тебе первообраз твоего отца.
Я наблюдаю за взглядом твоих непомерно больших глаз. У тебя одновременно ошарашенный и невозмутимый вид. Такое впечатление, что ты здесь и где-то еще, ты сейчас и в другом времени.
На самом деле, если кто и не может быть здесь целиком, целиком и сейчас, так это я. В голове постоянно вертится какая-нибудь мысль. Она уводит от настоящего и напоминает о событиях далекого прошлого. Чаще всего мысль отвлекает меня от окружающего мира. Ты же находишься внутри настоящего, ты часть его. Ты и не собираешься отгораживаться от внешнего мира стеной мыслей. (Я пытаюсь учиться у тебя. Вот как я поступлю. Я ничему не буду тебя учить, наоборот, сам стану твоим учеником.)
(Настоящее состоит из миллиардов людей, думающих совершенно о другом. Сумма этих мыслей и есть настоящее.)
11
Все, я решил. Я передам тебе эти страницы, когда тебе исполнится четырнадцать лет. Не хочу думать о том, какое впечатление они на тебя произведут. Возможно, ты станешь ненавидеть меня еще больше.
А я продолжу углубляться в истину. Мне не страшно, здесь внутри приятный свет. Это свет твоего взгляда.
Откуда во мне эта боязнь, что ты не любишь и отвергаешь меня? Зачем я тебе пишу? Чтобы ты не возненавидел меня, когда подрастешь? Но так и должно случиться, это правильно. Я это понял и заранее свыкаюсь с этой мыслью, за четырнадцать лет до того, как все это произойдет. Возможно, мои записки помогут мне лучше подготовиться. А может, я пишу ровно для того, чтобы вызвать твою ненависть. Чтобы меня ненавидели, да-да, но на моих условиях. Ненавидели по вполне определенной причине: за те самые слова, которые я тебе пишу и буду писать. Все лучше, чем безуспешно пытаться понять, что во мне не так, в чем я ошибся, почему ты перестанешь меня любить. Во всяком случае, я с этим смирюсь. Хоть какое-то утешение, не так ли?
12
Сегодня я вернулся на северо-западный берег острова, противоположный морскому. Сел на скамейку, взял тебя на колени и повернул лицом к воде, которую бороздили водные трамвайчики и катера. Попробовал научиться смотреть, как смотришь ты. Ты смотрел на все широко открытыми глазами и ничего не понимал (а может, все понимал и ни на что не смотрел). Я попытался последовать твоему примеру, то есть ничего не фокусировать, а выхватывать предметы наугад, вбирая в себя все вокруг.
Все вокруг свелось к большому яркому пузырю. Пузырь двигался, а сквозь него проходили разные предметы.
Предметов нет, есть большой яркий, дрожащий пузырь. Колебания света внутри большого цветного пузыря и есть вещи.
Я должен научиться смотреть, пока не пойму, что же побуждает вещи к обособлению. Что такое границы, контуры. Докуда продолжается одна вещь и где она заканчивается. Там кончается и ее название. Оно обозначает более глубокую границу, кроит взгляд, взрывает светящийся пузырь.
Какое-то время мы еще сидели на берегу, ты и я. Мимо проходили катера. Они рассекали воду. Я смотрел на тебя, на то, как видишь ты. А ты все таращил глаза. Катер в них проплывал совершенно не так, как в моих глазах. Я попытался смотреть так же. Я увидел водную массу, внутри которой был рассекающий ее катер, но они не были разделены. Вода и катер слились в одном движении.
У тебя были открыты глаза. Ты не следил взглядом за катером. Тот двигался сам по себе из стороны в сторону. Ты видел не внешние очертания предметов, а единое целое, внутри которого пульсировало движение.
Говорят, что дети не фокусируют взгляд, не наводят резкость. Я в это не верю. Такое объяснение основано на параметрах взрослого зрения. Твое зрение и зрение новорожденных вообще совершенно другое. У нас трехмерное зрение. У вас двухмерное. Это не хуже и не лучше. Просто это другой вид зрения.
Вы видите все разом: человеческое лицо перед собой и воздух вокруг него, воздушные слои спереди и по бокам, облачко света, окружающее предметы. Вы видите мир, погруженный в себя, рассеянный, всеобщий, лучистый. В нем нет ни фона, ни фигур, потому что в нем все цельно. Все предметы соприсутствуют одновременно. Вещи склеиваются. Перед вами одна-единственная сцена общего погружения.
(Я уже знаю, о чем ты думаешь. Мол, заходит издалека. А кончится тем, что выложит обычные сексуальные переживания, какую-нибудь семейную тайну, собственную гнусность, козни родственников, неурядицы в делах, зависть, юношеские мечты, политические компромиссы. Я надеюсь тебя не разочаровать, но не жди от этих записок бог знает чего. Я никогда ни в кого не стрелял, не спал на улице в картонной коробке, не строил церкви из бутылочных крышечек, но все равно живу на свете, стою перед лицом моего не-бога, и у меня есть за что его укорять.)
(Так что я хоть и обыкновенный человек, но необыкновенный.)
13
Сегодня днем я как следует тебя рассмотрел. Ты был голенький. Мама смазывала тебя тальком после купания. В виде присыпки тальк больше не используется, я этого не знал. Вот те раз. В аптеке объяснили, что присыпка из талька вроде как вредна для слизистой и легких. Теперь из талька делают мазь. Ничего себе. Все равно что мраморная или звездная мазь (есть же звездная пыль). Ты подставляешь попу для смазки, до всего остального тебе нет дела.
Пока ты весь пронизан твоей мамой. Сначала, погрузившись в нее, ты дышал ею. Теперь ты питаешься ею. Ты пьешь ее молоко. Пьешь и отрыгиваешь. Мамина волна проходит сквозь тебя. Ты подставляешься ей, ты готов выдержать ее напор. Постепенно ты научишься впитывать ее. Но ты еще не догадываешься о следующей волне, идущей на тебя. Это волна слов. Мы накроем и оглушим тебя словами. Мы с мамой большие болтуны. Я еще больший, чем она. Мы тебя уболтаем. Словесными присыпками, мазями и молоком с высоким содержанием словесного жира.
Твоя мама все документирует. Она документирует тебя. Как проходили роды. В день по фотографии. Потом съемки на камеру. График веса. Список подарков. Она записывает все, что случилось с тобой впервые: как ты в первый раз заплакал ночью, взял мамину грудь, покакал. В общем, всю твою летопись ведет она. Может, еще и поэтому я взялся за перо. Чтобы не отставать.
Всего несколько дней назад, когда ты только родился, я думал, что достаточно просто тебя любить. Быть рядом с тобой. Тискать тебя. Менять тебе подгузники, мыть тебя. Баюкать. Вставать по ночам. Напевать колыбельную с неизменными ю. “Баю-баюшки-баю” – самая простая из них. (По вечерам я беру тебя на руки, хожу туда-сюда по коридору и мурлычу тебе на ушко “баю-бай”.) Оказывается, все не так просто. Оказывается, надо тщательно фиксировать всю ту заботу, которой мы тебя окружаем. Делать заметки, указывать даты, составлять графики, фотографировать. Извини, но это не в моем характере. Я готовлюсь к бою. Знаю, это будет неравный бой, ведь я выйду на него после четырнадцатилетней подготовки. Но и ты не останешься в долгу. При всей твоей неискушенности, ты взорвешься внезапно, стихийно, неистово и агрессивно, подобно растениям, выпускающим по весне шипы.
14
(Я продолжаю, хотя какая-то пружина все время сдерживает и тянет меня назад. Меня одолевают сомнения. Нужно ли засорять словами твои первые месяцы жизни, когда ты еще не умеешь говорить? Впереди у тебя достаточно времени, чтобы слушать, говорить, читать. Нужно ли заполнять письмом единственные дни твоей жизни, когда ты защищен от разного рода смыслов? Ты проживаешь время, о котором у тебя не сохранится никаких воспоминаний. Кроме тех, внешних, воспоминаний, которые сохраняет для тебя Сильвана. Зачем подбрасывать тебе новые? Не следует ли поступать наоборот и брать их от тебя, от твоего умения быть внутри света, внутри пространства, без всякого фильтра из слов?)
Ты очень похож на вещь. О тебе говорят, а ты не можешь возразить. Ты весь обсказан, обговорен. Ты – загадочное существо. Такое маленькое и взрывное (от сна ты переходишь к плачу, от чистоты к испражнениям, и каждый раз это происходит неожиданно, бурно). Тебе адресованы все слова, ты их конечный пункт. Добравшись до него, слова могут отдохнуть и наполнить тебя смыслом. В последние дни, как нетрудно догадаться, все только о тебе и говорят: мы с Сильваной, наши друзья и родственники, которые заходят на тебя посмотреть. Ты молчишь, ты не можешь ответить. Или взрываешься.
Когда я остаюсь дома один, я пробую стать таким, как ты, освободившись от всего, от чего только можно. Никаких слов. Я впадаю в прострацию, как ты. Я отдыхаю. Я подчиняюсь своему весу. Попеременно шевелю то рукой, то ногой. Лежу с открытыми глазами, впускаю в них свет. Открываю рот, издаю звуки, одни гласные, слышу эту странную вибрацию, слушаю ее всей головой. Просовываю язык между зубами и губами, начинаю сопеть, но моя слюна не пузырится, как твоя. Пускаю слюни, но не нарочно, по рассеянности, со мной такое бывает. В этом и есть моя цель, я пытаюсь добиться полной отрешенности. И даже не пытаюсь, просто отрешаюсь, и все. Или отрешенность приходит сама.
Правда, слова все равно нужны, чтобы решиться на это до, и рассказать, как я это делаю, после. Пусть даже речь идет о том, чтобы избавиться от слов.
Сегодня я растянулся на полу, полностью отдавшись силе тяжести.
Я поднял руку, промычал что-то бессвязное, булькая слюной, выпучил глаза, ни на что не глядя, все в точности так, как, по моим наблюдениям, делаешь ты.
Мне удается входить в состояние, близкое к твоему, даже не раздеваясь. Одежда на мне. Чтобы еще больше походить на тебя, осталось разве что начать писаться. Это было бы доказательством того, что я достиг полного отрешения и способен не обращать внимания на естественную надобность.
К этим упражнениям (правильно ли называть их упражнениями?) я все равно приду через словесную исповедь. Я смотрю на тебя, изучаю, взвешиваю, решаю. Разогнавшись, я прыгаю с трамплина слов. Долетаю до края последнего предложения и попадаю туда, где слов больше нет. Если получится, снова окажусь на другой стороне, цел и невредим. Но я не пленник того состояния, в котором пребываю, и готов выйти из него, когда захочу. Я в трезвом уме. Скажем, сегодня я лежал на полу с блуждающим взглядом. Потолок входил в мою грудь через ноздри. Потом снова выходил наружу и уплывал вверх. Я вдыхал его. Тут позвонили в дверь. Это вы с мамой возвращались с гулянья. Я тут же пришел в себя.
Быть в своем уме – это не предел, это не значит, что упражнение сорвалось. Я не собираюсь воскрешать поэзию утраченного детства, мне до этого нет никакого дела. Скорее мне бы хотелось быть поэтичным в зрелом возрасте, сохраняя при этом ясность ума, сознание, дар слова и все такое прочее.
Мне бы хотелось научиться у тебя пребыванию в мире. Заразиться от тебя.
15
Какой видится мне та минута, когда ты будешь читать эти строки? Предложение, которое я сейчас пишу, окажется у тебя перед глазами через четырнадцать лет. В ту самую минуту, когда ты его читаешь, оно у тебя перед глазами. Где ты его читаешь? Где ты сейчас? Где я тебя сейчас вижу? Мне представляется, что ты читаешь эти строки, прогуливаясь по светлой аллее. Ясное утро, ты идешь мимо деревьев, поглядывая по сторонам, чтобы не натолкнуться на прохожих. Переходя улицу, ты бросаешь взгляд налево, потом направо. Продолжаешь чтение на пешеходном переходе. Смотришь перед собой: свободен ли тротуар. Читаешь дальше, снова поглядываешь вправо-влево: нет ли машин. В предложение проникает свет. Во время чтения ты вскрываешь слово за словом, озаряя их своим взглядом и светом утренней аллеи. Ты пронизываешь фразы вдумчивым взглядом, взламываешь их смыслами, которые возникают из раскрывшихся бутонов черных букв. Слова радуются тому, что сквозь них прошел взгляд моего сына. Он распахнул их и насытил светом.
16
Тициано снова заглянул навестить тебя. Мы вышли пройтись по берегу: он, я и ты. Днем стояла хорошая погода, еще светило солнце. На границе между землей и водой разгоралась битва красок. Море выплескивало ведра жидкой лазури на коричневый берег. Тот отбрасывал ее назад под уклон, и снова выныривал, отливая еще более темным глянцем.
– Да-а, компанейский ты парень, – произнес Тициано спустя несколько минут, в течение которых я молча стоял, уставившись на море.
Я толком не знал, о чем говорить, поэтому рассказал Тициано, что пишу тебе (Сильвана об этом не знает). Я подумал, что с ним и нужно об этом поговорить, ведь он мой лучший друг. Одно время Тициано тоже писал. В каком-то смысле. Тексты песен. Для группы, игравшей в стиле трип-хоп (тогда он был в моде). Пятнадцать лет назад они выпустили диск. После этого Тициано еще больше разочаровался. Поначалу-то он гордился авторством припева “В моей кофеварке одна пустота”. У солистки был такой чувственный голос, да и мелодия легко запоминалась. Впрочем, диск прошел незамеченным. Сейчас Тициано делает вид, что не помнит этого диска, но тогда он очень на него рассчитывал, мечтал, что вся Италия дружно подхватит: “В моей кофеварке одна пустота”.
– Все это я пишу для одного-единственного человека, – сказал я Тициано. Тут я разоткровенничался и описал ему, каким вижу тебя через много лет. Солнечным утром ты идешь по аллее и на ходу читаешь эти страницы.
Тициано расхохотался.
Я ждал чего угодно, кроме смеха. Тем более от такого скептика, как он. Только я размечтался и уже видел тебя, пока описывал аллею, деревья, весеннее утро, то, как ты читаешь на ходу… Голос Тициано вылился на меня как ушат холодной воды.
– Что тут смешного?
Он полез в карман и достал сотовый. Сотовый у Тициано без клавиатуры, экран во весь телефон, приводится в действие прикосновением подушечек пальцев, их естественным электрическим зарядом. У этой мульки тысяча функций: музыка, видео, игры, записная книжка, Интернет, электронная почта. Ты можешь снимать и монтировать на ней фильм, вставлять звуковую дорожку (там даже есть программа для микширования всех музыкальных инструментов). Прямо готовая киностудия: звукозапись, монтажная и офис. И всего-то двенадцать сантиметров в длину и шесть в ширину.
– Вот смотри. – Тициано показывает мне нечто такое, чего я раньше не видел. По сути, это комбинация режимов видеосъемки и набора текста. Включая одновременно оба приложения, ты можешь набирать текст на экране, работающем в режиме съемки.
– Видишь? При желании можно строчить на ходу. И не нужно всю дорогу поглядывать, куда ты идешь, бояться, что наткнешься на ступеньку или вляпаешься в собачье дерьмо. Ты все видишь на странице, то бишь на экране, в кадре. Картинка мира – это моя страница.
До сегодняшнего дня я писал в тетради. Специально купленной. Но после разговора с Тициано почувствовал, что безнадежно устарел. И решил перейти на компьютер. Я назвал файл дляМарио14-фундаментальныевещи. doc и сохранил его в скрытой папке. Теперь я пишу тебе на домашнем компьютере. Получается световое письмо. Под каждой буквой, набранной на клавиатуре, гаснет частичка экрана. В процессе письма я зачерняю экран. Он все больше укрывается тенью. Пока моя страница залита светом. А вот Тициано пишет в движении. Он делает заметки на фоне мелькающих изображений. Письмо уже не является чем-то внешним. Слово и образ полностью слились.
– А ты все витаешь в облаках, представляя, как твой паренек читает твое послание на ходу? Хорошо, но в каком виде? Ты что, подаришь ему том в мягком пергаментном переплете? Через четырнадцать лет наверняка появятся очки с такими линзами, на которые можно будет выводить экран: видео, Интернет, все что хочешь. Нацепил на нос – и вперед. Можешь читать без отрыва от окружающего мира. Пейзажем станет печатная страница.
Я попросил у Тициано на минутку его сотовый, чтобы тоже попробовать.
Я вывожу эти строчки вдоль линии горизонта. Сидя на земле и уперев руку в колено. В руке телефон Тициано. Включен режим видеосъемки. В кадре – море. Другой рукой я набираю текст на виртуальной клавиатуре в нижней части экрана. Слова возникают поверх изображения. Наставляю телефон на горизонт так, чтобы граница между морем и небом точно совпадала со строкой текста.
Я пишу вдоль линии горизонта. Мои слова подпирает грань между морем и небом.
Как мне поступить? Снять это мгновение, чтобы страница записала процесс своего возникновения, и смонтировать короткий видеоролик, в котором слова появлялись бы по мере их написания? А может, лучше тебе самому домыслить все, что я делаю? Справедливо ли заставлять тебя додумывать недостающие детали, которых больше нет: цвет моря в момент, когда я пишу эти строки, полуденный декабрьский свет? Могу ли я всецело на тебя положиться? Как ты себя чувствуешь внутри моих слов? Удобно ли тебе? Хватит ли данной мною свободы, чтобы самому решать, о чем тебе хочется думать, о чем хочется мечтать, – в зависимости от тех мыслей, на которые наводят тебя мои слова?
Не знаю, хочу ли я, чтобы ты меня так читал. Может, через четырнадцать лет у вас и будут очки, показывающие слова. Может, появятся контактные электронные линзы или еще какая-нибудь примочка, вживляемая внутрь глаза. А может, произойдет экологическая катастрофа, всемирный экономический коллапс, и в лучшем случае эти слова дойдут до тебя на бумаге, в виде пачки ксерокопированных страниц.
И потом, дело не только в бумаге, свете или пейзаже. Важнее всего твой взгляд. Именно от него исходит свет, именно в нем заложен прорыв. Эти пока еще черные слова станут прозрачными, пронзительными и продуманными только тогда, когда их прочтешь ты.
17
С чего мне начать? Я расскажу тебе, что сам понял в любви. И даже не то, что я понял, а то, как это было со мной.
Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Ее зовут не Ида. (Вот видишь, я тоже не могу сказать всей правды. Я думал об этом. А что, если моему сыну придет в голову отправиться на поиски людей, о которых я расскажу? Так не годится. Именно потому что я говорю тебе правду, я должен что-нибудь выдумать.)
(Впрочем, хотя бы то, что ее зовут Ида, а не Сильвана, может натолкнуть тебя на развязку. Развязкой этой истории будешь не ты.)
Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Тогда я впервые по-настоящему влюбился. Я совсем потерял голову. Не стану вдаваться в подробности, они не так важны. Я и сам их не очень-то помню, лет двадцать уже прошло, в памяти осталось лишь самое главное. Я встретил ее в университете. Мы только поступили, обоим недавно исполнилось по девятнадцать. Мы с Идой были родственными душами. И этим все сказано. Если вдуматься, это кажется невероятным. Во-первых, потому что у тебя, оказывается, есть родственная душа. Во-вторых, потому что тебе удалось с ней встретиться.
Я пытался представить себе всех живущих на свете людей. Шесть с лишним миллиардов. И тех, кто жил до нас в прошлых веках, и тех, кто будет жить после нас. Я размещал их на бескрайней равнине. Люди стояли тесными рядами. Бесконечное множество голов терялось за горизонтом, растворяясь в неясной дымке. При этом каждая голова была занята своим делом. Головы были повернуты в разных направлениях и не смотрели в мою сторону. Внезапно над головами возникала огромная стрелка. Графический знак спускался с неба словно в видеоигре, когда тебе указывают нужное направление. Стрелка указывала на человека, размахивающего руками.
“Это я, я здесь! Я девушка, которая тебе подходит! Та самая! Единственная! Других таких нет! Одна из миллиардов живущих на земле. Из всех живших на ней миллиардов. И из тех, что еще родятся. Ты понимаешь? Бесконечное совпадение! Чего ты ждешь? Давай знакомиться!”
18
Сегодня я открыл пачку твоих подгузников. Вынул парочку, соединил их клейкой лентой, самой прочной, упаковочной. И вставил себе в трусы. Решил посмотреть, сумею ли забыться настолько, чтобы нечаянно обмочиться и почувствовать, как это бывает, когда ты прощаешься с частичкой себя, которая вдруг растворяется и покидает тебя. Так я и вышел из дома. Я казался самому себе камикадзе, обмотанным взрывчаткой. (Теперь мы оба, я и камикадзе, ходим в пухлых трусах и боимся, что нас раскроют. Он рискует всем, его провал обречет камикадзе на жизнь в мире, который он смертельно ненавидит каждой своей клеткой. Я рискую гораздо меньше. В худшем случае, буду выглядеть по-дурацки. Правда, если кто-то из моих клиентов узнает о том, что я вытворяю, он этого не поймет. Поползут слухи, клиенты начнут чураться такого типуса, я останусь без работы и разорюсь.)
Вышло не так, как я думал. В начале дня я ходил со вздутыми трусами, ощущая мягкое прикосновение хлопчатобумажной массы, и как полный идиот испытывал к тебе братские чувства. Спустя несколько часов я начал ловить себя на мысли, что забываю о подгузниках, и даже порадовался этому.
У меня получается, твердил я себе. Эксперимент проходит успешно. Но в решающий момент я оказался в присутствии клиента и смалодушничал. Наверное, не смог положиться на непроницаемость двух подгузников, соединенных клейкой лентой. А ну как на брюках появится мокрое пятно? Или разнесется запах мочи? Короче, в конце концов я пошел в туалет и сделал все как обычно.
Ты выпускаешь наружу свои экскременты, и тебе совсем не стыдно. Ну и правильно. Чего тут стыдиться? Конечно, портить воздух нехорошо. Зато мне никогда не набраться такой смелости (разве что через сколько-то лет, когда я превращусь в старого пердуна, который будет носить памперсы). Посмотрите на меня, посмотрите на этого бедолагу. Я писаюсь, какаюсь. Надо, чтобы в удостоверениях личности была вторая фотография, в профиль, снятая в тот момент, когда вы присели со спущенными трусами и из вас вылезает какашка.
Нарочно не придумаешь: только я все это написал, выхожу в другую комнату и вижу, как твоя мама держит тебя на руках, а ты сосешь ее грудь. Оба вы голые, мытые, благоухающие. Верно, после купания у тебя разыгрался аппетит. Она сидит, дав тебе грудь. Мокрые волосы обернуты белым полотенцем. Дальше совершенно голая, как и ты. Крайне умилительная сцена. Пока сосал грудь, ты обкакался: колбаска орехового цвета выползла прямо на мамино бедро.
– Фу, какой невоспитанный! – рассмеялась Сильвана. – Так себя за столом не ведут!
19
Это было невозможно, и все же это случилось. Ида была верхом моих мечтаний, лучшей из всех, кого бы я мог повстречать на своем пути. И вот этот идеал шел мне навстречу. Как она выглядела? Не знаю, понравилась бы она тебе, но у меня от нее голова шла кругом. В общем, она меня заводила. Помню, как я впервые увидел ее голой. Всю, с ног до головы. До этого мы несколько раз занимались любовью, правда, в полумраке. Во время интимной близости ты обычно видишь женское тело частично и не можешь ясно его представить. И потом ты занят куда более напряженным делом: ты ласкаешь женщину, целуешь, гладишь ее, ты возбужден. Тебе не до созерцания. Если подумать, это не очень хорошо, скорее даже слегка агрессивно – не отрываясь смотреть на голого человека, изучать его. И все же в одно прекрасное утро я попросил ее сделать мне подарок.
(Я написал “заводила”. Неудобоваримое словечко. Оно и сейчас звучит не очень-то. Ну, то есть не мое словечко. Представляю, как ты его воспримешь через четырнадцать лет. Из этого “заводила” уже песок будет сыпаться. Говорок другого поколения, стариканы все хорохорятся. А как еще скажешь? “Она меня возбуждала” мне не нравится. А говорить “вызывала у меня волнение” или, того хуже, “у меня на нее вставал” не хочется, чтобы не впадать в такой вульгарный, прямолинейный, грубоватый тон. Это произведет только обратный эффект, да еще на родного сына! После таких словечек ты точно возненавидишь отца. Не хочу думать, будто ты читаешь меня с гримасой на лице.)
Давай иначе: при встрече с Идой меня так и подмывало навалиться на нее.
(Слова, обозначающие половые отношения, далеко неполные. Они либо сплошь затасканные, либо чрезмерно иносказательные, либо узкоспециальные. Секс вечно остается по ту сторону своего названия. Когда о нем заходит речь, просто тоска берет. Все не в ту степь. Никак не получается передать его суть подходящими словами. Хотя если поразмыслить, это очень хорошо. Несоответствие между сексом и словами доказывает его недоступность, избыточность, неистощимость. Секс выдается за пределы языка. Он больше, обширнее языка. Когда наконец мы найдем нужные слова для его обозначения и наша речь полностью совпадет с очертаниями секса, мы перестанем желать, влюбляться, делать детей.)
(Если описание целиком и полностью совпадет с очертаниями вещей, мир рассеется.)
20
С тех пор как я рассказал Тициано о своих записках, он спрашивает, какие темы я поднимал в последнее время. Ему интересно. Он заглядывает ко мне, и мы выходим пройтись. Вместе с тобой. Обычно ты сопишь в коляске, тебя ничего не трогает. Как монарха.
Тициано приятно, когда я ему звоню и сообщаю, что в перерыве между клиентами бегу домой, чтобы выгулять тебя на свежем воздухе и дать немного передохнуть Сильване.
Мы дошли до берега моря. Ветер дул сильнее обычного. Доносился запах сгнивших водорослей. Я сказал Тициано, что вчера добавил пару заметок насчет испражнений (но промолчал насчет подгузников). Еще я сказал, что после твоего рождения должен разобраться в основах бытия.
– В том, что касается обычного течения жизни, самых простых вещей, – уточнил я. – О них никогда не говорят, потому что они как бы подразумеваются. Сам посуди, если у кого-то спросить, стало ли ему легче, ты же не ждешь в ответ рассказа о том, как он облегчился.
– Надеюсь!
– Конечно, конечно. Но вот родился Марио. Я вижу, как он осваивается в этом мире, и начинаю задумываться о подобных вещах. О том, что такое дышать, есть, спать, плакать, смотреть, облегчаться…
– Кажется, последнее тебя особо интересует.
– Неправда. Взять хотя бы голос.
– Это не одно и то же.
– Вот об этом я и думаю. А вдруг – одно? Откуда нам знать, как новорожденный воспринимает вырывающийся из него голос по сравнению с вытекающей мочой. Может, у него еще нет ясного понимания разницы между ними.
– У него что, так пахнет изо рта?
– Кретин. Я имел в виду, как он воспринимает все то, что от него исходит.
– Да, но испражнения – это испражнения. А голос, его еще обрести надо, – заметил Тициано.
Мне нравится говорить с Тициано, потому что он никогда со мной не соглашается. Он вечно что-то оспаривает. Подвергает сомнению мои слова, опровергает их. Мне нужен такой собеседник. Я ни с кем не могу поделиться тайными мыслями. В том числе и с Сильваной. Боюсь, как бы она чего обо мне не подумала. В общем, у меня есть один Тициано (и ты, через четырнадцать лет, а пока – только в этих записках).
– В твоих словах мне понравилось одно, – сказал я, немного подумав.
– Что?
– Что Марио еще должен обрести голос. Это мне нравится. Человек может модулировать голос, менять звучание гласных. Ты можешь играть с голосом. Ты действительно обретаешь, изобретаешь его.
– Ну, ты слишком, слишком щепетильно ко всему относишься.
– Я?
– Да. И вечно все приукрашиваешь. Смотри, не заморочь парню голову. Рассказывай ему все как есть. Нечего из пальца всякую муть высасывать.
21
Я сидел на стуле в ее комнате. Комната студентки, заваленная чем попало. Ида вошла в ванную одетая, а вышла нагишом. Комната была освещена дневным светом. Ида вытянула руки вдоль бедер, спрятав ладони. Она улыбалась. Ида стояла совсем голая, убрав руки за спину, и смотрела на меня. Я готов был расплакаться от счастья.
Я попросил ее постоять так. Даже не знаю, как тебе это передать. Я смотрел на нее с некоторого расстояния, потом вблизи, потом снова немного отступив. Опять подошел совсем близко и внимательно ее оглядел с головы до ног. Ида застеснялась. Она никогда не показывала себя так долго и так подробно.
– А это? – ласково спросил я, заметив, что на мизинце правой ноги у нее нет ногтя. На левом мизинце ноготок был, малюсенький такой. Почти незаметный, с самого детства, но был. А на правом нет. И шрамов никаких. Кожа мизинца нетронута.
– Не знаю. Такой уродилась. Немного жаль, из-за этого я не могу красить ногти на ногах.
Я сразу же полюбил этот врожденный дефект. Для меня он и не был дефектом. Благодаря ему Ида, наоборот, выглядела особенной. Скорее, это был прорыв идеала, превзойденный идеал.
Ида была остроумной и очень волевой. Она знала, чего хочет. Я страстно желал ее и восхищался ею. Думаю, не будет преувеличением сказать, что и она была влюблена в меня по уши. Это казалось мне чем-то невероятным: я не только кому-то нравился (что уже было огромным достижением), но этот кто-то прекрасно со мной сочетался. Ида часто мне это говорила. Правда. Я не рассказываю тебе, как мы сошлись. Это не очень интересно, да я и не очень-то это помню. Странно, скажешь ты. Но это лишний раз доказывает, что для меня все получалось само собой.
Это как впервые услышать клевую песню, которая сразу же начинает нравиться. Ты одновременно удивлен и нет, потому что тебе кажется, будто эта песня была всегда. Она звучала в далеких краях до тех пор, пока ее не сочинили. Эту мелодию никто не придумал, ее попросту отыскали. Вот и для тебя она становится классикой. Это классика уже с первого прослушивания. Ты в каком-то смысле ее узнаешь. Вот что такое клевая песня.
Ухаживания не понадобились – к чему эти церемонии? Все было так легко, так естественно. Мы приглянулись друг другу с самого начала. При этом мы не слишком торопили события. Какое-то время просто встречались. И с каждой нашей встречей нравились друг другу все больше. А когда не встречались, мы чувствовали, что нам не хватает друг друга. Так что первый поцелуй стал для нас вполне логичным поступком, как и постель. Ида приехала в город учиться. Она жила вместе с подругами. Когда ее соседки разъезжались по домам, я приходил к ней, и мы занимались любовью. Я еще жил со своими.
Потом случилось вот что: одна из подруг переехала. Тогда я спросил у Иды, как она отнесется к тому, чтобы я въехал в свободную комнату. Ида посмотрела на меня и сказала:
22
(Я сделал такое, чего и представить себе не мог. Не хочу сказать, что это твоя вина, но навел меня на эту мысль ты. Я почувствовал, что хочу по-большому. Заглянул на кухню и взял первое, что попалось под руку. Кусок хлеба. Пошел в туалет и сел на унитаз. Я кусал и тужился. Жевал и выталкивал одновременно. Я стал пищеварительным трактом, сквозным отверстием. Через меня проходит мир, и я не делаю его лучше, чем он был до того, как попал в меня.) (Нет, это так просто не пройдет, легко все поругивать: мол, и хлеб становится дерьмом. Истина в том, что я удерживаю лучшие в мире ингредиенты. Мне удается превращать хлеб в самого себя. Я преломляю его: одна часть – это Лео, другая – дерьмо. Я словно развилка. Выйдя на нее, материя раздваивается, оставляя мне лучшую свою часть. Я несу ответственность за ту часть хлеба, которая становится Лео. Ответственность за лучшую часть мира, которую заставляю стать мною.)
(Об этом я Тициано не расскажу.)
23
Ида посмотрела на меня и сказала:
– Хорошо.
Не такое простое решение в девятнадцать лет. Начать совместную жизнь. Да еще и сказать об этом своим. Пустяки, скажем мы сейчас, но тогда я не спал всю ночь. Прикидывал и так и эдак, и решил начать с матери, увидеть ее реакцию. Отца лучше было не дергать. Как-нибудь объясню почему. За этим стоит тогдашняя жизнь. Люди стали жить лучше, все кругом учились, нельзя было уронить честь семьи и т. д. Короче, приходилось откупаться. Именно откупаться. Как будто ты заложник собственной социальной прослойки. Заплати нужную цену, и выйдешь из нее, как выходят из тюрьмы.
До меня в семье ни у кого не было высшего образования. Цену за мое поступление в университет заплатили отец и мать. Мое рождение, воспитание и обучение – все это перечеркнуло родительские мечты. Или заменило их совсем другой мечтой – мною.
(Отец хотел стать профессиональным баскетболистом. Он был ведущим игроком команды. Однако он все бросил, чтобы прокормить меня и моих братьев.)
Я стал мечтой моего отца.
(А ты, станешь ли ты моей мечтой? Во сколько ты обойдешься моей жизни? Сколько дашь ей?)
Отец пошел работать совсем молодым. Чтобы содержать семью и платить за обучение детей. Так что нельзя было подкидывать ему такую подлянку и ставить под угрозу мою учебу. Помню, когда я рассказал обо всем матери, у нее было такое выражение, что лучше бы я ее ударил.
– Вот так вот все бросить, на подъеме, – сказала она. – Нам было нелегко довести тебя досюда.
– Да я ничего не бросаю. Буду работать и учиться.
– Как же, как же!
Мать не могла поверить, что я справлюсь.
– Многие студенты работают и сами платят за жилье, – возразил я.
Я был настроен решительно. Ида не менее моего. Через пару месяцев начнется летний туристический сезон, можно будет подработать. Пока начать с этого. Мы действительно хотели жить вместе. Мы были совершеннолетними и хотели сами за себя все решать. Еще мы наслаждались тем, что не должны ни у кого спрашивать разрешение. Нет, мы не думали огорчать родителей, но наша жизнь принадлежала нам. Чего ждать, как все остальные? Все кругом влюблялись, но так, по молодости, не всерьез, на время. А мы с Идой нашли друг друга, так чего же откладывать?
– Что за спешка? – сказала мать.
– Нет никакой спешки. Есть как есть.
– Как?
– Так. И по-другому быть не может.
– Ну знаешь что! – вырвалось у нее. Я не узнал ее раздраженный голос. Взгляд сделался жестоким, она переменилась в лице. Помню, мать стояла у окна против света. Она говорила сквозь зубы.
Я ничего не понимал. Что я сделал плохого? Как будто я сказал, что украл, убил человека, изнасиловал девочку. Соверши я что-нибудь подобное, она точно не стала бы так злиться. Проще снискать понимание у родственников за совершенное преступление, чем за стремление стать собой (я вдруг понимаю: все, что я тебе сейчас пишу, ты сможешь использовать против меня. Я надеюсь на это).
Я знал, что, если стану жить с Идой, сумею проявить себя с лучшей стороны. Многие мои друзья учились абы как именно потому, что их по-прежнему опекали родители. Зато я буду мужчиной. Мне надоело быть юношей. Девятнадцать лет. Ты уже совершеннолетний, хотя формально еще нет[5]. Ты дееспособен, но не начинаешь своего дела. Ты достиг половой зрелости, но не заводишь семьи. Ты взрослый, но у тебя ничего нет. Я хотел сделать ставку на свою молодость. Поставить на себя и на Иду. Нам больше ничего не было нужно, нам хватало всего, у нас были мы: я и Ида.
24
Вчера вечером отключилось отопление. Стало холодно. Было поздно, все магазины закрыты, иначе я бы купил электронагреватель или печку. Или хотя бы тепловентилятор, как для обогрева ванной. Но было девять с чем-то, и я пошел в дежурную аптеку. Купил грелку. Сто лет как не покупал. Я даже не знал, что их еще делают. Точно такие были у бабушки. Никаких технических изменений. И дизайн один к одному, и цвет такой темно-розовый. То же рифление с узкими бороздками по диагонали, тот же резкий запах заводской резины.
Я вскипятил воду на плите. Залил в грелку кипяток. Плотно завернул пробку, с ужасом представив, что она может отвинтиться и ты ошпаришься. (Я не собираюсь делиться с тобой всеми кошмарными мыслями, которые приходят мне в голову в последнее время. Каждый предмет норовит обернуться наваждением. Каждое положение становится потенциальной угрозой твоей безопасности.) Я держал в руках грелку с горячей водой. Она напоминала тебя: пухлый мешочек, теплый пузырь. И вот прежде чем засунуть ее под одеяло, чтобы нагреть твою постельку, я решил кое-что сделать. Я положил ее на весы.
Два килограмма пятьсот пятьдесят два грамма. В общем, не намного меньше твоего веса. Я взвесил грелку, подумав, что внутри нее находится недостающее тепло, которое передастся тебе за ночь. Внутри грелки есть нечто твое, и скоро оно станет тобой. А еще этот предмет будет спать рядом с тобой. В каком-то смысле он заменит тебе сестренку. Ты тоже мешочек тепла, фляжка, теплый бурдючок.
Тем временем Сильвана кое-что придумала. Я вошел в спальню, держа в руках два с половиной килограмма горячей воды, и увидел, как Сильвана разглаживает утюгом нашу постель.
– Так лучше прогреется.
Всю ночь мы согревали тебя: я, твоя мама и горячая грелка. Мы были как две человеческие батареи. Вообще-то мы с Сильваной мало что можем тебе дать. Мы можем согревать тебя теплом своих тел, быть рядом, помогать в естественных надобностях. Делиться с тобой своим теплом. Тупо, но преданно. Возможно, в конечном счете только это и имеет значение.
25
– А что говорят ее родители? – спросила мать.
– Они ничего не имеют против, – отрезал я.
– Я хотела бы с ними поговорить.
– Если начнешь вставлять нам палки в колеса, я…
– Что ты?
– Перестану с тобой разговаривать. Уйду из дома, и больше ты меня не увидишь.
Мать не расплакалась. Она была слишком гордой. Но я знал, что нанес ей удар ниже пояса. Она покачнулась.
– Ты точно знаешь, что она сказала обо всем родителям? Не могу поверить, что родители отправили дочку учиться вдали от дома, а та легла в постель с первым попавшимся.
– Что ты говоришь! – взвился я.
– Я говорю, что есть.
По тому, как она на меня смотрела, я понял: мать специально меня подначивает. Хочет увидеть, стану ли я все опровергать или соглашусь с тем, чего она так боится. Как будто ей больно от одной мысли, что ее сын занимался любовью с женщиной.
– Я не укладывал ее в постель. Я ее люблю!
Это выражение прозвучало довольно странно. Особенно в присутствии моей матери. Я ее люблю. Однако это было правдой и соответствовало действительности. То, что эти напыщенные слова были единственно подходящими словами, даже немного ударило мне в голову.
– Ну конечно, молокосос!
Таких оскорблений я от матери не ожидал.
Я сделал вид, будто не расслышал ее.
– Я не первый попавшийся. Скорее последний. Первый и последний.
На самом деле, мать заронила в меня сомнение. С родителями Иды я ни разу не говорил. И ни разу их не видел. Ида уверяла, что все в полном порядке. Хоть отец и дрожит над ней, в итоге родители согласятся.
– Короче, я бы не прочь с ними поговорить. Познакомиться, – сказал я Иде.
– Не волнуйся. Так и будет. Мы их позовем сюда, или я приведу тебя в наш дом, – пообещала Ида.
Нельзя сказать, что я ей не доверял. Но вдруг мать все-таки права, и родители Иды ничего не знают о наших намерениях, а ее отец из тех, чью девочку не дай бог тронуть? Я его не боялся. Я боялся, что он ополчится против нас и разрушит нашу любовь. Мы с Идой будем работать и учиться, мы уже все решили. Обойдемся без родительских денег. Мы молодая пара и не идем на компромиссы. Мы не хотим жить как все.
Разве сами они в молодости поступали иначе? По крайней мере, мои? Я не знаю, как Идины родители, но мои поженились практически без гроша в кармане. У них был открыт один-единственный счет – сексуально-чувственный. Вот и вся материальная база. Взаимное влечение, любовь. Больше ничего. Почему же они не дают нам быть такими, какими были сами? Хорошо, им хочется, чтобы наша жизнь была не столь суровой, как у них. Я это понимал и не питал к ним ненависти. Я знал, что все делаю правильно. Я не был эгоистом, я просто хотел отвечать за себя сам.
(В какой-то момент ты сознаешь, что жизнь строится определенным образом, совсем не так, как построил бы ее ты. Любовь, работа, радость, горе. Пока на своей шкуре не узнаешь что почем – ничего не поймешь. Ты можешь принять жизнь такой, как она есть, или полностью ее изменить. Ты можешь основать религию, политическую партию, школу танцев. Можешь организовать сбор подписей за отмену похорон, после того как услышишь избитые фразы священника о твоей скончавшейся подруге, которую он в жизни не видел. Ты можешь отселиться от родителей в девятнадцать лет. Ты можешь жениться и наделать детей.)
Я и Ида своим примером опровергнем расхожее мнение о том, что молодые люди не в состоянии жить самостоятельно, поскольку их силы уходят на университет, поскольку нужно получить диплом, который даст работу, которая принесет доход, который приведет к совместной жизни, которая годам к тридцати позволит принять решение срочно заделать ребенка, поскольку пара начнет испытывать недостаток в яйцеклетках.
Дети детьми (тогда мы о них еще не думали), а мы с Идой были единым целым, и это целое должно было отделиться ото всех и пойти своим путем.
26
Сегодня утром ты казался бледненьким и хныкал. Я взял тебя на руки, потрогал головку и шею: они были влажными. Ты потел. Странное ощущение. Я даже не представлял себе, что грудной ребенок тоже потеет. Я приложился губами к твоему лобику. В моем детстве мама проверяла так, нет ли у меня температуры. Ты весь горел. Сильвана рассердилась, сказав, что это я виноват. Вечно таскаю тебя на улицу в такой холод.
– Да ему это только на пользу, – немного обиделся я. – Здоровее будет.
Мы позвонили детскому врачу. Тот дал Сильване пару простых советов. Он не столько назначил тебе лечение, сколько успокоил ее.
Я вышел прогуляться по берегу моря. Один. Поискал глазами фигурки из пены. Сегодня их не было. На песке ничего не оставалось. Ни одного безжизненного создания, притворяющегося живым. Ни одного бессмертного предмета, завидующего моей смертности. Но один предмет всячески привлекал к себе внимание. Метрах в двадцати от берега застряло огромное дерево. Оно растянулось на мелководье во всю свою длину. Из воды торчали не только корни и ветки, но и ствол.
Я подумал, что дерево вечно стоит на одном месте. Чтобы перевезти дерево, его срубают. Потом отвозят далеко от того места, где оно родилось и выросло. Оно перемещается в виде бревна, стула или зубочистки. Иногда деревья путешествуют самостоятельно, если становятся килем или кораблем. Это дерево вырвалось с корнем само, решило поплавать прямо так, не становясь чем-то отличным от себя. Ему захотелось совершить путешествие в виде дерева, понять, что значит пройти морской путь до самого конца, до кораблекрушения.
Потом я подумал, что все это плод моей фантазии. И дерево нужно воспринимать таким, какое оно есть. Оно не значит ровным счетом ничего, кроме того, чем является. Это просто дерево, лежащее на мелководье и занесенное сюда бог весть откуда. Может, его вырвало с корнем во время бури. Ветер подкатил дерево к морю. Затем дерево плавало себе, пока течение не прибило его к берегу. Тут оно и село на мель. Вот и все. И я должен набраться сил, чтобы в мыслях не уноситься от него. Я должен набраться смелости, чтобы смотреть на него и воспринимать дерево таким, какое оно есть. Это мертвое дерево, ничего кроме мертвого дерева.
27
Что-то внутри меня говорило, что действовать тайком не очень-то правильно и что мой долг – представиться Идиной семье. Если моя мать так на это отреагировала, если к отцу я и не подходил, боясь, что он воспримет эту новость в штыки, чего же тогда ожидать от Идиных родителей?
На словах все равны, а на деле разница между мужчинами и женщинами существует, да еще какая. Если сын живет своим умом, он может внушать родителям гордость. Он и соблазнит, и завоюет, и докажет, что способен утвердиться в жизни. А дочка… И потом, для чего нужны все эти тайны? Разве мы делали что-то дурное? Я подумал, что можно просто им позвонить. Представиться хотя бы заочно. Для начала сделать ставку на мать. Правда, от своей матери я многого не добился, но здесь можно было рассчитывать на прорыв. Убедить ее в моих романтических чувствах. В конце концов, я был приличным юношей.
Синьора, ваша дочь особенная девушка, я сделаю все, чтобы заслужить ее, клянусь вам. Я люблю ее. Я сам удивляюсь тому, что нахожу в себе силы произносить такие слова, слова, которые больше меня самого, больше любого человека вообще, если вдуматься. “Я люблю ее”. Звучит громко. Даже смешно. Но эту силу вдохнула в меня ваша дочь. Внутреннюю силу. Да и внешнюю тоже, потому что я намерен открыто выразить свои чувства, превратить их в дела. Я и Ида хотим быть достойными нашей любви, мы воспринимаем ее всерьез, уважаем это чувство и воплощаем его в жизнь. Уважайте и вы его, прошу вас.
Вот до каких слов я додумывался в своих фантазиях. Может, я высказал бы их не все сразу, но постепенно да. Я вырабатывал нужную тактику. Брал тетрадь, записывал отрывки телефонных разговоров с матерью Иды, пытался предугадать, какой оборот может принять наша беседа. Я невольно воображал, что мать Иды начнет выдвигать те же возражения, что и моя. Ничего не поделаешь.
Жаль, что вы это так воспринимаете. Наша любовь не взирает на лица. Мне бесконечно жаль, я еще не встречался с вами лично, синьора, мы только говорим по телефону, но уже за то, что вы произвели на свет вашу дочь и воспитали ее такой, какая она есть, – остроумной, сильной, – я люблю и вас, и вас тоже, да, именно вас, синьора, я люблю вас, потому что вы родили Иду и вырастили ее такой, и я не сделаю ничего, что могло бы вас огорчить, синьора, но вы не можете просить меня не любить вашу дочь.
Любить, да, да. Я бы еще слегка надавил на слово “любить”. Я понемногу воодушевлялся. Семейные неурядицы (пусть даже только в моем воспаленном воображении) лишь закаляли меня. Независимо от того, дадут ли нам денег или нет, станут ли помогать или нет, примут или отвергнут, наша любовь останется только нашей, она принадлежит мне и Иде, ее не могут нам даровать, но и лишить нас тоже не могут.
Дело было в начале девяностых. Тогда еще мало у кого были сотовые. У Иды такого телефона не было. У меня тоже. Равно как и у матери Иды. Так что позвонить ей напрямую я не мог. Нужно было звонить к ним домой и позвать ее к трубке. Да, просто позвонить к ним домой и попросить ее к телефону. Я волновался. А если ответит отец Иды?
Если я нарвусь на ревнивого отца, то не брошу трубку, а то еще подумает неизвестно что. Да это и не тот случай. Я спокойно попрошу передать трубку синьоре. Если же этот орк потребует объяснений, я отвечу ему со всей любезностью. Либо поговорю с ним напрямик. Как мужчина с мужчиной. Разве я не хотел доказать, что являюсь мужчиной?
Я пошел на улицу звонить из телефона-автомата. Стал искать подходящую для этого деликатного разговора телефонную будку. В те годы Италия была утыкана будками на курьих ножках. В городах вырастали эмалированные столбы с козырьками из плексигласа, заменявшие прежние телефонные будки. Если я позвоню из полузакрытого бокса, мои будущие тесть и теща поймут, что я звоню с улицы, а не из дома. Не приведет ли это к нежелательному результату? Вдруг они заподозрят что-то неладное? Какими звуками я себя окружу? Что я им предложу в качестве звукового сопровождения моего звонка? Чирикающих птичек, уличное движение, играющих детей? Я выверял все до мелочей, как будто разрабатывал план военных действий.
Тогда пользовались телефонными пластиковыми картами стоимостью в пять или десять тысяч лир. По окончании кредита их выбрасывали. Я купил карточку за десять тысяч (плюс-минус пять евро) и начал прочесывать город. У первой же будки с козырьком я остановился. Это был телефон-автомат общего пользования. Именно так он и назывался. Общего пользования. Мой телефонный звонок в каком-то смысле тоже имел общественное значение. Я совершал политический поступок. Я защищал мое, наше право на любовь. Мне нечего было стыдиться. Я сделал глубокий вдох, вставил карточку в прорезь и набрал номер.
28
Я держу тебя на руках. Так и хочется впитать в себя твой жар, снять излишек тепла, из-за которого ты потеешь и плачешь.
– Нужно потерпеть пару деньков, – сказал врач. – В этом году гуляет довольно мерзкий грипп.
Мне припомнилось, как несколько дней назад я написал, что хочу от тебя заразиться. Мы что-то говорим, записываем, а потом, со временем, из этого возникает совсем другой смысл, отличный от первоначального. Но сейчас я хотел бы поймать себя на слове и действительно перенять твой грипп. Хотя, думаю, твой жар тебе даже полезен, ты разогреваешься в схватке с противником, ты борешься внутри себя, тяжело дышишь, потеешь.
Я все равно выхожу прогуляться с коляской, с пустой коляской. Ты должен чувствовать, что я вожу тебя с собой, даже когда тебя нет. Сильвана говорит, что от этих прогулок с пустой коляской веет чем-то зловещим.
– А если прохожие заметят? Что они подумают?
Еще один способ быть с тобой рядом – писать тебе. Я спрашиваю себя, не напоминает ли это прогулки с пустой коляской?
29
Голос в трубке произвел на меня впечатление. Это был семейный голос, сильно напоминавший голос Иды. В некотором смысле я почувствовал себя как дома.
Я представился:
– Меня зовут Лео, – потом передумал. – То есть Леонардо Скарна.
Мне показалось, что для начала лучше представиться полностью. Я закладывал основу абсолютно честных отношений. Я так волновался, что готов был ухватиться за малейшую деталь. Лишь бы приободриться и понять, что все делаю верно.
– Я близкий друг Иды. Это ее мать?
Голос хихикнул.
– Извините. Я хотел бы поговорить с матерью Иды, – настаивал я.
– Что-то случилось? – спросил голос.
– Нет-нет, все хорошо, только…
– Ты можешь сказать мне. Я ее сестра.
Я немного опешил. Сестра. А я ничего не знал.
– Честно говоря, я бы хотел поговорить с твоей матерью, если можно. Если это удобно.
– Извини, ее нет дома… Ей что-нибудь передать?
Я ликовал. Голос Идиной сестры вселял бодрость. Тебе надо бы прослушать запись этого телефонного разговора (у меня ее, разумеется, нет). Иначе как передать искреннее любопытство и радушие, звучавшие в этом голосе? (Наверное, Тициано прав: нужны многофункциональные сотовые. Для чего я все это тебе пишу? Написанные слова сами по себе хлам. Тут нужна запись телефонного разговора.)
Мне почудилось, что между Идиной сестрой и мной установилось некоторое доверие. С самой первой минуты. И неудивительно. Ведь если Ида была моей родственной душой, уместно предположить, что и ее родные подходят мне по характеру. На мгновение я вообразил, что отрекся от семьи и поселился у родителей жены и у этой приятной свояченицы (в глубине души я уже воспринимал их как тестя, тещу и свояченицу). У меня было предчувствие, что в ее лице я обрел союзницу. Если в этой семье все такие, то и беспокоиться не о чем. Я строил воздушные замки, но их еще предстояло взять штурмом. Я облачился в доспехи рыцаря любви, готового сражаться против вся и всех. Сказать по правде, мне было бы намного приятнее, если бы Идина семья порадовалась за нас и наши поступки. Я был своеобразным пареньком.
Я решил, что начну близко общаться с ее сестрой, потом с матерью и, наконец, постараюсь убедить отца. Я услышал Идину сестру по телефону еще один раз. Я объяснил ей, как в действительности обстоят дела:
– Я и Ида собираемся жить вместе. Мы безумно любим друг друга и поняли, что больше тут понимать нечего.
– В каком смысле?
– В том, что мы созданы друг для друга. Все остальное вытекает из этого.
– Ой-ой-ой, – откликнулась она.
– Что-то не так? – забеспокоился я.
– Да нет, просто… Тут такое дело…
– Какое?
– Интересно, как все это воспримет отец.
Так я и думал. Я почувствовал острую боль в груди и ответил:
– Я очень надеюсь, что твой отец даст согласие. Хотя мы с Идой уже ничего не можем поделать. Мы приняли решение. Но мы не хотим против кого-то идти, во всяком случае, в наши намерения это не входит. Поэтому, как видишь, я сам иду навстречу и заранее звоню, чтобы познакомиться с вашей семьей. Мне кажется, это правильно.
– А Ида знает, что ты решил позвонить?
– Нет. Она считает это необязательным. Это я так решил. А ты тоже ничего не знала?
– О чем?
– О нас с ней.
– А мы в последнее время не так часто говорим. Она редко звонит.
– А-а. Знаешь, ты не обижайся, но я даже не знал, что у нее есть сестра.
Телефонный разговор с Идиной сестрой заставил меня призадуматься. То, что Ида стала реже звонить домой, могло означать всякое. Это могло быть добрым знаком. Она становилась более самостоятельной. Либо у нее не хватало смелости сказать своим, что она познакомилась со мной, что мы собираемся вместе жить и что она хочет соединиться со мной навсегда. Она вела себя совсем не так, как я. Я не только почувствовал необходимость открыться моим (хотя, если честно, я рассказал обо всем только матери), но и дал о себе знать будущим тестю и теще (хотя, если честно, только будущей свояченице.) Либо Ида знала, что делает. В конце концов, это ее семья, она их знает, и ей виднее, как поступать. Значит, я мог все испортить?