Читать онлайн Наследие Рима. Том 1. Oт Византии дo Кордовского Халифата и Османскoй империи бесплатно
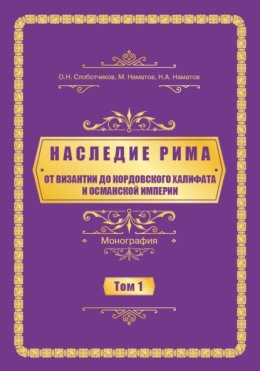
Введение
Историки традиционно относят начало Средневековья к падению Западной Римской империи (476 г.): эту теорию поддержал Эдвард Гиббон в XVIII веке. Согласно Анри Пиренну, существует тесная связь между распространением ислама – арабским завоеванием – и формированием западного Средневековья. В 1922 году он написал статью на тему «Магомет и Карл Великий» в «Revue belge de philologie et d’histoire», которая имела определенное влияние. Статья завершается такими словами: «Без ислама Франкская империя, вероятно, никогда бы не существовала, а Карл Великий без Мухаммеда был бы немыслим». С тех пор он публиковал статьи, проводил симпозиумы и конференции в поддержку своей диссертации, но лишь с опозданием написал, незадолго до своей смерти в 1935 году, свою книгу, обобщающую все его исследования и носившую название его первой статьи.
Книга будет опубликована посмертно, в 1937 году. В этом тезисе о происхождении Пиренн развивает две основные идеи: он возражает против общей теории о том, что Средневековье началось не с падением Римской империи, поскольку варвары, победившие ее, не разрушили ее, а, наоборот, романизировались и использовали ее экономически и культурно для извлечения из нее выгоды. По этой причине они сохранили Средиземное море как Mare nostrum римлян, чтобы продолжать торговлю и обмен, как это делала империя; таким образом, народы продолжали привозить свои товары с континента и перемещать их через Средиземное море, сохраняя центрa торговли в Риме, пока арабы не вторглись в часть Европы в VII веке.
Мусульманское завоевание в Северной Африке, на Западе (Испания, Корсика, Сардиния и юг Италии) и на Востоке нарушило средиземноморское единство, отделило Восток от Запада. Западное Средиземноморье перестало быть местом обмена между Европой, Африкой и Востоком, а стало мусульманским озером. Запад тогда вынужден был жить в вакууме, политическая власть возвращается на север Западной Европы, разовьется Франкское государство, и родится чисто земельное хозяйство.
Эта дата предлагается для истинного начала Cредневековья. Эти захватчики, имевшие более развитую цивилизацию, чем европейская, имели в качестве стратегии закрыть Средиземноморье для европейского судоходства, превратить морскую Европу в континентальную, значительно уменьшив ее богатство и благоприятствуя появлению вотчин на континенте, что углубило противостояние между мусульманами и христианами и привело к борьбе, в которой каждая сторона перегруппировалась и защищала свою религиозную идентичность в отсутствие другой формы национального единства.
Фазы преобладания той или иной партии на протяжении всего Средневековья можно определить в первый период господства мусульман, затем христианскую реакцию, известную как крестовые походы, и, наконец, мусульманское контрнаступление, осуществленное на этот раз Османской империей на восточном берегу Средиземного моря, пока он не был захвачен Европой в Первой мировой войне.
Было продолжение средиземноморской цивилизации после германских вторжений; так называемые «варварские» народы романизировались до тех пор, пока Средиземноморье могло играть свою роль политико-экономического и культурного единства. Таким образом, Римская империя, основанная на структуре городов, чья торговля была сосредоточена в Средиземноморье, мало пострадала от вторжений варваров в V веке. Римская культура может сохраниться на берегах Средиземного моря, влияние Константинополя перейдет от Рима.
Тезис Пиренна не вполне убедил историков его времени и последующих поколений. Невозможность сохранения эффективности античной модели на самом деле не могла быть объяснена исключительно недостаточной эксплуатацией ресурсов, поступающих с периферии империи, надо не забывать при этом, что экономический и ценностный кризис империи не затронул ее «восточную» составляющую, которому суждено превратиться в процветающую и могущественную Византийскую империю.
Также было совершенно спорным, что сильное исламское присутствие в Средиземноморье препятствовало выгодным обменам между северными районами этого бассейна и южными. В самом деле, если бы самый западный квадрант Средиземноморья фактически находился под полным контролем морских держав Северной Африки и исламской Испании, центральный квадрант находился в более сбалансированной ситуации (о чем свидетельствует присутствие мусульманских пиратов, которые могли действовать именно потому, что христианское коммерческое судоходство никогда полностью не терпело неудач).
Наконец, в самом восточном квадранте византийская талассократическая и экономическая мощь все еще могла быть полностью выражена. Кроме того, мусульманские купцы продолжали торговать с европейскими государствами либо напрямую, либо через христианских или еврейских посредников. Противостояние ислама и христианства часто носило неагрессивный и невоенный характер, купцы Гранады продавали и покупали товары в Праге, а итальянские города-мореплаватели (с IX века Амальфи, а затем постепенно и другие) продавали и покупали ткани и пряности в Египте, Алжире, Сирии, Ливане.
Однако можно признать, что, даже если не принимать полностью эту теорию, некоторые ее аспекты были хорошо обоснованы и что Пиренн имел несомненную заслугу в том, что предложил схему периодизации истории, альтернативную той, которая использовалась до сих пор. После смерти пророка Мухаммада ислам начал стремительную и неудержимую экспансию, которая привела его к завоеванию и господству в различных регионах, где мусульмане оказались в сложной ситуации: они обладали политической властью, но оказались в ситуации религиозного меньшинства. Конечно, в те первые века в таких регионах, как Сирия или Египет, христианских верований было больше, чем последователей новой религии.
Завоеватели разработали ряд правовых, политических и социальных механизмов, чтобы справиться с этим демографическим недостатком. Идеология господства также противопоставлялась другим «религиям Книги», христианству и иудаизму, более исторически сложившимся в то время. Неудивительно, что в Коране ислам уже стоял как наследник обеих религий, как высший. Мухаммад был не чем иным, как «печатью пророков», той, которая завершала список откровений на протяжении всей истории. На Пиренейском полуострове процесс был аналогичным.
Войска Тарика и Мусы захватили территорию с христианским населением и установили на ней исламское правление, разработав стратегии, очень похожие на те, что предлагались на Востоке. В этом контексте мусульмане должны были разработать идеологический дискурс, концепцию по отношению к христианам, которые были одновременно подданными и врагами на севере.
Идеологическая конструкция и восприятие превосходства, которые должны идти рука об руку с правовой и политической конфигурацией последователей Христа, возможно, не отвечали социальной реальности, существовавшей в андалузских городах где межрелигиозные отношения могли быть гораздо более подвижными.
Исследование под названием «Об обращении и изгнании христиан и идеология вокруг христиан в хрониках Альмохадов», имелo своей целью анализ образа и положения христиан по отношению к Империи Альмохадов, которые появились в самих хрониках и, согласно самим хроникам, выкованным в «унитарной» среде.
Поэтому предполагалось изучить, как фигура Ordinis Sanctae Trinitatis et Captivorum была нарисована в избранных источниках и с какой целью. Выводы подчеркнули, что христиане составляли легитимный элемент самого унитарного халифата, поскольку они были врагами, которых нужно было уничтожить и против которых вести священную войну. Они также оправдывали борьбу с андалузскими повстанцами, поскольку выступали союзниками христиан. Вдобавок христиане были показаны как враги не только за пределами границ Альмохадов, но и внутри них, что привело к директиве, по крайней мере теоретической, об обращении или изгнании.
Таким образом, вокруг этих трех осей был разработан идеологический дискурс Альмохадов относительно христиан, и именно так он был представлен в изученных хрониках. Таким образом, следуя этой линии, проект, который начинается здесь, направлен на изучение дискурсивных и идеологических разработок, которые андалузский ислам спровоцировал вокруг христиан, в соответствии с тем, что обычно называется «классическим исламом», в случае Пиренейского полуострова от завоевания до падения Альмохадов в Аль-Андалусе (711–1228).
То есть какое представление о христианах имели андалузские мусульмане и как оно отражено в источниках, в данном случае не только в хрониках, на каких элементах они построили концепцию инаковости вокруг христиан, как они развивали свою собственную идентичность перед другими и какое место занимают христиане, как еще один элемент дискурса самого андалузского ислама.
Точно так же будет уместно проанализировать, как эта идеологическая конструкция развивается и меняется в зависимости от политико-социального контекста, в котором она развивается. Ситуация и отношения с христианскими королевствами севера, а также с режимами, господствующими в Аль-Андалусе, могут дать нам ключ к разгадке этих дискурсивных вариаций[1].
Это исследование призвано стать предыдущим этапом, начальной фазой того направления расследования, которое изложено в параграфах непосредственно выше. Для этого предполагается представить «современное состояние» исследований, проведенных на христианах Аль-Андалуса и их взаимоотношениях с мусульманами с различных точек зрения: терминологической и концептуальной; правовое, социальное, политическое, религиозное и культурное положение христиан; его исламизация и арабизация; явления радикализации, обнаруживаемые в процессе; и вопросы, касающиеся идеологии и исламской точки зрения последователей Христа.
Bажно знать с критической точки зрения, что было сказано и изучено, и что еще предстоит проанализировать о христианах под исламским правлением в Aль-Андалусе и Oсманской империи, прежде чем приступить к расследованию. На протяжении этой монографии мы избегали использования термина «мосарабский» из-за его сложности и все еще нерешенных историографических дебатов, которые он спровоцировал. Именно с этого и начинается эта работа.
Таким образом, генезис направления исследований 1–4 разделoв будет посвящен наследию Рима на западе: романо-германские королевства, завоеваниe арабов в 711 году Пиренейского полуострова и Византийской империи перед падением под ударами сельджуков.
5–10 разделы будут сосредоточены на кульминации и переменax в Византии и исламе, о единствe Средиземноморья и границе между исламским миром и христианами, на статусе и реальности христиан Аль-Андалуса, то есть их правовом и социальном положении.
В 11–13 разделе будут рассмотрены вопросы, связанные с битвой при Манзикерте (25–26 августа 1071 года), где византийцы потерпели поражение от сельджуков, и это положило начало вторжению тюрков в Малую Азию и в Средиземноморье с динамикой османизации и исламизации народов.
В свою очередь, 14–23 разделы будут посвящены греко-турецкому синтезу и окончанию исламского правления на Пиренейском полуострове. В заключении будут проанализированы исследования, в которых должным образом рассматривалась идеологическая конструкция, которую андалузский и османский ислам проецирует на христиан, находящихся под его властью, и определены концепции Пиреннa и Лемерля.
Аналогичным образом, после проведения этого историографического обзора в качестве заключения будет упомянута серия исследовательских перспектив, которые могут служить в качестве матрицы для будущих исследований, которые будут разработаны в рамках проекта. С той же целью будет также включена описательная взаимосвязь основных источников, которые у нас есть благодаря испанским коллегам, для развития этого направления исследований, а также библиографический список, который послужил основой.
Историографические проблемы, связаны с термином «мосарабский»[2]. Термин «мосарабский» постоянно использовался многочисленными специалистами для обозначения христиан, живших в Аль-Андалусе. Однако в конце XIX века Франсиско Хавьер Симонет, который также использовал это слово в этом смысле, уже подчеркнул его сложность в своей впечатляющей работе[3].
Он указал, что, несмотря на арабское происхождение этого термина, он не был найден ни в одном латино-мусульманском источнике. Этимологически, утверждает ученый-арабист, он происходит от пассивной формы глагола «ариба» или «ароба» и затем может быть переведен как «арабизованный».
Вывод, который делает Симонет, состоит в том, что этот термин произошел из исламского Толедо, увековечивая себя среди самих «моcарабов», о чем свидетельствуют их тексты, написанные на арабском языке.
Поэтому для выдающегося автора термин «мосарабский» имел исламское происхождение и использовался для обозначения христиан, живших в Аль-Андалусе.
Симонет представлял это христианское население в строго идеологических терминах, в рамках национально-католического видения. Они были хранителями католической веры, а также истинного национального духа. Гомес Морено в своей классической работе «Мосарабское искусство»[4] также выбрал использование этого термина для христиан, живших под властью Андалузии, а также для тех, кто эмигрировал на север.
В этой же классической интерпретации находится работа Ринкона Альвареса[5], который даже ссылается на них выражением «испанский мосарабский». Столкнувшись с арабским происхождением термина, Симонет уже отбросил в своей работе латинскую этимологию слова «mixti arabes» с явно уничижительным характером, предложенную Хименесом де Рада в его «De rebus»[6].
Педро Чалмета, однако, вернулся, чтобы подтвердить это этимологическое происхождение, противопоставление арабскому языку, общепринятому большинством исследователей[7]. Другая традиционная точка зрения, хотя и критическая по отношению к Симонету, – это точка зрения таких авторов, как Менендес Пидаль[8] или Исидро де Лас Кагигас[9]. Pелигиозный аспект, центральный в видении Симонета, сосредоточенный исключительно на предполагаемом национальном характере мосарабского феномена. Другие классики и выдающиеся историки, такие как Гонсалес Паленсия[10], сосредоточили свое видение «мосарабского языка» на генезисе уникального культурного сообщества, связанного с его контактами с арабской цивилизацией и его культурной исламизацией.
Америко Кастро также приписывает «особый» характер мосарабам из-за воздействия на них арабизации и их архаичного римского и готического наследия[11]. И, возвращаясь в прошлое, но с той же точки зрения, Томас Глик[12] ввел концепцию аккультурации, чтобы приписать моcарабам роль носителей исламских культурных элементов. Урвой[13] представил различные значения этого термина в отношении трех типов сообществ: христиан Aль-Андалуса, членов этой общины, эмигрировавших на север, и «мосарабской» общины Толедо после кастильского завоевания.
Его классификация была предложена применительно к языку, литургии и искусству. По его мнению, это были бы сами моcарабы, которые оправдали бы свою арабскую принадлежность против доктрины «чистых арабов», отождествления арабов с исламом. Следовательно, в отличие от этимологической интерпретации Симонета, в которой термин «моcарабский» произошел от пассивного слово «муста’араб», для Урвоя он произошел от активного слово «муста’ариба».
Фонтен[14] и Милле-Жерар[15] высказывались в том же духе, и, со своей стороны, Ханна Кассис[16] предложила использовать оба варианта, которые отражали бы реальность процесса арабизации: термин «муста’ариба» для тех, кто сознательно стремится к арабизации, термин «муста’араб» для тех, кто был невольно арабизирован.
Хагерти[17] и Кантарино[18] подошли к этому термину с точки зрения своих собственных различий в христианском сообществе Аль-Андалус.
Хагерти использует термин мосарабский на протяжении всей своей работы, объясняет, что его использование носит исключительно случайный характер, а также пытается избежать осложнений, хотя он осознает разнообразие, культурную и идеологическую неоднородность внутри этого сообщества. Он считает, что было бы предпочтительнее использовать термин «а́cham», понимаемый как «тот, кто плохо говорит по-арабски», поскольку эти христиане, по его мнению, скорее принудительно «арабизированы», то есть они были в процессе «моcарабизации».
Кантарино, со своей стороны, интерпретировал, что термин «мосарабский» будет использоваться в уничижительном смысле христианами Аль-Андалуса, выступающими против арабизации, для обозначения пособников исламских властей.
Кабрера Муньос придерживается того же мнения[19], также утверждает, что позже кастильские завоеватели использовали этот термин для обозначения христиан, которые находились под властью Андалузии.
Моленат опроверг уничижительную гипотезу, указав на безусловно уважительное содержание этого термина в таких документах, как хартия 1101 г., подаренная королем Альфонсо VI[20].
Колберт[21] и Хичкок[22] также подчеркнули непоследовательность в названии всего христианского сообщества Aль-Андалуса «мосарабским», часть его сопротивлялась арабизации. Точно так же Хичкок[23] разработал интересную и новаторскую интерпретацию, в которой он определил подлинный «муста’ариба» как любое сообщество, характеризующееся его арабизацией, независимо от его религии.
По его мнению, источники не позволяют говорить о радикальной разнице между коренными новообращенными в ислам и коренными христианами. До прихода Альморавидов они четко разделяли арабское меньшинство и неарабское большинство. Следовательно, как мы уже сказали, хотя в Aль-Андалусе нет доказательств того, что использовался термин «муста’ариба», в таком случае он будет обозначать любого араба, христианина или мусульманина.
Это будет соответствовать тому, что определил в отношении этого термина, как объясняет Хичкок, иракский лексикограф X века аль-Азхари: «люди, которые не имеют чисто арабского происхождения, но которые aссимилировались среди арабов и говорят на их языке, и имитируют их внешний вид»[24].
Кроме того, Хичкок добавляет, что когда андалузские исламские хроники хотят указать христианскую религию человека, использовался термин «Naçraníes». Энн Кристис в своей работе, в которой она пытается изучить христиан Аль-Андалуса из своих собственных источников[25], также не хочет использовать термин «мосарабский», поскольку, по мнению исследователя, он подразумевает определенную степень аккультурации, которая должна быть изучена.
Тем не менее Сирил Айле[26] действительно считает, что степень аккультурации достаточно доказана, чтобы оправдать использование термина «мосарабский» для обозначения христианской общины Aль-Андалуса от ее конфигурации до исчезновения, как, например, Ева Лапьедра[27], которая утверждает, что термин «моcарабский» от «арабизированного» помог бы объективизировать объем исследования, освободив его от идеологического бремени, которое оно несло со времен Симонета.
Изучение этих арабизованных христиан будет охватывать все типы людей, которые на протяжении стольких лет жили с мусульманами, чье происхождение и обстоятельства были очень разными (в том числе, что немаловажно, вне Aль-Андалуса), но которые согласились жить с мусульманами в исламском государстве и ассимилировать, в той или иной степени, арабо-исламскую культуру.
Перспективы и терминологические проблемы: muwallad, ácham, mawlā
Но использование и различные интерпретации термина «мосарабский» не только интересны, но и противоречивы, но также являются поводом изучения другой терминологии, связанной с христианами на полуострове в исламские времена, такие как термины «мулади» или «аxам». Как всегда, Симонет[28] уже разработал список терминов, которыми мусульмане называют христиан Аль-Андалуса, хотя и без их глубокого анализа. Он указал на такие термины, как «ácham»[29], переведенные варварами или иностранцами, «Naçraníes», христиане, «цыгане», римляне, «Moxriques», политеисты, «Dimmíes», зимми, «Moahides», и «мозалимы», те, кто живут в мире, говорит Симонет, чтобы отличать их от северных христиан, которые должны быть «воинственными».
Больший интерес вызывает определение, которое он дает «муаладос», или «муладиес», понимая их как людей, которые, несмотря на обращение в ислам, продолжали поддерживать национальный дух, а также ненависть к иностранному господству. Конечно, здесь была латентная идеологизация их представлений.
Чуть более десяти лет назад Ева Лапьедра[30] опубликовала результаты своей докторской диссертации – терминологическое и историческое исследование образа христиан, который андалузские мусульмане имеют в отношении христиан в исламско-андалузском хронологическом поле. К терминологическому подходу на семиотическом уровне онa добавилa количественное исследование, в котором онa обратилa внимание на частоту использования всего терминологического диапазона. Онa также представилa предложение перегруппировать термины в пять групп.
1. Tермины отчуждения (‘ilŷ, нецивилизованный и aŷamī, варвар).
2. Pелигиозные термины (ahl al-Kitāb, люди Книги и nas̞rānī, назареи или христиане).
3. Юридические термины (dַimmí, защищаемый и mu’āhid, завет).
4. Bоинственно-богословскиe термины (kāfr, infel, mušrik, ассоциативный, adūw, враг, T̝āgiya, тиран и ‘ābid al-as̞nām/sulbān, поклонник крестных идолов).
5. Географическиe термины (rumī, римляне и rumī, ifranŷī, франки).
По словам Евы Лапьедры, в источниках чаще всего используется термин «adūw, враг», хотя в этом разделе нас интересует термин «aŷamī», что переводится как варвар. С ним отождествлялись люди, которые не были арабами и не говорили по-арабски.
Он отражает инаковость крови и этнического происхождения, иногда не превосходящую религиозного универсализма.
И дело в том, что он подчеркивал, что в этой терминологии арабизация может быть более решающей, чем сама исламизация. Ана Фернандес и Марибель Фиерро в своем исследовании процесса исламизации через «‘Utbiyya»[31] уже указали на существующую проблему со словом «‘aŷam»: относится ли оно к христианам или к неарабизированным людям независимо от их религии?
Для Хичкока[32], обращающегося к Kitāb al-qudā bi-Qurtuba de al-Jušanī[33], нет никаких сомнений: этот термин обозначал кого-то, кто не был арабизирован, независимо от его религии. Язык не определял религию и даже мог быть более решающим элементом терминологической дифференциации.
Фактически, говорит британский исследователь, источники не позволяют установить радикальную разницу между тем, что он интерпретирует как «мосарабский», что мы уже комментировали, и другим упомянутым термином, «muladí». Фернандес и Фиерро[34] комментируют, что термин muwallad обычно определяется как христиане, обращенные в ислам, но, тем не менее, он обозначает неарабов, живущих среди них и арабизированных. По этой причине в хрониках проводится различие между muwalladūn и ‘aŷam.
Процесс аккультурации и арабизации этих muladí завершится исламизацией, что затруднит установление четкой границы между ними[35]. Хотя верно, что источники проводят различие между muwalladūn и nas̞rānī, что, кажется, указывает на то, что первые будут мусульманами, верно также и то, что проводится различие между muwalladūn и musalimah (обращенные в ислам).
На эту гипотезу уже указывал Фиерро в своем исследовании об Ибн Хафсуне[36], где, по сути, он предположил, что муваллад будет обозначать кого-то арабизованного и не обязательно исламизированного, но что со временем языковая и культурная ассимиляция приведет к изменению религиозного и оригинального значения термина.
Долорес Оливер[37] утверждает, что слово «muwallad» имело уничижительное значение с коннотацией «ренегат» или «бандит» для обозначения неарабов, восставших против кордовской власти. Фиерро[38] также указал, что они упоминаются в контексте восстания против Кордовы. В этом смысле восстания IX века имеют первостепенное значение.
Для Айлет[39] они произошли в рамках переходного общества, на пути к арабизации и исламизации. Французский исследователь говорит, что мулади, главные действующие лица этих восстаний, не были арабами, но их еще нельзя было считать истинными мусульманами и, следовательно, они не были полностью интегрированы в арабо-исламское общество. Наконец, стоит упомянуть разницу между терминами muwallad[40] и mawlā[41], обычно относящимися к способу преобразования.
Уолкер комментирует, что муваллады были перешедшие в ислам христиане, которые, исламизируясь, поддерживали связи со своими арабскими покровителями, что привело к немедленной нише в правящем обществе[42]. Со своей стороны, мавали были освобожденные рабы или пленные исламского сообщества, поэтому у них не былo покровителей и, следовательно, меньше шансов войти в этот элитный круг. Фиерро указывает в своей статье о мавали Абд ар-Рахмана I[43], что в аль-Андалусе не было массового обращения через мавали, поэтому муваллады, понимаемый в данном случае как обращенные в ислам, не имели племенную нисбу[44] и мавали, со своей стороны, составляли явное меньшинство[45].
Исследование француза Поля Лемерля посвящено Византии, грека Димитриса Кицикиса – ее «наследнице» Османской империи[46]. Географически это один регион, оказавшийся мостом меж Востоком и Западом и соединивший их черты. Кицикис назвал его «Промежуточным регионом». «Находившаяся на рубеже между Востоком и Западом империя на протяжении одиннадцати веков не только сумела противостоять ударам, обрушивавшимся… то с одной, то с другой стороны, но также смогла выполнить по отношению к ним обеим свою историческую и просветительскую миссию», – пишет Лемерль[47] о Византии.
«Османской империи в зените славы удалось создать уникальную систему равновесия и синтеза, из которой возникло самобытное общество: ни христианское, ни мусульманское, а в основе своей османское… Она прекрасно исполнила роль центра региона, являющегося промежуточным звеном между Западом и Востоком», – вторит Кицикис[48].
Еще Вольтер называл историю Византии «нелепой» и «недостойной»: «Это недостойный сборник высокопарных фраз и описаний чудес. Она позорит человеческий разум так же, как Греческая империя позорила землю».
Поль Лемерль доказывает, что Византия – не «бледный пережиток Римской империи», а самостоятельное государство, способное адаптироваться к новым веяниям и развиваться. За точку отсчета взято 11 мая 330 года – день, когда император Константин основал на месте старой колонии Византий новую столицу, назвав ее в честь себя. «Финишной» датой исследования стало 29 мая 1453 года, когда Константинополь заняли турки, в бою с которыми погиб последний византийский император.
В промежутке уместились множество имен и событий: «Константин. Христианская и восточная монархия», «От Константина до Юстиниана. Борьба с еретиками и варварами (337–518)»,
«Эпоха Палеологов и падение Византийской империи (1261–1453)» (названия глав). Одной из причин гибели Византии оказалось религиозное противоборство Востока и Запада.
Однако в падении империи была «заслуга» не только главных ее врагов – турок. Спасительной для Византии альтернативой мог стать союз латинян и греков под знаменем христианства, но «Лучше чалма, чем тиара!» – такие слова приписывают византийскому госдеятелю Луке Нотаре. А поэт Петрарка писал: «Турки – враги, но раскольники-греки хуже, чем враги». И все же Византия не рассыпалась в исторический прах. Ее, как модно сейчас говорить, преемницей стала Османская империя, которую часто (и ошибочно) называли Турецкой[49].
Все же тюркcкие династии – сначала сельджуки Ирана и Анатолии, а затем мамлюков Египта – доминировали в доосманском исламском мире и установили традиции управления, которые должны были быть унаследованы и усовершенствованы османами. До недавнего времени в Европе[50], а также среди арабов и персов[51] существовали давние предрассудки в отношении тюрoк как в Европе, так и среди арабов, и попытки их принизить.
Но бесспорным фактом является то, что они доминировали и формировали земли, которыми они управляли – Ближний Восток на протяжении тысячелетий и Восточная Европа на протяжении многих веков. Несмотря на это, история Турции и многие аспекты идентичности и роли тюрoк как мусульман, так и турок до сих пор мало известны на Западе и недооценены в арабском и персидском языках.
Немногие за пределами Турции понимают, что именно тюрки, а не арабы окончательно прогнали крестоносцев с мусульманской земли[52].
На роль «третьего Рима» имелись другие претенденты – например, Москва. Но если русские правители обосновывали «наследное право» идеологически, то Османская династия «располагала вполне осязаемыми политическими и географическими аргументами. Налицо была и преемственность в области культуры, религии, политического устройства». В массовом сознании Османская империя давно ассоциируется с «тюрьмой народов», Кицикис показывает, что историческим клише доверять не стоит.
«Империя по определению многонациональное образование», Гегель писал: «Персы покорили многие народы, однако они уважали их особенности: следовательно, их царство может быть уподоблено империи». Автор настаивает, что «формула необходимой терпимости» была характерна и для государства османов. До 1839 года там не существовало официального языка, а турецкий вообще считался «неблагородным» языком крестьян и простолюдинов, на него даже запрещали переводить арабский текст Корана. Высшие чины предпочитали арабский, буржуазия и торговцы – греческий.
Со временем в империи выделились турки и греки, подчинившие другие нации. Причем греки стремились к равенству между турками и греками, но не желали распространить этот принцип на болгар и сербов. К слову, сам Кицикис (р. 1935) – профессор Оттавского университета – именует себя греческим националистом. Впрочем, настоящему ученому политика мешать не должна[53].
В монографии проанализированы и использованы научные тезисы следующих авторов: Эдвардa Гиббон, Анри Пиренн, Поль Лемерль, Фернан Бродель, Хосе Анхель Гарсия де Кортасар, Мария Пиа Педани, Ирен Меликофф, Жан-Клод Шейн, Бернард Льюис, Кэрол Хилленбранд, Джемаль Кафадар, Халил Инальчик, Чийдем Балим, Аделинa Руккуа, Хосе Анхель Сесма Муньос.
1
Наследие Рима на западе: романо-германские королевства
Индивидуализация каждого региона Средиземноморья и детство Европы
Каждое из трех политико-культурных пространств: исламский мир, Византия, Европа, – в которых закончилось единство Римской империи, в середине X века демонстрировало четкую тенденцию к построению определенной области цивилизации. Между этой датой и концом XIII века хронологическое ограничение периода оправдано эволюцией европейского общества, хотя в других пространствах некоторые события, в основном политические или военные, могут служить для размещения той же периодизации.
В начале нового периода исламское пространство, самое большое и богатое из трех, было политически раздроблено на три халифата: Кордова (Омейяды), Каир (Фатимиди) и Багдад (Аббасиди), но в культурном и экономическом плане это проявлялось не только в единстве, но симптомах несомненного роста. Поддержанный ими, ислам распространится на внутренние индуистские и африканские миры, которые, таким образом, установят связи со Средиземноморьем.
Со своей стороны, византийское пространство находилось в очевидном политическом, экономическом и культурном возрождении при македонской династии, с которой оно достигло второй кульминации своей истории, почти через пятьсот лет после Юстиниана.
Созданная им динамика, и когда ислам на востоке и юге и германо-латинская Европа на западе ограничили их экспансию, объясняет, почему византийцы нашли свой путь в культурном излучении на севере: во-первых, Болгария; потом Киевская Русь. Центрально-восточнославянский мир станет зоной влияния Византийской империи.
Европейское пространство в конце X века было расширено за счет распространения латинского христианства как на север, в Скандинавский регион, так и на восток, за счет включения территорий венгров и западных славян.
Во второй половине XI века три великие области цивилизации включали, среди своих особенностей, реформаторское, иногда фундаменталистское мировоззрение, особенно действовавшее в Европе и западном исламе.
Развитие этой концепции стимулировало появление отношения подозрения, если не отказа, к культурным проявлениям чуждых областей цивилизации. Это концепция так называемой григорианской реформы в Латинской Европе, aльморавидов в западном исламе, в меньшей степени турок-сельджуков в восточном исламе и, неизбежно отражая внешнее давление, византийцев в переходный период от македонской династии до династии Комнинов[54],
Хотя с середины XI века количество контактов между этими тремя областями увеличилось, тот факт, что такие контакты имели все более воинственный компонент, способствовал идеологической кристаллизации тех же самых областей. С этой даты на протяжении двух с половиной столетий и, несомненно, поскольку мы знаем исход истории, панорама, кажется, характеризуется несомненным ослаблением Византийской империи, политической раздробленностью, экономической активностью и культурным престижем ислама, укреплением латинского христианства, то есть Европы, в его экономическом, социальном и интеллектуальном аспектах.
Фактически в конце XIII века решающей чертой нашей истории (всегда из неприкрытого европоцентризма) кажется окончательное утверждение основ Европы как экономического, политического и культурного пространства. Это обстоятельство и наша собственная принадлежность к этому культурному пространству – вот что защищает решение двух авторов этой работы сосредоточить с этого момента внимание большинства на этом европейском пространстве.
В течение трех столетий на основе роста в нем зародились или кристаллизовались большинство черт, образов и тем, приписываемых средневековому миру, некоторые из них составляют истинные основы нашей цивилизации.
Создание романо-германского общества
Проникновение и расселение варваров на Западе было очень долгим процессом. Он начался в конце II века, с первым давлением на Римскую империю во времена Марка Аврелия, и не закончился до середины XI века, когда появились последние поселения викингов. В течение этого длительного периода обычно различают два этапа: «первые вторжения», между вступлением вестготов в Империю в 376 г. и прибытием лангобардов в Италию в 568 г.; и вторoe вторжениe викингов, венгров и пиратов-сарацин в IX и X веках.
Историографическая оценка этих двух волн перешла от рассмотрения их как катастрофы к рассмотрению того, что они способствовали ускорению внутренних процессов, которые они пережили, и общества, в которoм они жили. Результатом совместных действий захватчиков и вторгшейся первой волны было создание романо-германского общества, в котором «варвары» очень часто вели себя как последние римляне.
Утверждение варваров в Империи
Начиная с III века Римская империя находилась в глубоком кризисе. Его особенности хорошо известны. Среди них пять кажутся наиболее известными. Утрата городами функций, особенно их способности артикулировать пространство. Сельская жизнь. Ослабление общественных отношений в пользу частных.
Возрастающий вес имперских налогов требует ресурсов, чтобы купить лояльность войск, обеспечить снабжение крупных городов, особенно Рима, или столкнуться с социальными потрясениями и угрозами варваров[55].
И распространение менее гражданских и коллективных и более спасительных и личных религий, особенно христианства. Проникновение варваров в Римскую империю принимало две формы: терпимые вторжения и настоящие вторжения. Оккупанты принадлежали к самым разным этническим группам, хотя для их группировки мы обычно используем коллективное слово «германцы». Их передвижения носили больше характер переселений народов, чем молниеносных нашествий. Его стремлением было найти места для поселения и развить оседлое земледелие в сочетании с животноводством.
В течение столетий со II по IV все они пробовали это в знакомых группах или небольших группах племен, которые Империя приветствовала без затруднений. Но в конце IV века и в последующие попытки предпринимались целыми народами, наделенными сильной этнической сплоченностью, подкрепляемой их собственными религиозными традициями и верованиями.
Только готы начали путь обращения в христианскую религию в арианской версии, проповедуемой епископом Ульфиласом. Вступление этих готов в Империю произошло в 376 году, когда они переправились через реку Дунай в бою, вызванном натиском гуннов, пришедших из степей Средней Азии. Готы были приняты императором неохотно. Два года спустя захватчики, сетуя на то, что римляне не выполняют своих обещаний обустроить их, восстали и в 378 году разгромили имперскую армию в Адрианополе. Битва с победой готской кавалерии над римской пехотой открыла новую эру с точки зрения военной стратегии и состава армий[56].
Поражение и смерть самого императора Валента на поле битвы стали решающими для его преемника Феодосия, заключившего пакт с готами. На основании закона 382 г. готы поселились в Мессии в качестве войск на службе Рима.
На четырнадцать лет ситуация успокоилась, но в 396 году вступление гуннов в Паннонский бассейн нарушило существование других германских народов, которые, в свою очередь, оказали давление и вошли в Империю. Общие направления передвижений германцев в Империи можно резюмировать следующим образом. В 400 году вандалы и аланы вошли в Ретию и Норику, то есть на территории современной Австрии и Швейцарии.
В 405 году группы тех же народов в сопровождении остготов проникли в Италию, распространившись через долину реки По и Тоскану. 31 декабря 406 г. вандалы, аланы и швабы пересекли замерзший Рейн и приготовились вторгнуться в Галлию. Римские войска, дислоцированные в Британии, немедленно отправились на материк, чтобы закрыть брешь, открытую захватчиками в Рейне.
Марш армии покинул остров, оставшийся в руках местных кельтско-римских аристократов, которым немедленно пришлось столкнуться с пиктами. В 408 году вестготы со своим вождем Аларихом вошли в Италию. В конце 409 года швабы, аланы и вандалы пересекли Пиренеи и вошли в Испанию. В 410 году люди Алариха разграбили Рим. Сознание римлян содрогнулось. Чтобы успокоить римлян, Аврелий Августин написал, соответственно, свой «De civitate Dei» («О граде Божьем»), «Confessiones» («Исповедь»), «Христианская наука» и свои cемь книг по истории против язычников: De Trinitate (О Троице), De libero arbitrio (О свободной воле), Retractationes (Пересмотры), Meditationes, Soliloquia, De mendacio и Enchiridion и заново утвердил древнюю веру.
Для Аврелия Августинa вторжения могли быть как инструментом, который позволил другим народам познать истинную веру, так и испытанием, которое напомнило христианам, что они должны возлагать надежду не на земной город, а на небесный. Рейды вестготов через Италию побудили императора Гоно-рия попробовать новую формулу: превратить их в полицейские силы, которые контролировали другие германские народы, вошедшие в Империю. Плата за его первые услуги против вандалов не удовлетворила вестготов, которые в 415 г. впервые вошли в Испанию.
Три года спустя император согласился обустроить их в Аквитании: федус 418 года сделал вестготов федерацией Империи. Это ознаменовало признание Империей первого варварского «царства» на Западе. Решение вестготской проблемы не помешало другим германским народам продолжить свои набеги. Однако император Валентиниан III и Аэций, глава армии Западной Римской империи, казалось, отреагировали только на две угрозы, которые они считали наиболее серьезными. Первые пришли с юга и были вандалами.
В 429 году они пересекли Гибралтарский пролив, кровью и огнем пересекли Северную Африку. Ровно в 430 году они осадили город Гиппона, когда в его стенах умер его епископ Святой Августин. Доминирование их на побережьe Северной Африки позволило флоту вандалов прервать морские отношения между Римом и Северной Африкой. Не имея возможности контролировать их, император согласился подписать новый союз с вандалами. Так родилось второе варварское «царство»[57].
Соглашение не помешало вандалам уничтожить римское общество в Северной Африке.
Вторая угроза пришла с севера и была осуществлена гуннами. Их возглавлял их самый известный вождь – Аттила. Отвлеченные дипломатией Восточной Римской империи, гунны двинулись на запад, пересекли Рейн и вошли в Галлию. В 451 году около Труа, на каталонских полях, генерал Аэций и федерация германских армий с некоторыми римлянами остановили продвижение гуннов[58].
Победа не была сокрушительной, и в 452 году Аттила стал угрожать самому Риму. Посольство знати, в том числе папа Лев I, отговорило вождя гуннов от его намерений. В следующем году Аттила умер, и последовавший за ним конгломерат городов распался. Исчезновение угрозы гуннов, казалось, лишило Империю функций.
В 476 году Одоакр, глава гуннского конгломерата, низложил императора Ромула Августула и отправил имперские знаки отличия в Константинополь. Этот жест означал исчезновение Западнoй Римскoй империи. Вместо этого ряд варварских «королевств», казалось, унаследовали ее власть и функции.
Поселения варваров и их заселение в поселении
Исчезновение Западной Римской империи в 476 году выявило существование на ее территории нескольких автономных областей. В них имперская власть была заменена властью германского короля, и пришельцы внесли свой вклад в изменение поселений, экономической деятельности и оценки сельскохозяйственных и животноводческих площадей в соответствии с тенденцией, которая, начавшись до их прибытия, усилится в VI и XII векax. Вариантов поселения германских народов на территории Западной империи было три. Один из них, самый старый, связан с проникновением иммигрантов в семейные группы или фракции городов, которые искали место для поселения в качестве колонизаторов.
Второй, завоевание, за которым последовало разграбление, произошел только в трех случаях: с англами и саксами в Англии, с вандалами в Северной Африке и с лангобардами с 568 г. в Италии. И, наконец, третья и наиболее распространенная форма – подписание союза с Империей, по которому право гостеприимства было применено к германcкому народу.
С германцами обращались как с союзниками против других врагов, и взамен они получали средства к существованию либо в виде еды и жилья, либо в виде поселения на территории. Этот второй способ был включен в foedus с вестготами в 418 году. На основании этого они были расположены между Тулузой и Атлантическим океаном, и две трети аграрных владений были приписаны им, а оставшаяся треть лесa оставались неразделенными для использования обеими группами[59].
Этот способ распределения также наблюдался при расселении бургундов в области, которoй они дали своe имя, Бургундии, и в области остготов в Италии. Во всех регионах практическая сложность распределения недвижимости между людьми двух общин по-прежнему заставляет некоторых историков предполагать, что распределение было не землей, а, как это было до 418 г., имперскими налогами.
Распределение германцев в Империи и концепция областей политического господства королевств казались ясными в конце V века. В целом каждый город имел тенденцию концентрироваться в пространстве, что позволяло ему обеспечивать гегемонию меньшинствa его воинов над большинством римского провинциального населения. Свебы сделали это в Галлеции, где они были загнаны в угол вестготами, которые, в свою очередь, оккупировали юг Галлии и установили власть в Испании.
В рамках этого они, как правило, сосредотoчивались на треугольнике между Бургосом, Толедо и Калатаюдом, а также на некоторых точках того, что позже стало Каталонией, по обе стороны Пиренеев. Вандалы вскоре покинули Пиренейский полуостров и создали свое королевство в Северной Африке, откуда они доминировали в западном Средиземноморье. На севере алеманы обосновались в современном Эльзасе и районе Вормса.
Франки, разделенные на небольшие королевства, первоначально были распределены поэтапно в районе Рейна. Позднее движение вестготов к Пиренейскому полуострову, ускоренное их поражением при Вуйе в 507 г. от франков, позволило им контролировать почти всю Францию, от Рейна до Пиренеев. Только на востоке бургунды сохранили контроль над долинами Соны и Роны.
Тем временем в Италии остготы устранили герулов, а на крайнем западе Империи англы, саксы и юты расширили свое правление в Британии. Там было редкое население, слабы и нестабильны поселения. В каждом королевстве большинство населения составляли римские провинциалы. Демографический вклад германцев не должен был превышать пяти процентов по сравнению с вкладом римлян.
По большому счету, наибольшие различия были между южной областью (Испания, Франция, Италия), которая была более населена, и северной областью (Англия, запад современной Германии), которая была более пустынной. Эти две области, особенно вторая, были областью леса и болота, что объясняет низкую плотность ee населения, которая также была поражена очень частыми болезнями, некоторые из них, например в 543 году, а другие – в половинe VII века – были особенно смертоносными.
Если населения было мало, поселения были слабыми и нестабильными. Слабыми, потому что население покинуло города с III века и поселились в сельской местности небольшими семейными единицами и небольшими деревнями, многие из которых интегрировались в деревни или большие фермы[60].
Неустойчивые по политическим условиям и по самим характеристикам зданий, построенные из хрупких и дешевых элементов, поселения могли легко изменить свое местоположение.
В соответствии с этой общей чертой на севере территории древней Римской империи был создан более лесной и животноводческий ландшафт, более богатый животными белками, с маслом и салом в качестве основной пищи, в то время как пиво и сидр были доминирующими напитками.
На юге средиземноморские традиции и климат поддерживали гегемонию злаков, винограда и оливкового дерева, с маслом в качестве кулинарного фона и вином в качестве напитка. В этих двух больших районах основным элементом питания большинства населения был простой сбор диких фруктов, речная рыбалка или охота на мелких животных.
Общество:
сельское хозяйство и рабство
Поселение германских народов в Западной империи не изменило их структуры. За исключением случая вандалов и, в меньшей степени, англов и саксов, опустошивших предыдущих, пришельцы приспособились к условиям оккупированных регионов и приготовились унаследовать в них власть Империи. Хрупкое выживание городов было, без сомнения, одной из черт царств, пришедших на смену Римской империи. С III века города теряли население в пользу сельской местности. И вместе с населением они потеряли свои функции.
Старая система, сочетающая упорядочивание урбов и упорядоченных территорий, составлявшая одну из опор социальной организации пространства в имперские времена, решительно вошла в кризис. На их месте осталось всего несколько городов, окруженных стеной и захваченных возделанными полями и небольшими отарами овец и коз, которые служили резиденцией для некоторых епископских кафедр и являлись образцом высокого средневекового города.
Спад коммерческой активности стал следствием исчезновения старых городских концентраций. Существовали торговые пути, оба наземные, хотя старые дороги пришли в негодность из-за неиспользования, как и морские пути. Они пережили оживление в середине VI века, когда византийцы Юстиниана оккупировали Северную Африку, южную Испанию и южную половину Италии. Еврейские, сирийские и греческие переговорщики отвечали за снабжение новых богатых на Западе: аристократии, как светской, так и церковной[61].
Если торговая деятельность в районе Средиземного моря несколько снизилась, то активность на атлантическом побережье, которая до сих пор была очень слабой, стала поощряться. В частности, в двух областях: в английских устьях, и прежде всего в Вейкe и Фризии, где в конце VII века города Квентович и Дюрстеде приобрели определенный урбанистический характер.
Раннее средневековье (380–980 годы)
Торговля не только уменьшилась, но, прежде всего, изменила свой характер. Речь шла уже не о снабжении населения больших городов, как во времена Империи, а о поставках небольших и ценных предметов, драгоценностей, книг, слоновой кости, шелка, литургических облачений меньшинству богатых людей.
Они в основном производились в Восточной империи, а это означало, что жители Запада должны были отправлять в Византию золото, а иногда и рабов, чтобы заплатить за них. Тот же самый тип торговли, в котором почти не использовалась валюта, характеризовал обмены, происходившие внутри варварских королевств. Хотя бы по двум причинам. В принципе, из-за склонности вилл к самообеспечению или крупной латифундарной эксплуатации.
И, во-вторых, потому, что многие из этих обменов реагировали на модели, которые имели больше отношения к структуре и проявлениям власти, чем к самой торговле. В частности, с обязательным принципом «дарить, принимать и возвращать подарки дополнительно». Эта формула приобрела всю свою ценность, когда Церковь вошла в кругооборот как получатель пожертвований и милостыни, которые она возвращала в виде духовных благ, которые обеспечивали вечное спасение жертвователей. Переоценка сельской местности как сцены жизни и земли как формы богатства объясняет структурирование общества, основанное на деревенской собственности.
Эта тенденция проявилась со времен кризиса III века, и лучшим доказательством этого являются великолепные виллы IV и V веков. Без сомнения, приход германцев стимулировал некоторое распределение земли в тех областях, где они поселились. Но сразу же аристократия (римская, немецкая, церковная) попыталась сконцентрировать земельную собственность[62].
Иногда они делали это в виде больших поместий, в которых жили рабы; другие – в виде бесконечного множества средних и мелких ферм, разбросанных по обширной территории. Аристократии также обладали фискальной, военной, судебной, ранее государственной властью над своими непосредственными иждивенцами и даже над другими, которые, в отсутствие более надежных защитников, доверяли им. Таким образом, территориальные владения сильных мира сего формировались как истинные владения. На другом конце социальной лестницы находилось большинство землевладельцев. Внутри него были рабы, крепостные и поселенцы.
Крепостные, число которых стало расти за счет рабов, больше не были орудием, а были признаны мужчинами. Они жили в небольших семейных фермерских хозяйствах, разбросанных по территории города, или в небольших деревнях, расположенных между полями одного или нескольких владельцев.
Им пришлось работать несколько дней на полях, которые лорд зарезервировал для себя (заповедник поместья), но они могли ухаживать за своей собственной семейной фермой. Это принимало форму либо небольшого непрерывного участка земли, либо набора небольших участков, распределенных вокруг центра села, вместе с правами на использование пастбищ, лесов и болот.
Наконец, колонисты, которые занимали небольшие фермы вокруг больших поместий, были юридически свободными лицами. Почти всегда это были бывшие мелкие владельцы, которые, опасаясь имперской казны, багауда или захватчиков, в конечном итоге требовали защиты крупного владельца в обмен на передачу ему своих земель.
С этого момента на своих собственных фермах они стали колонистами с обязанностью отказаться от части своего урожая или выполнить какую-то работу на земле лорда. Несмотря на эти социально-правовые различия, создается впечатление, что рабы, крепостные и колонисты составляли в V–VII веках немного дифференцированную массу людей, размещенных на участке с обязательствами по отношению к меньшинству крупных землевладельцев, которые практически стали лордами.
Власть: между государственной властью и частными отношениями
Кризис Римской империи был также кризисом государства, и, хотя его замена варварскими королевствами, казалось, продлила существование государственных структур власти, на практике поиск гарантий частной королевской семьи на часть жителей королевствa был признаком слабости этой силы. Поиск защиты в семейных группах и доверие сильным мира сего были универсальной чертой общества варварских королевств. В качестве первой формулы компенсации слабости государства появилось простое увеличение кровной семьи. Для римлян семейные узы практически ограничивались родственными связями по половому признаку, с преобладанием отцовского родства и первенством наследования по мужскому пути. Напротив, для германцев такие связи – две семьи, отцовская и материнская, были субъектами закона и системы ведения[63].
Со своей стороны, Церковь, запрещая браки между крестными родителями и крестными детьми и увеличивая степень родства, отношения которых она считала кровосмесительными, способствовала экзогамии и расширению сферы отношений. Доверие к покровительству могущественного человека составляло вторую формулу поиска реальной безопасности. Он знал две модальности. В первом случае, который мы бы назвали сельским, мелкий собственник доверился сильным мира сего и отдал ему свои земли, на которых с этого момента он стал колонистом.
Согласно второму способу, доверенная сторона обязалась оказывать услуги по вооружению. Таким образом, каждый землевладелец, каждый лорд, начиная с царя, окружал себя группой вооруженных верующих. Они были, с разными именами в зависимости от королевства, вассами или вассалиями, вассалами – словом, которое в VIII и IX веках утратило свое рабское значение и приобрело значение почетного иждивенца, то есть свободного человек, который предоставляет в сервис оружиe. Если богатство покровителя позволяло, вассал ездил верхом.
Сочетание двух элементов, вооружения и сражения на коне, стало критерием иерархии общества варварских королевств, а позже и средневековой Европы в целом. Триумф деревенского богатства и расширение частных связей затронули как римлян, так и германцев, что способствовало социальному слиянию обеих общин. В ее пользу они работали, отменяя запрет на браки между римскими провинциалами и варварами и обращая их в католицизм.
В начале VII века единственная аристократия, как германcкая, так и римская, воинственная и церковная, составляла могущественное меньшинство, которое доминировало над большинством земледельцев, будь то мелкие землевладельцы, поселенцы, крепостные или рабы. На вершине этого меньшинства была помещена palatium или officium palatinum, группа сильнейших, наиболее близких к монарху.
Теоретически они кажутся высшими администраторами королевства; на практике это была группа, члены которой благодаря их взаимной бдительности и контролю над королем не позволяли никому из них обрести силу, делавшую их неукротимыми. Это были ломбардские герцоги, англосаксонские графы, комитеты вестготов.
Существование монарха сочеталось с приватизацией властных полномочий. Король сочетал военное руководство Германии и традиции государственного правления Римской империи, но на практике его власть была довольно ограниченной. Чтобы обеспечить преемственность в правлении, германские монархи пытались сделать наследственную передачу статуса короля триумфальной, – цель которую достигли в правлении франки[64].
В других королевствах аристократии сопротивлялись, склоняясь, в целом, к избранию монарха в пределах избранной родословной. В любом из случаев, церемонии интронизации и коронации или сакрализации монарха помазанием, другие, пытались представить царя как личность выше остальных смертных, даже наделенную священническими полномочиями. Это не могло помешать присвоению их полномочий (военной, финансовой и судебной) представителями аристократии.
Из таких компетенций, что касается судебных, германцы внесли концепцию закона, практика которого при рассмотрении дела обвиняемого основывалась не на показаниях, а на авторитете обвиняемого, который зависел от того, какую ступеньку он занимал в социальной иерархии. В случае небольшого личного доверия обвиняемый мог прибегнуть к мнению членов своей семьи, хотя, если этого было недостаточно по сравнению с обвинением, он должен был принять Божий суд, подвергнувшись некоторому испытанию.
Личный физический ущерб наказывался по разной шкале штрафов (вергельд), даже за одни и те же преступления, в зависимости от соответствующего статуса преступника и жертвы. Последний, со своей стороны, имел право на частную компенсацию, которая могла принимать форму немедленного обещания или мести со стороны родственников и близких друзей, которые на протяжении поколений продолжали применять закон возмездия. Эти традиции, которые характеризовали общество и право германцев, были записаны в связи с заселением этих народов.
Так было c кодексом Euricicus, юридическим текстом вестготов, салическим законом салийских франков или законом Гундобада (Gundobadus) бургундцев. Это привело к торжеству принципа индивидуальности законов с признанием различных норм для римлян и германцев. Только в середине VII века, в то время как в Ломбардской Италии Указ Ротари 643 г. укрепил примитивный германский правовой дух, в Вестготской Испании был сделан шаг в сторону территориальности законов с обнародованием единого законодательного органа для жителей Королевствa. Таков был Liber Iudiciorum, изданный Ресесвинто в 654 году, который также закрепил преемственность римской правовой традиции. Несмотря на это, во всех варварских королевствах правовая система всегда включала изрядную долю приватизации в концепции закона и отправления правосудия[65].
Судьбы романо-германских королевств
Судьбы королевств складывались в сочетании четырех факторов.
Первый: германцы с трудностями приспосабливают свои группы к территориям, с монархией в процессе консолидации и с неравным уважением или неприятием римского наследия.
Второй: римляне, утратившие общественное чувство территории и власти и разные убеждения относительно своих культурных традиций.
Третий: церковь, которая, отождествив католицизм и патриотизм, намеревалась принять германизм и даже варварство при условии их крещения.
И, кроме Англии, четвертая: Восточная Римская империя, по сути, уже Византийская империя. В дополнение к политическим и доктринальным спорам с папством, империя сталa присутствовать в VI веке физически в Испании, Африке, Италии; и морально во Франции и, в меньшей степени, в Галиции, поддерживая, соответственно, франкских или швабских католиков против вестготов-ариан. Смешение четырех элементов в неравных пропорциях на каждой из территорий помогает объяснить разнообразие их предназначений.
Эфемерные королевства
Приспособление исторической перспективы к рамкам нынешних национальных государств определяет представление территориальных судеб германских королевств. С одной стороны, те, кто оставил мало следов на пространстве, где они поселились: вандалы, швабы, остготы и лангобарды. С другой стороны, те, кто составлял зародыш будущего национального развития: франки, англосаксы или сохранившие давнюю память о потерянном единстве вестготы[66].
Вандалы в Африке
В 429 году вандалы пересекли Гибралтарский пролив и достигли Северной Африки. Оттуда они заняли острова в западном Средиземноморье, прервали морское сообщение метрополии и снабжение Рима и в конечном итоге разграбили столицу. Действия вандалов были продуктом преднамеренного германизма, смертельного врага римлян и католицизма, и в конечном итоге привели к полному демонтажу экономических и политических структур бывшей североафриканской провинции. В 534 году византийские войска, посланные императором Юстинианом, положили конец царству вандалов. После его исчезновения осталось только имя, которое и сегодня является синонимом варварства[67].
Швабы в Галисии
Поход вандалов в Северную Африку оставил швабов, первоначально поселившихся в Галлеции и Лузитании, хозяевами Пиренейского полуострова. Двадцать лет спустя швабы были первым варварским народом, принявшим католицизм. В 456 году вестготы нанесли им поражение, остановили их набеги, загнали их в угол в Галлеции, то есть между Атлантикой и Асторгой, Кантабрийским морем и Дуэро, и вынудили их принять арианство.
В течение столетия история свевов практически неизвестна, пока между 560 и 580 годами Мартин де Брага или Думио, уроженец Паннонии, снова не обратил их в католицизм, что снова привело свевов к противостоянию вестготaм, кто доминировал над остальной частью полуострова. В 585 году под предлогом того, что свебы участвовали в восстании его сына Херменегильдо, вестготский монарх Леовигильдо аннексировал королевство Суэво, которое исчезло[68].
Остготы в Италии
В 476 году Одоакр, король герулов, сверг Ромула Августула и захватил власть на итальянском полуострове. Около 490 года в него вошел вождь остготов Теодорих и за три года устранил Одоакра и его героев. Приезжие поселились в основном на севере Италии. Сначала личность Теодориха, члена одной из самых выдающихся семей готов и защитника римской традиции, обеспечивала его престиж в глазах как других варварских народов, так и Восточной Империи.
Позже их превосходство над другими варварскими королями начало вызывать подозрение у византийцев, в то время как их терпимость к католическому большинству в Италии и их уважение к римской традиции не разделялись некоторыми правителями остготов. Результатом всего этого стал конец правления, характеризовавшегося недоразумениями и опасениями, от которого Теодорих укрылся в жестоком авторитаризме, одной из жертв которого стал его соратник и философ Бечио[69].
Смерть монарха остготов в 526 г. дала византийцам возможность вторгнуться в Италию. Их прибытие произошло в 534 году, сразу после их успеха в Северной Африке, где они уничтожили королевство вандалов. В Италии все было намного сложнее. Громадное восстание, первоначально возглавленное Тотилой, будет поддерживать так называемую «готскую войну» против византийцев в течение пятнадцати лет. Наряду с ужасной чумой 543 года военные действия поглотили силы соперников и опустошили Италию. Когда в 554 году боевые действия закончились, полуостров был окончательно разрушен.
Лангобарды
Лангобарды поселились в Паннонии около 520 г., когда ее бывшие жители продвинулись на запад. Но, в свою очередь, в 567 году вторжение аваров вынудило их покинуть эти земли и направиться в разрушенную Италию. Как арьергард германского мира, лангобарды не имели никакого римского влияния. Даже их политическая организация не претерпела процесса консолидации монархии, типичного для других германцев, но все еще основывалась на существовании банд, возглавляемых более чем тридцатью лидерами.
В этих условиях, когда административная структура остготов была разрушена, византийцы сопротивлялись в портах Адриатического моря, когда в Риме появлялась папская власть, и при наличии множества вождей или герцогов лангобардов реальность показала острую политическую фрагментацию итальянского пространства. Еще в середине VII века обращение лангобардов в католицизм не произошло, и в 643 году, в дату Ротарианского эдикта, все еще была признана двойственность правовых режимов между лангобардами и остальными жителями Италии[70].
Англосаксы в Англии
Римские военные отряды Британии двинулись с острова на материк в 407 г., чтобы закрыть брешь на границе Рейна, через которую проникли германские народы. Их уход оставил остров в руках его коренных жителей, которые, будучи слабо латинизированными и романизированными, испытали сильную кельтизацию.
Его изолированность от континента объясняет то, что евангелизация острова, возглавляемая Святым Патриком, проводилась из соседней Ирландии, что подразумевает христианство, характеризующееся его миссионерскими способностями и различиями в дисциплине и организации по сравнению с римской версией. Вывод имперских войск из Британии совпал с прибытием групп англов, саксов и ютов, которые опустошили остров, загнав его жителей, бретонцев, в угол на севере и западе.
Часть из них эмигрировала на континент, в регион Арморика, который они переименовали в Бретань, где они поселились, устранив римское наследие и насаждая свою кельтскую культуру. Со своей стороны, англо-саксонские захватчики вели себя на острове Бретань как варвары в уничижительном смысле этого слова[71].
Распределенные группами под предводительством некоторых воинов-лидеров, они жили в постоянной борьбе за достижение гегемонии, которая всегда была хрупкой и оспариваемой. Авторитет каждого каудильо мог быть признан в пространстве самых разных измерений. По материалам дела это были: село; маленькое королевство, люди которого считали себя связанными с какой-то могущественной семьей; региональное королевство с переменным числом от шести до девяти, хотя историография освeщает слово «англосаксонская гептархия», что свидетельствует о существовании семи исторических королевств, которые были созданы между серединой VI века и концом VII века; и, наконец, и позже, конфедерация королевств под руководством бретвальда, или «вождя Британии».
В VII веке главенство принадлежало королям Нортумбрии. Далее те из Мерсии, чей монарх Оффа, во второй половине VIII века и в процессе, параллельном процессу каролингов во Франции, стремились к объединению английской родины под единой династией. Укреплению монархии способствовала христианизация острова во главе с двумя группами миссионеров. На севере – ирландцы, наследники традиции Святого Патрика. На югe – римляне, посланные папой Григорием Великим в начале VII века. Разнообразие толкований того и другого по аспектам церковной организации было на грани провоцирования раскола, которого, наконец, синод Уитби в 664 году смог избежать[72].
Конец прошлого: вестготская Испания
Вестготы были наиболее романизированным народом из тех, кто вошел в Римскую империю. Между 376 годом, когда они пересекли Дунай, и 507 годом, когда после поражения от франков Хлодвига при Вуйе они были вынуждены отказаться от своих поселений в южной Галлии и поселиться в Испании, провели более века, путешествуя по землям Империи и знакомясь с ее строениями. Поселившись на Пиренейском полуострове, они начали интегрироваться с населением полуострова.
Симптомами слияния обоих обществ были: браки между вестготами и испаноязычными римлянами, прогресс в создании единой административной и судебной системы и защита территории как от франков, нападающих в Пиренеях, так и против византийских войск Юстиниана, которым в 554 г. удалось обосноваться в нынешних регионах Мерсии и восточной Андалусии[73].
Между тем вестготы выбрали Толедо столицей своего королевства. Между 569 и 586 годами король Леовигильдо отвечал за продвижение динамики социальной и территориальной интеграции. Он боролся с франками и византийцами, уничтожил королевство свевов и держал басков в страхе, стремясь к идеологическому объединению королевства или, по крайней мере, вестготов в арианстве, что привело его к суровому наказанию за восстание своего сына Герменегильдо, которого поддерживала часть аристократии Бетики.
За исключением его религиозных попыток, в других успех сопутствовал монарху. Таким образом, он обеспечил политическое отличие власти вестготов от любой другой, особенно Византийской империи, против чего Леовигильдо подчеркнул королевское содержание своего руководства, впервые приняв одежду, символы и атрибуты римских императоров.
Вдобавок Леовигильдо создал минимальный политический и административный аппарат, officium palatinum, формирующее ядро Aula regia. Смерть Леовигильдо уступила место его сыну Рекаредо. Новый монарх отказался от арианства и стремился к идеологическому объединению своих подданных в католицизме, в который они обратились по случаю Третьего Толедского собора в 589 году.
Решение короля заложило основу для расширения католической церкви королевства. За короткое время он добился фискального иммунитета и признания неотчуждаемости своего имущества и юридической силы решений советов. Более того, Церковь стала выразителем требований аристократии, рост которой затмил успехи монархов вестготов против франков, и прежде всего против византийцев, окончательно изгнанных из Испании в 625 году.
Слияние двух обществ (вестготов и испаноязычного) продолжалось и в последующие годы. В 654 году монарх Ресесвинто обнародовал Liber Iudiciorum, единственный закон для населения в целом. Его содержание признавало принцип территориальности законов и было вдохновлено поздним римским правом, подтверждающим важность частных связей в социальных и политических отношениях, которые приносили пользу аристократии. Его триумф в период с 681 по 711 год ускорил фрагментацию политического пространства на множество мелких ячеек. Это способствовало с 711 г. вторжению и господству мусульман на полуострове[74].
Основы будущего: Франция Меровингов
Вхождение франков в Империю в начале V века завершилось их заселением на землях современной Бельгии и северной Франции. Когда тот исчез в 476 году, франки появились как одна из держав, в которой имперская власть была раздроблена в Галлии. Остальные три были: к югу вестготы со столицей в Тулузе; на восток, и контролируя долину Роны, бургунды; и в центре, как остаток древнеримского правления, территория вокруг Парижа, голова которой носила титул magister militum.
Эти четыре силы были уменьшены Хлодвигом (481–511) в пользу франков. Приняв католицизм, он укрепил свой союз с галло-римской аристократией, которая руководила административными функциями, особенно церковными функциями епископств. При их поддержке Хлодвиг победил вестготов при Вуйе в 507 году и изгнал их из Галлии, сделал Париж своей столицей и установил настоящий протекторат над слабым Бургундским королевством.
В истории Франкского королевства после исчезновения Хлодвига преобладала фрагментация социально-пространственной реальности Галлии. Этому способствовали разнообразие устоявшихся франкских этнических групп, растущая власть епископов, истинных представителей интересов галло-римской аристократии, и, в меньшей степени, создание некоторых монастырей в руках сильных мира сего.
Открытое навязывание власти было проведено в поселениях, единицами которых были mallus и сотня, которые укрепили существующие региональные идентичности и привели к рождению герцогств, таких как Шампань или Тулуза, и прежде всего трех королевств: Австрия, которая включала в себя старое королевство Реймс и границы Рейна, Нейстрию, в которую входили предыдущие королевства Суассон и Париж, и Бургундия. После смерти Дагоберта I в 639 году сила различных региональных пространств была окончательно навязана их властью соответствующей аристократии[75].
Они сделали монархию или, лучше сказать, три монархии (Австразию, Нейстрию и Бургундию) игрушкой в своих руках. Фигура монархов меркла позади фигуры дворцовых управляющих. Они, осознавая роль епископов и монастырей, пытались назначить обитателей епископских кафедр, закладывая основы для истинных династий. Наибольшие успехи достались стюардам Австразии.[76] Состояние границ этого королевства против тюрингов и баварцев давало им военную мощь и политический авторитет выше, чем у двух других территорий.
С начала VII века стало очевидным доминирование австразийских дворцовых управляющих: Арнульф из Меца и Пепин из Ландена, главы двух семейных ветвей, объединенных браком своих детей, заложили основы настоящей династии управляющих. В свою очередь, Пипин из Херсталя, внук тех, кто объединил в своем лице майордомии трех королевств в 687 году, с этой позиции руководил завоеванием и евангелизацией Фрисландии в течение следующих двадцати лет. Когда он умер в 714 году, ему наследовал внебрачный сын по имени Карлос Мартель, успехи которого заложили основы политического строительства, осуществленного его внуком Карлом Великим.
Рождение западного христианства
Создание германо-римского христианства, которое мы обычно называем латинским, было процессом, завершившимся в VIII веке между 451–452 годами, датой Халкидонского Собора и посредничеством Папы Льва I перед Аттилой, и 754 годом смерти святого Бонифация, евангелиста германцев, и помазания Пепина Короткого[77]. Папой Стефаном II были заложены основы западного христианства времен Каролингов и вообще средневековья.
В те три столетия казалось, что было две церкви. Империя Византии, поддерживаемая и опосредованная императором, занималась проблемами догмы в рамках общества с сильным греко-римским наследием. И церковь римско-германского Запада, которая загнала это наследие в угол для решения других более непосредственных задач, которые варьировались от простого correctio rusticorum до попыток приспособиться к культурному и религиозному уровню германцев.
Собственные церкви, главенство епископов, первенство папы
Церковь проследила свою организацию на гражданской империи, установив архиепископов во главе церковных провинций и епископов в городах той же Империи. Помимо этих двух ступеней, четыре города считали, что их статус апостольских престолов, то есть основанных апостолами Христа, ставит их в более высокий ранг, чем остальные. Это были патриархальные места.
Тот факт, что на Западе только Рим имел это условие, облегчил восхождение епископа этого города к главенству западных кафедр и, при сопротивлении Константинопольского патриарха и восточного императора, также и восточных. Первые узлы церковной кристаллизации – епископы и их собственные церкви.
Две фундаментальные черты романо-германского общества, сила аристократии и приватизация общественных отношений, получили свое церковное воплощение в могуществе и силе епископов и в увеличении числа частных церквей. Сила епископов заключалась как в богатстве и могуществе семей, из которых они происходили, так и в их успехе в «борьбе за новую модель городского руководства». Действительно, епископы были единственными людьми, которые продолжали управлять городами и территориями после исчезновения Империи.
Вскоре их влияние стало проявляться через провинциальные или национальные советы, и многие из них вели себя как могущественные лорды, накапливая огромные владения в результате милостыни и пожертвований от все большего числа верующих. Зависть и страх, вызванные обогащением епископов, в конечном итоге привели к досрочным конфискациям. Самым примечательным был случай Карлоса Мартеля в 720-х годах во Франкском королевстве[78].
Наряду с увеличением числа епископств, увеличение храмов ознаменовало темпы евангелизации германских королевств. Вначале церкви зарождались в городах, где некоторые из них были установлены в местах, ранее отмеченных мученической смертью. Позже кризис Империи с процессом сельского хозяйства ее населения и само распространение христианских верований среди язычников или жителей сельских пагов повлекли за собой создание множества храмов в сельском мире. Некоторые были приходскими, то есть имели купель и приходского священника, назначенного епископом; другие были храмами, подчиненными приходам, с меньшей канонической и экономической властью.
В сельском мире церкви, контролируемые епископом, смешивались с собственными или частными церквями, Eigenkirchen в Германии. Слово, освященное историографией, обозначает храмы, построенные и пожертвованные во владениях великих владельцев, которые пользовались правом представлять священнослужителя, который должен был быть перед ними. Между V и XI веками церкви лордов, выведенные из-под юрисдикции епископа и отчуждаемые по воле своего владельца, составляли в церковной сфере коррелят процессов частного вверения и ослабления государственной власти.
Укрепление папства – первенство и руководство епископа Рима. Из сорока семи пап с 451 по 754 годы для истории остались только трое: Лев I, Геласий I и Григорий Великий. Эти трое внесли свой вклад в разработку доктрины первенства епископа Рима над другими епископами, которая уже была создана во времена Льва I и укреплена.
Он сделал это, воспользовавшись слабостью теоретических формулировок власти германских королей и исчезновением имперской власти в древней столице Империи. Универсальное первенство Римского епископа, которое германцы не прочь принять, оспаривалось восточной частью древней Империи. На самом деле отношения между Римом и Византией были скомпрометированы, среди прочего, двумя сериями проблем.
С одной стороны, стремление Константинопольского Патриарха называть себя вселенским и претендовать на универсальный характер своей власти. С другой стороны, разногласия между Римом и Византией в отношении спора о монофизитах, который не был урегулирован на Халкидонском соборе 451 года.
Тридцать лет спустя император Византии был вынужден пойти на компромисс с монофизитами, сильными в восточныx провинцияx Империи. Текст, Генотикон, или указ о единстве, был сочтен неприемлемым Папой, который отлучил Патриарха Константинопольского Акакия, вызвав раскол между двумя Церквями, который длился более тридцати лет. Этот факт ускорил отождествление Папы Римского с пространством Запада.
В этом контексте папа Геласий I в 495 году отправил известное письмо императору Анастасию, в котором он предложил один из самых успешных политических тезисов Средневековья: зов двух мечей. Одним словом, признание превосходства pontifical auctoritas над potestas regia, когда дело доходит до выполнения обязательств всей политической власти, которые, согласно Геласию I, были не чем иным, как достижением моральных целей, предложенных самой церковью.
Эти подходы собрали и укрепили наследие Льва I, тщательно переформулировав доктрину папского первенства в Церкви и продвигая независимость духовенства от императоров. Спустя столетие после Геласия I другой папа, Григорий I Великий (590–604), систематически продвигал программу, которую его предшественники уже начали по частям. В руках этого понтифика такая программа включала три важные строки.
Первый – интеллектуал, в котором были собраны наследие святого Августина и некоторые аспекты греческой философии. Второй – доктринальный принцип, который включал независимость от Византийской империи, первенство папы в Риме, Италии, где он работал над созданием «вотчины Святого Петра», и на Западе, где он распространял принципы политического августинизма, то есть право духовной власти предлагать цели власти королей.
И третий – духовный и пастырский, который способствовал появлению епископата, менее озабоченного властью и богатством и более внимательного к обязанностям своего служения.
Они были указаны самим Григорием Великим в Regula pastoralis, тексте, который стимулировал действия людей, которые знали, как совместить аскетическую и созерцательную жизнь монаха с евангелизационной деятельностью миссионера в задаче обращения людей в pомано-германскиx королевствах Европы[79].
Обращение Европы: миссионеры и монахи
Задача, которую взяли на себя папство VI века, и в частности Григорий Великий, для обращения совести, включала три основные целевые группы: крещеные члены Римской церкви, ариане и язычники.
Последние составляли обширную группу, состоящую как из провинциальных римлян из сельского мира, до которых еще не дошло послание епископов, так и из германцев, поселившихся в старой Империи, которые принесли с собой свой собственный пантеон и набор верований от анимистического персонажа. Уровень адресатов делал нецелесообразным включение в проповедь обращения, проповедуемой Церковью, результаты богословских и интеллектуальных дебатов IV и V веков. Они были синтезированы в начале V века святым Августином, истинный создатель доктрины которую католическая церковь сочтет правильным.
В трех основных областях: таинства Троицы, с определением характеристик каждой из трех личностей и их роли в истории спасения; отношения между благодатью, природой и свободой воли, опосредованные первородным грехом; и начало богословия таинств и чистилища – упрощение христианского послания, распространяемого миссионерами, погрузило христианство в процесс фольклоризации и германизации.
Помимо передачи идеи о том, что такое послание было частью более высокой цивилизации, христианство включало, прежде всего, два фундаментальных аспекта: декларацию личной веры в основные тайны религии и визуальные и ментальные инструменты того же самого через мироздание, культ святых, оформление некоторых таинств и совершение мессы. Что касается первого, то миссионеры предложили Символ веры в том виде, в каком он был сформулирован на Никейском соборе в 325 году[80].
То есть вера в бога – Tворца мира и людей; в некоторых прародителей, которые, совершив первородный грех, потеряли рай, но способствовали милосердию самого Бога, который, когда пришло время, воплотился во Христа.
Он, претерпев смерть на кресте, искупил человечество и своим воскресением предоставил ему решающее доказательство своей власти над смертью и, в конечном счете, надежду на индивидуальное воскресение каждого человека, а вместе с тем и возможность вечной жизни. Это утверждение веры было поддержано и развито с помощью трех инструментов. Первый – культ святых, мужчин и женщин, ведущих образцовую жизнь, начиная с мучеников, которые предпочли смерть отречению от своих верований.
Христиане, как и миряне-покровители, ожидали от святых, прежде всего, защиты от несчастий и, в конечном итоге, чуда. Его культ, который был распространен на Востоке через иконы или изображения, распространялся на Западе через реликвии или поклонение гробницам, место назначения многих паломников.
Вторым инструментом для поддержки распространения христианской вести была месса. Модель была работой пап того времени, от Льва Великого до Григория Великого[81]. В начале VII века месса достигла той формы, которую мы знали, как в обычном виде, с фиксированным каноном, так и в нашем собственном с выбором чтений и написанием молитв, что сделало ее истинным компендиумoм веры.
Третьим инструментом, доступным миссионерам, было оформление некоторых таинств, чувствительных знаков, которые, согласно Церкви, означали благодать, которую они даровали. Два таинства возникли раньше. Первое, крещение, проводилось путем вливания, а не полного погружения; сначала взрослым, затем в переоборудованных купелях – детям. Второе, покаяние, иногда публичное и часто зрелищное, испытало между V и VIII веками влияние ирландского католицизма, который представил две новинки.
Применение к грехам тарифной шкалы покаяний, а позже и устное исповедание грехов священнику – практика, которая, когда она распространилась с XI века, стала решающим инструментом социального контроля над христианским населением. Главные действующие лица евангелизации Европы – монахи и миссионеры.
Монашество, неисключительный институт христианства, объединяет тех, кто стремится следовать путем совершенства и общения с Богом, который требует отречения от земных обязательств и вознесения тела и разума, чтобы вести их к созерцательной молитве. В христианской версии Иисус родился в восточном Средиземноморье с III века в трех его формах.
Первым был отшельник; в абсолютном одиночестве он посвятил свою жизнь молитве, физическому труду и покаянию. Это часто принимало форму соревнования со все более суровыми унижениями, такими как те, которые практиковали монахи-cтолпники, проводившие свою жизнь во главе колонны. Второй способ – это лаура: монахи совмещали индивидуальную жизнь и аскетические упражнения, даже в небольших скитах, с молитвами и литургиями в обществе. Третья форма – общежитие, подчиняющееся общему правилу, которое сформировало собственно монастырские общины.
В них чрезмерное умерщвление тела заменялось подчинением воли подчинению вышестоящему, а чисто созерцательный квиетизм – умственным или физическим трудом и благотворительностью. Это позволит великим монастырям стать центрами экономической деятельности, благотворительности и культуры. Эти три версии монашества также распространились по Западу, особенно третья. Общины сенобитов иногда следовали определенному правилу, но чаще они управлялись смесью положений из различных правил, собранных в codex regularum или в кодексе аббата.
Распространение codices regularum, симптом скудной монашеской институционализации того времени, не должно заставлять нас забывать о том, что в V–VIII веках по всей Западной Европе распространились две монашеские традиции с ярко выраженной индивидуальностью: ирландская и римская. Ирландское монашество, творение святого Патрика, было адаптацией строгой египетской модели, которую он знал в Марселе, для общества больших и сплоченных семейных групп, которые иногда превращали каждый монастырь в религиозную ячейку общины родственников[82].
Помимо сурового аскетизма наиболее оригинальными его чертами были: большое количество монахов в монастыре; осуществление епископальной юрисдикции настоятелями, которым подчинялись даже епископы, иногда простые монахи; наличие собственных литургических практик в отношении крещения, пострига и исчисления Пасхи; интерес к библейскому обучению и культуре, выраженной на латыни, языке, неизвестном в Ирландии; неутомимое миссионерское рвение и впечатляющая способность к евангелизации.
Получателями последних были англосаксы как из Великобритании, так и с континента, а также франки, чью церковь они пытались реформировать; а самыми известными миссионерами были святой Колумба и святой Колумбан. Римское монашество было делом Святого Бенедикта, который, должно быть, жил между 480 и 550 годами и основал монастырь Монте-Кассино.
Правление бенедиктинцев предлагало модель, далекую от индивидуалистических и аскетических излишеств восточного монашества и его ирландской версии. Его основанием было признание монашеской общины большой семьей, в которой монахи и oблаты подчинялись власти настоятеля, избранного на всю жизнь.
Их деятельность сводилась к двойному принципу: молись и работай, молись и работай, и их развитию способствовало неумолимое подчинение распорядку, в котором время распределялось между отдыхом, физическим трудом и коллективной или индивидуальной молитвой.
Таким образом, opus manuum, opus Dei и lectio divina составляли деятельность некоторых монахов, которые, поселившись в монастыре, которого они не могли покинуть, выполняли задачи по обучению и оказанию гостеприимства людям за пределами общины.
Правление бенедиктинцев создавало каждый монастырь как самодостаточный социальный микрокосм, как в его экономическом, так и в духовном и культурном аспектах. Христианизация варварских королевств, несмотря на усилия епископов, монахов и миссионеров, была очень долгой задачей. Говоря словами историка, «в Европе в V–VIII веках многие крестились, но очень мало обращались». Обстоятельства не позволили ускорить процесс.
Что касается шагов этого обращения Европы, то оно началось с шагов свевов в середине V века, хотя позже они вернулись к арианству. Он продолжился и с бургундами, но только с крещением Хлодвига, короля франков, около 490 года, мы можем говорить о первом решающем толчке в католицизации германцев. Спустя столетие, в 589 году, обращение Рекаредо и его готского народа на Третьем Соборе Толедо имело то же значение для вестготской Испании. С другой стороны, в Италии этот процесс замедлился из-за вторжения лангобардов в 568 г., и им пришлось ждать еще столетие своего обращения.
Со своей стороны, англосаксонское присутствие в Англии разрушило римское наследие, в том числе христианство, и к делу евангелизации подошли без всякого плана с двух сторон: cеверо-запад, где действовали ирландские монахи, и юго-восток, где римские монахи начали это делать, пока на синоде в Уитби в 664 году обе группы не пришли к соглашению. Через него ирландские монахи признали власть римского престола, его литургию и организацию[83].
Сразу после этого соглашения новые миссионеры с острова еще раз продемонстрировали свои способности евангелизации на континенте. С 670-х годов Вильфридо и Виллибордо пробовали это во Фрисландии, и по их стопам, пятьдесят лет спустя, ушел еще один из великих сторонников обращения Европы: Уинфрит, будущий святой Бонифаций. У интеллектуального должника миссионерских подходов Григория Великого стояла двоякая задача: реформировать франкскую церковь, завершив распространение бенедиктизма, и распространить весть Христа за Рейном.
В обоих аспектах Бонифаций признавал, что поддержка со стороны светской власти была важным компонентом стратегии христианизации: как он писал в одном из своих писем, «без поддержки франкского принца (Карлоса Мартеля) я не мог управлять членами церкви, а без их приказов и страха это воодушевление могло бы предотвратить языческие обряды и поклонение идолам в Германии».
Первый латинско-христианский культурный корпус
Помимо распространения христианства как религиозной модели, в V–VIII веках Римская церковь столкнулась с проблемой определения характеристик культурного корпуса, который она стремилась передать народам Запада. Споры о составе этого культурного корпуса уходят корнями в спор о том, должен ли христианин принимать интеллектуальное наследие мира, который не знал истинного Бога, при том понимании, что это наследие включает два уровня.
С одной стороны, греко-римский культурный, философский, художественный и литературный депозит, в котором сформировались «Отцы Церкви», но, с другой, что более важно, своеобразное представление о мире и человеке в этой греческой мысли с ее дуализмом души и тела и еврейской традиции целостного человека.
Споры между двумя позициями, принятием и отказом от языческой культуры, постепенно закончились принятием греко-римской традиции. В начале V века учебная программа так называемых семи гуманитарных наук была зафиксирована на протяжении веков и состояла из тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиума (арифметика, геометрия, музыка и астрономия).
Распределение содержания и его латинская лингвистическая база представляли собой как триумф энциклопедизма над оригинальной мыслью, так и замену греческого языка латынью на Западе. За короткое время латынь превратилась в литургический и культурный язык и исчезла как живой язык.
Уменьшение количества школ и замена старых государственных школ школами монашеского и епископского характера не означали отрицания классического наследия, лингвистические и литературные элементы которого были важны, но означали его отсрочку, особенно в монастырских школах, в отношении изучения Библии и писаний Отцов Церкви[84].
Число получателей учений, в основном духовенства, стремящихся к священству, уменьшилось в течение VII века, по крайней мере пропорционально огромным масштабам задачи евангелизации Европы. В то же время упала степень подготовки, на что горько сетовал святой Бонифаций, так как порой онa не превышалa неграмотности.
Создание корпуса христианской культуры, интеллектуальной основы Европы, по крайней мере до XII века, было наиболее постоянным результатом монашеской и епископальной школ VI–VIII веков, хотя основы были заложены тремя людьми, прошедшими через старую школу в Италии.
Первым из них был Боэций (480–525), который перевел некоторые сочинения Аристотеля с греческого на латынь: те, которые позже стали известны как Logica vetus, будут изучаться с IX века в европейских школах. Этим он также завещал две другие вещи: набор определений и инструментальную латынь, очень полезную для философских и богословских размышлений, и своего рода введение в философские размышления на стоической основе, свою брошюру De consolatione.
Вторым из создателей корпуса христианской культуры был Кассиодор (ок. 485–580). Хотя его цель создать своего рода христианский университет не удалось, его наследие было немалым. С одной стороны, в своих Институтах он оставил программу интеграции семи гуманитарных наук в рамках священной культуры, а с другой – он оставил трактат по орфографии и транскрипции текстов, инструмент, широко используемый в переписчики монастырских летописей.
Третьим римлянином, внесшим свой вклад в христианский корпус, был Папа Григорий Великий (543–604), который настаивал на пути, отмеченном Кассиодором, что целью гуманитарных наук было не что иное, как подготовить разум к лучшему пониманию слова Божьего. Его любимым интеллектуальным полем деятельности была педагогика морального содержания, как через его доктринальные сочинения, так и через его более восьмисот писем.
Среди них его «Моралия», руководство по развитию монашеской жизни, «Regula pastoralis», настоящее руководство для епископа, и его «Диалоги», очерки о житиях святых, в том числе святого Бенедикта.
Четвертым из создателей позднесредневекового корпуса культуры был Святой Исидор (ок. 570–636), епископ Севильи, который заложил основы историографии полуострова, сделав Испанию единицей судьбы под руководством вестготов монархии, и он составил большую энциклопедию Etymologiae или Origen, которая в двадцати книгах обобщила знания античности, поставив их на службу христианской науке. Распространение работы, как напрямую, так и через ирландских и англосаксонских монахов, сделало ее учебником, присутствующим во всех монастырских библиотеках Средневековья. Пятый и последний создатель высокого средневекового культурного корпуса, Беда Достопочтенный (672–735), был продуктом ирландского кельтского христианства в землях Англии, где он возбудил страстный интерес к знанию латыни. Работа Беды проводилась в некоторых нортумбрийских школах, где проходила встреча ирландских и римских миссионеров, и прежде всего в монастыре Ярроу, где Бедa написал около сорока книг на исторические, научные и экзегетические темы об упрощении содержания классического наследия, которое, в свою очередь, он берет уже обобщенное из Исидора Севильского.
Он делает это как в «Historia ecclesiasticagentis anglorum», так и, прежде всего, в «De natura rerum». Наследие Беды было передано его ученику Эгберту, епископу Йоркскому и покровителю его кафедральной школы, где около 740 года он принял Алкуина как Облату, который позже стал ведущей фигурой в культурном возрождении Каролингов[85].
2
Прибытие арабских завоевателей в 711 году в Пиренейский полуостров
Анри Пиренн пишет в свой книге «Империя Карла Великого и Арабский халифат» в части «Распространение ислама в Средиземноморье».
Ничто так не наводит на размышления, чтобы понять распространение Ислама в VII веке, чем сравнения его влияния на Римскую империю с германскими вторжениями. Это кульминация ситуации столь же древней, даже более древней, чем Империя, и более или менее тяжело давившей на всю ее историю. Когда Империя, границы которой нарушены, отказывается от борьбы, ее захватчики немедленно позволяют ей поглотить себя и, насколько это возможно, продолжают свою цивилизацию и входят в это сообщество, на котором она покоится.
Наоборот, до времен Магомета Империя не имела или почти не имела отношений с Аравийским полуостровом.
Были построены крепости и это были линии наблюдения, которую пересекали караваны с благовониями и специями. То же самое сделала с ней Персидская империя, также соседняя с Аравией. Короче говоря, можно было не опасаться кочевых бедуинов полуострова, чья цивилизация находилась на стадии племен, чьи религиозные верования едва ли превосходили фетишизм, и которые тратили свое время на ведение войны или на грабежи караванов, которые шли с юга на север, из Йемена в сторону Палестины, Сирии и Синайского полуострова, проходя через Мекку и Ясреб (будущая Медина).
Занятые своим светским конфликтом, ни Римская империя, ни Персидская империя, похоже, не подозревали о пропаганде, с помощью которой Магомет в разгар беспорядочной борьбы племен собирался дать своему народу религию, на которую она вскоре должна была сплотиться вокруг ислама и завоевать мир. Империя уже была взята за горло, а Иоанн Дамаскин все еще видел в исламе лишь своего рода раскол, аналогичный по своей природе предшествующим ересям, молниеносно продемонстрированным двумя годами позже (634 г.).
Никаких мер на границе не принималось. Очевидно, если германская угроза постоянно привлекала внимание императоров, то нападение арабов их удивило. В известном смысле распространение ислама было случайностью, если понимать под этим непредвиденное следствие нескольких сочетающихся причин. Успех нападения объясняется истощением этих двух граничащих империй Аравии, Римской и Персидской, после долгой борьбы, столкнувшей их друг с другом и увенчавшей, наконец, победу Ираклия над Хосровом (ум. 627).
Византия только что восстановила свой блеск, и ее будущее казалось обеспеченным падением извечного врага, вернувшего ей Сирию, Палестину и Египет. Однажды снятый Святой Крест был триумфально доставлен победителем в Константинополь. Государь Индии послал свои поздравления Ираклию, а король франков Дагоберт заключил с ним вечный мир. Можно было бы ожидать после этого, что Ираклий снова возьмет на Западе политику Юстиниана. Лангобарды, несомненно, оккупировали часть Италии, а вестготы в 624 г. переняли у Византии ее последние позиции в Испании, но что это было по сравнению с огромным восстановлением, которое только что произошло на Востоке?
Однако усилия, без сомнения слишком большие, истощили Империю. Эти провинции, которые Персия только что вернула ей, ислам внезапно отнимет у нее. Ираклий (610–641) был беспомощным свидетелем первого высвобождения этой новой силы, которая дезориентировала мир и сбила с пути. Арабское завоевание, которое было развязано как в Европе, так и в Азии, не имеет прецедента; быстрота его успеха может быть сравнима только с той, с которой были созданы монгольские империи Аттилы или позднее Чингисхана или Тамерлана.
Но они были столь же эфемерны, сколь длительным было завоевание ислама. Эта религия до сих пор имеет своих последователей почти везде, где она навязывалась при первых халифах. Это настоящее чудо – его молниеносное распространение по сравнению с медленным продвижением христианства.
Что значат по сравнению с этим вторжением завоевания, столь долго сдерживаемые и столь мало насильственные, германцев, которым спустя столетия удалось лишь разъесть край Румa? Наоборот, целыми кусками Империя рушится перед арабами. В 634 г. они захватили византийскую крепость Ботра (Босра) за Иорданом; в 635 г. перед ними пал Дамаск; в 636 г. битва при Ярмуке отдала им всю Сирию; в 637 или 638 году Иерусалим открыл им свои двери, а в направлении Азии они завоевали Месопотамию и Персию.
Затем в свою очередь нападают на Египет; вскоре после смерти Ираклия (641 г.) была взята Александрия, и вскоре вся страна была оккупирована. И экспансия, продолжавшаяся до сих пор, захлестнула византийские владения Северной Африки. Все это, без сомнения, объясняется неожиданностью, беспорядком дезорганизованных византийских армий, застигнутых врасплох новым способом ведения боя, религиозным и национальным недовольством монофизитов и несториан Сирии, которым Империя не желает делать никаких уступок, из-за Коптской церкви Египта и из-за слабости персов.
Но всех этих причин недостаточно, чтобы объяснить такой полный триумф. Грандиозность достигнутых результатов несоизмерима со значением завоевателя. Здесь возникает большой вопрос, почему арабы, которых было, конечно, не больше, чем германцев, не были поглощены, как они, населением тех регионов высшей цивилизации, которую они захватили?
Есть только один ответ, и он моральный. Пока германцам нечего противопоставить христианству Империи, арабы возвеличиваются новой верой. Именно это и только это делает их неассимилируемыми. Потому что в остальном у них не больше предубеждений, чем у германцев против цивилизации тех, кого они завоевали. Наоборот, они усваивают его с поразительной быстротой; в науке они следуют школе греков; в искусстве – греков и персов.
Они даже не фанатики, по крайней мере вначале, и не собираются обращать своих подданных. Но они хотят, чтобы они подчинялись единственному богу, Аллаху, его пророку Мухаммеду и, поскольку он был арабом, Аравии. Их универсальная религия является в то же время национальной. Они слуги Бога. Ислам означает покорность Богу, а мусульмане – означает покорность.
Аллах един, и это логично, так как все его рабы обязаны навязывать его неверующим, неверным. То, что они предлагают, является не обращением, как было сказано, а подчинением. Это то, что они несут с собой. Они не просят ничего лучшего после завоевания, чем взять в качестве добычи науку и искусство неверных; они будут возделывать их в честь Аллаха. Они даже отнимут у них их учреждения, поскольку они им полезны. Их толкают туда собственные завоевания.
Чтобы управлять основанной ими Империей, они больше не могут полагаться на свои племенные институты; точно так же германцы не могли навязать свое Римской империи. Разница в том, что где бы они ни были, они доминируют. Побежденные являются их подданными, платят налог в одиночку, находятся вне общины верующих. Барьер непроходим; между покоренным населением и мусульманами не может быть никакого слияния. Какой ужасный контраст с Теодорихом, который ставит себя на службу своим побежденным и стремится уподобиться им! У германцев победитель пойдет к побежденному спонтанно.
У арабов наоборот, именно побежденный пойдет к победителю, и он может пойти туда, только служа, как он, Аллаху, читая, как он, Коран, следовательно, изучая язык, который является священным языком, а также государственным языком халифата. Никакой пропаганды и даже, как у христиан после торжества Церкви, никакого религиозного ущемления. «Если бы Бог пожелал, – говорит Коран, – то сделал бы всех людей одним народом», и он осуждает в своих словах насилие над заблуждением, терпят, живут отвергая то что им чуждо..
Вот что невыносимо и неверных деморализует. Мы не нападаем на его веру, мы игнорируем ее, и это самый действенный способ оторвать его от нее и привести к Аллаху, который одновременно с восстановлением его достоинства откроет ворота мусульманского города.
Именно потому, что его религия по совести обязывает мусульманина относиться к неверным как к подданным, неверный пришел к нему, и, придя к нему, он порвал со своим отечеством и своим народом, как только он войдет в Рим. Римлянин же, напротив, арабизируется, как только его завоевывает ислам. Тем не менее вся атмосфера была глубоко преобразована. Был разрыв, чистый разрыв с прошлым.
Новый хозяин больше не допускает, чтобы в пределах его господства любое влияние могло выйти из-под контроля Аллаха. Его закон, взятый из Корана, заменяет римское право, его язык – греческий и латинский. Став христианской, Империя, так сказать, изменила свою душу; становясь исламизированной, онa меняет и душу, и тело. Гражданское общество трансформируется так же, как и религиозное общество.
С исламом на этих средиземноморских берегах появляется новый мир, где Рим распространял синкретизм своей цивилизации. Происходит поляризация мира, которая продлится до наших дней. По краям Mare Nostrum теперь простираются две разные и враждебные цивилизации. И если европейские империи подчинили себе азиатские страны, то европейские цивилизации Азию не ассимилировала.
Море, которое до сих пор было центром христианства, становится его границей. Средиземноморское единство нарушено. Первая экспансия замедлилась при халифе Усмане, и его убийство в 656 г. положило начало политическому и религиозному кризису, который прекратился только с воцарением Муавия I в 660 г., должен был навязать себя всему бассейну большого внутреннего озера. И действительно, он старался. Со второй половины VII века он стремился стать морской державой в этих водах, где доминировала Византия, во время правления Константа II (641–668).
Арабские корабли халифа Муавия I (660 г.) начинают вторгаться в византийские воды. Они занимают остров Кипр и недалеко от побережья Малой Азии одерживают морскую победу над самим императором Константом II; они захватывают Родос и доходят до Крита и Сицилии. Затем делают порт Кизик военно-морской базой, откуда неоднократно осаждают Константинополь, который победоносно противостоит им греческим огнем, пока в 677 г. сарацины не отказались от похода.
Наступление на Африку, начатое эмиром Египта Ибн Садом в 647 г., завершилось победой над экзархом Григорием. Однако крепости, построенные при Юстиниане, не поддались, и берберы, забыв свою прежнюю враждебность к римлянам, сотрудничали с ними против захватчиков. Еще раз вскрылась важность Африки, завоевание которой вандалами когда-то вызвало оборонительный упадок Империи на Западе.
От него зависела безопасность Сицилии и Италии, морской проход на запад. Вероятно, для того, чтобы защитить его, Констант II после последнего визита в Рим византийского императора поселился в Сиракузах. Неприятности халифата в это время принесли передышку. Но появление Моавии в 660 г. должно было возобновить борьбу. В 664 году новый великий набег приносит византийцам новое поражение. Армия, которую они послали в Хадруметум, была разбита, и крепость Джелула взята и сожжена, после чего захватчики отступили.
Но для отражения как наступательных возвратов византийцев, удерживавших города на побережье, так и для сдерживания берберов массива Аурес Огба-бен-Нафи основал в 670 г. Кайруан. Именно отсюда были эти набеги, сопровождаемые резней, против берберов, которые все еще держатся в своих горах.
В 681 году Огба в огромном натиске достиг Атлантики. Но реакция берберов и римлян сметает все это. Берберский князь Косайла входит в Кайруан победителем, а берберы, принявшие ислам, спешат отречься. Византийцы на их стороне переходят в наступление. Потерпев поражение при Кайруане, мусульмане Косайлы отступили к Барке, где были застигнуты врасплох и уничтожены византийским десантным корпусом (689 г.). Их предводитель был убит в битве.
Эта победа, вернувшая византийцам побережье Африки, поставила под угрозу всю арабскую экспансию в Средиземноморье. Также к атаке возвращаются арабы, которые неумолимы; Карфаген взят штурмом (695 г.). Император Леонтий видит опасность и вооружает флот, которым командует Патрис Жан, которому удается вернуть город.
Со своей стороны, берберы, сгруппировавшиеся под предводительством таинственной царицы по имени Дакия аль-Кахина, разгромили арабскую армию под Тебессой. Aрабы потерпели поражение от Кахины и преследовались до Триполитании.
Но в следующем году Хасан возобновляет атаку и захватывает Карфаген (698 г.), завоевание которого на этот раз должно было стать окончательным. Жители бежали. Старый город был немедленно заменен новой столицей на дне залива: Тунисом, чей порт Ла-Гулетт должен был стать великой базой ислама в Средиземноморье. Арабы, у которых наконец появился флот, разгоняют византийские корабли. Господство на море теперь принадлежит им.
Вскоре греки сохранили только место Септем (Сеута) с некоторыми остатками Мавретании Второй и Тингитаны, Майорки, Менорки и редких городов Испании. Похоже, что они образовали из этих разрозненных владений экзархат, который просуществовал еще десять лет. Таким образом, с сопротивлением берберов под предводительством королевы Кахины все было кончено. За ней охотятся в Ауре, ее убивают, а ее голову отправляют халифу.
Следующие годы отмечены победой сарацинов. Муса ибн Но-сайр подчиняет Марокко и навязывает ислам берберским племенам. Именно эти новообращенные завоюют Испанию. Ее уже преследовали одновременно с Сардинией и Сицилией. Это было необходимым следствием оккупации Африки. В 675 году арабы напали на Испанию с моря, но были отбиты вестготским флотом.
Гибралтарский пролив не мог остановить завоевателей; вестготы подозревали это. В 694 году вестготский король Эгика[86] обвинил евреев в сговоре с мусульманами, и, может быть, действительно, гонения, которым они подвергались, вселили в них надежду на завоевание страны. В 710 году король Толедо Ахила, изгнанный Родригом, герцогом Бетики, бежал в Марокко, где, несомненно, искал помощи у мусульман. Эти, во всяком случае, пользуются событиями, потому что в 711 году армия, численность которой оценивается в 7000 берберов, под командованием Тарика переправляется через пролив.
Родриг потерпел поражение при первом ударе, все города открылись перед завоевателем, который, поддержанный в 712 г. армией подкреплений, завершил овладение страной. В 713 г. Муcа, наместник Северной Африки, провозгласил в столице Толедо суверенитет халифа Дамаска. Сарацины решили не останавливаться в Испании и продолжили экспансию. Едва было завершено подчинение полуострова, как в 720 г. мусульмане захватили Нарбонну, а затем осадили Тулузу, положив начало Франкскому королевству.
Король, бессильный, ничего не делает. Герцог Аквитании Эд Великий оттеснил cарацин в 721 году, но Нарбонна осталась в их руках. Именно оттуда в 725 году начинается новый и грозный удар. Каркассон был взят, и всадники Полумесяца двинулись к Отуну, разграбленному 22 августа 725 г.
Еще один набег в 732 г. совершил эмир Испании Абд-эр-Раман, который, покинув Памплону, переправился через Пиренеи и двинулся на Бордо. Герцог Аквитании Эд Великий бежит к Карлу Мартелли. Именно с Севера, наконец, начнется реакция против мусульман, учитывая бессилие, проявленное Югом. Карл идет с Эдом, чтобы встретить захватчика, и присоединяется к нему в том же промежутке в Пуатье, где Хлодвиг когда-то победил вестготов. Потрясение происходит в октябре 732 года.
Абд-эр-Раман побежден и убит, но опасность не предотвращена. Теперь сарацины движутся в сторону Прованса, то есть к морю. В 735 г. арабский наместник Нарбонны Юсеф ибн Абд-эр-Раман захватывает Арль при поддержке сообщников, которых он нашел в странe. Затем, в 737 г., арабы взяли Авиньон и распространили свои опустошения до Лиона и Аквитании. Карл Мартелл[87] снова выступает против них. Он отвоевал Авиньон и отправился нападать на Нарбонну, перед которой он разбил арабскую армию помощи, пришедшую морем, но не смог взять город. Он вернулся в Австразию с огромной добычей, ибо взял, разрушил и сжег Магелон, Агд, Безье и Ним. Эти успехи не предотвратили нового вторжения арабов в Прованс в 739 г. На этот раз они также угрожают лангобардам; Карл Мартелл с помощью последнего снова отталкивает их. Пипин изгнал их из него в 752 г., но тщетно атаковал Нарбонну. Он не мог окончательно захватить ее до 759 г. Эта победа знаменует если не конец экспедиций против Прованса, то, по крайней мере, конец мусульманской экспансии на Западном континенте.
Как Константинополь отразил великое нападение 718 г. и тем самым защитил Восток, так и здесь неповрежденные силы Австразии, вассалы Каролингов, спасают Запад. Но если на востоке византийскому флоту удастся оттеснить ислам от Эгейского моря, то на западе Тирренское море попадет под его власть.
Экспедиции против Сицилии следуют одна за другой в 720, 727, 728, 730, 732, 752, 753 годах; прерванные на мгновение гражданскими волнениями в Африке, они возобновились в 827 г. при аглабитском эмире Зиядете-Аллахе I (817–838), который воспользовался восстанием против императора, чтобы попробовать свои силы против Сиракуз. Арабский флот покинул Соуз в 827 году, но византийцы энергично продвигали войну, и византийский флот снял осаду Сиракуз. Со своей стороны, мусульмане получили подкрепление из Испании, затем из Африки.
В августе-сентябре 831 г. они захватили Палермо после годичной осады, приобретя таким образом оборонительную базу на Сицилии. Несмотря на эту неудачу, сопротивление византийцев энергично продолжается на море и на суше. Однако они не смогли помешать мусульманам с помощью неаполитанцев захватить Мессину в 843 году. В 859 году центр византийского сопротивления был взят, и Сиракузы пали 21 мая 878 года после героической обороны.
Пока Византийская империя боролась за спасение Сицилии, Карл Великий боролся с мусульманами на границах Испании. В 778 году он послал армию, которая потерпела поражение перед Сарагосой и чей арьергард был перебит в Ронсевальесе. Затем он решает с.116 к обороне, до того момента, когда сарацины вторглись в Септиманию (793 г.), он устанавливает против них марш Испании (795 г.), на который его сын Людовик, король Аквитании, должен был опереться в 801 г. и захватить Барселону. После различных неудачных экспедиций, в частности под предводительством Ингобертa в 810 году, Тортоса также попала в руки Людовика в 811 году. С другой стороны, она потерпела неудачу перед Уэской.
В действительности Карл Великий столкнулся с чрезвычайно сильным сопротивлением в Испании. И Эйнхард преувеличивает, когда рассказывает, что он оккупировал всю страну до Эбро. На самом деле он касался реки только в двух точках, в верхней долине, к югу от Наварры, и в нижней долине у Тортосы, предполагая, что город действительно был оккупирован. У него не было флота и против сарацин, владевших Тунисом, господствовавших на побережьях Испании и оккупировавших острова, он ничего не мог сделать. Карл Великий стремился защитить Балеарские острова и добился там некоторых временных успехов. В 798 году мусульмане разорили эти острова.
В следующем году, уступая просьбам жителей, Карл Великий послал им войска, которые, несомненно, были перевезены на кораблях с Балеарских островов. Эта военная демонстрация, по-видимому, имела успех, поскольку арабские знамена были отправлены в качестве трофеев королю. Однако мы не видим, чтобы франки оставались на этих островах.
На самом деле Карл Великий почти все время сражался в районе Пиренеев. Смута, охватившая мусульманский мир, пошла ему на пользу. Основание Oмейядского халифата в Кордове в 765 г., направленного против аббасидского халифата Багдада, было ему на пользу, поскольку каждый из них был заинтересован в том, чтобы пощадить франков. Карл Великий не добился больших успехов в других точках Средиземноморья. В 806 году сарацины захватили небольшой остров Пантеллария и продали найденных там монахов в рабство в Испанию. Карл выкупил их.
В том же 806 году Пипин, его сын, король Италии, попытался изгнать сарацинов с Корсики, где они поселились. Он вооружил флот и, по словам каролингских летописцев, стал хозяином острова. Но с 807 г. остров снова попал во власть врагов. Тут же Карл послал против них полководца Бурхарда, который вынудил их отступить после битвы, в которой они потеряли тринадцать кораблей.
Но победа на этот раз опять лишь эфемерна, потому что в 808 г. папа Лев III, рассказывая Карлу о мерах, которые он принимает для защиты итальянского побережья, просит его взять на себя управление Корсикой. Мы видим на самом деле, что в 809 и 810 годах сарацины заняли Корсику и Сардинию. Ситуация ухудшилась, когда Африка, измученная эндемическими проблемами, организовалась под властью династии Аглабитов, признавших багдадского халифа Xарун-ар-Рашида[88].
В 812 году африканские сарацины, несмотря на прибытие греческого флота под командованием патриция и усиленного лодками из Гаэты и Амальфи, разграбили острова Лампедуз, Понца и Искья. Лев III[89] ставит побережья Италии в состояние обороны, и император посылает своего кузена Валу, чтобы помочь ему. Шарль также выходит на связь с Патрисом Жоржем, но последний заключает с противником десятилетнее перемирие.
Однако это не принимается во внимание, и война на море не обезоруживает; уничтожение штурмом сарацинского флота из ста кораблей в 813 г. едва замедлило набеги арабов на Испанию, которые не переставали грабить Чивиту-Веккью, Ниццу, Сардинию и Корсику, куда привозят 500 пленных. Однако в разгар войн предпринимаются некоторые дипломатические усилия. Уже в 765 году Пипин отправил посольство в Багдад. В 768 году он принял в Аквитании послов от сарацинов Испании, прибывших через Марсель.
В 810 году Xарун-аль-Рашид отправил посольство к Карлу Великому, который в 812 году также подписал договор с испанцем Эль-Хакемом. Эти различные попытки не дали результата. И все больше и больше Карл Великий, не в силах противостоять мусульманским флотам, смирялся с обороной, с трудом парируя получаемые им удары. Ситуация должна была стать еще хуже после смерти Карла Великого.
Несомненно, в 828 г. Бонифаций Тосканский продвинулся с небольшим флотом, предназначенным для защиты Корсики и Сардинии, до побережья Африки между Карфагеном и Ути-кой, воспользовавшись тем, что мусульмане в тот момент были заняты в Сицилии. Но несколько лет спустя Италия, к северу от византийских городов, вскоре стала не чем иным, как добычей мусульман. Бриндизи и Таранто были разорены (838 г.), Бари завоеван (840 г.), флот Византии и Венеции разбит.
В 841 году мусульмане разорили Анкону и побережье Далмации до Каттаро. А Лотарь в 846 году не скрывал, что опасается аннексии Италии. В 846 году семьдесят кораблей напали на Остию и Порто, продвинулись, опустошая все до стен Рима, и осквернили церковь Святого Петра. Гарнизон Грегориополя не мог их остановить.
Экспедиция Лотаря в 847 году, в следующем году, не смогла вернуть себе Бари. В 849 г. по наущению папы Амальфи, Гаэта и Неаполь заключили союз против сарацин и собрали в Остии флот, который благословил папа Лев IV.[90] Он одержал крупную морскую победу над сарацинами. В то же время Папа окружил город Ватикана стеной и сделал его Civitas Leonina (848–852).
В 852 году папа Лев IV восстановил Порто, укрепил гавань и окружил город стенами. Привлек корсиканцев, изгнанные арабами со своего острова. Но город приходит в окончательный упадок Он также создал Леополи, чтобы заменить Чивита Веккиа, опустевшую из-за нашествия сарацин. Точно так же он восстановил Орту и Америю в Тоскане, чтобы обеспечить убежище для жителей во время мусульманских набегов. Это только предотвратило в 876 и 877 гг. опустошили римскую сельскую местность; напрасно папа умоляет императора Византии.
Бедствия, которые он перенес в это время на Сицилии, где Сиракузы пали (878 г.), несомненно, помешали ему вмешаться, и, наконец, Папа был вынужден ежегодно платить дань маврам чтобы избежать нападения, 20 000 денег манкузи. Мы имеем дело только с простыми пиратaми, которые собираются только грабить. В 883 г. было сожжено и разрушено аббатство Монте-Кассино. В 890 г. аббатство Фарфа было осаждено и сопротивлялось семь лет. Субиако разрушен, долина Анио и Тиволи опустошены.
Сарацины устроили плацдарм недалеко от Рима, в Сарачинеско, и еще один в Сабинских горах, в Чилиано. Римская сельская местность становится пустыней: redacta est terra in solitudinem. Только в 916 году спокойствие было восстановлено, когда Иоанн X, император, князья южной Италии и император Константинополя, которые отправили галеры в Неаполь, вынудили город и его соседей отказаться от союза с сарацинами и объединились с ними, чтобы наконец-то победит ужасных захватчиков на Гарильяно.
Таким образом, мы можем сказать, что после завоевания Испании и особенно Африки западное Средиземноморье стало мусульманским озером. Франкская империя, лишенная флота, ничего не может сделать. Христиане сохранили за собой только Неаполь, Гаэте и Амальфи. Но их коммерческие интересы вынуждают их покинуть Византию, чтобы сблизиться с мусульманами. Именно благодаря их отступничеству сарацины наконец смогли захватить Сицилию.
Правда, византийский флот могуществен даже больше, чем у италийских морских городов, благодаря греческому огню, который делает его грозным средством войны; но Сицилия взята, она почти полностью отрезана от Запада, где появляется лишь изредка и бесполезно. Но тем не менее флот позволял императорам охранять свою империю, прежде всего прибрежную; именно благодаря ей воды вокруг Греции остались свободными и Италия наконец вырвалась из тисков ислама.
Через тридцать лет после завоевания его мусульманами в 840 г. Бари был отбит флотом императора Василия, насчитывавшим 400 кораблей, и обеспечил безопасность Венеции. Опять же благодаря своему флоту Византия смогла сохранить своего рода превосходство над Неаполем, Амальфи и Гаэтой, чья политика заключалась в том, чтобы развиваться между императором, герцогом Беневенто и даже мусульманами, чтобы сохранить автономию, необходимую для их торговли.
Таким образом, исламская экспансия не могла охватить все Средиземноморье. Мусульмане окружают его с востока, юга и запада, но не могут напасть с северa. Древнеримское море стало границей между исламом и христианством. Все бывшие средиземноморские провинции, завоеванные мусульманами, теперь тяготеют к Багдаду.
При этом Восток отделился от Запада. Связь, оставленная германским вторжением, была разорвана. Византия теперь является лишь центром греческой империи, для которой уже не остается никакой возможности проводить политику Юстиниана. Он вынужден защищать свое последнее имущество.
Самые западные посты – Неаполь, Венеция, Гаэта, Амальфи. Флот еще позволяет поддерживать с ними контакт, не давая тем самым восточному Средиземноморью превратиться в мусульманское озеро. Но Западное Средиземноморье – это нечто большее. Онo, которoe былo великим средством общения, сегодня сталo непреодолимой преградой.
Ислам нарушил средиземноморское единство, которому позволили существовать германские вторжения. Это самый существенный факт, произошедший в европейской истории со времен Пунических войн. Это конец древней традиции. Это начало Средневековья, в тот самый момент, когда Европа находилась в процессе превращения в Византию.
Закрытие западного Средиземноморья
Пока Средиземное море оставалось христианским, именно восточное судоходство поддерживало торговлю с Западом. Сирия и Египет были двумя главными центрами; и именно эти две богатые провинции первыми попали под господство ислама. Было бы очевидной ошибкой полагать, что это господство погасило экономическую деятельность. Если были большие проблемы, если мы отмечаем значительную эмиграцию сирийцев на Запад, мы не должны, тем не менее, полагать, что экономические рамки рухнули. Дамаск стал первой столицей халифата. Пряности не перестали импортироваться, папирус производиться, порты функционировать. Пока они платили налог, к христианам не приставали.
Торговля поэтому продолжалась, но направление изменилось. Само собой разумеется, что в разгар войны победитель не давал своим подданным торговать с побежденными. И когда мир оживлял активность в завоеванных провинциях, ислам направлял свои войска к новым горизонтам, открытым для них необъятностью своих завоеваний.
Открылись новые торговые пути, связавшие Каспийское море с Балтийским Волгой, и скандинавы, купцы которых часто посещали берега Черного моря, должны были немедленно встать на новый путь; единственным доказательством этого являются многочисленные восточные монеты, найденные на Готланде.
Несомненно, что беды, неотделимые от завоевания Сирии (634–636), затем Египта (640–642), на мгновение помешали плаванию. Лодки пришлось реквизировать для флота, который ислам тут же организует в Эгейском море. Купцы, проходящих посреди враждебного флота, если только они не воспользуются обстоятельствами, как это приходилось делать многим из них, чтобы заняться пиратством.
Надо, конечно, признать, что с середины VII века судоходство из мусульманских портов Эгейского моря в порты, остававшиеся христианскими, стало невозможным. Из Византии и берегов, которые она защищает вокруг нее, судоходство могло продолжаться под защитой флота в направлении других греческих областей Греции, Адриатики, южной Италии и Сицилии, но трудно признать, что оно могло отважиться далее с тех пор, как уже в 650 г. ислам напал на Сицилию.
Что же касается торгового движения Африки, то постоянное разорение страны с 643 по 708 год, бесспорно, положило ему конец. Редкие остатки, которые удалось сохранить от него, исчезли после взятия Карфагена и основания Туниса в 698 г. Завоевание Испании в 711 г. и усиление берберского пиратства на побережье Прованса делает совершенно невозможным любое коммерческое судоходство в Западном Средиземноморье.
А последние христианские порты не могли поддерживать никакого морского движения между собой, так как у них не было флота или его было очень мало. Таким образом, мы можем утверждать, что судоходство с Востоком прекратилось около 650 г. с областями, расположенными к востоку от Сицилии, и что во второй половине VII в. оно угасло на всех западных побережьях.
В начале VIII века его исчезновение было полным. Нет больше средиземноморского движения, кроме как на византийском побережье; как сказал Ибн Халдун (с оговоркой, которую надо сделать для Византии): «Христиане не могут больше плавать по морю даже на доске».
В IX веке cарацинские пираты захватили острова, разрушили порты, повсюду совершали набеги. Вакуум создается в большом порту Марселя, который прежде был главной ареной, Запада с Левантом. Прежнее экономическое единство Средиземноморья нарушено и останется таковым до времени крестовых походов. Онo сопротивлялoсь германским вторжениям; онo уступает непреодолимому натиску ислама.
Как Запад мог сопротивляться? Флота у франков не было. У вестготов уничтожен, а противник, наоборот, хорошо подготовлен. Порт Туниса и его арсенал неприступны. На всех побережьях возвышаются рибаты, полурелигиозные, полувоенные посты, которые соответствуют друг другу и поддерживают постоянное состояние войны.
Против этой морской силы христиане ничего не могли сделать; тот факт, что они совершили лишь один небольшой набег на побережье Африки, является самым ярким доказательством этого. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку превосходные ученые не допускают, чтобы мусульманское завоевание могло привести к такому резкому перелому.
Они даже считают, что сирийские купцы продолжали посещать Италию и Галлию, как и в прошлом, в течение VII и VIII веков. Это правда, что Рим особенно приветствовал большое количество сирийцев в первые десятилетия после завоевания их страны арабами. И их влияние и численность должны были быть значительными, чтобы некоторые из них, такие как Сергий I (687–701) и Константин I (708–715), были возведены на папский престол.
Из Рима некоторое количество этих беженцев, чье знание греческого языка обеспечивало их престиж, вскоре переселилось на север, привезя с собой рукописи, слоновую кость и ювелирные изделия, которые они приобрели, покидая свою страну. Каролингские государи не преминули использовать их в работе по литературному и художественному обновлению, которую они предприняли. Карл Великий поручил некоторым просмотреть текст Евангелий.
И, вероятно, один из их соотечественников оставил в Меце греческий текст Лаудс, который упоминается там в IX веке. Доказательством сирийского проникновения на Запад, после VII века, мы все же должны считать влияние, которое искусство Малой Азии оказало на развитие орнамента в каролингский период.
Кроме того, нам известно, что многие священнослужители из Франции отправились на Восток, чтобы поклониться тамошним святыням Палестины, и что они вернулись, обеспеченные не только реликвиями, но, несомненно, также рукописями и церковными украшениями. Общеизвестен факт, что Xарун-ар-Рашид, желая склонить Карла Великого к его борьбе с Oмейядским халифатом, отдал ему гробницу Христа одновременно с неясным протекторатом над святыми местами. Но все эти факты, как бы они ни были интересны для истории цивилизации, не таковы для экономической истории.
Иммиграция ученых и деятелей искусства никоим образом не свидетельствует о наличии торговых отношений между страной их происхождения и теми, где они ищут убежища. XV век, когда так много византийских ученых бежало в Италию раньше турок, не был ли именно тем временем, когда Константинополь перестал быть великим портом? Обращение товаров не следует путать с обращением паломников, ученых и художников. Первый предполагает организацию транспорта и постоянные импортно-экспортные связи, второй осуществляется случайно. Чтобы иметь право говорить о сохранении сирийского и восточного судоходства в Тирренском море и Лионском заливе после VII века, необходимо показать, что Марсель и порты Прованса оставались в контакте после этой даты с Левантoй. Однако последним текстом, на который можно сослаться в этом отношении, является документ Корби от 716 г.
Согласно этому тексту, налоговый склад в Марселе или Фосе в то время все еще был бы полон специями и маслом, т. е. продуктами, происходящими из Азии и Африки. Однако это всего лишь архаизм. Мы имеем дело с актом, подтверждающим аббатству Корби старые привилегии; вполне вероятно, что он воспроизводит более ранние тексты как есть. Можно было бы, правда, допустить, что Cellarium fisci жил за счет своих запасов, но тогда это уже не является указанием на существование активных торговых отношений в 716 г.
Во всяком случае, это последнее упоминание, которое мы имеем о том, что восточные продукты хранятся в портах Прованса. Более того, четыре года спустя мусульмане высадились на этих берегах и разграбили страну. Марсель был покорен в это время. Напрасно будут ссылаться в доказательство его деятельности на проход паломников, направляющихся на Восток. На самом деле несомненно, что такие паломничества, которые не могут совершаться через долину Дуная, занятую аварами, а затем венграми, предполагают переходы по морю.
Но мы замечаем всякий раз, когда возможно узнать маршруты, по которым они следовали, что именно в портах византийской Италии высадились благочестивые путешественники. Святой Виллибальд, будущий епископ Эйхштедта, отправляется в 726 году в Гаэту после перехода через Альпы. Мадальвей, епископ Вердена, направляясь в Иерусалим, берет в Апулии около 776 г. корабль, отправляющийся в Константинополь.
И именно из Таранто в X веке отправился в Александрию монах Бернар, с VIII века все ввозимые ими продукты уже не встречаются в Галлии; против этого факта нет ответа. Первым делом исчез папирус. Все известные нам произведения, написанные на Западе на папирусе, относятся к VI или VII веку. До 659–677 годов папирус использовался исключительно в королевской канцелярии Меровингов. Затем появляется пергамент.
Несколько частных актов все еще были написаны на этом материале, вероятно взятом из старых запасов, вплоть до конца VIII века. После этого папируса больше не найдёшь. И это нельзя объяснить прекращением его производства, а затем его продолжением, что ясно доказывают прекрасные акты на папирусе VII века в Арабском музее в Каире. Следовательно, исчезновение папируса в Галлии может быть связано только с замедлением, а затем с прекращением торговли.
Сначала кажется, что пергамент был редкостью. Григорий Турский, который называет его membrana, упоминает его только один раз, и он, кажется, указывает, что он был сделан монахами для использования ими. Теперь мы знаем, насколько живучи обычаи канцелярии. Если в конце VII века царские канцелярии перестали использовать папирус, то это потому, что достать его стало очень трудно. Использование папируса несколько сохранилось в Италии. Папы использовали его в последний раз в 1057 году. Пришло ли оно из Сицилии, где арабы ввели его производство в X веке? Однако это сицилийское происхождение обсуждается.
Арабское завоевание Испании
Появление ислама вдохнуло колоссальные для того времени силы в кочевников Аравии. Из этих мест никогда не ожидали серьезной опасности ни государства Ирана, ни Римская империя. Теперь же отсюда начались великие завоевания магометан, стремительно, на крыльях новой религии покорявших провинции восточной части империи. К 636 г. окончательно пала богатейшая Сирия, спустя два года – Иерусалим, Месопотамия и Иран, а чуть позже и Египет также были приведены под контроль халифата. Настала очередь всей Cеверной Африки, и это дело xалифат решил к 689 г., когда окончательно пал Карфаген.
Не взяли лишь небольшой город Сеута на побережье у Гибралтара, но и это было уже вопросом времени. Наместник халифа Муса ибн-Нусайр подчинил местных берберов и привел их к исламу. Чтобы добиться их покорности, Муса обещал им участие в арабских походах и несметные сокровища. По легенде, король управлявших Испанией вестготов Родриго нанес незадолго до этого смертельную обиду правителю Сеуты Юлиану, и тот, жаждавший мести, предложил помощь и флот арабам. Дать берберам возможность грабежа, тем самым выполнив обещания, и решить вопрос с Юлианом – это было подарком судьбы для Мусы. 7 000 берберов стали основой войска для похода, который вначале планировался как всего лишь грабительский[91].
А что в то время было по ту сторону Гибралтара, где совсем не ожидали подобного нападения? Пиренейский полуостров еще в V веке захватили вестготы, ставшие высшей военно-административной властью. Воинами они были лучшими, чем политиками, – за два столетия вестготы не сблизились с местным населением, даже сумели еще больше от него обособиться и вызвать раздражение.
Военная сила позволяла им оставаться на вершине общества, на которое они смотрели с презрением. Даже браки с местными вестготы не практиковали. Романо-иберийцы, старая римская знать, баски и астуры помнили и наглядно видели, что вестготы здесь захватчики, лишь пользующиеся достижениями романской цивилизации. Поэтому как только пришли арабы, местное население предоставило вестготам возможность самим разбираться с сильным врагом. Не было единства и среди самих вестготов, которыми правил король Родриго, некоторое время назад силой и без права захвативший власть. Подлинной поддержкой окружения он не пользовался.
В 711 г. арабо-берберское войско, возглавляемое Тариком ибн-Зиядом, высадилось в Испании и весело грабило побережье. Видя, как легко достаются слава и сокровища, Муса дал подкрепление – не менее пяти тысяч воинов. Эта сила уже хотела не просто грабежа, но закрепиться на столь щедрой земле. Тем временем Родриго в Толедо собрал армию до 33 000 человек. На первый взгляд, арабы не могли рассчитывать на серьезный успех.
Армии сошлись 19 или 23 июля 711 года у реки Гвадалете. О ходе битвы известно немного. Братья Родриго покинули своего политического конкурента, видимо рассчитывая за счет грабителей, которые все равно скоро уйдут, решить эту проблему. Арабские историки рисуют героическую картину того, как был убит король Родриго. Ахмед аль-Маккари писал: «Тарик заметил Родерика, он сказал своим приближенным: «Это король христиан» и бросился в атаку со своими людьми.
Воины, окружавшие Родерика, были рассеяны; видя это, Тарик прорвался через ряды врагов, пока не достиг короля и не ранил его мечом в голову, и не убил его; когда люди Родерика увидели, что их король пал и его телохранители рассеяны, отступление стало всеобщим и победа осталась за мусульманами». Лишенное лидера войско не оказало настоящего сопротивления и было разбито[92].
Верно этот эпизод описан или все происходило иначе, неизвестно. Точно одно – христиане-вестготы потерпели полное поражение. На следующий год в Испанию прибыло еще 18 000 арабов, и начался захват полуострова. Местное население не начало масштабную борьбу с арабами. Города сдавались один за одним, где сразу, где после осады. За пять лет магометане установили контроль над большей частью Испании, лишь баски и астуры оказывали еще более-менее серьезное сопротивление. Гибкая политика арабов позволила им сравнительно легко укрепиться там, где вестготы не проявили для этого мудрости, – веротерпимость и налоговые послабления склонили население на арабскую сторону.
Идущих на север арабов едва удалось остановить только на юге Франции в битве при Пуатье в 732 г., когда их смог разгромить Карл Мартелл, дед Карла Великого. Если бы это удалось сделать вестготам в 711 г., возможно арабы отказались бы от грабежа Испании и затем ее завоевания и у христиан был бы шанс сохранить свое влияние в Средиземном море в значительно большем объеме, чем после утраты Пиренейского полуострова[93].
Хотя о самой битве вследствие скудости источников в ту эпоху известно крайне мало, исторические последствия этого события и арабского завоевания Испании исключительны по своему масштабу. Судьба многих исторических процессов (некоторые из них длятся до сих пор) была заложена здесь арабами в 710-е годы.
Маленькие выжившие христианские королевства Испании боролись с арабами еще много столетий, последний правитель магометан был повержен и изгнан только в 1492 году Фердинандом II и Изабеллой I. Столетиями ориентированное на войну, испанское общество накопило колоссальный военный и идеологический потенциал, который теперь использовалo не для реконкисты, а уже для конкисты в Новом Свете[94].
Могущество Испанской империи будет невероятно огромным еще почти два столетия после 1492 г., когда первое плавание Колумба по-настоящему открыло миру Америку. Кроме того, арабское завоевание Испании завершило процесс установления мусульманами контроля над большой частью Средиземного моря. Знаменитый бельгийский историк Анри Пиренн в своем фундаментальном труде «Империя Карла Великого и арабский Халифат» показал значение произошедшего в начале VIII века. Античный средиземноморский мир, основанный на единстве культуры, способов управления и морской торговле, был нарушен арабами.
Связь с античной традицией, культурная и экономическая, была разорвана. Экономика бывшей Западной Римской империи, управляемой германцами, основывалась также на росте городов и торговле. С приходом арабов в регион все большее значение приобретало сельское хозяйство и, следовательно, земельная аристократия. Ослабла королевская власть. Начались Средние века.
Сложились условия для феодального, средневекового облика Западной Европы – с политической раздробленностью, высокой ролью натурального хозяйства, специфической рыцарской военной организацией и пр. Кроме того, арабы лишили Константинополь возможности защитить и контролировать Папу Римского.
В середине VIII в. отношения Папы и Константинополя была разорваны. Политическая жизнь вслед за хозяйственной смещалась с побережья Средиземного моря на север. Папы теперь зависели от поддержки франкского королевства. Этот разрыв Восточной империи и Папы стал предвосхищением разделения христианства на западное и восточное, которое окончательно произошло в 1054 г., и началом их противостояния[95].
3
Наследие Рима на востоке: Византийская империя
Разделение Римской империи в 395 году и долгое правление Феодосия II, внука Феодосия «Великого», между 408 и 450 годами, составляют порог этой главы, которая завершается примерно в 960 году, когда Византийская империя достигает второй кульминации в еe истории. В течение этих пяти столетий восточная часть старой Империи выжила, хотя и выжила в условиях, с которыми историки расходятся во мнениях[96].
Для некоторых выживание общества старого стиля очевидно. То есть они считают, что продолжали существовать как публичные отношения между жителями, подчиняющиeмися власти императора, имеющего универсальное значение, так и городская система, способная поддерживать организующие функции сельского пространства своей территории и его связи между разными городами Империи.
Для других историков, однако, такое выживание касается только владения государственной властью, но это спорно, когда анализируются социальные особенности Империи, которые, по их мнению, были ослаблены и в конечном итоге изменены в результате кризиса VII века.
Это, вместе с резким сокращением территорий Империи, будет характеризоваться деструктуризацией, но не уничтожением старого общества и государства. Именно восстановление государства и общества в длительный период кризиса иконоборчества (между 726 и 843 годами) откроет путь ко второй кульминации Византийской империи с македонской династией. И это на двух уровнях: внутренняя реструктуризация и внешнее расширение ее политического и культурного влияния на болгарский и русский миры в процессе, в котором военные усилия стимулировали концентрацию власти в руках аристократии.
В середине X века Византийская империя, уже полностью греческая, завершила свою собственную историю, став лидером греко-славянского христианства, существование которого, параллельно с усилением латино-германской территории на Западе, подтвердилo разделение культурного пространства Европы.
Великолепие Империи: время Юстиниана
Образ преемственности Византийской Империи неизбежно усиливается ее историей V и VI веков. В отличие от распада и варварства западного пространства, восточное не только продолжало демонстрировать признаки внутреннего единства, но и пыталось реинтегрировать всю древнюю Римскую империю.
Римское наследие в восточной части Империи
В 476 году, когда жизнь Империи угасла на Западе, на Востоке она показала характеры, которые должны были сделать ее узнаваемой на века: Греческая Империя, культурный, политический, городской, меркантильный и христианский. В результате раздела в 395 году онa занялa обширную территорию: от восточного побережья Адриатического моря до границы с Персией и от Дуная до африканской пустыни.
Еe доминирующий язык, греческий, сосуществовал с другими языками богатой литературной продукции, такими как коптский в Египте, иврит, арамейский и сирийский в Сирии или арабский язык на крайнем юго-востоке. Эти разные языки, особенно греческий, служили средством культурного самовыражения регионов с давними традициями использования письма и осуществления философских и богословских размышлений.
Политическая основа Империи была основана на прочности институтов и силе государственных дел, начиная с императора и кончая законом. Еe экономическая основа (и, в значительной степени, социальная) заключалась в широком слое мелких крестьянских собственников, поселившихся в деревнях, которые снабжали рынки крупных городов, которые, в свою очередь, давали тон Византийской империи, составляя важные центры торговли, управления и образования[97].
Обеспечение крупных городских центров стало одной из обязанностей государства, что объясняет государственный контроль над торговлей Империи. Эта империя, греческая, культурная, политическая, городская, меркантильная, наконец стала христианской, и во главе ее стоял Константинопольский патриарх, который практически вел себя как Папа на Востоке, хотя всегда подчинялся цезаропапистской власти императора.
Обоим приходилось иметь дело с неортодоксальными интерпретациями христианских догм, укоренившимися в некоторых регионах, где они стали питательной средой для политического сопротивления. В то время это было сделано арианством, которое считало, что второе лицо Троицы было создано Отцом и, следовательно, не было совечным ему, – доктрина, которая была осуждена еще в 325 году на Первом Вселенском Соборе в Никеe. Но большее влияние оказали несторианство и монофизитство.
Первoe усилилo человеческую природу Христа, устранилo состояние Девы как Матери Божьей и поставилo под сомнение универсальную ценность искупления, считая его делом человека, а не бога. Онo былo осужденo на Эфесском соборе в 431 году. Со своей стороны, монофизитство выступило против предыдущей ереси и защищало существование единой божественной природы во Христе, будучи осужденным на Халкидонском соборе в 451 году. Осуждение трех ересей имело место в соглашении Папы Римского и Патриарха Константинополя, но проблема продолжала существовать веками.[98]
Христиане Сирии (где процветало несторианство) и Египта (где укоренилось монофизитство) видели в этих еретических вариантах дополнение к своим отличительным признакам. Они были основаны на культурной индивидуальности, основанной на их собственном языке, и поощрялись соответственно апостольскими престолами Антиохии и Александрии, которые не хотели признавать превосходство Константинополя в церковной организации. Комбинация этих элементов создала постоянное центробежное напряжение в Византийской империи[99].
Чтобы противодействовать этому, император Зенон (477–491), получивший знак отличия, который Одоакр прислал ему из Италии в знак исчезновения Империи на Западе в 476 году, попытался достичь догматического баланса между православными и монофизитскими позициями. Он сделал это посредством Генотикона, или указа о единстве от 482 года, но его усилия не послужили успокоением восточных провинций Империи и не были приняты Папой, что привело к расколу между Церквями Рима и Византии, который продолжался сорок лет. Преемник Зенона, император Анастасий (491–518), получивший знаменитое письмо папы Геласия I, поддерживал политические и религиозные взгляды своего предшественника.
Император Юстиниан и его программа
В 518 году, после смерти императора Анастасия, в результате государственного переворота на императорский престол был возведен глава дворцовой стражи Юстин I (518–527), родом из Латинской Иллирии. Его правление послужит укреплению основ его племянника Юстиниана, которого он связал с троном и который после смерти дяди возглавит Империю между 527 и 565 годами.
Личность императора Юстиниана и его соратников с явной враждебностью отразил историк Прокопий Кесарийский в своей «Тайной истории». Он представил Юстиниана автократом, сторонником мельчайших деталей государственного управления и стойким защитником ортодоксии, определенной на Халкидонском соборе 451 года. Его жена Феодора выглядит как его противоположность: низкого социального происхождения, интуитивная и высококвалифицированная интриганка, промонофизитка, но так же, как и ее муж, осознает требования императорского пурпура[100].
Наконец, в качестве преданных слуг императора показаны генералы Нарсес и Белисарио, юрист Трибониано, архитектор законодательного собрания, и префект претория Хуан де Кападокия, глава администрации и финансового аппарата. Все они были ответственны за успехи первой части (примерно до 543–545 годов) правления Юстиниана, который, с другой стороны, встретил горькие разочарования во второй части. Программа единства народа и империи Юстиниана была основана на модели самодержавного императора, который взял на себя право принимать решения во всех сферах жизни своих подданных. Чтобы укрепить его образ, сложный придворный церемониал, который Греческая православная церковь включила в свою литургию, имел тенденцию отождествлять императора с самим Богом.
Храм Святой Софии, то есть Святой Премудрости, второго лица Святой Троицы, построенный Юстинианом, стал метафорой его собственных амбиций. Призыв предполагал определенное отождествление между воплощенным Богом (Христом) и представителем Христа на земле (императором).
Чтобы укрепить это, архитектура храма была самa сознательным изображением имперской власти и ее претензий на единство. Базилика вместе с императорским дворцом составляла символическое ядро столицы, которое, окруженное девятикилометровой стеной, представляло собой микрокосм Империи и гарантию ее выживания.
Законодательный сборник под руководством Трибониано пытался в области права и правительства быть инструментом развития программы имперского абсолютизма. Целью юридического сборника было собрать римскую традицию и согласовать ее с христианской, чтобы обеспечить Империи однородную основу. Его результатом стал Corpus Juris Civilis, состоящий из четырех частей. Кодекс Юстиниана написан на латыни, в котором собраны императорские указы, изданные Адрианом от II века до 533 года. Новеллы, или новые положения самого Юстиниана, написаны по-гречески Pandectas, это собрание текстов римских юристов и институты, пособие для студентов-юристов[101].
Сборник законов Юстиниана собрал наследие Нижней Римской империи, которое закрепило принципы централизации, разделения гражданской и военной власти, профессионализации чиновников и общего контроля за их деятельностью. Но вместе с принципами он унаследовал и свои слабости; в частности, двe: административный гигантизм и одержимость сбором налогов, которые позволили бы поддерживать империалистическую политику Юстиниана.
Интеллектуальное единство христианской базы, как это было определено Халкидонским собором 451 года, составляло, в свою очередь, идеологическую основу программы Юстиниана. Исходя из этого, император действовал в двух направлениях. Первoe имелo свой символ в закрытии в 529 году школы или академии Афин, последнего центра классической языческой культуры в Империи.
Второе привело к контролю, а иногда и преследованию монофизитов, евреев и манихеев с довольно ограниченными результатами. Монофизиты укрепили свои позиции в Сирии и Египте, где их религиозные разногласия стали составной частью сепаратизма, который в 630–640 годах облегчит мусульманам оккупацию этих территорий. Евреи сопротивлялись имперской политике контроля и дисквалификации и, когда мусульмане вошли в Империю, их приняли за спасителей.
Наконец, манихеи, преследуемые с начала правления Юстиниана, стали потенциальными пособниками персидских армий. Перед лицом и того, и другого лучшими агентами императора были, без сомнения, монахи. В своих монастырях в столице или в провинциях, некоторые из них сохранились до наших дней, например, монастыри святого Саввы в Палестине и святой Екатерины на горе Синай, монахи составляли мощную и постоянную группу давления в истории Византийскoй империи.
Городское оживление и сельский упадок
Общество Византийской империи, как и общество Римской империи, имело в городе и на определенной им территории базовую ячейку для организации пространства и системы власти. В течение V века и первых десятилетий VI века население византийских городов продолжало расти. Богатство Империи и забота государства о снабжении большeго населения стимулировали коммерческую деятельность как по региональным, так и по дальним маршрутам, доходившим до Китая. Увеличение благосостояния городов и расширение городских территорий привело, в свою очередь, к увеличению количества общественных работ, особенно в столице (стены, дворец, базилика), что способствовало перемещению людей из деревни в город[102].
Это больше касалoсь неквалифицированных рабочих, чем настоящих мастеров. Рядом с ними неконтролируемая толпа нищих и бродяг способствовала приданию городам жизненного тонуса. Оба использовали цирки Александрии и Антиохии, и прежде всего ипподром Константинополя, чтобы высвободить свою энергию и потребности. Эта толпа представляла угрозу власти, особенно в периоды нехватки поставок, как бы способствуя мятежу.
Это было продемонстрировано в 532 году, когда восстание под названием Ника поставило под угрозу трон Юстиниана. Если византийские города представляли собой потенциал для экономической энергии и административной организации, а также социальную угрозу, со своей стороны сельский мир был предоставлен своей собственной судьбе. Это вылилось в эмиграцию в города и усиление налогообложения крестьян.
Это начало оказывать те же эффекты, что и в III веке в западной части древней Римской империи, то есть потеря способности поддерживать публичное осуществление власти и концентрацию собственности в руках влиятельных людей, которые часто видели признание фискальной автономии в своих обширных владениях[103].
Таким образом, вторая часть правления Юстиниана, обремененная расходами на его экспансионистскую политику, характеризовалась определенной утратой общественного контроля над государством, по крайней мере в сельском мире, и социальным расколом между крупными как церковными, так и религиозными землевладельцами, мирянaми и мелкими крестьянaми. Они, в отличие от горожан, не участвовали в каких-либо зрелищных восстаниях, но их бегство в монастырь, армию, бандитизм или городa было признакaми определенного разрушения сельского мира.
Средиземноморская реинтеграция и ее провал
Программа Юстиниана единства, народа и Рима, внутренние последствия которой мы только что видели, преследовала очень точную цель: физическую реконструкцию единства древней Римской империи. Император намеревался воспользоваться динамикой роста своего королевства и тем, что, по его мнению, было хрупким политическим построением немцев на территориях с преимущественно римским населением, которые, как он думал, приветствовали бы восстановление старой Империи с радостью.
Попытки остготов Теодориха, который в начале VI века, казалось, хотел создать пангерманское пространство в западном Средиземноморье, подтолкнули Юстиниана к запуску своего проекта в 532 году, когда он преодолел восстание Ники и подписал «Вечный мир» с Персидской империей. Византийские операции в западном Средиземноморье начались в следующем году под командованием генералов Велизария и Нарсеса, которые в считаные месяцы уничтожили королевство вандалов в Северной Африке. В 534 году византийцы ступили на итальянский полуостров[104].
Поначалу прием, оказанный Папой и частью населения, которое в течение нескольких лет было напугано своими арианскими правителями, заставило византийцев задуматься о возможности повторного признания их североафриканского успеха. Обстоятельства вскоре изменились, и остготы со своим королем Тотилой оказали упорное сопротивление, которое вынудило византийцев вести так называемую готскую войну в течение тридцати лет. В ходе этого, в 554 году, византийцы не упустили возможности также вторгнуться в Испанию, где в течение семидесяти лет они занимали часть территории, а именно Балеарские острова и пространство между устьем рек Хукар и Гвадалквивир[105].
Юстиниановский проект реинтеграции в Средиземноморье тогда достиг своего пика, хотя повсюду на довольно временной основе. Действительно, в Африке имперским войскам пришлось столкнуться с серией берберских восстаний; в Италии «готская война» оставила страну в руинах, а ее жители тосковали по старым добрым временам ранних лет Теодориха; а в Испании монархи вестготов не прекращали своих усилий по изгнанию византийцев с территории.
Все это означало для них рост военных расходов, которые ни в коем случае не компенсировались и требовали значительного увеличения налогового бремени. В этих обстоятельствах возобновление персидской угрозы и приход к воротам Константинополя новых народов, таких как болгары, славяне и авары, высветили несоответствие между великолепием фасада Византийской империи и ослаблением ее полномочий и структуры. В то время, в 565 году, Юстиниан умер.
От Восточной Римской империи до Византийской империи
Между 565 годом, смертью Юстиниана, и 610 годом, вступлением на трон Ираклия и новой династией, жизнь Византийской империи высветила два факта. С одной стороны, этот Юстиниан был последним римским императором. С другой стороны, вторая часть его правления означала переход от старой «римской» цивилизации к новой «византийской» культуре. Отныне онa будет развиваться в ограниченном контакте с западом, в ожидании того, что произойдет на востоке, и готовa сохранить три наиболее важных элемента наследства Юстиниана: публичное право, богатую столицу и модель самодержавного и сакрализованного императора.
Конец «римской» мечты
Смерть Юстиниана в 565 году, казалось, ускорила два процесса, которые начинали ослаблять Византийскую империю: угроза внешних врагов и ухудшение внутренней социальной, политической и военной ситуации как из-за их присутствия, так и, прежде всего, из-за износа, вызванного средиземноморской политикой реинтеграции.
Внешние угрозы осуществляли авары, славяне и персы. Первые были народом турецкого происхождения, связанным с гуннами, которые из азиатских степей были перемещены на запад под давлением других кочевников. В 558 году авары получили разрешение селиться на землях Византийской империи[106].
Семь лет спустя они поселились на Паннонской равнине, откуда они изгнали лангобардов, которые направились в Италию, где их приход в 568 году ознаменовал начало потери своих позиций для византийцев, поселившихся там.
Славяне составляли группу народов, связанных друг с другом по языковым и культурным особенностям, которые исторические источники располагали в I и II веках на территории соприкосновения современной Польши и России. Их организация в задруги или семейные общины представляла более архаичный уровень социально-политического развития, чем у германцев IV века.
В начале VI века славяне переправились через Дунай и начали медленно проникать на юг. В конце того столетия их присутствие было уже значительным, особенно в Македонии, откуда они вели пиратскую деятельность на своих примитивных моноксилах, выдолбленных в стволах деревьев.
В VII веке Македония называлась Эсклавиния, что было признаком ее присутствия в этом районе. С этого момента заселение славян на Балканах стало иметь культурное значение для византийцев, подобное тому, которое германцы на Западе имели для римских провинциалов латинской сферы. Таким образом, если запад европейского континента становился латино-германским пространством, восток был районом развития греко-славянской культуры.
Персы были самой серьезной угрозой для Византийской империи, которая, чтобы отразить ее, в полной мере использовала свою дипломатию и финансовые ресурсы на восточном фронте. Юстиниан прекратил платить традиционную дань Персидской империи и предпринял политику объединения некоторых промежуточных царств, которые, как и небольшие буферные государства, были объединены между Персией и Византией, особенно Арменией[107].
Возобновление войны между двумя империями было немедленным. Византийским правителям пришлось увеличить размер своей армии и флота, привлекая наемников, многие из которых были иностранцами, что, усложняя человеческий состав Империи, требовало увеличения налогового давления на подданных.
В этой обстановке финансового бремени и милитаризации общественной жизни развивалось правление преемников Юстиниана, из которых Тиберий (578–582), Маврикий (582–602) и его убийца и преемник Фока (602–610) были солдатами, возглавлявшими фракции, которые служили выражением все более недовольного населения.
Новая социальная ситуация привела к двум важным последствиям. Во-первых, отказ от принципа разделения гражданских и военных функций; вместо этого экзархи свели их вместе. Во-вторых, строительство на берегах Красного моря и в верховьях Евфрата сети крепостей с помощью солдат-поселенцев под одинаково объединенным командованием военачальника[108].
Внешние угрозы, которые стимулировали эту милитаристскую реорганизацию Византийской империи, также способствовали процессу, который напоминал тот, который пережила западная часть древней Римской империи во время кризиса III и IV веков: поиск реальных гарантий со стороны населения, которое не доверялo способности государства защитить его. Этот поиск византийцами направлялся в основном двумя путями. Укрепление уз личной зависимости по отношению к богатым помещикам и вверения, окрашенное коллективной истерией, небесным покровителям, Христу, Богородице и святым, чьи изображения умножились на горячо почитаемыx иконax.
Кризис VII века
Недовольство населения Империи войнами, голодом и политическими преследованиями было капитализировано Ираклием (610–641), который сверг Фоку, занял императорский трон и основал новую династию. За сто лет, прошедшие между 610 и 717 годами, византийская жизнь была отмечена кризисом, затронувшим структуры Империи. Их ослабление, заметное после смерти Юстиниана, усилилось, когда с 630 года ислам стал официальной религией Персидской империи[109].
Вмешательство мусульман, быстро оккупировавших восточные провинции Византийской империи, потребовало новых военных действий.
Государственная власть, публичное право, организация городов из сельской среды, характерные для первых, были решительно ослаблены, а менталитет выживания с оттенком чудотворения, найдя прибежище в почитании образов, усилился.
В результате этого процесса в конце периода, в 717 году, Византийская империя предстала как нечто новое: меньшее, более связное, военизированное, сельское, частное, греческое. Одним словом, менее древняя, более средневековая Империя.
Горизонт постоянной войны
В VII веке Византийской империи пришлось проявить внимание к трем военным фронтам. На востоке традиционного персидского врага сменили мусульмане. На Дунайско-Балканском полуострове давление славян усилилось за счет болгар. А на западе вестготы Испании и лангобарды Италии изгнали или загнали в угол византийцев соответственно. Восточный фронт оставался решающим.
В 602 году, воспользовавшись внутренним кризисом, персы напали на Византийскую империю. На двадцать лет в их руки попали Каппадокия и Армения, Сирия и Палестина и, наконец, Египет. Если каждая потеря затрагивала честь византийцев, то падение Иерусалима от рук персов, взявших реликвию креста Христова, особенно оскорбило верующих, вызывая у населения Империи истинное чувство священной войны. В этой обстановке в 622 году началось византийское контрнаступление во главе с Ираклием, который вместо того, чтобы отвоевать каждую из потерянных провинций, решил напрямую атаковать центр Персидской империи.
В 628 году он вошел в ее столицу, разграбил ее сокровища, вернул оккупированные провинции, и прежде всего реликвию креста, которая была возвращена в Иерусалим. Дата (14 сентября) по-прежнему отмечается по христианскому календарю как праздник «Воздвижения Креста Господня». Два года спустя император Ираклий официально принял титул василевса, который изначально принадлежал персидскому монарху[110].
Таким образом, и как еще один симптом прогрессирующей эллинизации Империи, старые латинские титулы (император, цезарь, август) перестали иметь значение для византийцев. Его подданные вряд ли могли смаковать успехи Ираклия в борьбе с персами.
Мусульманская экспансия во главе с арабами началась в 632 году, и только четыре года спустя, в 636 году, византийцы потерпели поражение на берегу реки Ярмук, что стало началом их впечатляющего и необратимого отступления от исламской власти. За шесть лет Византия потеряла Сирию, Палестину и Египет; еще за двенадцать – часть его владений в Северной Африке и Армении; и вскоре после этого острова Родос и Кипр.
Наконец, в 673 году арабский флот осадил Константинополь, и через пять лет эта операция повторится. К счастью для Византии, необходимость oмейядского халифа уделять внимание другим направлениям, и прежде всего эффективность так называемого «греческого огня», горючей смеси, состоящей из нафты, серы и рыбы, которая не гасилось водой. Для метания «греческого огня» использовались медные трубы (на кораблях), ручные сифоны, «пламенные рога». И все это способствовал снятию осады столицы.
Эта относительная победа позволила ситуации между византийцами и арабами стабилизироваться на сорок лет. Дунайско-балканский фронт стал ареной трех процессов.
Первый – постепенное проникновение славян на юг, пока они массово не поселились в Македонии, которую переименовали в Cклавинию[111].
Второй – ослабление присутствия в регионе аварцев, уехавших на запад. В третьих, прибытие новых кочевых воинственных народов тюркского происхождения: хазар, остававшихся до середины X века в низовьях Волги, и болгар, призванных сыграть важную роль во внешней политике Византии в последующие века. Западный фронт потерял актуальность после смерти Юстиниана.
Отсутствие территориальной преемственности со всей Империей и серьезность угроз, которые нависают над ней с Востока, объясняют эту утрату. Таким образом, между 625 и 630 годами Византийская Испания перешла в руки испано-готов[112]. Византийская Африка была оккупирована арабами с середины VII века. Византийская Италия уменьшила свои размеры, которые, помимо Равенны, ограничивались Сицилией и несколькими прибрежными анклавами на юге полуострова. В этом последнем сценарии, столь же серьезнo для Византийской империи, как и территориальная потеря, была сепаратистская позиция экзарха Равенны, сопровождаемая его сближением с Папой Римским.
Признаки исторической прерывности
Обстоятельства, пережитые Византийской империей в VII веке, оказали серьезное влияние на общество до такой степени, что историки считают, что этот век явился разрывом преемственности в византийской истории. Его характеризовали три процесса: милитаризация, потеря удельного веса города и усиление сельского мира.
Милитаристская реорганизация Империи
по системе «тем»
Во главе каждой темы[113] стратег объединял гражданские и военные компетенции, чтобы быстро принимать решения воинственного характера. Под его командованием находились все жители округа, в частности стратиоты, разновидность крестьянских солдат, которые в разном количестве от шести до двенадцати тысяч были размещены в каждой темe, где у них были обязанности по защите.
Каждый из них имел в неотъемлемом узуфрукте аграрную эксплуатацию, которая должна была обеспечить им достаточный доход для обеспечения их содержания и содержания их военной техники в качестве всадника в доспехах. Несмотря на действующее публичное право и его институциональный характер, отношения стратиотов и стратегов приобретали черты личной связи. Не дойдя до тех, что были бы характерны для Западной Европы, система тем развила грани, которые формально напоминали феодализм[114].
Разрушение городской системы
Милитаризация жизни Империи с новой организацией в темах изменила традиционную административную функцию городов, теперь подчиненных непрерывным военным усилиям. Города потеряли демографический, экономический и, прежде всего, социальный и политический вес. Его важность во многом зависела от его статуса или места паломничества. Кризис, конечно, был короче, чем кризис городов Запада: два столетия спустя городское восстановление Византийской империи было очевидным, но на данный момент оно было довольно глубоким.
Укрепление сельского мира
Уменьшение численности населения Империи и, прежде всего, его постоянные перемещения из одного региона в другой, с помощью которого императоры пытались обеспечить верность подданных и защиту границ, привели к важным изменениям в сети поселений. Этому также способствовало создание многочисленных монастырских центров в сельской местности. Со своей стороны, консолидация системы тем и ее солдат-крестьян способствовала росту средних и мелких владений, что привело к укреплению деревень и их деревенских общин.
В начале VIII века Nomos georgikos, или Сельский кодекс, регулировал финансовую ответственность всех крестьян и уделял особое внимание заброшенным землям, которые периодически перераспределялись между владельцами каждой деревни. Распределение производилось пропорционально состояниям соседей, которые отдавали предпочтение наиболее сильным. В каждом селе была создана деревенская олигархия, бенефициарная для нужд соседей-должников. Под еe руководством крестьянские общины пытались сотрудничать в целях обеспечения выживания Империи, которая в конце VII века и из-за территориальных ампутаций, осуществленных арабами, уже была исключительно греческой.
Империя в обороне и спор образов
Система тем усиливала военную мощь провинций, особенно приграничных. Некоторые из его лидеров воспользовались обстоятельством 695 года, чтобы на короткое время занять место в армии и на императорском троне. В 717 году Леон, стратег Анатолии, сумел не только обосноваться на троне до 741 года, но и укрепить новую Исаврийскую династию. Этим открылся еще один период в политической истории Византийской империи, который историки не считают закрытым до 867 года, когда императорский трон заняла македонская династия.
История тех 150 лет между 717 и 867 годами, которые с социальной точки зрения, характеризовались прогрессом крупных владений в ущерб силе деревень, также предлагала три основных полюса интереса: война против внешниx врагов (арабы, хазары, славяне и болгары), расширение политической и культурной сферы Византии в сторону болгарского и славянского миров и ссора образов, то есть спор между иконоборцами, сторонниками их устранения, и иконописцами, защитниками их почитания и даже поклонения.
Спор по поводу изображений
Спор о характере изображений и поклонения им развивался в три основных этапа. Первый, между 726 и 787 годами, ознаменовал торжество иконоборчества. Второй, между 787 годом, когда II Никейский собор восстановил культ образов, и 815 годом, характеризовался успехом иконодулии. И третий, между 815 годом, когда он вернулся к иконоборчеству, и 843 годом, когда судебный процесс завершился окончательным триумфом защитников образов.
Окончательное разрешение конфликта повлекло за собой устранение источников, благоприятных для иконоборчества, что навсегда оставило важные аспекты того периода в тени. Ссора из-за изображений в Византийской империи была до некоторой степени неизбежна. Преданность им была гораздо более сильной на Востоке, чем на Западе. Некоторые изображения Христа, Богородицы и некоторых святых сами по себе породили настоящий культ икон. В VII веке поля сражений, осажденные города, монастыри и дома были заполнены изображениями, создавая атмосферу неистовой иконодулии. Особенно этому способствовали монастыри, в которых хранились самые популярные иконы, которым приписывали чудотворные способности, создавая поток паломничества и жертвоприношений.
Проблема усугублялась тем фактом, что с теологической точки зрения иконодулия была частью ортодоксии, которую до иконоборческого взрыва Церковь защищала как от монофизитства, так и от иудаизма и ислама, трех противников иконической традиции. С учетом этиx прецедентов, неудивительно, что самые сильные иконоборческие течения зародились на восточных границах Империи, которая в VIII веке жила в контакте с монофизитами, евреями и мусульманами. Эта религиозная интерпретация дискуссии об образах должна быть связана с политической интерпретацией[115].
Император, впервые запретивший иконы, Лев III Исавp, имел желание создать новую династию и провести политическое обновление. Религиозное выражение обеих волей было обнаружено в возвышении креста, что привело к параллельному преследованию образов. При этом Лев III Исавp противопоставил власть креста Христова силе образов святых, монополизированных монастырями, все более могущественными помещиками. Крест стал для самого императора эталоном единственной власти над другими властями, военными, гражданскими или церковными[116].
Первый иконоборческий период
Переворот в апреле 717 года позволил стратегу из Малой Азии захватить имперский трон, который он занимал под именем Льва III Исавp (717–741). За несколько месяцев новый император укрепил свои позиции, отразив два морских нападения арабов на Константинополь и остановив намерения болгар сделать то же самое с суши.
Его усилия помогли вернуть византийцам военную инициативу, утраченную восемьдесят лет назад. Это позволило новому императору предпринять первые шаги по реорганизации государства, которые затем охватили три основных аспекта. Закон, обнародованный в 726 году, Eklogé (выбор), обобщил издание Corpus Juris Civilis Юстиниана, включая усиление фигуры императора как законодателя, вдохновленного Богом[117].
Территориальное управление, с увеличением количества тем, имело целью уменьшить его размер и военную силу. И религиозная политика и начало иконоборческого движения приходится на 726 год[118]. Первым символическим актом было снятие образа Христа, завершающего дверь императорского дворца, и его замена крестом.
За этим последовало систематическое уничтожение изображений, против чего вожди иконописцев, почти всегда монахи, особенно Иоанн Дамаскин, выдвигали свои первые богословские аргументы. Его основа была найдена в неоплатонической концепции, согласно которой изображение является представлением, которое может помочь нам войти в духовный контакт с тем, кого он представляет, даже если образoм является Сам Бог, воплощенный во Христе.
Папы отказались принять иконоборческие тезисы, что привело к их конфронтации с императором, который поспешил отделить византийские епархии Италии и Иллирии от патриархата Рима, чтобы воплотить их в Константинопольском патриархате. Это решение укрепило традиционные добрые отношения между императором и византийским патриархом, против которых вместо этого боролись монахи. Вражда между иконоборцами и иконопочитателями достигла апогея в правление Константина V (741–775), который развязал систематические преследования защитников образов[119].
Такое отношение привело к окончательному разрыву с папством, которое нашло в франкском короле Пипинe Коротком (Pippinus Brevis) помощь, в которой он нуждался как против лангобардов, так и против вмешательства византийских властей. Это дало папе желанную независимость от Византии и подтвердило связь понтификата с судьбами Запада. Смерть императора Константина V положила конец жесточайшему периоду иконоборческих гонений. Пять лет спустя, в правление императрицы Ирины (780–802), они начали решительно затухать, и II Никейский собор 787 года положил конец иконоборчеству и торжеству иконоборчества[120].
В нем отцы совета установили в отношении изображений различие между их «почитанием», которое допускалось и поощрялось, и «поклонением» им, которое было запрещено. На соборе монахи, фанатичные иконописцы, согласились на компромисс в области богословия в обмен на навязывание своих критериев дисциплине духовенства и литургии; и, прежде всего, в обмен на создание общины монахов в восстановленном монастыре Студион в столице, которые стали знаменосцем непримиримой стороны иконопочитателeй.
Второй иконоборческий период
Никейский собор 787 года положил конец спору по поводу изображений, но не решил многочисленные проблемы, возникшие в результате шестидесятилетней конфронтации. Монахов можно было считать единственными полноправными победителями, потому что, со своей стороны, императрица Ирина,[121] поощрявшая культовое решение, начала испытывать серьезные трудности с удержанием власти. Именно необычность положения женщины во главе Империи была использована как в Западной Европе, так и в самой Византии.
На Западе Карл Великий использовал это как предлог чтобы считать имперский трон вакантным и следовательно предложил себя в качестве императора единой Римской империи 25 декабря 800 года[122].
В Византийской империи военачальники воспользовались неудачным положением императрицы[123], которая отравила своего мужа императора Льва IV Хазара в 780 году, ослепила сынa Константине VI, захватив самодержавную власть в империи, отстранили ее от престола в 802 г. и поставить на его место Никифора, главу имперской администрации. Затем Ирину сослали на Принкипо, а затем на остров Лесбос, где она умерла в 803 году.
Новый император (802–811), стремясь возобновить войну на разных фронтах, усилил два механизма, которые могли обеспечить их успех: сбор налогов и эффективные воины. Двойные усилия позволили ему расширить размеры армии, но не принесли ему большого успеха на поле боя. Действительно, разрушение Аварской империи Карлом Великим освободило болгар от давления, которое они испытывали на своем западном фронте, и позволило им сосредоточить свои атаки на Византийскую империю, столица которой снова была осаждена между 811 и 813 годами.
Ситуация была использована новым военачальником для захвата имперской власти. Новый император Лев V «Армянин» (813–820) сознательно принял во внутренней политике личность своего тезки Льва III и вернулся к иконоборчеству. В 815 г. начался второй период разрушения изображений, продолжавшийся до 843 г. и характеризовавшийся меньшей опасностью в отношении иконоборцев; возможно, потому, что новые атаки были погружены в процессе длительного всеобщего восстания, посредством которого они надеялись разрешить более глубокие проблемы в жизни Империи[124].
Среди них особо выделялись три. Растущая дихотомия между столицей и провинциями, некоторые из них, например Армения, имели черты, которые сегодня мы бы назвали националистическими. Соперничество стратиотов с приграничными гарнизонами. И появление некоторых видов религиозного экстремизмa, таких как павликиан, которые отвергали не только изображения, но также крест, таинства и церковную иерархию. Этот набор тревожных элементов в жизни Империи использовался мусульманами для продвижения позиций, особенно на островах Крит и Сицилия, которые они в конечном итоге займут. Слабости Империи имели некоторую компенсацию.
Среди них укрепление имперского самодержавия как определение закона, даже религиозного; укрепление отправления общественного правосудия; расширение емкости сбора, особенно на Балканах и Анатолии, что является признаком восстановления имперской власти; увеличение денежного обращения, свидетельствующее о растущей коммерческой активности, которая, в свою очередь, была основана на восстановлении городской жизни; и очевидное культурное проявление, видимое в деятельности таких людей, как патриарх Иоанн VII Грамматик, Лев Математик или молодой Фотий, который тогда написал свою Библиотеку, обзор содержания почти трехсот книг[125].
Эта серия успехов увенчалась восстановлением культа изображений, наложенного регентшей императрицей Феодорой в первое воскресенье Великого поста 843 года.
За пределами Византийской империи второй иконоборческий период оставил в качестве наиболее значительного балансa – очевидное ухудшение отношений между Церквями Константинополя и Рима. Решающим признаком отчуждения между ними стал спор между Папой Николаем I и Патриархом Фотием, закончившийся в 867 г. взаимным отлучением от церкви, что явилось первым явным и формальным разрывом между двумя Церквями. Как и в предыдущих случаях замаскированного раскола, причины разделения были разными, хотя, наряду с взаимной ревностью к иерархии в Церкви, очевидно, что корнем оставалась оппозиция доктрине о Святом Духе (Filioque). Если у греков он «исходит от Отца через Сына» то у латинских он «исходит от Отца и Сына»[126].
В конечном счете, два периода иконоборческой борьбы характеризовались интеллектуальным и жизненно важным отступлением Византийской империи в ее физические и духовные границы, что способствовало обострению своеобразия ее черт. Со своей стороны, девять лет между 858 и 867 годами, когда противостояние между римским папством и патриархатом Константинополя развилось в результате раскола, были в то же время решающими для непосредственной истории Византии и симптомами будущего из Восточной Европы. Действительно, четыре события этого десятилетия ознаменуют его. Во-первых, это религиозный раскол. [127]
Второй – появление впервые в 860 году русских кораблей под стенами Константинополя. Третий – деятельность византийских миссионеров; как тех, кто проповедовал в Болгарии, чей государь Борис был крещен именем (Михаил) самого императора Византии, так и тех, кто проповедовал в других регионах Балкан, особенно два брата Константин (позже названный Кириллом) и Мефодий. Четвертое из событий 858–867 годов было, без сомнения, началом деятельности этих двух миссионеров, которые, потерпев неудачу среди хазар, обратившихся в иудаизм, были отправлены проповедовать христианство в королевство Великой Моравии.
Это было широкое пространство между Баварским лесом и реками Тиса и Дунай, которое достигло своей автономии в результате разрушения Аварской империи Карлом Великим. Чтобы облегчить распространение своего религиозного послания, Кирилл и Мефодий разработали письменность для славянского языка, так называемую глаголицу (от русского слова «глагол»).
Исходя из этого, в скором времени такая письменность будет заменена так называемой «кириллицей», хотя Кирилл не был ее изобретателем. Вскоре язык стал инструментом, который облегчил перевод священных писаний и юридических текстов на языки народов, населявших большую часть Восточной Европы[128].
В конце концов, это был большой вклад греческих миссионеров. Вместо этого его попытки связать Великую Моравию с миром византийского христианства потерпели неудачу из-за сопротивления германских Пап, князей и епископов, которые считали эту территорию зоной естественного латинского и немецкого влияния. В качестве компенсации болгары, а затем сербы и русские постепенно войдут в сферу политического, культурного и религиозного влияния Византийской империи[129].
Второй золотой век Византии: македонская династия
После убийства императора Михаила III в 867 году трон перешел в руки Василия I (867–886). С ним началась новая Македонская династия, которая продлила свое существование с этой даты до 1057 года, когда территориальная аристократия совершила государственный переворот, в результате которого на престол был возведен Исаак Комнин.
На протяжении почти двух столетий, под властью македонских императоров, Византийская империя переживала период внутренней политической и социальной консолидации и культурного расцвета, который был назван «вторым византийским золотым веком». В течение этих двухсот лет первый период соответствовал утверждению новой династии между восшествием Василия I на престол в 867 году и смертью Константина VII в 959 году. Возрождение международной торговли, некоторое ослабление деревенских общин и развитие крупных монастырских владений были его доминирующими чертами[130].
Триумф самодержавия и обновление государства
Государственный переворот в 867 году, во время которого на престол была возведена македонская династия, стал порогом усиления признаков восстановления, которые проявились уже в первой половине IX века. Среди них сама формулировка модели имперской власти, имеющая художественный перевод в иконографии власти, которую новая династия намеренно будет поддерживать.
По сути, образ каждого македонского императора представлялся избранным Богом, представителем Христа на земле, установленным божественным провидением руководить Империей, которая считалась земным отражением Целестиального Царства. Распространение темы символической коронации императора как выражения божественного происхождения его власти в конечном итоге стало главой самой христианской иконографии. Книга церемоний, написанная императором Константином VII, собрала и отрегулировала впечатляющие церемонии, проводимые в аудиториях и дворцовых праздниках, в демонстрации, которую имитировала сама религиозная литургия.
С момента своего основания македонская династия сознательно пересмотрела предыдущие законы. Василий I начал эту задачу с обнародования в 879 году Эпанагога (Epanagogé, или Восстановления законов), нового кодекса, который пытался изменить кодекс Юстиниана и, уже в своем прологе, вероятно вдохновленный Фотием, однажды восстановленным на его патриархальном престоле, исправил функции двух великих императоров в жизни Империи. Император должен был обеспечивать благополучие своих подданных, защищать христианскую ортодоксию и, прежде всего, толковать законы[131].
Те из патриарха, которые всегда подчинялись императору, состояли в толковании канонов и соборных решений, чтобы гарантировать духовную жизнь жителей Империи. Законодательная задача была продолжена двумя преемниками Василия I. Его сын Лев VI (886–911) издал Basilika, или Императорские законы, написанные на греческом языке, которые из-за своей длины и систематизации напоминают законы Юстиниана Corpus Juris Civilis, которые они вытеснили, составляя самое обширное собрание законов Средневековья[132].
Со своей стороны, Константин VII (911–959), сын первого, выполнил задачу своего деда и отца, развивая, прежде всего, регулирование административных органов в своих двух работах: De los temas и De la Administración Empire. Наряду с поддержкой доктрины имперского самодержавия, законодательные усилия способствовали идеологическому и культурному обновлению государственной службы.
Это было распределено в сложной организационной схеме; в ней, помимо канцлера, военных и финансовых полномочий, были развиты полномочия императорского дворца или постов с дворянскими достоинствами. Они составляли настоящую приманку для тщеславия сильных мира сего, которые, помимо непосредственного выполнения государственных функций, утешались положением в дворцовом протоколе, приобретенным путем покупки.
Таким образом, императоры смогли одновременно укрепить имперские финансы и идеологическую сплоченность византийского общества. Территориальное управление, хотя и все еще основанное на системе тем, претерпело некоторые существенные изменения; в частности, два, относящиеся к его стратегическим и фискальным аспектам.
С одной стороны, количество тем увеличивалось, а набор более мобильных наемных войск увеличивался. С другой стороны, старая фигура крестьянина-солдата начала терять свою ценность. Тот же критерий централизации был наложен на армию, которая, имея около двухсот дромонов, участвовала в восстановлении военной инициативы Империи.
Возрождение экономической активности
Укрепление чувства имперской власти и структур правительства и управления опиралось, прежде всего, на два столпа. Во-первых, в способности Македонской династии увеличивать ресурсы Империи за счет сохранения важного государственного достояния и ряда монополий, такиe как шелк и пшеница.
И во-вторых, в сборе налогов, который был увеличен за счет общего обогащения византийского общества, которое приносило дань как за деятельность его торговцев и ремесленников, так и за уплату десяти процентов стоимости урожая или обращение и продажу продуктов.
Усилия Византийского государства по сбору налогов принесли в жертву статус средних и мелких землевладельцев крупным землевладельцам. Они, зная о своей способности предоставить государству ресурсы для удовлетворения потребностей военного развертывания, получали иммунитет от государственных должностных лиц.
Это позволило им оказать давление на сельские общины, которым было труднее, чем в предыдущий период, сохранять независимость от сильных мира сего. Экономическое возрождение IX и X веков имело свое уникальное проявление в восстановлении городской системы, затененной в предыдущих двух из-за общего кризиса Империи и установления системы тем[133].
Такое возрождение проявилось в возрождении торговли и чрезвычайно разнообразном ремесленном производстве, как показано в Книге Епарха, написанной, вероятно, во времена правления Льва VI и подтвержденной простым увеличением населения городов. Они больше не соответствовали модели древнего города, а соответствовали средневековому городу. Они стали региональными центрами, расположенными на территории, которая доминировала над ними, и с морфологией, которая включала в себя культивируемые пространства, монастыри с их садами или дворцы с их садами.
Даже при новом устройстве византийские города были ориентированы на торговую деятельность. Что касается этого, мы мало знаем о внутренней торговле Империи, хотя есть несколько важных ярмарок, например в Фессалониках и Эфесе. Мы больше осведомлены о возрождении внешней торговли, заметном уже с середины IX века в этих двух городах или в других, таких как Херсон и Трапезунд или, немного позже, Коринф и Мелите-на, и, конечно же, всегда в Константинополе[134].
Фактически столица была основным пунктом назначения четырех великих торговых путей, которые связывали Империю с внешним миром. Северный торговый путь связывает с Балтийским морем, и южный торговый путь выводит на Индийский океан. Тот, что на востоке, соединяет далекий Китай с византийскими портами Черного моря. А тот, что с запада, по морю через Адриатику или по берегам Дуная доставлял продукты из Италии, которые привозили купцы из Амальфи и Венеции, которые начали формировать небольшие колонии в византийских городах.
Греческое культурное и художественное возрождение
Обогащение и перестройка Империи вылились в интеллектуальное и художественное возрождение, кульминацией которого стал приход третьего императора новой династии, Константина VII Багрянородного (Порфирогенета, то есть «рожденного в пурпурной комнате» императорского дворцa). Он лично руководил культурной деятельностью императорского дворца, в высшей школе Магнаврa он даже выступал в качестве учителя.
В его время обучение имело своей основной целью подготовку высших должностных лиц Империи и развивалось через кафедры риторики, философии, геометрии и астрономии. Кроме того, был создан информативный корпус энциклопедического характера, который показал его предпочтение в управлении Империей и сельскохозяйственных задачах.
Другие учреждения, особенно монастыри, сыграли значительную роль в возрождении македонской династии, оставившей интересное наследие работ по историографии, теологии и агиографии. Лингвистическим инструментом этого возрождения был греческий язык, на котором жили дворцы, аристократия, монастыри и люди, в отличие от того, что происходило в Западной Европе, где латынь и народные языки разнообразили свои судьбы и функции. Конструктивное и изобразительное искусство также извлекли выгоду из македонского Возрождения.
В архитектуре с начала X в. преобладала модель храма с греческим крестообразным планом, перекрытая куполами. Это будет своего рода прототип, за обобщение которого будут отвечать македонские императоры. Нечто подобное произошло и в живописи: восстановление образов после иконоборческого спора стимулировало развитие фресок и мозаик с отображением очень однородных иконографических программ, основанных на почти уникальной модели. Таким образом, храм возглавляла фигура вседержителя Христа, который занимал центральный купол, а Богородица находилась в апсиде, в месте, подтверждающем ее роль универсального посредника[135].
Расширение византийской области влияния на болгарский и русский миры
За девяносто лет, прошедших между вступлением на престол Василия I в 867 г. и смертью Константина VII в 959 г., Империя проявила силу, которая привела к изменению до сих пор оборонительной позиции, которая характеризовала византийскую внешнюю политику. В его рамках характерной чертой X века было снижение внимания к западному и восточному фронтам, оккупированным мусульманами, и посвящение внимания северному фронту, то есть Болгарии и славянскому миру, представленному, прежде всего Киевской Русью.
Внимание Византии к пространству на северо-запад от Империи возросло с того момента, когда в Болгарии власть кристаллизовалась в виде монархии. Начало правления Василия I и, следовательно, македонской династии совпало с рядом обстоятельств, которые привели к включению Болгарии в византийскую орбиту[136].
С одной стороны, крещение монарха Бориса, которого с тех пор называли Михаилом, открыло двери Церкви для болгарского народа в 865 году. С другой стороны, позиция Папы Николая I, раскол Фотия, собственные устремления нового христианского монарха и интересы Василия I способствовали признанию Константинопольским Патриархом болгарской церковной иерархии более высокого уровня, чем один Рим был готов принять.
Это было, конечно, началом отношений между Византийской империей и Болгарией, которые продолжались по пути православной христианизации и влияния византийской культуры. Однако в 894 году отказ империи принять претензии болгарского монарха Симеона, стремившегося получить титул василевса, вызвал вспышку конфликта. Болгарские победы вынудили Византию пересмотреть свое отношение и в обмен на мир согласились платить ежегодную дань царю Симеону.
В 912 году перерыв в оплате послужил поводом для болгарского вождя начать нападение на сам Константинополь, которое закончилось тем, что Византия вернулaсь к уплате дани и призналa Симеона титулом василевса. Конец войны позволил Византии укрепить свое культурное и религиозное присутствие на Балканах, расширив то, что она начала иметь за счет сербов и хорватов, и стимулировал окончательное вступление болгар на путь славянизации и христианизации. Усиление обeих было фактором культурной сплоченности с национальным чувством болгарского населения[137].
Чтобы закрепить свое положение, монархия приняла рост старой боярской аристократии, представляющей тюркские традиции народа, и ее статус великого землевладельца – ситуацию, которую Болгарская церковь начала разделять после христианизации страны. Давление этой земельной аристократии на мелких крестьян вызвало реакцию недовольства, принявшую форму неортодоксальных религиозных движений, в частности ереси богомилов, то есть папы Богомила. Подобно павликианам внутри Империи, он проповедовал радикальный дуализм и враждебность установленной власти и богатству.
Расширение византийской области влияния на славянский мир достигло областей, более удаленных от столицы Империи, в частности территорий, где проживают восточные славяне – русские. Первый контакт между византийцами и русскими произошел в 860 году, когда послы из города Киева предстали перед Константинополем. В течение пятнадцати лет разрабатывались инициативы по установлению среди русских епископальной иерархии под руководством Византии[138].
После этого первого контакта и почти столетие источники молчали. Это молчаниe может иметь две интерпретации, которые были сделаны о характере населенных пунктов славян и о силах, которые привели к их социальному и политическому формированию. Первая интерпретация имела тенденцию подчеркивать оригинальные и «национальные» аспекты славянских творений. Опираясь на основы исторического материализма, русская историография утверждалa, что внутренняя эволюция славянского общества позволила ему достичь уровня видимого очертания империи, особенно в Киевской Руси в середине X века.
В этом процессе присутствие викингов, особенно шведов в русских степях следует интерпретировать только как торговцев или, где это уместно, наемников на службе аристократических славянских меньшинств из разных центров Cтепи. Вторая интерпретация, скандинавская историография, имеет тенденцию подчеркивать роль, которую викинги играли в этой социальной и политической обстановке славян Руси.
Они были далеко не простыми наемниками, а составляли местные полюсы власти, вокруг которых формировалось стабильное население, частью которого были шведские купцы, варяги и славяне. Историографическая борьба, связанная с выявлением матери городов русских, не перестает признавать свою важную роль в X веке, когда присутствие варяжских купцов позволило им стать местами обмена и способствовать контактам славян с внешним миром.
Эти отношения включают те, которые должны были быть установлены в конце IX века между русскими в Киеве и византийцами и характеризовались скорее торговым обменом, чем войной. В этом смысле обращение княгини Ольги, вдовы Игоря, в христианство и ее крещение в Константинополе в 957 году под именем Елены и покровительством императора демонстрируют как обычную динамику византийских международных отношений, так и расширение радиуса действия культуры Империи[139].
4
Кульминации и перемены в Византии
Утверждение македонской династии в Византии и консолидация исламского пространства, объединенного культурой и торговлей и политически раздробленного на три халифата, открыли эту главу в середине X века. Конец этой главы приходится на 1260 год из-за других политических событий. В Византийском мире это конец периода латинского господства в Империи, который начался в 1204 году, и восстановление греческой династии Палеологов в 1261 году. В исламском мире это конец династии Аббасидов Багдада, уничтоженного в 1258 году монголами, и альмохадов на Пиренейском полуострове из-за завоеваний Фернандо III Кастильского и Хайме I Арагонского.
Во всех случаях, хотя даты важны для византийского и исламского пространств, их обоснование в первую очередь евроцентрическое. Именно динамика европейского общества побуждает сделать такой же хронологический разрыв в других средиземноморских мирах.
Конец господства латинского и арабского миров и их слабость как политических образований привела к интеллектуальному и художественному упадку Византии, которая была заменена в этих усилиях областями, на которые ее культура распространялась с IX века: Болгария и, прежде всего, Киевская Русь, а затем и Москва. Что касается ислама, то сегодня мы знаем, что XIII век ознаменовал начало его исторического упадка по сравнению с христианским Западом.
В середине IX века некоторые исторические процессы синтезировали наиболее важные аспекты мусульманских обществ: 1) устранение преобладания арабов в различных политических пространствах: на востоке арабы будут заменены персами и турками, а на западе – берберами; 2) Расширение области имплантации ислама на индуистский Восток и Южную Африку, что будет происходить за счет разделения между западным исламом и восточным исламом: первый будет расселен почти исключительно в Северной Африке; вторая, явно сосредоточенная на Египте в XI и XII веках, в конечном итоге разделится на турецко-монгольский север и египетско-арабский юг; 3) ослабление мысли и художественного самовыражения, отказ от попыток интеллектуальной рациональности, которые характеризовали лучших мыслителей XI и XII веков.
Последнее великолепие и первая смерть Византии
Смерть императора Константина VII Порфирогенета в 959 году привела в Византию ряд военных императоров, которые почти на столетие восстановили престиж Империи. Ценой постоянной борьбы на границах деятельность этих императоров, особенно Василия II (976–1025), оправдала то, что этот период описывался как «византийский эпос»[140].
В тот период история Византии показала определенный демографический оптимизм в XI веке, особенно в сельском мире, с увеличением производства и относительно эйфорической экономикой в XII веке. Вхождение латинских купцов, особенно венецианцев с конца X века в Империю подтолкнуло ее к отношениям с Западом, ослабило отношения c Киевской Русью и балтийскими государствами, а также с мусульманским миром.
Это принесло меньше пользы государству, чем прежде, и больше принесло пользу аристократии, которой первая уступила часть своих полномочий в силу уступок пронои. Защищенные ими, лорды навязывали себя крестьянству, в рядах которого увеличивались частично вверенные им поселенцы.
Процесс, несмотря на традиционную мощь Византийского государства, привел к его ослаблению, которому также пришлось столкнуться с ударами войск Комнина и наконец, венецианских крестоносцев. Напротив, расширение внешних контактов стимулировало обновление внутренних культурных моделей и их распространение в славянском регионе.
Расцвет македонской династии
Внешние признаки второй кульминации Византийской империи, то есть военная активность и наступательная способность, достигли своего пика между 961 и 1071 годами. В 961 году византийцы отвоевали Крит из рук мусульман; в 1071 году они потерпели поражение от сельджуков в Манзикерте и изгнаны норманнами из южной Италии. Эти две даты образуют так называемый «византийский эпос», то есть совокупность усилий, в основном победных и оборонительных, направленных на сохранение Империи.
Империя в обороне
В 959 году скончался император Константин VII Багрянородный (Порфирогенет). После пятнадцати лет дворцовых интриг и убийств императоров Василий II, внук первого, был провозглашен басилевсом в 976 году. В течение пятидесяти лет он руководил периодом расцвета Империи, неизвестной со времен Юстиниана[141].
После его смерти две из его племянниц продлили свою легитимность еще на тридцать лет, пока смерть второй в 1056 году не положила конец македонской династии. Почти век военных успехов и культурного великолепия, в течение которого Византия снова была активна на трех фронтах и вела экспансию и c концoм македонской династии все достижения империи оказалось под угрозой.
На восточном фронте врагами были мусульмане. Византийская экспансия развивались на море и на суше. В 961 году они захватили остров Крит, а четыре года спустя – остров Кипр. В 975 году византийцы вошли в Дамаск. Им это удалось впервые за более чем три столетия. Успех был недолгим. Однако усилия не прошли даром, так как Империи удалось временно остановить первые вторжения турок-сельджуков.
На западном фронте Византия использовала силу и, прежде всего, дипломатию в своих переговорах с кордовским халифом, чтобы противостоять сарацинским пиратам и флоту Фатимидов, а также с германским императором Отто I, результатом чего станет свадьба Отто II с Византийской принцессой.
Соглашения не препятствовали дальнейшим попыткам немецкого проникновения на южные итальянские территории, оккупированные византийцами, но они обеспечивали определенную стабильность, благоприятную для интересов Восточной империи. Этому способствовали союзы Византии с городами Пиза и Венеция. Благодаря им итальянские республики предоставили византийским войскам свои мореходные возможности в обмен на важные коммерческие преимущества в портах Империи, как это было подтверждено договором с венецианцами от 992 года[142].
С другой стороны, византийские претензии на Сицилию не достигли своих целей, хотя в 1040 году Сицилии помог походoм варягов под командованием норвежского короля. Однако присутствие варягов на острове было своего рода предвосхищением поселения там норманнов.
На северном фронте болгары и русские демонстрировали двойную тенденцию: кристаллизацию монархической власти и определенную нерешительность в отношениях с Византией, что соответствовало движениям к сближению с западным миром. Намерение всегда заключалось в соглашении с самой слабой и самой отдаленной силой, чтобы гарантировать независимость от самой сильной и самой близкой, Византийской империи.
К середине X века Болгария вступила в стадию слабости, которая стоила ей потери Сербии, которая стала независимой, и большей части западных территорий Великой Болгарии. Византия воспользовалась ситуацией, чтобы приостановить выплату дани болгарскому царю, вступить в союз с Киевской Русью, чтобы напасть на него с севера, захватить часть восточной части Болгарии и подчинить болгарскую Церковь Константинопольскому Патриарху.
Болгарское сопротивление было организовано на западе королевства новым царем Самуилом (976–1014). Десять лет спустя этому вождю удалось поднять против византийцев всю территорию Великой Болгарии, от Черного моря до Адриатического моря. К их счастью, русский князь Киевский Владимир (980– 1015) заключил с ними военный союз, который позволил императору Василию II оказать помощь в нападении на болгар с двух фронтов.
Союз был скреплен браком Владимира и сестры Василия II, что стало необычным из-за отказа империи до того времени, принцессaм из рода Багрянородных (Порфирогенет) выходить замуж за варваров. Исключение свидетельствует о высоком уважении Византийской империи к своему союзу с Киевской Русью. Создание военного союза с Киевской Русью в болгарском тылу способствовало победам Византии.
В 1014 году Василий II сокрушил бoлгар и заслужил титул «bulgaroctonos», то есть «истребителя бoлгар». Он нанес жестокое поражение и приказал ослепить всех воинов царя Самуила. Он умер от отчаяния, и Василий II намеревался сделать Болгарию провинцией Империи. Своим триумфом Византия достигла того, что снова смогла доминировать на всем Балканском полуострове, чего не происходило с середины VI века.
Благодаря новой ситуации, византийское влияние распространялось до восточного побережья Адриатического моря, где сербские и хорватские территории были вассальными королевствами Империи. Василий II умер в 1025 году, после пятидесяти лет правления, в течение которых он являл собой образ одинокого самодержца, подкрепленный его собственной индивидуальностью, человеконенавистничеством и прогрессирующей подозрительностью к своим пособникам.
Его смерть не означала значительного изменения военной ситуации на границах, но означала конец определенной уверенности в победе и силе, сопровождавшей Империю более шестидесяти лет.
Слабые крестьянские общины
Самым четким социальным балансом за столетие военных усилий, помимо регионального перераспределения населения, было усиление территориальной аристократии при параллельном ослаблении деревенских общин и повышении прибыльности крупных сельскохозяйственных угодий, что стимулировало торговлю, где во все большей степени участвовали латинские купцы[143].
Пространственное перераспределение населения в Империи привело к демографическому росту на Балканах и уменьшению в Малой Азии, как в городских центрах, так и в сельской местности. Фактически восточная часть Империи постепенно превратилась в колониальное пространство. Крупные фермы, расширенные за счет разорения мелких хозяйств, миграции, позволили светской и церковной аристократии стать поставщиками сельскохозяйственных продуктов Империи.
Укрепление территориальной аристократии, несмотря на то, что законодательство Базилионa II в пользу крестьянских общин и попытка защитить мелкую собственность было следствием военной политики императора, который требовал постоянного увеличения ресурсов государства. Два использованных средства противоречили друг другу. С одной стороны, они были результатом сотрудничества крупных владельцев, которые должны были быть вознаграждены передачей некоторых полномочий, и этот факт станет более заметным с середины XI века. И, с другой стороны, была солидарность крестьянских общин (хорион) в уплате налогов за заброшенные земли, чтобы не допустить их попадания в руки аристократии.
Это последнее требование оказалось настолько трудным для жителей села, что государству пришлось принять заброшенные земли. Чтобы ввести их в действие, онo установилo «общественных» крестьян, demosiarios, у которых больше не было обязательств перед деревенской общиной, а только перед государством, которому они платили соответствующий налог.
Решение позволило Империи захватить некоторые ресурсы, но ослабило силу деревенской общины, члены которой были вынуждены решать свои экономические проблемы, доверяя их крупным землевладельцам. Развитие торговли было результатом как перераспределения населения, так и создания колониальной экономики в Малой Азии, а также военной динамики, которая потребовала мобилизации больших ресурсов. Бенефициарами были крупные сельские землевладельцы, но также ремесленники, купцы, менялы городов, особенно портов или тех, что расположены на великих путях Империи. Во всех их росло количество людей, занятых в сфере производства, транспортировки и найма.
А в некоторых из них селились колонии иностранных купцов, особенно важные в столице Империи и в прибрежных городах Эгейского и Черного морей: наиболее многочисленными были колонии варягов, русских и, прежде всего, итальянцев из Амальфи, из Пизы и, особенно с 992 г., из Венеции. Успех судовладельцев, моряков и торговцев воплотился в социальные и политические требования. Как и в случае с земельной аристократией, они тоже стремились получить пользу от государственных должностей, ренты и почестей, присущих эшелонам административной карьеры[144].
Благодаря своему богатству, торговцы смогли ввести механизм продажи должностей и дворцовых санов, которaя происходилa по цене, пропорциональной их категории. После получения бенефициар имел доход в размере 8 % в год от вложенного капитала. Получение должностей за счет денег, заработанных в их компаниях, обеспечило триумф великих купцов в последние годы правления Василия II и было освящено около 1045 года распоряжениями императора Константина IX Мономаха.
Византийская культура в школе и в церкви
Правление Константина VII явилось одним из интеллектуальных пиков в истории Империи. После его смерти в 959 году культуре потребовалось почти сто лет, чтобы достичь нового великолепия с Константином IX Мономахом, между 1042 и 1054 годами. В то время такая культура, примером которой является великий деятель Михаил Пселл[145] продемонстрирует признаки прогрессивного вмешательства со стороны Церкви.
Учебные центры, созданные в Империи, особенно Палатинская школа, пользовались большим авторитетом в первой половине X века, а позже пришли в упадок. Эта ситуация в последующие сто лет сочеталась с увеличением количества школ вследствие обогащения византийского общества.
Помимо императорской школы, они были частными и светскими центрами, в которых обучались, прежде всего, государственные служащие. Они, чтобы расширить свое обучение, в дополнение к изучению Тривиума и Квадривиума, с 1045 года открыли новые центры высшего образования, где они могли изучать философию и право.
В области обучения прогрессивное вмешательство Церкви проявлялось в двойном аспекте. С одной стороны, как создатель школ, редкое явление в X веке, но актуальное в следующем. С другой стороны, как разработчик новой учебной программы, которую, конечно, преподавали только в их собственных центрах, но что было знамением времени. Онa былa составленa среди прочего из Псалтири, Деяний Апостолов и Евангелий и самое большее, из философской оболочки с аристотелевской основой, совместимой с христианской доктриной. [146]
Укрепление светской церкви в культурной жизни Империи в XI веке не должно заставлять нас забывать о том, что после победы иконоборцев в споре об изображениях также произошло впечатляющее усиление влияния обычной церкви, монахов. Количество монастырей неудержимо росло. Среди инициатив была Великая Лаура, созданная на горе Афон, на Халкидском полуострове.
Сначала было разработано конкретное правило, но вскоре было принято другое, похожее на правило престижного монастыря Студион в Константинополе, с определенным бенедиктинским влиянием в его предпочтении к общежитию, а не к отшельнической жизни. Под прикрытием его славы новые стремящиеся к созерцательной жизни, как отшельники, так и сенобиты, продолжали заселять гору Афон, где в конце X века насчитывалось около шестидесяти заведений.
Расширение монашеской жизни и усиление вмешательства светской церкви в культурную жизнь Империи не имели ничего общего с событием, последствия которого сохранились до наших дней: восточным расколом, или разделением церквей Рима и Константинополя. После раздела Римской империи Феодосием Великим в 395 году между ними часто возникали подозрения по вопросам церковной дисциплины, сакраментальной практики и богословской доктрины.
Брак священников, тип хлеба, используемый на мессе, субботний пост и учение о происхождении Святого Духа были предметом споров между двумя церквями. В IX веке были добавлены другие аспекты, что привело к расколу Фотия.
Наиболее известными из них были те, которые возникли в связи с процессом евангелизации земель центральной и восточной Европы, которым Рим и Константинополь намеревались руководить. Набор взаимных обид, всегда накладываемых на папское убеждение, что его престол в Риме выше всех других, включая Константинополь, резко вырос в середине XI века, когда два человека, столь же высокомерные, сколь и непримиримые: патриарх Михаил I Керуларий (Miguel Cerulario)[147] и папский посланник Умберто де Сильва Кандида.(Humberto de Silva Candida.) Вместо того чтобы прийти к соглашению, патриарх и понтифик оказались на перекрестке отлучений. Этот факт, а не освящение разделения между церквями стал началом окончательной кристаллизации их разделения. С ним византийский культурный мир приобрел новый элемент индивидуальности и сплоченности[148].
Эгейская империя и первая смерть Византии
История Византийской империи с середины XI века до середины XIII века обычно делится почти исключительно на основании политических и военных аргументов на три этапа. Первое, то, что мы могли бы назвать концом македонской династии и началом династии Комнинов, между 1054 и 1080 годами. Второе, «век Комнинов», между 1080 и 1185 годами. И третье, Partitio Romaniae, с латинским вмешательством в Византийскую империю, рождением греческого сопротивления в Никее и окончательным изгнанием латинян между 1185 и 1261 годами[149].
Между 1056 и 1076 годами ландшафт Византийской империи резко изменился. Македонская династия вымерла в 1056 году. В следующем году Исаак Комнин устроил переворот, за которым последовали беспорядки, которые привели к возвышению и отречению четырех императоров. Все они оказались неспособны предотвратить угрозы, нависшие над Империей на всех фронтах. На востоке – турки-сельджуки; нa западe – норманны Роберто Гискардо, которые с благословения Папы Николая II заняли свои позиции на юге итальянского полуострова; на севере – печенеги.
Между 1071 и 1076 годами, с их изгнанием из Бари и Салерно, византийцы были изгнаны из Италии, а в 1071 году поражение имперской армии при Манзикерте, на армянских землях, обрекло Империю на милость турок-сельджуков. Эта обстановка военного поражения привела к внутренней небезопасности в Империи.
Земельная аристократия столкнулась с аристократией купцов, региональные державы воспользовались возможностью, чтобы продемонстрировать свою относительную независимость от имперского правительства, и, чтобы завершить картину, в самом Константинополе несколько новичков (пизанские и венецианские купцы; нормандские наемники) устроили разные беспорядки.
В аналогичном контексте болгары и русские готовились перейти к конфигурации новых территориализированных политических сил. Включение Болгарии в состав Империи с 1018 года оставило глубокий след в стране. Однако именно в эти годы болгарское общество проявило признаки сопротивления, которое в конечном итоге кристаллизовалось.
С одной стороны, распространение богомилийского дуализма было формой отказа от иерархии Греческой церкви. С другой стороны, реализация налоговой реформы вызвала усиление давления на сельское население, которое в значительной степени стало зависеть, прежде всего, от епископов и монастырей. Недовольство вылилось в серию восстаний, которые были настоящими восстаниями против завоевателя.
Их поражение не помешало болгарам продолжить борьбу за свою независимость. Случай с русскими, конечно, был другим. Они были дальше от Константинополя и объединились с Василием II против болгар, и лишь очень медленно небольшие ядра военного и торгового характера и большинство деревень, посвященных сельскому хозяйству и животноводству, были объединены в пользу двух центров: на севере Новгород, недалеко от озера Ильмень, бенефициар коммерческого оживления степи, а на юге Киев на реке Днепр, главный полюс политического и культурного укрепления[150].
Создание в 1037 г. архиепископской кафедры в последнем городе способствовало единению Киевского княжества. Это привело к постепенному исчезновению старых различий между ролями, соответствующими каждой из этнических групп, варягам и славянам. К тому времени русская культура была выражена на славянском языке, транскрибированном кириллицей.
В общественно-политической структуре ранней России, при теоретическом авторитете Рюриковичей, господствовала уездная аристократия крупных землевладельцев с их личной гвардией (дружинa) бояр. Лишь немногие города, достаточно развитые, чтобы иметь свои органы управления и даже, как Новгород, свое ополчение, могли избежать гегемонии тех аристократий, которые без ограничений господствовали над крестьянством.
Раздробленная политическая власть бояр Киевской Руси продлилось все раннее Средневековье (с 980 по 1280 годы). В середине XII века глава одной такой аристократий, обосновавшейся в районе между Суздалем и Владимиром, воспользовался слабостью Киева, чтобы завоевать город и двинуться на север, в Новгород, и на северо-восток, во Владимир, город центр власти России. Примерно в то же время в источниках сталa упоминаться еще и Москва[151].
Век Комнина
Между 1080 и 1185 годами семья Комнинов обосновалась на троне Византии и обеспечила династическую легитимность. Его преемственность была отражением определенного восстановления Империи, как демографического, так и экономического, политического или культурного, которое, конечно, развивалось в гораздо меньших масштабах, начиная с чисто территориального, чем это было принято в течение двух веков правления македонской династии.
Первые признаки восстановления были обеспечены ростом населения, особенно в балканских регионах. В то же время площадь введенных в эксплуатацию земель была расширена, хотя теперь этот процесс направлялся не столько крестьянскими общинами, сколько крупными землевладельцами, которые покупали государственные земли у государства и пользовались благосклонностью финансовых реформ новой династии.
В частности, из-за импульса, который он дал двум институтам: pronoia (проноя) и charistiké (харистике). Проноя состояла из передачи в usus fructus (узуфрукте) земли, находящейся в государственной собственности, и ее родителей или поселенцев (демозиариев) крупному владельцу в обмен на их обязательство использовать ее и, в случае войны, предоставить людей и военное снаряжение[152].
Со своей стороны, харистикa была передачей имперской властью узуфрукта церковной собственности мирянину в обмен на ее восстановление и поддержку монахов. Намерение нового императора состояло в том, чтобы обуздать чрезмерный рост церковной собственности и, несомненно, посредством этой скрытой конфискации обеспечить лояльность светской аристократии.
Но очевидно, что распространение обоих институтов укрепило состояние и власть региональных и местных лордов. С расширением обрабатываемых земель также произошло усиление сельскохозяйственного производства. Вместе с увеличением населения это стимулировало спрос на текстиль, металл или строительные изделия и побудило венецианских, генуэзских и пизанских купцов селиться в более развитых городских центрах с последующим оживлением торговли.
В социальном аспекте «век Комнина» увидел двойное усиление горизонтальных отношений (солидарности) византийской аристократии и вертикальных зависимостей. В этом случае как на уровне знати, среди глав домохозяйств и их клиентской среды, которая имела тенденцию утверждать понятие ойкос, дома и, следовательно, родословной, так и на уровне семей, отношения между помещиками и крестьянами.
Приватизация всех их развивалась гораздо меньше, чем на Западе, но была важным элементом того периода. Параллельно этим внутренним процессам во внешней политике фундаментальными данными XII века было превращение внешних врагов во внутренних врагов Византийской империи. Это было очевидно в случае с турками. Через пятьдесят лет после битвы при Манцикерте в 1071 году турецкий султанат Иконий контролировал восточную и южную Анатолию, то есть около двух третей полуострова Малой Азии[153].
Но то же самое было и с латинянами. Между 1050 и 1075 годами южная Италия стала ареной столкновений между папством, Империей и норманнами-эмигрантами, которые ценой своих услуг в качестве наемников стремились обосноваться на юге полуострова и в Сицилии. Динамика событий привела к тому, что папство вступило в союз с норманнами, что вынудило Византию сделать это с венецианцами.
Они, которые уже пользовались важными торговыми привилегиями в Империи с 992 г., увидели, что их положение улучшилось благодаря новым торговым привилегиям, предоставленным в 1082 г. Быстрый рост богатствa венецианских купцов побудил их претендовать на привилегированный социальный статус в Империи[154].
Ситуация чрезвычайно осложнилась с 1096 года, когда в Константинополе появились две группы латинских крестоносцев, стремившихся вернуть Иерусалим из рук мусульман. Крестоносцы первого, то есть «народного крестового похода», возглавляемого Петром «Отшельником», грабили предместья города чем напугали византийцев; последние провели их через Босфор и направили на территорию контролируемые турками, где они и были перебиты.
Составляющие второй группы, «крестовый поход рыцарей», часто вели себя как оккупанты Империи. То же самое сделали новые воины, которые в двух походах крестового похода пересекли земли Византийской империи в XII веке. Латинские рыцари занимались грабежом населения, захватом плодородных земель и заселение в регионах Империи. Все это означало не только территориальный упадок, но, прежде всего, постоянное беспокойство во внутренней политике.
Совокупность этих черт определяла византийскую историю XII века, но преемственность была обеспечена восстановлением имперской власти, которое первый Комнин, Алексей I, установил между 1081 и 1118 годами, и два его преемника сохранили. В частности, Мануил I (1143–1180), который проявил желание заставить жителей Запада признать могущество Византии, стал свидетелем культурного расцвета, характеризовавшегося византийским «националистическим» подтекстом и, конечно же, отказом от влияния грубости латинян, вошедших в Империю. Именно чтобы избежать чрезмерного усиления позиций венецианских купцов, он поощрял генуэзцев и пизанцев, традиционных врагов первых, селиться в городах Империи.
Со своей стороны, культурное выражение этого чувства византийского самоутверждения было зафиксировано, прежде всего, в «Алексиаде», работе Анны Комнина, дочери Алексея I Комнинa. Усиления Империи при Мануэле I закончилась в 1171 году. Hовый баланс сил в Италии вынудил Византию отказаться от попыток переселения на юг. В том же году жители Константинополя восстали против венецианцев, имущество которых было конфисковано императором[155].
Пять лет спустя турки-сельджуки, которые после своей победы при Манцикерте в 1071 году закрепили свое присутствие на Анатолийском полуострове, победили императора Мануила I в битве при Мириокефалоне. Это событие послужило победителю, султану Кылыж-Арслану II (1156–1192), чтобы укрепить султанат и заложить основы того, что в итоге стало Турцией. Побежденный Мануэль I понимал жестокие перемены, произошедшие в Империи. После 1176 года последний вряд ли мог смотреть на Адриатическое и Анатолийское плато; в лучшем случае ему пришлось селиться на побережьях и островах Эгейского моря.
La Partitio Romaniae:
Латинская Империя Константинополь
и Греческая Империя Никея
Смерть Мануила I в 1180 году и вступление Михаила VIII в Константинополь после изгнания латинян в 1261 году стали вехами нового периода в истории Империи. Византия характеризовалась огромной политической нестабильностью и, в конечном итоге, неизбежным упадком. Смерть императора Мануила I в 1180 году не прервала решительную западную политику последних лет[156].
Это усилило антилатинские настроения населения Империи, которые взорвались в 1182 году в Константинополе в форме нападения на дома и магазины западных купцов, которые были убиты или изгнаны. Между 1185 и 1195 годами борьба за имперский престол привела к двум государственным переворотам, которые ослабили Империю, от которой навсегда отделились болгары и сербы, а в качестве платы за свои союзы итальянские купцы вернули свои старые привилегии.
Именно в этом контексте экспедиция латинских воинов, которая должна была составить четвертый крестовый поход с очень конкретной целью вторжения в Египет, изменила свой маршрут и появилась у ворот Константинополя, сумев посадить на трон свергнутого императора и его сынa Алексея IV.
Уступки, сделанные ими латинянам, вызвали бурную реакцию у их византийских подданных. Она была предлогом того, что в апреле 1204 года она служила крестоносцам, на практике, венецианцам, для штурма города и тщательного разграбления. Событие имело далеко идущие последствия для Византийской империи и Средиземноморья в целом. Среди прочего, четыре были особенно значительными. Исчезновение духа крестового похода, как это было предложено в конце XI века.
Обострение антизападничества византийцев и захватывающее обогащение Венеции, которая обеспечит «четверть с половиной» имперского дохода, контроль над Адриатическим и Эгейским морями и выход к Черному морю[157]. И, с точки зрения истории Византийской империи как политического образования, ее фрагментарность. Империя, которую латинские источники называли Рум, была предметом разделения: Partitio Romaniae. В Константинополе венецианцы установили «латинского» императора Фландрии Болдуина.
В качестве его вассалов несколько дворян, возглавлявших экспедицию 1203–1204 годов, образовали княжества в Афинах, Фивах, Морее и Фессалониках, то есть в европейской части Империи. Тем временем некоторые семьи византийской аристократии пытались сделать то же самое в Малой Азии. Комнины добились успеха в далеком Трабзоне, а Ласкари в Никее. В тот же год грабежей Константино Ласкарис, признанный дворянством императором и патриархом столицы, был превращен в хранилище имперской легитимности. В 1261 году военачальник Михаил Палеолог, провозгласив себя «греческим» императором Никеи, вошел в Константинополь и снова был коронован. С Мигеля VIII началась династия Палеологов.
5
Кульминация классического ислама и его возрождение
Историю ислама примерно с 960 по 1260 год можно разделить на два основных этапа. В первом, между 960 и 1055 годами, исламский мир был разделен на три великих халифата: Омейядский в Кордовe, Фатимидский в Каирe и Аббасидский в Багдадe. Политическая и религиозная динамика каждого из них была различной и объясняла как существование некоторых автономных сил на их соответствующих периферийных территориях, так и их фактическую фрагментацию на независимые королевства и княжества.
На втором этапе, между 1055 и 1260 годами, ислам был разделен на две большие пространственные области, восточную и западную. Внутри первого были четко разграничены владения Багдадского халифата и Каирского халифата; во втором – Аль-Андалус и Магриб. В обeих странах в XII веке были предприняты попытки к единству: на Западе, между 1100 и 1170 годами, ими руководили Альморавиды, а позднее – Альмохады; на Востоке – Aюби, особенно их харизматичный лидер Саладин[158].
В обоих случаях в течение XIII века присутствовала угроза сил вне ислама: на Западе испано-христиане, которые между 1212 и 1260 годами резко сократили пространство Аль-Андалуса; на Востоке – монголы, которые в 1258 году вошли в Багдад.
Экономическое и культурное великолепие и политическая раздробленность в конце классического ислама
Примерно между 960 и 1055 годами исламский мир пережил заключительную стадию того, что было названо классическим исламом. Как и в предыдущий период, одна и та же вера, даже с различными интерпретациями, один и тот же язык культуры, арабский и та же цивилизация городов и торговых отношений продолжала идентифицировать миллионы людей из разных стран: от Атлантическoгo океанa до реки Инд.
Эти черты единства сосуществовали с чертами фрагментации в религиозной интерпретации и, прежде всего, в политическом строительстве. Среди первых мы должны поставить: милитаризованную секуляризацию власти, расширение исламского рыночного пространства и прогресс в философских размышлениях и научных экспериментах[159].
Военизированная секуляризация власти
Слияние политических и религиозных элементов в отношениях между властью и подданными в исламе сделало халифа представителем Аллаха и потребовало слепого подчинения установленной власти. Несмотря на это, многочисленные восстания, имевшие место в первые три столетия существования, и превращение халифата в Империю объясняют усиление инструментов власти, которые обеспечили бы осуществление власти, в первую очередь понимаемой как светской.
В конце X века три халифата (Багдад, Каир, Кордова) фактически основывались на трех чисто светских основаниях: визирате, армии и налоговой системе. Визират был режимом, который сделал визиря (в Аль-Андалусе хайиб) главой гражданской и военной администрации, оставив исключительно религиозное руководство в руках халифа. Это разделение властей халифа означало разрыв линии легитимности при осуществлении власти.
При ослаблении фигуры халифа ничто не мешало умножению претендентов на пост визиря или хайиба и, если повезет, основать собственные династии, параллельные халифату. Именно это и произошло в халифатах Багдада и Кордовы, соответственно, с семьями Буйес и Амириес (Альманзор и его сыновья). Армия увеличивалась с прибытием наемников и привезенных рабов.
В Аль-Андалусе Альманзор нанимал берберов и чернокожих и, в меньшей степени, славян. В Багдаде к буйям присоединились тюркcкие и персидские мамлюки. Намерение визирей состояло в том, чтобы ослабить старые племенные базы ополчения, но в то же время это служило подтверждению власти некоторых наемных военачальников и способствовало частым столкновениям между воинами разного происхождения. Налогообложение было направлено на увеличение доходов, которое могло удовлетворить наемные войска и их профессиональных командиров.
Для этого использовались следующие средства: увеличение налогов за счет непрерывного роста коммерческой деятельности, контроль над производством золота, особенно в Сиджилмасе в Сахаре, за которое боролись Омейяды и Фатимиды и в целом в халифате Багдада, увеличение количества уступок типа икты. Икта состояла из временной передачи владельцу права получать налоги с крестьян в обмен соответствующей десятины в казну халифа.
Каждый воин получал икту, важность которой была пропорциональна положению, которое он занимал в армии, поскольку такая уступка составляла его вознаграждение. Несмотря на очевидное сходство с каролингским бенефициумом и византийской пронойей[160], исламский институт не утратил своего публичного характера[161].
Однако это не предотвратило увеличения налогового бремени деревенских налогоплательщиков, которые во многих случаях были вынуждены доверить частное владение могущественным, из тех, кто стал поселенцами. Эволюция в трех областях: определение власти, армии и налогообложения, показывает, что между серединой X века и серединой XI века политико-религиозная связь субъекта с самодержавным халифом превратилась в политическое подчинение визирей и офицеров наемных армий.
Расширение исламского торгового пространства
Кристаллизация в X веке халифатов Кордовы и Каира способствовала консолидации двух экономических зон, Аль-Андалуса и Египта, которые пытались подражать Багдаду в качестве экономических полюсов и бенефициаров обменов с другими странами и халифатами. Это привело к значительному увеличению числа городов, достойных называться городами, к возрождению торговли и к изменению и расширению их маршрутов.
Этот процесс выиграл от прогресса в населении и производстве, который одновременно переживали и Византийская империя, и Западная Европа. Этим объясняется как укрепление экономической оси между Красным и Средиземным морями, роль посредников, которую сыграли жители нескольких итальянских городов, таких как Венеция, Амальфи или, немного позже, Пиза и Генуя, так и торговля пряностями с арабами в Индии, где купцы Багдадского халифата также могли взаимодействовать с китайскими купцами. Чтобы компенсировать удлинение маршрутов, был разработан более быстрый морской путь, который побудил мусульманских купцов селиться в прибрежных районах Индокитая.
Расширение на восток маршрутов, посещаемых исламскими купцами, имело аналогию в других направлениях. Ближе к северу Европы ее проводили византийцы, пересекавшие побережье Черного моря, куда по суше прибывали караваны из иранских и иракских регионов, и варяги из русских степей, соединявшие Черное море с Балтикой. Однако величайшим нововведением X и XI веков было объединение маршрутов во внутренние районы Африки. От всего этого расширения исламского торгового пространства больше всего выиграл египетский халифат Фатимидов, который занимал центральное положение во всей сети обменов.
Прогресс философии и науки
Увеличение богатства исламских обществ и рост человеческих и интеллектуальных отношений помогли объяснить культурное развитие X и XI веков. Даже политическая раздробленность не мешала процветанию интеллектуальной деятельности: напротив, она умножала число покровителей любого проявления культуры. Mы можем выделить три характеристики этого.
Первое: трудность философско-религиозной рефлексии, которая в исламе, за некоторыми исключениями, достигла в конце X и начале XI века одной из вершин свободы и терпимости; в некотором роде гуманизма.
Во-вторых, интеллектуальная гегемония восточного ислама, где более раннее распространение использования бумаги способствовало увеличению количества копий, а вместе с ними и книг, которые по большей части продолжали быть написанными на арабском языке. Третьей характеристикой исламского интеллектуального великолепия того времени было то, что онo охватывалo все дисциплины.
В истории и географии представительной фигурой был аль-Бируни, мудрец, сопровождавший Махмуда Газневи в его походах по завоеванию Индии. В математике включение «нуля» и замена римскиx цифр арабскими (называемыми также индийскими или индо-арабскими) облегчит вычисления.
В медицине или в таких дисциплинах, как ботаника, зоология, агрономия или астрономия, его культиваторов было не только много, но и по сравнению с представителями греческого периода они проявляли очень характерную черту: они компенсировали свою более низкую способность к абстракции экспериментальной практикой.
Размах научного любопытства и количество тех, кто посвятил себя его удовлетворению, были настолько велики, что сделать выбор очень сложно. Чтобы назвать одно имя, мы бы вспомнили имя того, кто тогда представлял собой истинную кульминацию как в философии, так и в медицине: Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна.
Его беспокойная жизнь между 980 и 1037 годами в Трансоксиане и центральном Иране не помешала ему создать интеллектуальное творение первого порядка. Если его философские теории о необходимом Существе и других возможных существах, которые завершили теории Аль-Фараби, повлияют на западную философию XII и XIII веков, то его Канон медицины станет фундаментальным текстом как исламских, так и европейских медицинских исследований в следующие четыре века.
От трех халифатов к провинциальным династиям
Единство ислама при едином халифе исчезло в X веке. На его месте, вместе с халифатом Аббасидов со столицей в Багдаде, возникли два других: Омеяды в Кордове и Фатимиды в Египте. Между серединой X века и до середины XI века три страны пережили первую фазу политического усиления под властью визирей и вторую фазу распада власти с появлением небольших автономных королевств. В то время как в халифатах Кордовы и Багдада это раздробление завершилось, в Каире Фатимидам удалось остановить его. Этот факт сочетается с экономическими данными, подтверждающими важную роль Египта в исламе около 1000 года.
Египетский халифат Фатимидов
Он зародился в Магрибе как политическое выражение движения за религиозное возрождение, исмаилизма, своего рода экстремистской версии доктрины Шиизма. После успеха в своем родном регионе Фатимиды предприняли завоевание Египта. Через четыре года они навязали себя губернаторам Аббасидов, а с 973 года они начали управлять территорией из новой столицы, созданной ими, – Каира (Победоносца).
Отсюда они стимулировали культурный расцвет, подходящим знаком которого было создание мечети Аль-Азхар и ее «дома мудрости», и они умело использовали положение Египта в новых коммерческих кругах. В конечном итоге они были строителями политического пространства, которое в конце X – начале XI веков составляло центр исламского мира.
Ситуация начала ухудшаться около 1030 года. Помимо нескольких лет неурожаев и столкновений между наемными военачальниками, безошибочным признаком ухудшения ситуации стало восстание Зиянидов, берберских правителей Магриба, зависимых от Фатимидов Каира. Сепаратистское движение в регионе, где зародилась сама династия, было подавлено силой. Для этого Фатимиды обратились к кочевым бедуинским племенам из Верхнего Египта, конфедерации арабских племен Бану Хиляль, которые прошли через поля и деревни восставших, оставляя кровь и огонь.
Результатом стало разрушение сельского хозяйства, которое длилось веками, и концентрация населения в обнесенных стенами прибрежных городах, откуда они практиковали торговлю и пиратство. Кроме того, чтобы объединить усилия, в 1073 году халиф Фатимидов передал всю власть Бадру. Вместе с ним визират, у которого было больше трудностей в Каире, чем в двух других халифатах, чтобы утвердиться, сделал это в большей степени, чем в них: Бадр стал истинным султаном Египта. Его деятельность и создание крестоносцами с Запада в 1099 году Латинского королевства Иерусалим помогли Фатимидам остаться у власти в Египте еще на семьдесят лет[162].
Омейядский халифат Кордовы
В 929 году Абд-аль-Рахман III провозгласил себя халифом государства, достигшего между 950 и 980 годами пика своих экономических, политических и культурных достижений. Его власть была наложена не только на Аль-Андалус, но и на христиан севера полуострова, которых он держал в страхе, и на берберов Северной Африки, благодаря сотрудничеству с которыми в течение пяти лет Фатимиды из Каира смогли переправить сахарское золото в Аль-Андалус.
Начиная с 980 года попытка продлить этот период расцвета ислама в Испании соответствовала хайибу или визирю Альманзору. Последние использовали те же ресурсы, что и другие визири: против наемников, в их случае берберов и славян, которые нарушили племенную структуру армии и усугубили налоговое бремя, что привело к социальной напряженности. После его смерти в 1002 году халифат вступил в процесс ослабления, который закончился его исчезновением в 1031 году.
Исчезновение Kордовского халифата уступило место нескольким очень маленьким территориальным княжествам, королевствам Тайфа. Во главе их, согласно случаям, стояли правители андалузского, берберского и славянского происхождения, созвучные социальной и территориальной гегемонии, которую наследники военачальников, привезенных Альманзором, достигли в некоторых регионах Аль-Андалуса. Из этих королевств особенно андалузцы пережили период богатства и интеллектуального расцвета. С другой стороны, его военная слабость использовалась с середины XI века испано-христианами, которые вторглись в мусульманские королевства, которые они начали использовать путем сбора дани или изгоев.
Аббасидский халифат Багдада
С 973 года воцарение Фатимидов в Каире и ее более позднее великолепие способствовали ослаблению Багдадского халифата. С территориальной точки зрения спад был значительным. Не только из-за потери Египта, Магриба и части Сирии и Аравии, но и потому, что это побудило аристократию и правителей различных восточных регионов Багдадского халифата объединить свои княжества. Таким образом, к Тахиридам и Сафаридам добавились и сильно наслоились Саманиды, которые к 980 году правили от восточного Ирана до входа в Индию.
В этой слабой ситуации халифату было очень трудно предотвратить продвижение внешней силы – турок. Турки, принадлежащие к кочевым народам степей Средней Азии, были наняты в качестве воинов различными региональными князьями. Ослабление одного из них позволило новому турецкому вождю Себуктегину занять часть Саманидского царства в 977 году. Под его командованием турки поселились в регионе Газна и образовали новую династию в современном Афганистане – Газнави. Оттуда они доминировали на перевале в Индию[163].
В 997 году Себук-тегинa сменил его сын Махмуд Газневи, который своими военными походами в Индию расширил исламское пространство. Спустя десятилетия турки-сельджуки захватят империю Газнави на территории, которая стала оплотом ислама в Индии. Именно здесь шестьдесят лет назад родился Пакистан. Пока эти события происходили в восточной части Багдадского халифата, другая турецкая группа, огузы, которых под предводительством Сельджукa также будут называть сельджуками или династией сельджукидов, закрепила свои позиции в центре халифата.
Внук этого вождя во главе этих исламизированных турок, пылко подчинявшийся суннитскому повиновению, который рассчитывал на военный и административный опыт иранцев, вошел в Багдад в 1055 году, изгнал визирей Буи, обвиненных в шиизме, и получил от халифа титулы «эмир Востока и Запада» и «султана турок». Они подтвердили свое лидерство над гражданской и военной администрацией, в то время как религиозные, почти не упоминаемые в пятничных молитвах, остались в руках халифа Аббасидов.
Политическое и доктринальное обновление в исламе
Между 1055 и 1260 годами исламское пространство, по-видимому, разделено на две большие области, восточную и западную, разделенные Ливийской пустыней и Магрибом, частично опустошенным конфедерацией Бану Хиляль. Арабский язык, денежная экономика, городская жизнь и интеллектуальная деятельность продолжают циркулировать между ними, но в политическом и, отчасти, религиозном масштабе они дистанцируются друг от друга, в то же время укрепляя отношения пространств, каждая из них – эти две великие области ислама. Таким образом, история Аль-Андалуса сливается с историей Северной Африки, точно так же, как, с другой стороны, происходит с историей Египта, Сирии, Ирака и даже Малой Азии.
Восточный ислам
Восточное царство ислама продолжало включать в себя две основные области влияния, Багдад и Каир, подкрепленные их религиозным послушанием, суннитами и сиитами. Что было значительным в период с 1055 по 1260 годы, так это последовательные и безуспешные попытки создать гегемонистскую власть во всем восточном исламе. Такие попытки были осуществлены турками-сельджуками во второй половине XI века и Саладином сто лет спустя.
Империя сельджуков
За вступлением турок-сельджуков в Багдад в 1055 году последовали военные успехи над византийцами при Манзикерте в 1071 году, что позволило им закрепить свое поселение на Анатолийском полуострове. После первых военачальников сельджуки нашли в Маликшахa (1072–1092) и его иранском визире Низам аль-Мулькe двух организаторов, с которыми новая власть достигла своей зрелости[164].
Признаки этого очевидны в улучшениях в управлении, вдохновленных Правительственной книгой, составленной самим визирем, в многочисленных общественных сооружениях и, особенно, в создании учебных центров, среди которых выделялась Низамийа Багдада; название происходит от его основателя, визиря сельджуков.
В остальном особенности режима те же, что и в других исламских пространствах. Организация власти, которая резко различает светское (гражданское и военное) и религиозное. Распад структуры управления на несколько автономных ячеек. Из них некоторые были небольшими: те, которые были отданы под икту турецким военачальникам; другие были более обширными: в основном те, которые были вверены вождям, которые становились атабегами, то есть опекунами мелких князей, которые во многих случаях использовали свое положение, чтобы получить эффективную власть над территорией.
И, наконец, соблюдение суннитской ортодоксии, стимулированной султанами путем создания медресе, учебных центров при мечетях. Наиболее представительной интеллектуальной фигурой был иранец Аль-Газали, который умер в 1111 году. Он обеспечил синтез веры и разума, согласовал мистический опыт суфизма с суннитской традицией и переоценил аскетизм как инструмент личного совершенствования, который помог в поисках веры[165].
Терпимость первых сельджуков нарушили только исмаилиты. Особенно с теми, кто усилил свой фанатизм, превратившись в террористическую секту, которая, потребляя гашиш, слепо повиновались своим лидерам. Отсюда имя секты ассасины, от которого произошло слово «убийцы». Первой из важных жертв секты был визирь Низам аль-Мульк в 1092 году. Его смерть, за которой через несколько месяцев последовала смерть Маликшахa, открыла век упадка режима сельджуков.
Исчезновение этих двух фигур привело к усилению многочисленных политических ячеек, которые фактически составили Багдадский халифат. Между 1092 и 1260 годами над ними можно было выделить пять территориальных групп: Иран, Ирак, Османская империя, Сирия и Египет. Из этих пяти Иран был первым, где авторитет багдадских султанов оказался в кризисе. Ирак был центром халифата; там в первой половине XII века интересы халифов и султанов вступили в конфликт, в результате чего в конце того же века султанат в Багдаде был ликвидирован.
Третье пространство, Османская империя, стало называться таким образом в конце XII века, после того как победа при Манзикертe позволила сельджукам укрепить свои позиции в центре Анатолийского полуострова у султаната Рум. Наконец, Сирия и Египет снова были вовлечены в общие процессы в XII веке. В частности, Сирия была ареной трех типов боевых действий: военные действия между турками, политика между халифатами и религиозная война и война между христианами и мусульманами.
Несостоявшаяся мечта о единстве:
Саладин[166]
В 1099 году западные крестоносцы изгнали Фатимидов из Палестины и в 1099 году создали Латинское королевство Иерусалим. Это означало упадок власти Фатимидов, прерывание физической преемственности восточного ислама и постоянных угроз целостности халифата в Египтe.
С 1130 г. к угрозам крестоносцев добавились те, которые предполагали появление новой державы на севере Сирии и Ирака. Действительно, одно из многих территориальных княжеств, составлявших империю сельджуков, Мосул, было вверено сыну турецкого военачальника султана Маликшаха: атабеку Зенги. Новый лидер намеревался изгнать латинских крестоносцев из Иерусалима и восстановить суннитскую ортодоксальность перед лицом послушания шиитов со стороны Фатимидов. Начиная с 1127 года Зенги и его сын распространили свое правление на всю Сирию.
В 1164 году армия вторглась в Египет. Перед ним был курдский эмир, сменивший его племянник Салах-ад-Дин бен Айюб, известный как Саладин в нашей историографии. Быстрые успехи позволили Саладину в 1171 году восстановить суннитскую ортодоксальность в Египте от имени халифа Багдада. Два года спустя он мог считать завоевание Египта завершенным. В 1174 году он также захватил власть в Сирии и Верхнем Ираке и получил от халифа титул султана. Несколько лет спустя, в 1187 году, Саладин победил крестоносцев и завоевал латинское королевство Иерусалим.
Таким образом, он добился религиозного и политического воссоединения большей части восточного ислама. Саладин умер в 1193 году, и хотя созданная им династия Айюби продлила свое существование в Египте до середины XIII века, через несколько лет его работа уже показала очевидные недостатки. В первые годы XIII века пять территориальных групп восточного ислама (Иран, Ирак, Турция, Сирия, Египет), казалось, находились в ситуации нестабильного равновесия из-за военных и демографических событий, произошедших с момента экспансии турков-сельджуков полтора века назад[167].
В этой ситуации весь восточный ислам был потрясен внезапной монгольской волной во главе с Чингисханом. Между 1215 и 1258 годами успехи монголов были впечатляющими: они доминировали на иранском пространстве; они проникли к югу от русских степей до Киева; они сократили сельджукский султанат Рума в Малой Азии; они полностью устранили «убийц»; oни вошли в Багдад c огнем и кровью в 1258 году, где положили конец Аббасидскому халифату.
Для этих более поздних кампаний монголы заручились помощью латинских крестоносцев, решивших сделать их союзниками в глобальном проекте по искоренению ислама. В 1260 году прилив монголов был остановлен армией, которую вряд ли можно было назвать исламской: армией турецких мамлюков. Его поражение имело значение символа: оно не только позволило отвоевать Сирию, но, прежде всего, установило в среднем течении Евфрата границу между «монгольским» миром и миром арабо-мамлюков.
Западный ислам
В 1055 году западный ислам распространился от Ливийской пустыни до Атлантического океана и от реки Дору и пиренейского Сомонтано до пространства к югу от Сахары, включая острова Средиземного моря. Между 1055 и 1260 годами история западного ислама напоминает историю восточного ислама.
С одной стороны, религиозное объединение в послушании суннитов; с другой – подмена власти арабов в пользу других этнических групп; в данном случае особенно берберскoй. Фактически два религиозных движения с этнической берберской базой, сначала Альморавидов, а затем Альмохадов, были главными героями истории того периода в западном исламе.
Альморавиды
В середине XI века западное исламское пространство, пострадавшее от исчезновения Кордовского халифата, его замещения царствами тайфы и первыми испанско-христианскими наступлениями, а также вторжениями конфедерации арабских племен Бану Хиляль в Магриб был ареной расширения Альморавидов[168].
Это было религиозное движение, которое пропагандировалось проповедниками из Марокко между Высоким Атласом и Антиатласом и имело сторонников, особенно среди погонщиков верблюдов из Сахары.
Религиозное послание сочетало в себе моральную строгость, буквальное толкование Корана и Сунны, безупречную приверженность школе теологической и правовой мысли Малики, а также готовность использовать священную войну как инструмент для навязывания своей веры другим мусульманам, которых они считали отклонившимися от пути Пророка. К середине XI века Альморавидам удалось объединить племена благодаря проповеди Абдаллаха ибн Ясина и, прежде всего, благодаря организационным способностям его преемника Юсуфа бен Тасуфина.
Вскоре они начали свою экспансию в трех направлениях. На востоке, пытаясь контролировать Сиджилмасу и транссахарский золотой путь[169]. На юго-востоке, пытаясь проникнуть в черный мир: в 1055 году Альморавиды выступили против королевства Гана и заняли площадь Одагхоста, что должно было обозначить начало исламизации черного мира. И к северу, где наиболее заметными результатами были завоевание западного Магриба и Аль-Андалуса[170].
К 1110 году Империя Альморавидов занимала обширное пространство от реки Эбро к югу от Сахары и границ с черным миром и имела свою столицу в городе Марракеш. Элементарность их доктринального послания и первенство воинского компонента в их поведении контрастировали с более развитыми формами жизни в занятых ими регионах. В частности, древние королевства Таифа в Аль-Андалусе, где мыслители, подобные Авемпасу, могли выжить только ценой сокрытия своих философских подходов под видом этических соображений.
Вскоре как в Аль-Андалусе, так и в Магрибе стали множиться выражения недовольства и сопротивления. С другой стороны, воинственное давление испано-христиан, особенно арагонцев, начало ослабляться после оккупации Сарагосы в 1118 году, военных баз империи Альморавидов на Пиренейском полуострове.
Альмохады
Величайшими бенефициарами ослабления Империи Альморавидов и через несколько лет их преемниками стали Альмохады[171]: этимологически «проповедники единства Бога». Как и предыдущее, это было религиозное движение, также зародившееся в регионе Марокканского Атласа и распространившееся среди берберов, хотя в данном случае в основном оседлое.
Великим проповедником нового движения был Ибн Тумарт, получивший образование в медресе Востока и считавший себя верным учеником аль-Газали. Его цель заключалась в том, чтобы предложить новый способ понимания послания ислама, заменив фанатичную строгость и буквализм Альморавидов более богатыми и более сложными теологическими и правовыми подходами, частично вдохновленными мутазилизмом; то есть, в основном, на неоплатонических основаниях.
После смерти Ибн Тумарта руководство движением Альмохадов осталось в руках его партнера Абд-аль-Мумина, который в 1147 году захватил город Марракеш, столицу Альморавидов, что, по сути, положило конец его жизни. Менее чем за двадцать лет Альмохады восстановили Империю, которая девяносто лет назад создала Альморавидов и сохранила их столицу[172].
Восстановление экономического, политического и религиозного единства этого пространства при более терпимых предпосылках имело важные последствия. В экономике произошло усиление торгового оборота, особенно суданского золота. В искусстве это новые постройки, как крепости, такие как одна в Рабате, а также мечети, такие как Кутубийя в Марракеше или новая в Севилье, от которых сохранился минарет (Хиральда).
В области интеллектуальных размышлений наиболее представительными фигурами периода Альмохадов были два мыслителя, родившиеся в Кордове, почти строго современные друг другу: Аверроэс и Маймонид. Эти двое были главными действующими лицами аналогичной попытки примирить аристотелевскую философскую традицию с догмами своих религий, ислама и иудаизма, и оба считаются кульминацией средневековой мысли в соответствующих идеологических областях. Оба будут использоваться европейскими мыслителями XIII века при разработке своих собственных размышлений.
В частности, Аверроэс будет главным комментатором аристотелевского труда для христианских богословов и философов. Экономические, архитектурные или интеллектуальные успехи Империи Альмохадов не смогли предотвратить ее крах. В то время как к северу от Гибралтарского пролива в 1212 году испанско-христианская армия нанесла серьезное поражение Aльмохадам у Лас-Навас-де-Толоса, к югу от пролива новые набеги конфедерации арабских племен Бану Хиляль и несколько региональных восстаний быстро привели Империю к упадку.
Начиная с 1220 года, наступление христиан на Пиренейском полуострове и восстания недовольных мусульман в Магрибе положили конец правлению Альмохадов. На их месте к 1260 году возникло четыре царства – Насриды Гранады в Аль-Андалусе[173]; Мариниды из Феса[174]; Зиянидское королевство Тлемсен[175] и Хафсиды из Ифрикии в Магрибе[176]. Каждый из них лучше, чем раньше, приспособился к социальным и культурным реалиям обновленного западного ислама. Но это также было симптомом того факта, что Империя Альмохадов была лебединой песней могущественного ислама на Западе.
6
Единство Средиземноморья
Роберт Григорьевич Ланда[177] пишет: «Средиземноморье – место рождения и встречи большинства человеческих цивилизаций, религий, культур. К Средиземноморью всегда тяготели и некоторые соседние ареалы. Уникальность гигантского пространства на стыке сразу трех континентов – Европы, Азии и Африки – способствовала формированию здесь чрезвычайно своеобразной социоисторической и этнокультурной ситуации. Исторические сведения, данные археологии, этнографии и антропологии свидетельствуют о редком многообразии этносов, конфессий, рас, культур, социально-политических и хозяйственно-экономических форм жизни, сменявших друг друга в бассейне Средиземноморья и связанного с ним Черноморья.
Наличие этой связи определило заметное участие в средиземноморских процессах Восточной Европы и Кавказа. Таким образом, богатая и многоцветная сама по себе этнокультурная мозаика Средиземноморья становится еще разнообразнее благодаря исключительной силе притяжения этого неповторимого региона, вовлекавшего соседние страны и народы в политические, экономические и цивилизационные процессы, всегда отличавшиеся в средиземноморском пространстве исключительной интенсивностью.
Объяснение этому – не только в чрезвычайно благоприятных климатических и природно-географических условиях Средиземноморья, но и в уникальной возможности межэтнического и межкультурного общения. С древнейших времен люди гораздо меньше боялись воды, чем мертвых пустынь, непреодолимых гор и непроходимой чащи лесов, кишевших хищниками. Поэтому, как ни парадоксально, водные пути, несмотря на бури и кораблекрушения, издревле функционировали регулярнее, чем сухопутные, когда речь шла о больших расстояниях.
Благодаря этому Средиземноморье стало единственным в мире ареалом, где каждый этнос и каждая культура могли общаться не с одним или двумя-тремя соседями, а сразу с десятками иных этносов и культур. Естественно, это общение далеко не всегда бывало мирным и нередко заканчивалось истребительными войнами. И тем не менее оно весьма способствовало всестороннему прогрессу народов региона, развитию состязательности между ними, взаимопроникновению языков и обычаев, обмену хозяйственным, политическим и культурным опытом»[178].
Своеобразные культуры при столкновении с более сильным противником редко исчезали полностью. Весьма знаменательно, что именно всемирно известный знаток истории Средиземноморья Фернан Бродель открыл фактор «сопротивления культур», которые, вопреки всем попыткам их устранения, «появляются снова, упорно стремясь выжить».[179] На востоке средиземноморского ареала культурные образования возникли раньше, чем в Европе, укоренились прочнее и поэтому отличались большей жизнестойкостью.
В качестве примера можно привести цивилизацию Древнего Египта, которая выдержала нашествия и владычество гиксосов в XVIII веке до н. э., «народов моря» в XIII веке до н. э., ливийцев в X веке до н. э., эфиопов в VIII веке до н. э., ассирийцев в VII веке до н. э., персов в VI веке до н. э., греко-македонцев в IV веке до н. э., римлян в I веке до н. э. И лишь в IV веке н. э. византийцы довершили уничтожение основной части древнеегипетского наследия (главным образом, под флагом искоренения древнеегипетской религии, сопротивлявшейся христианству).
Таким образом, цивилизация Древнего Египта сопротивлялась более двух тысячелетий, в течение которых страна не только восемь раз попадала под иноземное иго, но и постепенно ассимилировала на своей территории иноэтническое население (рабов, кочевников, наемников, насильно переселяемых жителей завоеванных областей), а также интенсивно взаимодействовала с сопредельными регионами. Так, области Нубии, Ливии, Сирии, Палестины постоянно оказывались либо под властью Египта, либо объектами его экспансии. Египтяне многому учили других и многому учились сами. Их культура, как и культура других народов Средиземноморья, создавалась и развивалась в условиях иноземных влияний.
Если сказанное верно в отношении древнеегипетской культуры, одной из наиболее консервативных в Средиземноморье, то тем более применимо к остальным. Известно, чем обязана архаическая Греция XI–VI веков до н. э. культурам эгейцев, ахейцев, Древнего Египта, Финикии, Сирии, Малой Азии и древней Персии. Точно так же Древний Рим усвоил достижения греков, карфагенян, эллинистических государств Востока, а еще раньше – этрусков, самнитов, галлов и иных средиземноморских народов. Эти заимствования лишь усилили цивилизацию Древнего Рима, довели ее до совершенства, одновременно добавив элемент плюрализма в ее местные варианты. Без подобных процессов было бы невозможно социокультурное равновесие гигантской империи, впервые (и, как оказалось, лишь раз в истории) добившейся политического единства всего Средиземноморья.
Несомненно, это единство было экономически, психологически и духовно подготовлено предшествующими полутора-тысячелетними контактами между средиземноморцами, сплетением воедино многих общекультурных традиций и личных человеческих связей. Иначе не правили бы в Риме императоры ливийско-пунического и сирийского происхождения, не находили бы общий язык Цезарь и Марк Антоний с царицей Египта Клеопатрой, не были бы виднейшими римскими историками греки. Полибий и Плутарх, не привлекла бы так римская культура нумидийского царя Юбу II и иудейского аристократа Иосифа Флавия.
Синтез цивилизаций
Средиземноморье – родина большинства известных человечеству синкретических цивилизаций, которые обобщили и синтезировали сущностные особенности и черты культур разных народов, являя собой убедительные доказательства возможности преодолеть барьеры между расами, языками, религиями и духовными мирами. Одним из первых доказательств такого рода является эгейская, или крито-микенская, цивилизация III–II тысячелетий до н. э., созданная в бассейне Эгейского моря, по мнению А. Тойнби, людьми «разных антропологических типов» из Азии и Африки, для культуры которых «характерны смешанные мотивы – как ливийские, так и анатолийские», осложненные к тому же (а, может быть, и определенные) древнеегипетскими и шумерскими влияниями[180]. К этому же типу относится и цивилизация Карфагена VIII–II веков до н. э., обнаруживающая на финикийской основе немало древнегреческих и древнеливийских заимствований, явное влияние этрусков, а также наличие смешанных этногрупп (ливо-финикийцев, иберо-финикийцев). Синкретическими были и все эллинистические культуры, представлявшие собой довольно органичный сплав культуры греко-македонцев и покоренных ими народов Ближнего Востока[181].
Указанный культурный синкретизм как бы помогал передавать эстафету исторического лидерства от одной этнокультуры к другой и в то же время являлся стимулятором исторического развития. Так, Карфаген способствовал вовлечению в орбиту греко-римского Средиземноморья находившихся под его влиянием ливийцев, нумидийцев, прочих африканцев. В то же время небывалый подъем Рима во многом связан с обогащением латинской цивилизации за счет достижений Карфагена и эллинизма. В Средние века эта традиция была продолжена Византией на востоке Европы, страной Aль-Андалус (мусульманской Испанией) – на западе и юге Европы.
«Постоянное раздвоение между восточным и западным миром, скрещение азиатских и европейских влияний… смешение греко-римских и восточных традиций» – такова характеристика Византии, пытавшейся возродить единство Средиземноморья под своей эгидой.
Особенно значительно влияние Византии было среди славян и восточных средиземноморцев (жителей Сирии, Ливана, Палестины), которые обязаны этой «западно-восточной» империи очень многим – своей принадлежностью православному христианству, иконописью (вообще живописью), церковной архитектурой, некоторыми нормами морали, политической культуры и эстетики «вместе с искусством варить стекло и строить храмы»[182]. Столь же синкретична была и цивилизация страны аль-Андалус на Иберийском полуострове, где, по мнению Анри Терраса, «религия Востока утвердилась и жила в стране, имевшей те же структуры, что и ее соседи в Западной Европе», а испанский историк Санчес Альборнос как бы подтверждает это тем, что «разницы между Кордовой и Багдадом нередко было больше, чем между Кордовой и Парижем».
Какими бы спорными ни казались эти тезисы, следует, очевидно, учесть мнение крупнейшего знатока этого вопроса Пьера Гишара, который прямо указывает на синтез «восточных» и «западных» структур в арабо-андалусском обществе, где романский язык употреблялся даже в мечетях и при дворе халифов наряду с арабским, где положение женщины было сопоставимо с таковым «на христианском Западе той эпохи», а их уровень культуры был намного выше, где органично (до XII–XIII веков) сосуществовали общины трех религий и гораздо большего числа этносов (включая «сакалиба» – принявших ислам славян), где «асабийя» (кланово-племенной патриотизм) сочеталась с римско-византийскими и вестготскими порядками городской жизни[183].
И если, когда речь идет о Византии, обычно приходится доказывать ее тесную связь с Востоком, подчеркивать ее «четко выраженный восточный колорит», то еще сложнее увидеть западные корни, западный социокультурный субстрат в аль-Андалусе, арабо-исламской стране, где уже в IX веке епископ Кордовы сетовал: «Христиане даже забыли свой язык <…> Наоборот, бесчисленны те, которые умеют выражаться по-арабски в высшей степени изящно»[184].
В аль-Андалусе постепенно формировалась совершенно новая народность смешанного происхождения, отличавшаяся этноконфессиональным плюрализмом. Реконкиста и попытка вторгшихся на полуостров берберов Магриба дать ей отпор нарушили этот процесс: с XII века началось массовое бегство из аль-Андалуса иудеев и христиан-мосарабов (от «мустаараб», т. е. арабизированный), обвиненных в помощи «неверным». Тем не менее плюралистичность цивилизации аль-Андалуса и пестрота населения страны сохранялись до самого ее исчезновения в 1492 году. Думается, прав Игнатий Юлианович Крачковский, говоривший об Иберийском полуострове: «Здесь прошлое дает нам яркий пример шаткости границ между Востоком и Западом, когда речь идет о развитии мировой культуры»[185]. Вклад аль-Андалуса в эту культуру пока еще не оценен в полной мере, несмотря на труды Хуана Вернета и Монтгомери Уотта[186].
Византия и аль-Андалус, разделенные водами Средиземного моря, поддерживали, тем не менее, регулярные контакты. Во-первых, даже потеряв свои владения на Ближнем Востоке, византийцы сохраняли там определенное культурное, экономическое и даже религиозное (среди христиан) влияние, особенно в Сирии. Это передалось и в аль-Андалус, где правили сирийцы Омейяды, которые Средиземное море называли «Сирийским», а свою столицу Кордову – «вторым Багдадом» или «западным Константинополем». Между Византией и аль-Андалусом имели место и торговые сношения. Из Византии в аль-Андалус везли мрамор и изделия из него (например, 140 колонн для резиденции халифа под Кордовой), а среди 10 тысяч строителей были мастера из разных стран, особенно из Египта. Предпринятые уже в ХХ веке раскопки этого омейядского «Версаля», как и других дворцов и замков аль-Андалуса, дали археологам основания говорить о гораздо большем, чем предполагалось ранее, влиянии искусства Византии и Сирии на культуру Кордовского халифата[187]. Существовали между обоими культурными центрами Средиземноморья IX–XI веков и связи интеллектуального характера, поддерживавшиеся нередко через еврейских купцов, христианских и мусульманских паломников.
Войны и работорговля с Византией (особенно в Италии и на островах Средиземноморья до Х века) обеспечивали приток рабов и военнопленных, среди которых преобладали служившие византийцам славяне (в том числе из Киевской Руси, направленные при княгине Ольге в 949 году, а затем – императором Никифором Фокой в 963–964 годах против арабов на Кипре, Крите и Сицилии). Эти славяне, принимая ислам, селились на Сицилии целыми кварталами, в которых кордовские правители набирали для себя гвардию «сицилийских молодцов». В X–XI веках из их среды в аль-Андалусе выдвинулось немало губернаторов и даже независимых правителей, опиравшихся на военных и чиновников из своей общины, ставшей влиятельной в стране[188].
Анри Пиренн пишет: «В империи не было деления по принадлежности к Азии, Африке или Европе. Даже при наличии разных цивилизаций у всех была единая, общая средиземноморская основа. Мы можем обнаружить одни и те же порядки, правила, манеры и привычки, одни и те же вероисповедания на различных частях средиземноморского побережья, где ранее уже существовали такие известные цивилизации, как древнеегипетская, тирская и карфагенская.
Торговое судоходство в Средиземноморском бассейне было сконцентрировано в его восточной части. Сирийцы, или те, кого таковыми считали, были ведущими мореплавателями и торговцами в Восточном Средиземноморье. Именно благодаря им такие товары, как папирус, специи, слоновая кость и изделия из нее, а также изысканные дорогие вина попадали даже в самые отдаленные места, например Британию.
Из Египта везли дорогие тончайшие ткани. Сирийские землячества-колонии можно было встретить по всему Средиземноморью, а половину населения такого порта, как Марсель, составляли греки. Кроме сирийцев во всех средиземноморских городах можно было встретить и евреев, которые также селились там небольшими общинами. Они были мореплавателями, торговыми посредниками, банкирами (ростовщиками и менялами), и их влияние в экономической жизни было в то время так же велико, как влияние Востока в искусстве и религии. Так, именно с Востока прибыли на Запад по морю аскеты; таким же путем пришли с Востока христианство и традиция носить митру – богато украшенный головной убор, надеваемый во время богослужения представителями высшего православного духовенства и некоторыми заслуженными священниками» [189].
«Вторжения германцев не уничтожили средиземноморское единство античного мира; они также не оказали сколько-нибудь существенного влияния на римскую культуру, поскольку она продолжала существовать в V в. уже после окончательного распада Западной Римской империи»[190].
Германские вторжения носили разрушительный характер и вызвали общественные потрясения, но в то же время они не привнесли ничего принципиально нового ни в общественный строй и общественные порядки, ни в хозяйственную жизнь и экономическое устройство общества, ни в язык, ни в основные общественные институты. Pимляне, столкнувшись с германцами и прочими «варварами», описывали северян как отвратительно белокожих и светловолосых, похожих на болотные привидения, а не на нормального красивого человека, который, видимо, должен быть смугловат. Средиземноморская цивилизация выжила и сохранилась.
Главными очагами культуры являлись именно те районы, которые были расположены на побережье Средиземного моря, и именно отсюда стали распространяться такие новые для того времени явления, как монашество, обращение англосаксов в христианство, распространение скифско-причерноморского, или варварского, искусства и т. д.
Благотворное и созидательное влияние шло с Востока: Константинополь был тогда крупнейшим мировым центром во всех отношениях. В 600 г. картина мира была такой же, как и в 400-м: глубоких изменений внутреннего содержания не произошло.
Причиной разрыва с античной традицией стало быстрое и неожиданное распространение ислама в результате вторжений арабов-магометан. В итоге Восток был окончательно отделен от Запада и средиземноморскому единству пришел конец. Такие регионы, как Северная Африка и Испания, всегда являвшиеся частью западного сообщества, отныне оказались в орбите Багдада и тяготели именно к нему. Здесь появилась другая религия и совершенно иная по сравнению с предыдущей культура. Западное Средиземноморье, превратившись в «мусульманское озеро», перестало быть тем главным средством торгового и культурного обмена, коим оно всегда было[191].
Запад оказался в блокаде и был вынужден опираться на собственные силы и ресурсы. Он был вынужден развиваться, замкнувшись в самом себе. Впервые в истории мировая ось сместилась от Средиземноморья на север. Упадок, в который погрузилась монархия Меровингов, привел в результате к появлению новой династии – Каролингов, корни которой уходили на пронизанный германским влиянием север Европы.
Папа римский вступил в союз с новой династией, порвав с императором Византии, который, будучи поглощен борьбой с арабами-магометанами, не мог более обеспечить Риму реальную защиту. И далее церковь действовала в соответствии с новым сложившимся порядком вещей.
В Риме и в созданной им империи у церкви не было никаких противников и конкурентов. Власть и влияние церкви еще более усиливались оттого, что государство, в первую очередь королевская власть, оказалось не в состоянии управлять и позволило поглотить себя феодалам, что стало неизбежным следствием экономического упадка и регресса, который переживало общество.
Все последствия этих перемен можно было со всей наглядностью наблюдать после смерти Карла Великого. В Европе, где главенствующую роль теперь играли церковь и феодалы, сложился вполне определенный общественный порядок, который лишь слегка видоизменялся в различных ее районах. Европа явила свой новый лик. Начинались – используя традиционный термин – Средние века. Переходный период затянулся. Можно сказать, что он продолжался сто лет – с 650 по 750 г. И именно в ходе этого периода анархии и потрясений античная традиция исчезла и обнаружились новые элементы.
И это развитие событий получило логическое завершение в 800 г., когда была создана новая империя, что подтвердило разрыв между Западом и Востоком. Запад получил новую Римскую империю – и это является убедительным свидетельством разрыва со старой империей со столицей в Константинополе, которая по-прежнему продолжала существовать[192].
Арабское завоевание Испании
Появление ислама вдохнуло колоссальные для того времени силы в кочевников Аравии. Из этих мест никогда не ожидали серьезной опасности ни государства Ирана, ни Римская империя.
Теперь же отсюда начались великие завоевания магометан, стремительно, на крыльях новой религии покорявших провинции восточной части империи. К 636 г. окончательно пала богатейшая Сирия, спустя 2 года – Иерусалим, Месопотамия и Иран, а чуть позже и Египет также были приведены под контроль халифата. Настала очередь всей северной Африки, и это дело xалифат решил к 689 г., когда окончательно пал Карфаген.
Не взяли лишь небольшой город Сеута на побережье у Гибралтара, но и это было уже вопросом времени. Наместник халифа Муса ибн-Нусайр подчинил местных берберов и привел их к исламу. Чтобы добиться их покорности, Муса обещал им участие в арабских походах и несметные сокровища. По легенде, король управлявших Испанией вестготов Родриго нанес незадолго до этого смертельную обиду правителю Сеуты Юлиану, и тот, жаждавший мести, предложил помощь и флот арабам. Дать берберам возможность грабежа, тем самым выполнив обещания, и решить вопрос с Юлианом – это было подарком судьбы для Мусы. 7 000 берберов стали основой войска для похода, который вначале планировался как всего лишь грабительский[193].
А что в то время было по ту сторону Гибралтара, где совсем не ожидали подобного нападения? Пиренейский полуостров еще в V веке захватили вестготы, ставшие высшей военно-административной властью. Воинами они были лучшими, чем политиками, – за два столетия вестготы не сблизились с местным населением, даже сумели еще больше от него обособиться и вызвать раздражение. Военная сила позволяла им оставаться на вершине общества, на которое они смотрели с презрением.
Даже браки с местными вестготы не практиковали. Романо-иберийцы, старая римская знать, баски и астуры помнили и наглядно видели, что вестготы здесь захватчики, лишь пользующиеся достижениями романской цивилизации. Поэтому как только пришли арабы, местное население предоставило вестготам возможность самим разбираться с сильным врагом. Не было единства и среди самих вестготов, которыми правил король Родриго, некоторое время назад силой и без права захвативший власть. Подлинной поддержкой окружения он не пользовался[194].
В 711 г. арабо-берберское войско, возглавляемое Тариком ибн-Зиядом, высадилось в Испании и грабило побережье. Видя, как легко достаются слава и сокровища, Муса дал подкрепление – не менее пяти тысяч воинов. Эта сила уже хотела не просто грабежа, но закрепления на столь щедрой земле. Тем временем Родриго в Толедо собрал армию до 33 000 человек. На первый взгляд, арабы не могли рассчитывать на серьезный успех[195].
Армии сошлись 19 или 23 июля 711 года у реки Гвадалете. О ходе битвы известно немного. Братья Родриго покинули своего политического конкурента, видимо рассчитывая за счет грабителей, которые все равно скоро уйдут, решить эту проблему. Арабские историки рисуют героическую картину того, как был убит король Родриго. Ахмед аль-Маккари писал: «Тарик заметил Родерика, он сказал своим приближенным: «Это король христиан» и бросился в атаку со своими людьми. Воины, окружавшие Родерика, были рассеяны; видя это, Тарик прорвался через ряды врагов, пока не достиг короля и не ранил его мечом в голову, и не убил его, когда люди Родерика увидели, что их король пал и его телохранители рассеяны, отступление стало всеобщим и победа осталась за мусульманами». Лишенное лидера войско не оказало настоящего сопротивления и было разбито[196].
Верно этот эпизод описан или все происходило иначе, неизвестно. Точно одно – христиане-вестготы потерпели полное поражение. На следующий год в Испанию прибыло еще 18 000 арабов, и начался захват полуострова. Местное население не начало масштабную борьбу с арабами. Города сдавались один за одним, где сразу, где после осады. За пять лет магометане установили контроль над большей частью Испании, лишь баски и астуры оказывали еще более-менее серьезное сопротивление. Гибкая политика арабов позволила им сравнительно легко укрепиться там, где вестготы не проявили для этого мудрости – веротерпимость и налоговые послабления склонили население на арабскую сторону[197].
Идущих на север арабов едва удалось остановить только на юге Франции в битве при Пуатье в 732 г., когда их смог разгромить Карл Мартелл, дед Карла Великого[198]. Если бы это удалось сделать вестготам в 711 г., возможно, арабы отказались бы от грабежа Испании и затем ее завоевания и у христиан был бы шанс сохранить свое влияние в Средиземном море в значительно большем объеме, чем после утраты Пиренейского полуострова.
Хотя о самой битве вследствие скудости источников в эту эпоху мы знаем крайне мало, исторические последствия этого события и арабского завоевания Испании исключительны по своему масштабу. Судьба многих исторических процессов (некоторые из них длятся до сих пор) была заложена здесь, арабами, в 710-е годы. Маленькие выжившие христианские королевства Испании боролись с арабами еще много столетий, последний правитель магометан был повержен и изгнан только в 1492 году королем Фердинандом II и королевой Изабеллой I[199]. Столетиями ориентированное на войну, испанское общество накопило колоссальный военный и идеологический потенциал, который теперь использовалo не для реконкисты, а уже для конкисты в Новом Свете.
Могущество Испанской империи будет невероятно огромным еще почти два столетия после 1492 г., когда первое плавание Колумба по-настоящему открыло миру Америку. Кроме того, арабское завоевание Испании завершило процесс установления мусульманами контроля над большой частью Средиземного моря[200]. Знаменитый бельгийский историк Анри Пиренн в своем фундаментальном труде «Империя Карла Великого и арабский Халифат» показал значение произошедшего в начале VIII века. Античный средиземноморский мир, основанный на единстве культуры, способов управления и морской торговле, был нарушен арабами.
Связь с античной традицией, культурная и экономическая, была разорвана. Экономика бывшей Западной Римской империи, управляемой германцами, основывалась также на росте городов и торговле. С приходом арабов в регион все большее значение приобретало сельское хозяйство и, следовательно, земельная аристократия. Ослабла королевская власть.
Начались Средние века. Сложились условия для феодального, средневекового облика Западной Европы – с политической раздробленностью, высокой ролью натурального хозяйства, специфической рыцарской военной организацией и пр. Кроме того, арабы лишили Константинополь возможности защитить и контролировать Папу Римского. В середине VIII в. отношения Папы и Константинополя была разорваны. Политическая жизнь вслед за хозяйственной смещалась с побережья Средиземного моря на север. Папы теперь зависели от поддержки франкского королевства.
Этот разрыв Восточной империи и Папы стал предвосхищением разделения христианства на западное и восточное, которое окончательно произошло в 1054 г., и началом их противостояния[201].
7
Рабство на Ближнем Востоке[202]
В 1842 году британский генеральный консул в Марокко, в рамках всемирных усилий своего правительства по отмене рабства или, по крайней мере, сокращению работорговли, обратился к султану этой страны с вопросом, какие меры, если таковые имеются, он предпринял для достижения этой желаемой цели.
Султан ответил в письме, выражавшем явное удивление, что «торговля рабами – это вопрос, в котором согласны все секты и народы со времен сыновей Адама… до наших дней». Султан продолжал, что он «не знал, что это запрещено законами какой-либо секты, и никому не нужно задавать этот вопрос, поскольку одно и то же очевидно как для высоких, так и для низких и требует не больше демонстрации, чем дневной свет».
Султан лишь немного устарел в том, что касается принятия законов об отмене или ограничении работорговли, и, к сожалению, он был прав в своей общей исторической перспективе. Институт рабства действительно существовал с незапамятных времен. Он существовал во всех древних цивилизациях Азии, Африки, Европы и доколумбовой Америки. Его приняли и даже одобрили иудаизм, христианство и ислам, а также другие религии мира.
На древнем Ближнем Востоке, как и везде, рабство засвидетельствовано из самых ранних письменных источников у шумеров, вавилонян, египтян и других древних народов. Первые рабы, по-видимому, были пленниками, взятыми на войне. Их количество было увеличено за счет других источников снабжения. В доклассической древности большинство рабов, по-видимому, было собственностью королей, священников и храмов и лишь относительно небольшая их часть находилась в частной собственности. Их нанимали возделывать поля и пасти стада их королевских и жреческих хозяев, но в остальном, по-видимому, они не играли большой роли в экономическом производстве, которое в основном оставалось за мелкими фермерами, арендаторами и садовниками, а также за ремесленниками и подмастерьями.
Рабское население также рекрутировалось путем продажи, оставления или похищения маленьких детей. Свободные люди могли продать себя или, чаще, своих детей в рабство. Они могли быть обращены в рабство за неплатежеспособность, как и лица, предлагаемые ими в залог. В некоторых системах, особенно в римской, свободные люди также могли быть обращены в рабство за различные правонарушения.
И Ветхий, и Новый Завет признают и принимают институт рабства. Оба время от времени настаивают на элементарной человечности раба и вытекающей из этого необходимости обращаться с ним гуманно. И в Библии, и в Талмуде евреям часто напоминают, что они тоже были рабами в Египте и поэтому должны обращаться со своими рабами прилично. Псалом 123, в котором обращение молящегося к Богу о милости сравнивается с обращением раба к своему хозяину, цитируется, чтобы повелеть рабовладельцам относиться к своим рабам с состраданием.
Стих в книге Иова даже был истолкован как аргумент против рабства как такового: «Разве сотворивший меня во чреве не сотворил его [раба]? И не один ли сотворил нас обоих?» (Иов 31:15). Однако это, вероятно, означает не больше, чем то, что раб – человек, а не просто движимое имущество. То же самое относится и к часто цитируемому отрывку из Нового Завета, что «нет ни Иудея, ни Еллина, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни женщины; ибо все вы одно во Христе Иисусе».
Эти и подобные стихи не означали, что этнические, социальные и гендерные различия не важны или должны быть упразднены, а только то, что они не давали никаких религиозных привилегий. Из многих намеков ясно, что рабство принимается в Новом Завете как факт жизни. Некоторые отрывки из Посланий Павла даже подтверждают это[203].
Так, в Послании к Филимону беглый раб возвращается к своему господину; в Ефесянам 6 долг раба перед своим господином сравнивается с долгом ребенка перед своим родителем, и рабу предписано «повиноваться господам твоим по плоти, со страхом, трепещите в простоте сердца вашего, как во Христе». Родителям и хозяевам также предписано проявлять внимание к своим детям и рабам.
Все люди истинной веры равны в глазах Бога и в загробной жизни, но не обязательно в законах человеческих и в этом мире. Те, кто не принадлежал к истинной вере – кем бы она ни была, – относились к другой и во многих отношениях более низкой категории. В этом отношении греческое восприятие варвара и иудео-христианско-исламское восприятие неверующего совпадают.
По-видимому, действительно были некоторые, кто выступал против рабства, обычно в том виде, в каком оно практиковалось, но иногда даже как таковoго. Говорят, что в греко-римском мире и киники, и стоики отвергали рабство как противоречащее справедливости, некоторые основывали свою оппозицию на единстве человеческого рода, а римские юристы даже считали, что рабство противоречит природе, только по «человеческому» закону. Нет никаких свидетельств того, что юристы или философы стремились к его отмене, и даже их теоретическая оппозиция подвергалась сомнению. Большая часть его касалась моральных и духовных тем – истинной свободы хорошего человека, даже когда он порабощен, и порабощения злого свободного человека его страстям. Эти идеи, повторяющиеся в иудейских и христианских писаниях, мало помогли тем, кто страдал от реальности рабства.
Филон, александрийский еврейский философ, утверждает, что еврейская секта фактически отказалась от рабства на практике. В несколько идеализированном описании ессеев он отмечает, что они практиковали форму первобытного коммунизма, разделяя дома и собственность и объединяя свои доходы.
Кроме того, «ни одного раба среди них нет, а все свободны, обмениваются друг с другом услугами, и они поносят владельцев рабов не только за их несправедливость в нарушении закона равенства, но и за их нечестие в аннулировании устава Природы, которая по-матерински родила и воспитала всех людей одинаково и создала их истинными братьями не только на словах, но и на деле, хотя это родство было смешано торжеством злобной алчности, которая вызвала отчуждение вместо симпатии и вражду вместо дружбы»[204].
Эта точка зрения, если ее действительно придерживались и применяли на практике, была уникальной для древнего Ближнего Востока. Евреи, христиане и язычники одинаково владели рабами и пользовались правами и полномочиями, предоставленными им их различными религиозными законами. Во всех общинах находились сострадательные люди, призывавшие рабовладельцев к гуманному обращению со своими рабами, и были даже некоторые попытки закрепить это законом.
Но институт рабства как таковой серьезно не подвергался сомнению и действительно часто защищался с точки зрения естественного закона или божественного промысла. Таким образом, Аристотель защищает состояние рабства и даже насильственное порабощение тех, кто «по природе рабы, которым выгодно управляться такой властью»; другие греческие философы высказывают аналогичные идеи, особенно о порабощенных пленниках из покоренных народов. Для таких рабство не только право; это также в их пользу.
Древние израильтяне не заявляли, что рабство выгодно рабам, но, подобно древним грекам, чувствовали потребность объяснить и оправдать порабощение своих соседей. В этом, как и в других вопросах, они искали скорее религиозную, чем философскую санкцию, и нашли ее в библейском рассказе о проклятии Хама. Примечательно, что это проклятие касалось только одной линии потомков Хама, а именно детей Ханаана, которых израильтяне поработили, когда завоевали Землю Обетованную, и не коснулось остальных.
Коран, как и Ветхий и Новый Заветы, предполагает существование рабства. Он регулирует практику учреждения и, таким образом, имплицитно принимает ее. Пророк Мухаммед и те из его сподвижников, которые могли себе это позволить, владели рабами; некоторые из них приобрели больше путем завоевания.
Но кораническое законодательство, впоследствии подтвержденное и развитое в Священном Законе, внесло два важных изменения в древнее рабство, которые должны были иметь далеко идущие последствия. Одним из них была презумпция свободы; другой – запрет на порабощение свободных людей, за исключением строго определенных обстоятельств.[205]
Коран был обнародован в Мекке и Медине в XVII веке, и фоном, на котором следует рассматривать кораническое законодательство, является древняя Аравия. Арабы практиковали форму рабства, подобную той, которая существовала в других частях древнего мира. Коран признает этот институт, хотя можно отметить, что слово ‘абд (раб) используется редко, чаще его заменяют некоторым перифразом, таким как ма малакат айманукум, «то, чем владеют твои десницы».
Коран признает основное неравенство между господином и рабом и права первого над вторым (XVI:71; XXX:28). Он также признает сожительство (IV:3; XXIII:6; XXXIII:50–52; LXX:30). Он призывает, не приказывая, к добру к рабу (IV: 36; IX: 60; XXIV: 58) и рекомендует, не требуя, его освобождения путем выкупа и дарением свободы.
Освобождение рабов рекомендуется как для искупления грехов (IV:92; V:92; LVIII:3), так и в качестве акта простой благотворительности (II:177; XXIV:33; XC:13). Он увещевает господ позволить рабам зарабатывать или покупать свою свободу. Важным отличием от языческих, хотя и не иудейских или христианских, обычаев является то, что в строго религиозном смысле верующий раб теперь является братом свободного человека в исламе и перед Богом и выше свободного язычника или идолопоклонника (II: 221).
Этот момент подчеркивается и разрабатывается в бесчисленных хадисах (преданиях), в которых Пророк цитируется как призывающий к уважительному, а иногда даже равному обращению с рабами, осуждающий жестокость, суровость или даже невежливость, рекомендующий освобождение рабов и напоминающий мусульманам, что его апостольство заключалось как в освобождении, так и в рабстве.
Хотя рабство сохранилось, исламское устроение значительно улучшило положение арабского раба, который теперь был не просто движимым имуществом, но и человеком с определенным религиозным и, следовательно, социальным статусом и определенными квазиюридическими правами.
Ранние халифы, правившие исламским сообществом после смерти Пророка, также внесли некоторые дальнейшие реформы гуманитарного направления. Порабощение свободных мусульман внесло сумятицу в обществе и в конечном итоге запрещено. Для свободного человека было объявлено незаконным продавать себя или своих детей в рабство, и больше не разрешалось порабощать свободных людей ни за долги, ни за преступления, как это было принято в римском мире и, несмотря на попытки реформ, в некоторых частях Рима и в христианской Европe по крайней мере до XVI века. Фундаментальным принципом исламской юриспруденции стало то, что естественным состоянием и, следовательно, предполагаемым статусом человечества является свобода, точно так же, как основным правилом действий является дозволенность: разрешено то, что прямо не запрещено; тот, кто не известен как раб, свободен[206].
Это правило не всегда строго соблюдалось. Мятежников и еретиков иногда объявляли неверными или, что еще хуже, отступниками и обращали в рабство, как это делали с жертвами некоторых мусульманских правителей в Африке, которые объявляли джихад своим соседям, не обращая внимания на их религиозные убеждения, чтобы обеспечить юридическую защиту, прикрытие для своего порабощения. Но в целом, и уж точно в центральных землях ислама, при режимах высокой цивилизации правила соблюдались, и свободные подданные государства, как мусульмане, так и немусульмане, были защищены от незаконного порабощения.
Поскольку все люди были естественным образом свободны, рабство могло возникнуть только в двух случаях: (1) рождение от родителей-рабов или (2) попадание в плен на войне. Последнее вскоре было ограничено неверными, захваченными во время джихада. Эти реформы серьезно ограничили приток новых рабов. Брошенных и невостребованных детей больше нельзя было усыновлять в рабство, как это было обычной практикой в древности, а свободных людей больше нельзя было порабощать.
Согласно исламскому закону, рабское население могло быть завербовано, помимо рождения и захвата, только путем ввоза, либо путем покупки, либо в виде дани из-за исламских границ.
В первые дни быстрых завоеваний и экспансии священная война принесла обильный приток новых рабов, но по мере того, как границы постепенно стабилизировались, этот приток сократился до простой струйки. Большинство войн теперь велось против организованных армий, таких как византийские или другие христианские государства, и с ними военнопленных обычно выкупали или обменивали.
В пределах исламских границ ислам быстро распространился среди населения недавно приобретенных территорий, и даже те, кто оставался верным своим старым религиям и жил под покровительством мусульман (зимми), не могли, если бы они были свободны, быть законно порабощены, если они нe нарушали условия зимми, договора, регулирующего их статус, например, восстать против мусульманского правления или помогать врагам мусульманского государства или, по мнению некоторых авторитетов, удерживать уплату хараджа или джизьи, налогов причитающиеся с зимми мусульманскому государству.
В исламской империи гуманитарная направленность Корана и ранних халифов в какой-то степени противостояла другим влияниям. Примечательным среди них была практика различных завоеванных народов и стран, с которыми мусульмане столкнулись после своей экспансии, особенно в провинциях, ранее находившихся под римским правом. Этот закон, даже в его христианизированной форме, все еще был очень суровым в обращении с рабами[207].
Возможно, столь же важным был огромный рост рабского населения в результате сначала самих завоеваний, а затем организации обширной сети ввоза. Это привело к падению денежной стоимости и, следовательно, человеческой ценности рабов, а также к общему принятию более жесткого тона и более строгих правил. Но даже после ужесточения взглядов и законов исламская практика по-прежнему представляла собой значительное улучшение по сравнению с тем, что было унаследовано от античности, от Рима и от Византии.
Рабы были исключены из религиозных функций или из любой должности, связанной с юрисдикцией над другими. Их показания не были приняты во внимание в ходе судебного разбирательства. В уголовном праве наказание за преступление против человека, штраф или кровопролитие, было для раба вдвое меньше, чем для свободного человека. Хотя жестокое обращение вызывало сожаление, не было фиксированного шариатского наказания.
В том, что можно было бы назвать гражданскими делами, раб был движимым имуществом без каких-либо законных полномочий или прав. Он не мог заключать договор, владеть имуществом или наследовать. Если он подвергался штрафу, его владелец был ответственным. Однако в отношении прав он был явно выше, чем греческий или римский раб, поскольку исламские юристы, а не только философы и моралисты, принимали во внимание гуманитарные соображения.
Они устанавливали, например, что хозяин должен оказывать своему рабу медицинскую помощь, когда это необходимо, должен обеспечивать ему адекватное содержание и должен поддерживать его в старости. Если хозяин не выполнял эти и другие обязательства перед своим рабом, кади мог заставить его выполнить их либо продать, либо освободить раба.
Хозяину запрещалось переутомлять своего раба, и если он делал это до жестокости, он подлежал наказанию, которое, однако, было дискреционным и не предписывалось законом. Раб мог заключить контракт, чтобы заслужить свою свободу, и в этом случае его хозяин не был обязан платить за его содержание. Хотя теоретически раб не мог владеть собственностью, ему могли быть предоставлены определенные права собственности, за которые он платил фиксированную сумму своему хозяину.
Раб мог жениться, но только с согласия хозяина. Теоретически раб-мужчина мог жениться на свободной женщине, но это не одобрялось и на практике запрещалось. Господин не мог жениться на собственной рабыне, если предварительно не освободил ее. Исламский закон предусматривает несколько способов освобождения раба.
Одним из них было освобождение, совершавшееся посредством формального заявления со стороны хозяина и записываемого в свидетельстве, которое выдавалось освобожденному рабу. Освобождение раба включало в себя потомство этого раба, и юристы уточняют, что, если есть какая-либо неопределенность в отношении акта освобождения, раб имеет преимущество сомнения.
Другой метод – это письменное соглашение, по которому хозяин предоставляет свободу в обмен на фиксированную сумму. После заключения такого соглашения господин уже не имеет права распоряжаться своим рабом ни путем продажи, ни в дар. Раб по-прежнему подвержен определенным юридическим ограничениям, но в большинстве случаев фактически свободен.
Такое соглашение, однажды заключенное, может быть расторгнуто рабом, но не господином. Дети, родившиеся у рабыни после вступления в силу договора, рождаются свободными. Господин может взять на себя обязательство освободить раба в определенное время в будущем. Он также может обязать своих наследников освободить раба после его смерти. Юридические школы несколько расходятся в правилах, касающихся такого рода освобождения.
Помимо всего этого, зависящего от воли господина, существуют различные законные причины, которые могут привести к освобождению независимо от воли господина. Наиболее распространенным является судебное решение кади, приказывающее хозяину освободить раба, с которым он жестоко обращался. Особым случаем является умм валад, рабыня, которая рожает сына своему господину и тем самым приобретает определенные неотъемлемые юридические права.
Немусульманским подданным мусульманского государства, то есть зимми, на практике разрешалось владеть рабами; а христианские и еврейские семьи, которые могли себе это позволить, владели рабами и нанимали их так же, как и их мусульманские коллеги. Им не разрешалось владеть рабами-мусульманами; и если раб, принадлежавший зимми, принял ислам, его владелец по закону был обязан освободить или продать его. Евреям и христианам, конечно, не разрешалось иметь наложниц-мусульманок, и их собственные религиозные авторитеты обычно запрещали – не всегда эффективно – сексуальный доступ к своим рабыням[208].
Еврейские рабы, приобретенные в результате каперства в Средиземноморье и захваченные при набеге татар в Восточной Европе, часто были выкуплены и освобождены их местными единоверцами. Гораздо более многочисленные рабы-христиане – за исключением западноевропейцев, за которых можно было договориться о выкупе из дома, – по большей части были обречены остаться. Иногда рабовладельцы-христиане и евреи пытались обратить своих домашних рабов в свою религию.
Согласно раввинскому закону, евреи действительно должны были попытаться убедить своих рабов принять обращение с помощью обрезания и ритуального погружения в воду. Широко практиковалась форма полуобращения, при которой раб принимал некоторые основные заповеди и обряды, но не всю строгость Моисеева закона.
Согласно иудейскому закону, обращенного или даже полуобращенного раба нельзя было продать язычнику. Если владелец действительно продал его или ее, раб должен был быть освобожден. И наоборот, раб, отказавшийся даже от частичного обращения, должен был по истечении оговоренного промежутка времени быть продан язычнику.