Читать онлайн Наследие Рима. Том 2. Kрестовые походы бесплатно
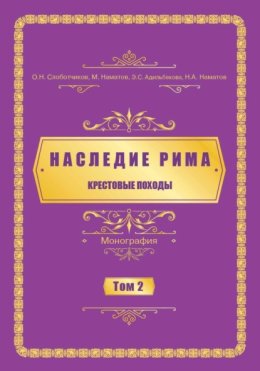
© Слоботчиков О.Н., Наматов M., Адильбекова Э.С., Наматов Н.А., 2024
© АНО ВО «УМЦ», 2024
Оглавление
Введение ...............................................................................5 1. Период, предшествовавший крестовым походам................... 15 2. Аббасидский Халифат: Введение в историю......................... 20 3. Средиземноморская граница: христианство лицом к лицу с исламом, 600–1050........................................................ 39 4. Средневековая геополитика: истоки джихада и исламские завоевания.................................................... 65 5. Краткая хронология крестовых походов.............................. 69 6. Средневековая геополитика: крестовые походы на Святую Землю................................... 77 7. Политические последствия крестовых походов.................. 110 8. Папа Урбан II – защитник Европы.................................. 130 9. Народный крестовый поход. Петр Отшельник.................... 138
10. Первый крестовый поход. Готфрид Бульонский, Раймонд IV граф Тулузский и Боэмунд I............................ 141
11. Основатель Иерусалимского королевства Балдуин I Иерусалимский............................................... 171
12. Укрепление завоевания Балдуинa II................................. 213
13. Баланс между франками и мусульманами. Фульк Иерусалимский, атабек Занги из Мосула................. 233
14. Второй крестовый поход: Мелисенда Иерусалимская.......... 252
15. Модель франкского короля Балдуинa III........................... 261
16. Первая экспедиция в Египет Амoри I................................ 274
17. К драме крестовых походов Балдуинa IV: Король Лепрос..... 285
18. Бедствие Тверии Ги де Лузиньян...................................... 304
19. Третий крестовый поход: Конрад Монферратский, Филипп II Август, Ричард I Львиное Сердце...................... 319
20. Шампань и Пуатевен: Амори II Тирский и Генрих II........... 341
21. Пятый крестовый поход.
Королевский рыцарь Иоанн де Бриенн.............................. 349
22. Паломничество без веры.
Странный переход Фредерика II....................................... 358
23. Крестовый поход поэтов:
Тибо IV (граф Шампани) и Филипп де Нантей.................... 388
24. Крестовый поход святого Людовика IX в Египeт и Сирию.... 391
25. Эпилог. Французская анархия и падение Сен-Жан-Д’акра… 408
26. Крестовые походы и арабо-мусульманский Восток.............. 419
27. Сельджуки.................................................................... 430
Заключение.
Ислам и христианский мир............................................. 444
Введение
Была ли такая вещь, как международные отношения, в Средние века? Ученые международных отношений (IR) обычно не обращали особого внимания на средневековую эпоху, но в своей новой книге «Теоретизация средневековой геополитики: война и мировой порядок в эпоху крестовых походов» Эндрю Лэтэм предлагает переосмысление позднесредневекового европейского государства и война1.
Автор имел в виду две аудитории, когда писал эту книгу, – средневековые специалисты по международным отношениям и ученые по международным отношениям о средневековье. На самом деле, его главная цель состояла в том, чтобы заставить сообщество международных отношений (IR) выйти за рамки системы и экзотизировать средневековье и признать, что международная система позднего средневековья была, по сути, международной системой и поэтому достойна изучения IR-ученых. Преобладающий здравый смысл (по крайней мере в IR) состоит в том, что это была эпоха нестатистской «феодальной гетерономии», радикально отличавшейся от ранней современной международной системы, которая заменила ее где-то между серединой XVI и серединой XVII веков.
Согласно этой точке зрения, позднесредневековый транслокальный порядок не был международной системой, правильно понятой по той простой причине, что он не включал суверенные государства, взаимодействующие в условиях анархии. Скорее, или так, как принято считать, позднесредневековый мир был населен широким спектром качественно различных типов политических единиц – Церкви, Империи, королевств, городов, городских лиг, феодовассальных сетей и т.д., – взаимодействующих в рамках различных иерархий (феодальной, правовой, космологический) и действующих в соответствии с неисключительной территориальной логикой.
С этой точки зрения суверенитет, ключевое требование для возникновения как государства, так и собственно государственной системы, не появился в истории до самого конца игры, когда он был «изобретен» ранними мыслителями Нового времени, такими как Никколо Макиавелли, Жан Боден или Томас Гоббс2.
В то время как некоторые ученые – например, Хендрик Спрейт – готовы проследить происхождение суверенного государства до экономического развития в XIII веке3.
Цель написания этой книги заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что это глубоко ошибочная характеристика позднесредневекового миропорядка, которая в современной историографической литературе в значительной степени неоправданна. К середине XIII века конвергенция новых или возрожденных дискурсов суверенитета, территориальности, публичной власти, «короны» и политического сообщества породила новый «глобальный культурный сценарий» суверенной государственности, который был принят в различных масштабах вокруг различных социальных сил и через различные институциональные образования в каждом уголке латинского христианского мира.
По всему региону политические власти – будь то имперские, королевские, княжеские или муниципальные – приняли новые законы, расширили и укрепили свой судебный потенциал, разработали новые и более эффективные способы получения налогов и других доходов, совершенствовали и расширяли механизмы государственного управления и делопроизводства, а также развивали все более обширные сети патронажа и влияния.
Эти события развивались по-разному в разных контекстах, что привело к появлению ряда отличительных типов форм государства: империя отличалась от королевств, таких как Швеция, Франция или Арагон, и они отличались не только друг от друга, но и от княжеств, таких как герцогство Бретань, города-государства, такие как Венеция, папские государства и государства в Прибалтике, управляемые Тевтонским орденом. Но это разнообразие не должно скрывать тот факт, что общий, исторически специфический сценарий государственности был принят в латинском христианском мире.
Выраженные на языке теории IR различные формы государства, которые кристаллизуются в течение этой эры, возможно, были структурно дифференцированы, но они были функционально изоморфны (с точки зрения их общего конститутивного идеала и его практического выражения). В конечном счете все они были позднеесредневековыми государствами, но тем не менее государствами. Попытки зарезервировать этот ярлык исключительно для таких королевств, как Англия и Франция, и охарактеризовать другие формы правления (империя, княжества и городские коммуны) как какие-то категорически разные (то есть как нечто иное, чем государства), означают неправильно понять «состояние государства» в позднем Cредневековье.
Что касается средневекового сообщества, тo цели были несколько менее амбициозными: ввести теоретическую основу (конструктивизм), способную более полно объяснить некоторые основные моменты, о которых Джон Уоттс написал в своей замечательной книге «Создание политики»4.
Аргумент Уоттса в этой книге заключается в том, что процесс формирования европейского государства можно изучать как политический феномен, не обращаясь к какой-либо «более глубокой» социально-экономической динамике или причинам. Это хорошо, насколько это возможно, но мы думаем, что утверждение о том, что создание политик может быть изучено таким образом, требует разработки политических процессов, посредством которых фактически создаются политики и их производная «международная» система. В своей книге автор адаптировал концептуальные рамки конструктивизма, акцентировал внимание на том, что является ключевым фактором, способствующим возникновению того, что мы согласились ошибочно охарактеризовать как «суверенное государство» (фактически триумф королевства) в начале современной эры: появление конститутивного идеала «корпоративно-суверенное государство», которое стало доминировать в политическом воображении латинского христианского мира к XIII веку.
Kоролевство одержало победу над другими формами политики в XVI веке по той простой причине, что основополагающий дискурс корпоративно-суверенного государства, возникший в XIII веке, дал преимущество этой политической форме перед всеми остальными, что в конечном итоге позволило этим принятием сценария королевства вытеснить или подчинить тех, кто принимает конкурирующие сценарии государственности.
По сути конституционный идеал корпоративно-суверенного государства отличал королевство от других господств и княжеств и наделял его законным требованием юрисдикции над всеми другими временными полномочиями в рамках воображаемых «исторических» границ королевства.
В результате, когда эти различные проекты государственного строительства столкнулись, королевство почти всегда имело существенное нормативное преимущество перед своими конкурентами: будь то в контексте судебного разбирательства, дипломатии, посредничества или войны, претензии королевства почти всегда считались более законными, чем те, кто обладает меньшими полномочиями.
Конечно, это преимущество не всегда приводило к немедленному политическому успеху; материальная способность обеспечивать исполнение или защиту юрисдикционных требований также имела большое значение, равно как и способность мобилизовать экономические и военные ресурсы для выполнения этих требований.
И даже когда королевствам действительно удавалось привести другие государства в свои конституционные рамки, они часто (вначале, по крайней мере) делали это на основе политических сделок, которые оставляли подчиненному государству существенные «свободы» и права на самоуправление. Тем не менее, пересматривая историю «создания политик» между XII и XVI веками, трудно избежать вывода о том, что генотипически превосходящее королевство «суждено» рано или поздно одержать победу над своими конкурентами.
Создание идеала королевства как превосходящего его конкурентов прилагало усилия этих государств, чтобы утвердить юрисдикцию и суверенитет со степенью легитимности, которая сделала их трудными и в конечном счете невозможными противостоять реальности. Со временем именно нелинейная разработка конститутивного идеала корпоративно-суверенного государства привела к триумфу так называемого суверенного государства и рождению связанной с ним международной системы или общества в XVII веке.
Значительная часть этой книги посвящена тому, как применять теорию международных отношений к религиозным войнам, таким как крестовые походы. Почему крестовые походы были «значительной неразрешенной загадкой для теории международных отношений»?
Средневековая геополитика
Выступая за «примат политического» при обсуждении процесса создания политик, мы также приводим аргумент в книге о «примате религиозного», когда речь идет о объяснении действий Церкви. Церковь в эту эпоху не была мотивирована прежде всего властно-политическими соображениями, логикой или отношениями общественной собственности; скорее, она была мотивирована определенным набором религиозных представлений о себе и сопутствующим набором основных ценностей и интересов. В то время как другие мотивы пересекались с этими основными ценностями и интересами и отражали их, они явно носили вторичный характер.
Основным условием возможного возникновения религиозных войн в позднесредневековом латинском христианском мире был религиозно-личностный комплекс религиозного учреждения и структурные антагонизмы, которые этот комплекс порождал с другими действующими лицами внутри и вне латинского христианского миропорядка. Точно так же, в то время как короли, принцы и лорды могли в некоторой степени иметь более приземленные интересы, связанные с погоней за богатством, их основные мотивы «взять крест» носили религиозный характер. Язык религии – в том смысле, который имел в виду Квентин Скиннер, когда он придумал фразу «язык политика», которая использовалась для объяснения и оправдания крестового похода со стороны временных акторов, не была ни дымовой завесой для «более глубоких» мотивов (политических или социально-экономических), ни своего рода ложного сознания5. Вместо этого, как скинеровский «дискурс легитимности» ограничивал участников, так и ядро вендской идентичности, которое мотивировало их.
Конечно, Эндрю Лэтэм не первый ученый, который призывает религию привлекать к изучению международных отношений. Как прокомментировали Элизабет Шакман Херд6 и др., область IR слишком долго действовала на основе некоторых очень современных (и в значительной степени неисследованных) светских предположений – предположений, которые в значительной степени ввели в заблуждение по поводу роли религиозных убеждений и идентичности в глобальной политической жизни.
Тем не менее, один из мотивов при написании этой книги заключался в том, чтобы добавить к этой растущей тенденции больше внимания уделить тому, как религиозные убеждения и идентичность являются субъектами на этапе международных отношений. Наш анализ крестовых походов демонстрирует, как отчетливо религиозный «комплекс идентичности-интереса» сделал возможным религиозные войны позднего Средневековья.
Конечно, это очень конкретный исторический случай, и Эндрю Лэтэм постарался представить его как таковой. Но нет никаких оснований полагать, что религиозная идентичность (вместе со всеми вытекающими отсюда последствиями) не мотивирует отдельных и коллективных субъектов на международной арене столь же мощно сегодня, как и тысячелетие назад.
Действительно, как убедительно демонстрируют работы таких ученых, как Оливье Руа7 и Дэвид Кук8, историческое и современное исламистское политическое насилие – в качестве одного особенно яркого примера – становится возможным и мотивируется конкретной религиозной идентичностью и связанным с ней политическим проектом. Как и крестовые походы, это насилие не может быть убедительно объяснено обращением к «скрытой логике» способа производства, трансисторической логике самопомощи при анархии или динамике «второго образа», которые объясняют насилие с точки зрения склонных к войне патологий определенных субъектов на международной арене.
Крестовые походы не были результатом феодальных отношений социальной собственности, властно-политических расчетов или присущей воинственности латинских христиан; и современный глобальный джихад также не является результатом экономической отсталости в исламском мире, «исламофобии» и антимусульманских настроений на Западе или воинственности ислама или мусульман.
В обоих этих случаях источник религиозной войны имеет два аспекта: во-первых религиозный комплекс идентичности-интереса, который конструирует «Самость» как божественно вдохновленный инструмент «реформ» и «справедливости» а «Другой» – в некотором роде по своей сути антагонистичен этому «священному» проекту;
во-вторых, суть в том, что в обоих случаях язык религии не был культурныи дискурсом, который конструирует религиозную войну как законный институт, а религиозного воина – как законного участника (по крайней мере, в глазах значительной части соответствующего населения).
Мы не хотели бы слишком углубляться в параллели. Но суть в том, что в обоих случаях язык религии не был дымовой завесой для реальных (социально-экономических) мотивов; это было настоящeй религиозной идентичностью. Плохая новость заключается в том, что мы, специалисты по международному отношению, до сих пор не воспринимали религиозную идентичность как причинно-следственные связи, особенно когда дело касается объяснения организованного насилия; хорошая новость заключается в том, что, поскольку у конструктивистских ученых-исследователей в области IR уже есть инструменты для решения вопросов, связанных с взаимосвязью интересов и интересов, барьеры для «привлечения религии к международным отношениям» являются относительно низкими.
Крестовые походы
«Крестовые походы оказали решающее влияние как на формирование западноевропейского взгляда на исламский мир, так и на выработку мусульманского восприятия Запада. В результате стереотипный образ старого «врага» глубоко укоренился и потому должен быть извлечен на свет и тщательно изучен, чтобы быть понятым и откорректированным. Нет никаких сомнений, что пришло время уравновесить западноевропейский подход мусульманским взглядом на события Крестовых походов9.
Райли-Смит верно определяет суть проблемы, когда пишет, что история латинского Востока была бы иной, если бы исламоведческим исследованиям было уделено должное внимание: «Удивительно, насколько второстепенными они до сих пор оказывались: сколько историков Крестовых походов побеспокоились о том, чтобы выучить арабский?»
Далее Райли-Смит также критикует и позицию самих ученых-исламоведов, «большинство из которых не придают Крестовым походам и латинским поселениям особого значения». Таким образом, обе стороны должны быть лучше информированы. Несомненно, что многое может быть сделано современными историками мусульманского Средневековья, занимающимися периодом Крестовых походов.
Подобные изыскания могли бы пролить свет на целый ряд исторических проблем в различных областях: военной истории, в истории религиозно-политических систем и эволюции пограничных сообществ. Но прежде всего это вопрос формирования двусторонних социокультурных отношений между Ближним Востоком и Западом, отношений, которые во многом сохранились вплоть до настоящего времени.
Необходимо учитывать ту роль, которую сыграл восточный мусульманский мир в целом, в особенности принимая во внимание военную и идеологическую роль тюрок, незадолго до этого обращенных в ислам, а также наследие империи Сельджуков, сохранившееся в Сирии и Палестине.
Хотя арабы-мусульмане сегодня нисколько не сомневаются в том, что почти все великие воины джихада (муджахидун), которые в конце концов одержали победу над крестоносцами, – Зенги, Hyp ад-дин, Бейбарс, – были тюрками, этот факт не получил должного признания. Bероятно, из-за нескольких веков господства турок-османов в арабском мире, которое началось вскоре после Крестовых походов. Арабы Леванта традиционно с отвращением относятся к этому периоду, и, возможно, здесь и кроется причина их нынешнего пренебрежения тюркскими подвигами в эпоху Средневековья. Стоит отметить, что неарабские ученые исламского мира – турки, курды, персы, пакистанцы и другие – никогда серьезно не занимались проблемой реакции средневековых мусульман на Крестовые походы. Таким образом, из современных мусульман изучением этого вопроса интересуются исключительно арабы».
Задача нашей монографии – сравнительный анализ Крестовых походов с точки зрения как западных, так и российских и турецких востоковедов.
В книге использованы материалы как западных, так и российских и турецких востоковедов: Кэрол Хилленбранд, Хью Кеннеди, Бернард Льюис, Эндрю Лэтэм, Исаак Фильштинский, Пал Фодор, Халиль Иналжик, Фуад Копрюлю, Тасин Джемиль, В.В. Наумкин, Стивен Рансимен и полный литературный перевод авторами книги Рене Груссе – «Эпопея крестовых походов».
1
Период, предшествовавший Крестовым походам
Первое столкновение Европы с исламом было результатом активной завоевательной политики молодого мусульманского государства, основанного после смерти пророка Мухаммада в 632 г.1 Столетие спустя мусульмане пересекли Пиренеи, завершив завоевание земель, простиравшихся от Северной Индии до Южной Франции. В течение последующих 200 лет перевес сил в отношениях между Европой и мусульманским миром целиком и полностью был на стороне мусульман, которые переживали период колоссального экономического подъема и впечатляющего культурного расцвета. Начиная с 750 г. государство Аббасидов формировалось на базе персидско-мусульманской культуры и системы управления, а в военном отношении все больше опиралось на армии тюркских невольников.
Во второй половине XI в. Сирия и Палестина стали ареной ожесточенной борьбы между тюрками-сельджуками, которые господствовали на востоке мусульманского мира, и Фатимидской империей с центром в Египте. Фатимиды, которые были шиитами-исмаилитами («семеричниками»), придерживались идеологии, которая была проклятием для суннитов, в особенности по той причине, что фатимидская идеология – динамичная и экспансионистская по своим целям – угрожала даже уничтожить суннитский халифат Аббасидов в Багдаде. Тюрки-сельджуки, недавно обращенные в ислам, стали сторонниками аббасидских халифов и суннитского ислама и начали длительные военные действия против Фатимидов. В военном отношении сельджукские правители все еще опирались на поддержку своих кочевых сородичей. У тюркских кочевников были сложные отношения с городами Ближнего Востока. Их вожди собирали с этих городов налоги и, вступая таким образом в контакты с оседлой культурой, часто прельщались некоторыми, по крайней мере внешними, атрибутами оседлых правителей. Отношение городского населения к кочевникам было противоречивым: горожане часто нуждались в них для военной защиты, но их чуждые обычаи вызывали раздражение и казались им разрушительными. В целом, недавнее вторжение множества кочевников-тюрок, вероятно, рассматривалось в рамках общемусульманской политики как необходимое зло, оправданное непревзойденным военным искусством пришельцев и их религиозным рвением. Известный мусульманский интеллектуал ал-Газали (ум. в 1111 г.) утверждает: «В этот наш век среди [различных] видов человеческих существ именно тюрки обладают силой… Если случится в любой области земли какой мятеж против этого блистательного государства [Сельджуков], не сыщется среди них [тюрок] ни одного, кто, видя раздор за его границами, не стал бы сражаться на Божьем пути, ведя джихад против неверных».Однако на деле переносить присутствие кочевых тюрок часто бывало непросто, и города и сельские районы Сирии и Палестины, которым вскоре предстояло подвергнуться нападениям крестоносцев, уже немало пострадали от рук туркменов (то есть тюрок-кочевников) и успели также послужить ареной для продолжительных военных конфликтов между армиями Сельджуков и Фатимидов. Политическая ситуация в соседней Анатолии (современная Турция) в этот период также была нестабильной вследствие потери Византией своих буферных территорий на востоке, которые прежде контролировались армянами, а теперь постепенно захватывались тюрками-сельджуками. Престижу Византийской империи был нанесен сокрушительный удар: она в 1071 г. потерпела поражение в битве при Манцикерте (Малазгирд) от тюрок-сельджуков под предводительством султана Алп Арслана. Это знаменитое сражение историки обычно принимают за отправную точку, после которой волны тюрок-кочевников, непрочно связанных с империей Сельджуков либо вовсе независимых от нее, ускорили начавшееся ранее проникновение на армянскую и византийскую территорию и ее оккупацию. Одна из групп тюрок под предводительством Сулаймана б. Кутулмиша, отпрыска правящего сельджукского рода, основала небольшое государство сначала с центром в Никее (Изник), а позднее – в Иконии (Конья), которому было суждено вырасти в сельджукский Румский султанат (Рум – арабское название Византии). Это государственное образование контролировало часть Анатолии до прихода монголов и после них. Другие тюркские группировки, в первую очередь Данишмендиды, соперничали с Сельджуками Рума в Анатолии, поэтому путь по суше из Константинополя в Сирию и к Святой земле, проходивший по их территории, стал опасен. Как подробнее будет показано в следующей главе, последнее десятилетие XI в. стало свидетелем все увеличивающейся политической слабости, нестабильности и разобщенности мусульман. В 1092 г. один за другим ушли из жизни сельджукский главный министр (вазир) Низам ал-мулк и сельджукский султан Малик-шах, затем в 1094 г. Aббасидский халиф ал-Муктади и фатимидский халиф ал-Мустансир, что создало чудовищный политический вакуум. Как на востоке мусульманского мира, так и в Египте разразилась ожесточенная борьба за власть, участники которой не задумывались о средствах. Братоубийственные междоусобицы среди Сельджуков лишили суннитов какого-либо эффективного руководства и привели к дальнейшей децентрализации Сирии и появлению там небольших, часто враждующих между собой городов-государств. Западнее, в Египте, Фатимидской империи уже не суждено было вернуть то превосходство, которым она обладала в первой половине XI в. Увязнув в охвативших ее внутренних распрях, она полностью сосредоточилась на внутренних проблемах.
Таким образом, мусульманский мир был не в состоянии отразить совершенно неожиданное и поистине беспрецедентное нападение со стороны Западной Европы, которое было уже не за горами. Первые призывы о помощи со стороны Византии достигли Западной Европы после битвы при Манцикерте в 1071 г., когда византийский император стал молить о военной поддержке в борьбе против тюрок-сельджуков, чтобы защитить восточные границы империи. В 90-х гг. XI в. византийский император Алексий Комнин вновь обратился за помощью к Европе, которая была тронута рассказами о том, как Сельджуки угнетают ближневосточных христиан. Были у папства и свои причины желать похода против мусульман. 27 ноября 1095 г. в Клермоне папа Урбан II произнес судьбоносную проповедь, призвав христиан выступить в поход, чтобы освободить святой город Иерусалим от мусульманского гнета. К 1097 г. объединенная христианская армия, возглавляемая лидерами из различных областей Западной Европы, достигла Константинополя и выступила в поход по суше через Анатолию к Иерусалиму.
Первый Крестовый поход, невзирая на разношерстное руководство, включавшее в себя столь разных предводителей, как Раймунд Тулузский, Боэмунд Сицилийский и Готфрид Бульонский, достиг значительных военных успехов еще на пути через Анатолию. В июне 1097 г. франки взяли столицу Сельджуков Никею (Изник) и нанесли тяжелое поражение сельджукской армии во главе с султаном Килидж (Кылыч) Арсланом в битве при Дорилее в июле того же года. Достигнув Антиохии в Северной Сирии, войска крестоносцев начали ее осаду в октябре 1097 г. Отделившиеся отряды крестоносцев под предводительством Балдуина Булонского двинулись к христианскому армянскому городу Эдессе и 10 марта 1098 г. захватили его, основав таким образом первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке, известное как графство Эдесское. Антиохия пала в июне 1098 г.; в январе следующего года было положено начало княжеству Антиохийскому под управлением норманнского предводителя Боэмунда из Сицилии. Главный приз, Иерусалим, был взят 15 июля 1099 г., и его первым правителем стал Готфрид Бульонский. Последнее крестоносное государство, графство Триполийское, было основано в 1109 г., когда после длительной осады этот город попал в руки франков. Итак, на Ближнем Востоке возникло четыре государства крестоносцев: Иерусалим, Эдесса, Антиохия и Триполи. Характерно, однако, что даже на первой волне успеха крестоносцы не смогли захватить ни один из главных городов региона – ни Алеппо, ни Дамаск.
В начале XII в. мусульмане периодически предпринимали попытки воевать с крестоносцами, но их действия не были согласованы между собой. Несколько экспедиций под командованием правителя Мосула Маудуда и по инициативе сельджукского султана Мухаммада были направлены с востока (в 1108, 1111 и 1113 гг.) Эти экспедиции получили мало поддержки со стороны правителей Алеппо и Дамаска, которые не приветствовали вмешательства Сельджуков. И действительно, очередная экспедиционная армия, направленная Мухаммедом в Сирию в 1115 г., была наголову разбита объединенными войсками крестоносцев и мусульман в битве при Данисе.
2. Аббасидский Халифат: Введение в историю1
Период Аббасидов начался с крупной политической революции в исламском мире. Движение аббассидов развилось в Хoрасане, обширной провинции, расположенной на северо-восточной границе исламского Ирана, в первой половине VIII века. Причины восстания против правления Омейядов в далеком Дамаске интенсивно обсуждались историками, и многое остается неясным.
Mы можем быть уверены, что это было движение среди всех мусульман этого региона, как арабских, так и неарабских, и оно было направлено на замену правительства Омейядов, которое считалось авторитарным и безразличным как к религии, так и к местным проблемам Хoрасанa, по правилу члена «Семьи Пророка», который откроет эру мира и справедливости.
Возможно из-за того что они прибыли из пограничной провинции и обладали достаточным военным опытом, xорасане смогли добиться успеха там, где их так много, прежде чем они потерпели неудачу: маршируя на запад через великие равнины центрального Ирана и через перевалы гор Загрос, они взяли Ирак в 132/749 г. и в то время как лидеры оставались в Ираке и Иране для укрепления своей позиции, на запад была отправлена экспедиция, чтобы победить деморализованную армию Омейядов и в конечном итоге убить последнего омейядского халифа, Марвана б. Мухаммед, в Египте, где он укрылся.
Военная победа оставила много политических проблем. Как и многим группам, пришедшим к власти на волне революционного энтузиазма, лидерам движения Аббасидов вскоре пришлось столкнуться с проблемами примирения революционных идеалов с практическими проблемами правительства. Первый вопрос был, конечно, в том, кто должен быть халифом. Революционная пропаганда просто призывала «избранного» из семьи Пророка, призыв, который мог объединить много разных интересов; но похоже, что лидеры движения в течение некоторого времени связывались с потомками дяди Пророка, Алькабаса, и когда победоносные армии приближались к Ираку с востока, семья Аббасидов переехала из южной Палестины, чтобы поселиться в Куфе.
Таким образом, в 132/750 году группа ведущих хорасанцев разыскала их и провозгласила одного Абу Д’Аббаса, известного в истории своим царственным названием аль-Саффа, первым хаббасидским халифом. Не все были удовлетворены этим, и кажется, что было значительное число людей, считавших, что только прямые потомки Пророка через его дочь Фатиму и Аби Талиба следует признать лидерами мусульманской общины.
На этом этапе они были слишком слабы, чтобы принять серьезный политический вызов, но они продолжали представлять идеологическую угрозу, которую Aббассиды никогда не могли полностью преодолеть; Те, кто чувствовал, что революция была предана, или что правительство Аббасидов не смогло создать по-настоящему справедливое и исламское общество, всегда могли рассчитывать на лидерство семьи Клэдов. Первому аббасидскому халифу и его брату и преемнику аль-Мансуру (136–158 / 754– 775) также пришлось столкнуться со второй проблемой – степенью силы халифа.
С одной стороны, были те, кто считал, что режим Омейядов стал слишком авторитарным и что мусульмане различных провинций империи должны эффективно контролировать свои собственные дела, в частности, что налоги, собираемые в провинциях, должны тратиться на стипендии мусульман, обосновавшихся там, идея, – которая восходит к дивану (список тех, кто имеет право на государственную зарплату) второго праведного халифа Кумара б. аль-Хаттаб.
С другой стороны, были те, кто считал, что халиф должен играть роль религиозного лидера, а также светского администратора, принимая решение об истинном толковании Корана и сунны (прецеденты, установленные пропиетами, которые использовались как основы закона) и, как представитель Бога на земле, обладает почти абсолютной властью. Разные представления о том, кто должен быть правителем, и полномочия, которыми он должен был пользоваться, были основными костями политического раздора при халифаx Аббасидов.
Со своей стороны Аль-Саффа и Аль-Мансур были полны решимости придерживаться среднего курса. Они не претендовали на полубожественные полномочия, что привело некоторых их сторонников к насильственному недовольству, но, с другой стороны, они создали сильное государство, в котором халиф был бы эффективным правителем и назначал губернаторов и собирал налоги со всех провинций исламского мира (кроме Испании, которая в это время была заброшена).
Таким образом, когда лидер движения Аббасидов в Хорасане Абу Муслим попытался обеспечить свое независимое правление над провинцией, аль-Мансур без колебаний убил его, несмотря на свои предыдущие заслуги перед династией. Хотя многие из его ведущих деятелей первоначально были выходцами из Хорасана, раннее государство Аббасидов прочно обосновалось в Ираке, и правители получали значительную часть своих доходов от богатой и процветающей сельскохозяйственной экономики Сава-да, «черной земли» или орошаемых земель нижнего Ирака.
Именно в северной части Савада, удобно расположенном рядом с двумя великими реками, Тигром и Евфратом, и дорогами к Хорасану через перевалы гор Загрос, аль-Мансур в 145/762 году основал свою столицу в Багдаде, которая должна была стать самым важным культурным центром в мусульманском мире в течение следующих трех веков.
Эта забота об Ираке и его доходах привела к развитию этой наиболее характерной черты администрации Аббасидов, консолидации высокообразованной элиты административных секретарей (куттаб), ученых раннего исламского мира, чья власть и богатство были основаны на том факте, что они одни могут управлять механизмом сбора доходов, от которого зависит режим.
Во многих случаях это были люди персидского или набати (арамейского) происхождения, чьи семьи были созданы в качестве мелких землевладельцев в Саваде с иранских времен, но которые теперь предоставили свои знания государству. Под руководством семьи Бармакидов2, самих восточно-иранского происхождения, куттаб стал важной политической силой во время правления третьего хаббасидского халифа, аль-Махди (158–169 / 775–785), и даже после драматического падения Бармакидов в 187 / 803 гг., во время правления Харуна аль-Рашидa (170–193 / 786–809), куттаб сохранял и усиливал свое влияние.
Эти люди были чрезвычайно важны для развития литературной культуры эпохи. Мало того что они сами были грамотными, как того требовала их профессия – а иногда, как Ибн Мукла (ум. 328/940), известные каллиграфы, – они также были важны как покровители поэтов и прозаиков. Язык управления был арабский, и это была арабская литература, которую куттаб составлял и которой покровительствовал; но многие из куттабов, таких как Бармакиды, были персидского происхождения и с некоторой ностальгией оглядывались на великое персидское имперское прошлое, видя в своих достижениях форму ответа на гордость арабов Кораном и ранней арабской культурой.
Таким образом, персидское наследие и, в меньшей степени, арамейский язык были включены в арабско-исламскую культурную традицию, где она оказалась чрезвычайно влиятельной и дала интеллектуальный фон для движения шуубийя в литературе, реакции среди арабов-неарабцев на арабские притязания на превосходство.
Баракидам в течение длительного времени удавалось позаботиться о захоронении и других должностях в администрации, чтобы получить такое богатство и политическую власть, что Аббасидский халиф Харун аль-Рашид видел их в качестве своих соперников и казнил последнего бармакида визира Фадля в 803 году. Последний другой «приемный брат» халифу – Харун аль-Рашид3.
В течение его семнадцати лет (786–803) в служении аббатствующего халифа Хорфина аль-Рашида бармакиды были движущей силой так называемый «иранизации» администрации, которая остановилась в исламском мире4. Конкуренты обвинили бармакидов в том, что они не заинтересованы в религии и демонстрируют националистические настроения. Один из признаков, подтверждающих это утверждение, заключался в том, что после последней вечерни с бармакидами и через некоторое время имя халифа на монетах больше не было отпечатано.
Халиф аль-Махди, под влиянием персидских традиций, ввел этот обычай в исламском мире. Бармакиды стали связующим звеном, связавшим более поздних персидских мудрецов и администраторов с древней персидско-сасанидской традицией. Усилия бармакидов не ограничивались только администрацией и политикой, они также имели культурное значение. Они покровительствовали ученым и поэтам и оставили после себя много построенных зданий. Одно из наиболее важных зданий было возведено отцом викария Яка, а позднее стало резиденцией халифа. Влияние Бармакидов не закончилось их падением, но продолжилось через чиновников, которые были завербованы во время их пребывания у власти5.
Во времена раннего Аббасидского халифата, когда в исламском мире начали переводить научныe труды с греческого и других языков, вклад Персии в исламскую цивилизацию увеличился. Тот факт, что научные фонды Аббасидов изначально располагались в восточной Персии, также мог иметь большое значение в этом контексте. Какое-то время этот вклад соответствовал националистическим направлениям мышления персидских мусульман. Этот «национализм», должно быть, также сильно повлиял на литературное выживание персидского языка. Это могло произойти в то же время, когда ислам утратил свой религиозный универсализм за счет усиления национального партизанства6.
Другим важным фактором, способствующим усилению персидского элемента, были многие первоначально персидские мыслители, которые участвовали в работе по развитию учения ислама как мировой религии. Это способствовало восприятию исламской доктрины как личностно-исламского синтеза огромного исламского царства7.
Доисламская персидская традиция все еще существовала в постисламской Персии. Ислам, введенный Омейядским халифатом в восточной части Персии, носил арабский характер. Омейяды имели тенденцию дискриминировать неарабских мусульман. Но после восстания против Омейядов, которое привело к захвату власти Аббасидами, образ ислама в этой области значительно изменился. Восстание против Омейядов следует рассматривать не только как стремление к политической власти, но также и как требование нового отношения к другим мусульманам, что означает, что все мусульмане будут равны независимо от их этнического происхождения.
Это было основой исламского «Bозрождения» в течение 700-х и 800-х годов и означало, что отношения и контакты между исламом и другими культурами были облегчены. Исламская экспансия продолжалась, и Персия и районы, расположенные далеко в Центральной Азии, стали теперь частью исламской империи. Однако в исламской Персии «иранизация» прошла задолго до «исламизации», и именно эта ирано-исламская традиция была передана в Центральную Азию. Дворцовый язык Сасанидов Дари стал языком общения на мусульманском Востоке8.
Даже тюркские султаны выбрали персидский язык в качестве придворного и административного языка. Восточная Персия в конечном итоге стала центром обучения, где развивались не только исламские учения, но эта область стала так называемой «персидской колыбелью». Ойкумена ирано-исламской литературы была издана при поддержке «национальных династий»9. Другим важным фактором в этом контексте является то, что specula principum были написаны в период, когда «подлинный» ислам утратил свою исключительность. Кроме того, писатели specula principum писали для турецких султанов, которые в результате своего соперничества с арабскими халифами хотели отметить свою независимость от арабской традиции и поэтому выбрали персидскую традици10.
До сих пор мы изучали мотивы писателей specula principum, когда дело доходит до выбора персидской традиции, но уместно также изучить, было ли какое-либо требование, явное или невысказанное, у турок, которые делали книгу наставлений именно персидской традицией. Мотивов, по которым турки выбирают персидскую традицию, может быть много. Возможно, одним из мотивов было то, что они не хотели придерживаться той же традиции, что и их соперники – Халифат в Багдаде. Другим, возможно, было долгое присутствие персидской традиции в регионе, а также тот факт, что все влияния от исламского мира до Центральной Азии проходили через восточную Персию.
Переход от кочевой жизни к городской жизни
На наш взгляд, еще одна причина, которую следует учитывать, – это поиск в меняющихся социальных условиях. Сельджуки претерпели глубокие изменения, когда они перешли от социальной структуры кочевого общества к городской жизни и новой роли великого правителя королевства. Правила кочевого общества в действительности не вписывались в новое общество, что означало, что нужно искать новые образцы. Хотя основная военная сила сельджуков была основана на кочевых племенах турок и туркмен, правящий класс изменил социальную структуру.
В этом отношении можно сослаться на теории другого исламского мыслителя, который имел дело с подобными условиями в Северной Африке XIII века, а именно на теории философа истории Ибн Халдуна о взлете и падении государств в Северной Африке в XII и XIII веках. Кратко, его теория заключалась в том, что взлет и падение государств были тесно связаны с переходом от кочевой жизни бедуинов к городской жизни. Эти изменения произошли, когда кочевые племена бедуинов с сильной племенной принадлежностью перешли в городскую жизнь.
Сильная племенная принадлежность заставила племя доминировать над другими племенами и в конечном счете свергла городское государство и сформировала новую династию со своим местом в городе. Изменившиеся социальные условия привели к снижению сплоченности племен, и, по мнению Ибн Халдуна, это способствовало коррупции и распущенности между старыми племенными воинами. Это, в свою очередь, привело к тому, что новые правители стали слабыми при правлении завоёванными народами с сильной племенной принадлежностью.
Несмотря на различия во времени и месте, сходства между условиями Персии 1000-x годов и Северной Африки в 1300-х годах поразительно многочисленны. Однако основное сходство заключается в переходе от одной социальной структуры к другой, где старые нормы на самом деле не соответствуют социальным условиям. Как и Северная Африка Ибн Халдуна, кочевые племена с сильными социальными связями захватывают власть в урбанизированных районах восточной Персии и позже расширяют свою империю на большие территории далеко за пределами Центральной Азии.
Этим новым правителям угрожают со всех сторон, частично со стороны конкурирующих кочевых племен, которые хотели бы захватить правящую власть, и частично из-за внутренних противоречий, Халифата в Багдаде и, что не менее важно, исмаилитов. В своей новой роли правителя городских обществ им пришлось помогать как персидской бюрократии, приспособленной к условиям городов, так и религии ислама, которая по своей природе была городской религией. И Аббасидский халифат и ceльджуки оказались под сильным персидским влиянием. Как и персидские цари, халиф был окружен полурелигиозной святыней и возвышался над подданными11.
Тюркский высший класс, говорящий по-тюркски, выбрал персидский язык в качестве придворного языка, и многие султаны носили имена, происходящие от персидского национального эпоса «Шах намэ» и персидскиx легенд12. Сeльджуки, которые сами были необразованными кочевниками, должны были полагаться на свою администрацию и «культурную политику», на персидских чиновников и интеллектуалов, что усиливало влияние персов на них13.
Таким образом, персы оказали дополнительное влияние на мусульманских правителей, особенно на сeльджуков. Но это не объясняет прославленного образа аль-Газали и других specula principum персидских царей14. Вопрос в том, могло ли быть, в случае с Аль-Газали, что его действия фактически были реакцией на преобладающие политические условия? В результате изменившейся политической ситуации он отказался от своих первоначальных политических идеалов халифата и теперь имел дело с султанами, которые мало уважали религиозные идеалы.
Исламские писатели specula principum могут рассматриваться как интеллектуалы, которые преодолели переход от одной социальной структуры к другой. Выбор новой модели пал на доисламскую Персию из-за ее длительного присутствия в Центральной Азии. Однако кредиты доисламской Персии получили исламскую форму, чтобы лучше сочетаться с религиозным духом нового социального климата. Таким образом, specula principum были написаны в идейно-исторической среде, в которой персидская идейная традиция имела ощутимое присутствие. Specula principum не только помогло прославить доисламскую персидскую традицию, но и впитало некоторые ее идеи и организовало их в исламский контекст, чтобы сделать их еще более приемлемыми.
Здесь важно вспомнить точку зрения, высказанную аль-Газали в его книге наставлений specula principum на персидскую эпоху. По его словам, превосходство персов перешло к мусульманам только тогда, когда это определил Бог. Это утверждение можно истолковать как то, что персы не теряют своего превосходства из-за своего пренебрежения к своему царству, а потому, что Бог, пославший «последнюю и полную религию», решил дать своим последователям превосходство на земле. Это, возможно, могло бы объяснить многие исламские истории, которые появляются в specula principum, и в частности в Аль-Газали.
Когда превосходство перешло к мусульманам в ранней исламской истории, условия в исламском обществе должны были быть похожи на доисламскую Персию. Однако судя по specula principum Низама аль-Мулука и аль-Газали, условия изменились, когда правители отошли от идеала. По их словам, ситуация должна была ухудшиться во время захвата власти кочевниками.
Аль-Газали пытается достичь какого-то примирения между персидской и исламской традициями, утверждая, что персидская традиция была жизнеспособной и не в последнюю очередь идеальной традицией – традиция, которую он до недавнего времени осуждал как язычник. Благодаря этому он устраняет любые разрывы между этими традициями и поэтому он может свободно включать старые традиции в новые.
Путь ислама в Центральную Азию через Персию
Западная часть Центральной Азии долгое время находилась под сильным влиянием Сасанидской Персии. Восточная Персия была урбанизированной территорией и считала части западной части Центральной Азии своей областью интересов. Регион также служил одним из ворот для других культур в Центральную Азию. Из восточной Персии материальные и культурные достижения городского общества были перенесены в степи Центральной Азии. Восточная Персия сохранила ту же функцию даже после прихода ислама в Персию. Завоевание Средней Азии арабами-мусульманами началось в конце 600-х годов и продолжалось до середины 700-х годов. В восточной Персии между арабами и персами возник симбиоз, и его культурный синтез был в конечном итоге передан степным кочевникам, которые, в свою очередь, передали персидско-арабскую культуру другим тюркским кочевникам в других частях Центральной Азии15.
Ислам не был единственной религией в этой области. Этот регион представлял собой мозаику различных религий, таких как зороастризм, христианство (несторианцы), манихеизм, иудаизм и буддизм. Была также смесь местных религий, таких как шаманизм и другие религии, которые вращались вокруг персидской богини плодородия Анахиты и тюркского небесного культа Тенгри16. Тюркские кочевники были обращены в исламс помощью персидско-исламских династий Tахиридов, Шафранидов и Cаманидoв.
Последние распространяли ислам в Центральной Азии и совершали набеги в Среднюю Азию, но цель набегов была не только религиозная, но и экономическая, а именно чтобы получить рабов. В эпоху Саманидов работорговля была крупнейшим источником дохода. Рабы обычно продавались в рабство как мамлюки халифата17.
Другая группа, которая принимала участие в преобразовании кочевников в Центральной Азии, – это большое количество воинов, которые были привлечены в этот район для участия в священной войне, а также в межплеменных войнах.
Однако движущей силой исламского влияния в Центральной Азии стали невоенные средства. Число мусульманских торговцев, которые путешествовали в область, а также мусульманских поселенцев быстро увеличивалось. Через поселенцев в центральноазиатских городах выросло мусульманское население. В нескольких местах в Центральной Азии мечети были построены новыми жителями. Купцы и поселенцы принесли материальные успехи процветающей исламской цивилизации кочевникам в Центральной Азии. Исламская цивилизация была приманкой для тюрок в Центральной Азии. Чтобы пользоваться благами исламского общества принадлежать к исламской религиозной общине.
Социально-экономическая политика сработала значительно лучше, чем военное давление, чтобы нe обратить вспять население Центральной Азии. Но в этой работе участвовала другая группа, а именно исламские мистики, суфии.18 Они путешествовали по тюркcким племенам, агитировали и пропагандировали ислам. Они действовали как динамичные, харизматичные и анонимные личности и имели некоторые сходства с тюркcкими шаманами и таким образом завоевали много новых приверженцев для новой веры. Исламские мистики, cуфии, оказали большую помощь, потому что жители Центральной Азии были в основном знакомы с другими религиями19.
Другим фактором, имеющим большое значение в этом контексте, является политический мотив перехода в ислам. Это, с большим отрывом, сoчeтается с религиозными мотивами. Массовое обращение в ислам символизировало новую политическую ориентацию, чаще всего создаваемую внутренним племенным или династическим соперничеством20.
Сeльджукская правящая власть в некоторых отношениях отличалась от прежних тюрко-исламских правящих сил. Бывшие правители, такие как власть Газневидов, были в значительной степени личностный и искусственный субьект, опирающимся на движущуюся армию или военную группу, в сочетании с персидской бюрократией, созданной персидской мусульманской правящей династией Саманидов. Эта правящая власть была установлена на завоеванныx территориях и характеризовалась менталитетом колониального грабителя21.
Эту систему можно объединить посредством завоеваний, войн и законности, которые они получили от Халифата в Багдаде.
Не было никаких этнических связей, через которые можно было бы ссылаться на общее происхождение, общие традиции или общую историю. Даже в религии различают правителей и подданных22. В отличие от Газневидов, другая тюрко-исламскaя группa, Караханиды, в значительной степени придерживались общих тюркcких традиций и понятий передачи власти (translatio imperii.)
Они также опирались на исламские полномочия, но это не всегда было важно, когда речь шла о контакте с тюркcкими племенами23. Караханиды оставались конфедерацией разных племен и никогда не создавали единого государства24.
Сeльджуки пошли своим путем, чем-то отличавшимся от ранних групп. Сeльджуки пытались, между прочим, расширить харизму султаната среди племен в степи Центральной Азии, но ему пришлось все больше полагаться на исламские традиции, чтобы иметь возможность использовать власть кочевой империи лучше, чем ее предшественники. Когда сeльджуки захватили власть в восточной Персии, Хорасане, они вступили в контакт с ирано-исламской монархической традицией.
Они были превращены из вождей в суверенных правителей над оседлыми районами. Однако переход не прошел гладко. Сeльджукские султаны должны были изменить свой образ жизни и взгляд на различные проблемы. В конце концов, это создало ряд проблем. Это было особенно верно в отношении племен и кочевых войск, которые поддерживали правителя и не могли исходить из их древних племенных традиций.
Они жили, несмотря на изменившиеся социальные условия, в соответствии со своими старыми традициями. Ceльджуки были преобразованы в исламских принцев, которые приспособились к городскому обществу и не cмогли соответствовать ожиданиям кочевых племен турок и туркмен. Также духовное наследие доисламских персидских сасанидских царей не впечатлило кочевые племена своим имперским величием, потому что оно было приспособлено к городской общественной жизни. Турецкие и туркменские кочевые войска, которые снаружи были мусульманами, сохранили свое отношение к правящей власти. Это было частично подкреплено наплывом новых племен, которых притягивали на запад заманчивые рейды и новые пастбища25.
Эти отношения помогли властям в большей степени опираться на модель народа, т.е. концентрацию власти или центрального правительства, использование наемников и рабовладельческой армии вместо турецких и туркменских кочевых войск. Таким образом, очень скоро они стали дистанцироваться от племен, которыми завоевали власть26.
Проблема с туркменскими и турецкими кочевниками была совершенно уникальной для сeльджуков. До захвата власти в Персии они существовали в ограниченном количестве как войска на службе Халифата или других правителей или как грабители, которые находились за северо-восточным фронтом Заоксании. Некоторые из них также применимы к исламскому царству для других целей. После захвата власти кочевники превратились в лавину нашествий, которая продолжалась вплоть до вторжения монголов в конце XIII век27.
Эта великая миграция стала играть важную роль в определении политической, экономической и этнологической карты, особенно в постисламской Персии. Центральная роль правосудия в specula principum может быть связана с социальными условиями в сфере визирей. Они правили обществом, в котором население не чувствовало никакой связи с султанатом и поэтому не идентифицировалось с правителями. Вероятно, с учетом этого социальный идеал specula principum отстаивал этику, а не политику.
Возможно, это является объяснением того, что specula principum не воспринимают справедливость с юридической точки зрения, но справедливость, о которой говорится в specula principum, является справедливой точкой зрения, главная цель которой – создать порядок и гармонию в обществе, управляемом «божественно назначенным» правителем, и обеспечить безопасность людей.
В этом контексте интересно отметить, что аль-Газали не требует, чтобы судьи отправляли правосудие или выполняли эту задачу, но именно верховный правитель, как и доисламские персидские цари, лично позаботится об этом. Это полностью соответствует напряженности, существовавшей между тюркскими султанами и арабо-исламской системой, представленной Халифатом.
Постоянные требования принца добиваться справедливости указывают на отсутствие справедливости в обществе. Характерной чертой этого периода является вопиющее отсутствие правовой определенности в исламском обществе. Помимо всех местных правителей, которые могли сделать жизнь людей несчастной, султан мог в любой момент захватить подданных или помешать наследникам завладеть наследством. В дополнение к негативным финансовым последствиям, последовавшим за этими произвольными действиями, в обществе возникло чувство отчуждения. Этим, возможно, можно частично объяснить связь аль-Газали между материальным процветанием и справедливостью.
Относя необразованных султанов к «ушедшему золотому веку», где субъекты могли чувствовать себя в безопасности от произвольного вмешательства правителя в их жизнь, аль-Газали, возможно, хотел использовать эту привлекательность «золотого века», чтобы возможно создать условия за свои политические идеалы!
Возможно, не следует забывать, что идея справедливого общества уже существовала в исламской доктрине. Исламское королевство, где Ислам часто приравнивался к сфере справедливости, есть аль-Ади, что, возможно, означало, что в исламской традиции допускается отложение идей, подкрепляющих эту точку зрения. Возможно, это послужило основой для аль-Газали и многих других исламских мыслителей, которые заимствовали или проводили сравнения с другими культурами. Произошел сдвиг в значении более поздних мусульманских теоретиков в концепции справедливости. С самого начала справедливость носила религиозный характер.
Халиф будет исполнять роль главы религиозныx орденoв. Для этого ему нужно было быть справедливым, потому что его главной задачей было судить людей. И чтобы быть справедливым, он должен знать религию, когда справедливость основана на религиозных законах. Аль-Мауди определил справедливость как моральное состояние лидера и форму религиозного совершенства28.
У аль-Газали и у других писателей specula principum справедливость утратила свой специфический религиозный характер. В текстах аль-Газали несправедливость не равняется нерелигиозности. Он заявляет, что царство может состоять из зла, но не из несправедливости29.
Учитывая текущую политическую ситуацию, эта гипотеза может быть обусловлена тем фактом, что попытка аль-Газали сочетать персидскую традицию была, в конце концов, преднамеренной попыткой, направленной на решение социальных проблем, а также попыткой сохранить форму преемственности в эпоху перемен. Было бы слишком легко описать его мышление исключительно как поток мыслей, характерный для его эпохи или литературного жанра. В своих более ранних политических работах аль-Газали стремился к сильной центральной власти. Это может противостоять давлению все более могущественного эмира и атабека, который во времена султана Санджара фактически уничтожил все предыдущие иерархические различия между Маликом / Султаном и низшими позициями. Многие из этих эмиров и атабегов попадали под немилость матери султана, в свое время поднялись на попечение младших султано30.
Создание теоретических условий для сильной центральной власти имело большое значение для верховенства закона. Распад султанатa на более мелкие части, которыми управляли различные члены семьи, система икта и привилегии тюркских войск были одними из основных причин отсутствия стабильности, требуемой правовой безопасностью в обществе. Сильная центральная власть была одной из предпосылок для создания некоторой формы отношений между населением и тюркскими правителями.
Сельджукский султанат потерял связь со своими вспомогательными войсками в результате изменения социальных условий и его адаптации к стандартам городского общества. Они, в отличие от султаната, не желали отказываться от стандартов кочевого общества. По совету specula principum cултану будет предоставлена новая основа для его власти, т.е. население султанатa. Они могли бы получить поддержку субъектов, создав справедливое общество, в котором правовая определенность распространялась бы на всех граждан общества, независимо от их социальной и этнической принадлежности.
Решение проблемы cултаната дал аль-Газали, которое он передал через различные истории из разных традиций, в которых персидская традиция играла выдающуюся роль. Согласно этим историям, главной причиной, прежде всего, долгого господства персов на земле, которое, по мнению аль-Газали, продолжалось 4000 лет, было их справедливое обращение с людьми. Это способствовало тому, что жители не только оставались в королевстве, но и оказывали поддержку правящей власти. В этом контексте несущественно, являются ли истории, которые появляются в Княжестве, исторически правдивыми или ложными. Критерий истины не работает, поскольку смысл этих историй, похоже, совершенно иной.
Отношение аль-Газали к тюркам
В некоторых своих произведениях аль-Газали проявлял глубокое презрение к тюркам, это относилось как к турецким султанам, их могущественным эмирам, так и к турецким войскам. В книге «Ихья Улем аль-Дине» он запрещает любую торговлю этими войсками, поскольку их имущество, согласно презумпции аль-Газали, было собрано незаконными методами, а именно грабежами, которые тюркские войска предпринимали после военных побед. В этой книге он упоминает несколько других групп людей, которые также были включены в эти войска, среди них тюрки, туркмены, арабы и курды. Согласно аль-Газали, они были ворами, бандитами и угнетателями31.
В книге «Кемия-и Садaкат» (Алхимия счастья), которая является сокращенной персидской версией «Ихья Кулем аль-Дине» он упоминает только турок под тем же заголовком. Он называет их угнетателями, ворами, продавцами вина, музыкантами, певцами, лжесвидетелями и игроками с битой32. В другом месте в «Кемия-и Садaкат» аль-Газали идет дальше и называет тюрок «народом безрассудным и похожим на четвероногих дикарей»33.
Мародерство было бедствием, которое было связано не только с тюркскими и туркменскими кочевыми войсками, но и с сельджукскими султанами. Особенно это имело место, когда они хотели оказать давление на аббата халифата. Например, молодой султан Баркиярук потребовал в какой-то момент финансовой поддержки от халифа, чтобы финансировать его войну, и чтобы ускорить дело, он позволил своим войскам совершить набег на части Багдада34.
В книге «Ихья Кулем аль-Дине» аль-Газали посвящает большую главу обсуждению имущества и активов султана, и вопрос об этих активах и богатствах является халяльным (разрешенным в соответствии с исламским законом шариата) или гаремом (запрещенным исламским шариатом). Он вполне решителен в этом вопросе и, имея прямую ссылку на турецких султанов, позволяет себе утверждать, что «большая часть богатства султана в наши дни – это гарем»35.
В книге «Кемия-и Садaкат» он пишет, что султаны собирали большую часть своего богатства путем незаконной конфискации, взяток или незаконных налогов, которыми они облагали мусульман36. В другой книге, которая упоминается среди книг, написанных аль-Газали в конце его жизни, в работе «Айюха аль-Валада», он снова приходит к вопросу о том, как поступать с царями и султанами. Тема поднимается, когда он объясняет, от каких действий следует воздерживаться37.
В книге Аль-Газали предупреждает своего ученика о получении денег или подарков от султанов, хотя может показаться, что султан приобрел их честным и допустимым образом. Аль-Газали говорит, что он убежден, что получение денег от правительства приведет к религиозной коррупции. «Самое меньшее, что может случиться с вами, когда вы получите дары султанов, это то, что вы полюбите их. Кто бы ни заботился о ком-то, он молится за него, чтобы он прожил долгую жизнь. Воля Всевышнего покарает рабов своих и разрушит мир!»38.
3
Средиземноморская граница: христианство лицом к лицу с исламом, 600–10501
Ислам столкнулся с христианством с самого начала. Христиане и евреи считались «людьми Книги», потому что у них была открытая монотеистическая религия. Хотя они испортили эту религию и отвернулись от истинного пути, они заслуживали уважения и терпимости, в отличие от язычников, с которыми сосуществование невозможно. Тем не менее новая религия выработала идеологию конфронтации с немусульманами, что почти неизбежно привело к конфликту.
Идея священной войны, или джихада, развита в ряде сур Корана, но, как часто в Коране, сообщение не является простым и однозначным. Священный текст представляет явно противоречивый совет верующим о том, как им следует противостоять врагам новой религии. Существует значительное количество отрывков, в которых говорится о ненасильственных аргументах и проповедях, когда речь идет о «Людях Книги»2.
В отличие от этого, есть и другие отрывки, в которых мусульманам предлагается идти и сражаться на пути Божьем, а также тем, кто не ручается за невыполнение своих религиозных обязанностей3.
Они достигают кульминации в 9.5: Когда священные месяцы прошли, убивайте идолопоклонников, где бы вы их ни находили, и захватывайте их, осаждайте их и поджидайте их в каждом месте засады, но если они раскаиваются, регулярно молятся и платят налог на милостыню, то пусть они идут своим путем, потому что Бог прощает, милостив. Традиционно мусульманские ученые примирили кажущееся противоречие, утверждая, что квазипацифистские наставления являются ранним откровением со времен, когда мусульман было немного и им приходилось избегать конфронтации, чтобы выжить, в то время как более воинственные отрывки датируются позже, когда мусульмане были в более сильной позиции и могли открыто бросить вызов своим врагам.
Более поздние, более воинственные отрывки отменяют более ранние и представляют окончательную позицию мусульман. В последнее время утверждается, что пацифизм и воинствующая традиция в раннем исламе сосуществовали в течение нескольких лет, но после смерти Пророка в 632 году военная традиция была восходящей4.
Само слово «джихад» не обязательно подразумевает войну. Это означает «стремление», и мусульманские писатели – как древние, так и современные – утверждали, что существует форма джихада, которая представляет собой духовную борьбу противостоять искушению и стать лучшим мусульманином. Тем не менее в Коране и других ранних исламских текстах часто используются фразы о борьбе и убийствах во имя ислама, которые ясно указывают на то, что речь идет о реальной войне.
Во время первых мусульманских завоеваний (632–641) стало ясно, что многие из верующих полагали, что было правильно сражаться с неверующими во имя Аллаха, и что те, кто был убит в этом усилии, будут мучениками и будут транспортированы в радости рая. Короче говоря, обязанность джихада в его воинствующем, священном военном смысле не всегда была четко и недвусмысленно возложена на всех мусульман.
Это была скорее скрытая идея, которую могли активировать либо правители, стремящиеся использовать ее для установления своих религиозных полномочий, либо популярные религиозные движения, нетерпеливые в связи с очевидной слабостью и бездействием своих лидеров. Мусульманские завоевания христианских земель Средиземноморья начались в годы, последовавшие сразу после смерти пророка Мухаммадa в 632 году.
Точная хронология самых ранних фаз этого завоевания неясна, но мы можем быть совершенно уверены, что Дамаск и большая часть Сирии и Палестины находились под мусульманским правлением к концу 636 года и что вскоре после падения Иерусалима Кесария, последний крупный город восточного побережья Средиземного моря, попавший в руки мусульманских армий, был взят 641 г.5
В том же году последовало завоевание Египта. Мусульманское завоевание Северной Африки последовало спустя несколько поколений. В 693–694 годах мусульманские армии взяли Карфаген и начали основывать провинцию Ифрикия (современный Тунис). В 703 году Танжер был взят, и мусульманские силы достигли Атлантического океана. Завоевание большей части Пиренейского полуострова последовало с 711 по 716 год, и армии продолжали совершать набеги дальше на север, вверх по долине Роны и более широко на юге Франции, до 732 годa.
Заключительная фаза мусульманской экспансии в Средиземном море пришла с завоеванием Крита в 827 году и Сицилии с 827 года. Падение Таормины в 902 году сигнализирует о завершении этого процесса. На обоих концах Средиземного моря, а также между островами и полуостровами границы между христианским и мусульманским миром были установлены к середине IX века. На землях восточного Средиземноморья положение границы во многом определялось географией.
Дальнейшее расширение политического контроля мусульман следовало за 1000-метровой контурной линией через то, что теперь является южной Турцией. Несмотря на неоднократные и очень разрушительные набеги, мусульмане так и не смогли обеспечить постоянное присутствие к северу от гор Тавр, и действительно они делали спорадические попытки сделать это. Христианско-мусульманские пограничные земли на Востоке прошли несколько этапов эволюции6.
Со времени мусульманского завоевания Сирии и до провала великой экспедиции против Константинополя в 717–720 годах кажется, что сама граница была расплывчатой и в значительной степени не обозначена. Византийцы и арабы были разделены областями, которые были фактически ничейной землей, только малонаселенными и редко укрепленными. Неспособность взять Константинополь, похоже, привела к значительным изменениям в политике.
Oмейядские халифы и их ранние преемники Аббасиды приняли сознательное решение укрепить границу, установить гарнизоны и ключевые пункты в долинах и равнинах к югу от основного хребта Тельца. Hа Киликийской равнине основные базы находились в Тарсе, Адане и Массиссе (Мопсуестия). Все это были города, которые процветали в древности, но есть свидетельства того, что эти места были в основном заброшены в ходе боевых действий в VII веке и что эти поселения были по сути исламскими новыми городами.
Старая церковная организация исчезла вместе с христианским населением. Дальше на восток, где пейзажи более дикие и открытые, лежат Мараш (Цезария Германикея), Хадат и Малатья (Мелитене). Эти пограничные районы (тугур) стали играть важную роль в идеологии и воображении мусульманской общины. Сначала эти пограничные укрепления были гарнизонными членами регулярной армии халифата, в основном сирийцами при Омейядах и Хурасани после 750 года при Аббасидах. С конца VIII века пограничным провинциям был присвоен уникальный налоговый статус, что означало, что доходы, собранные в этом районе, можно было направлять на их защиту, а не в центральную казну в Багдаде. Они также начали привлекать большое количество добровольцев (гази – ветераны джихада), которые приходили служить в армии ислама, иногда всего на год или два, иногда дольше. Они никогда не формировали организованный порядок, подобный тамплиерам или госпитальерам позднего христианского Запада, но они постоянно присутствовали, дополняя регулярные войска мусульманского государства. В Тарсе в IX веке жили люди со всего мусульманского мира, которые хотели посвятить хотя бы часть своей жизни пoследованию джихада.
Эти области на границах мусульманского мира были также областями, где воинственное благочестие было наиболее полно развито и где была разработана идеология джихада7. Византийцы были и всегда оставались врагами. Они были единственными внешними врагами, против которых правящие халифы лично взялись за оружие. Такие халифы, как Харун аль-Рашид (786– 809), сознательно использовали командование джихадом как способ установления своей легитимности и престижа среди своих мусульманских подданных. Наряду с руководством хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, командование мусульманских армий против древнего врага было одним из способов наиболее ярко продемонстрировать халифское правление. Набеги на византийскую территорию были почти ежегодными.
Они, безусловно, наносили ущерб пограничным землям. Христианские жители этих районов, должно быть, жили в страхе, собираясь в укрепленных замковых местах или даже вырубая подземные города, в которых можно было найти убежище. В то же время мусульмане приложили мало усилий для завоевания новых территорий, а мусульманские войска редко зимовали к северу от горных перевалов.
На протяжении многих лет приход мусульманских армий был своего рода военной отгонкой скота, при которой армейские командиры вели своих людей и животных наслаждаться летними пастбищами на более прохладных горных возвышенностях.
Если христианские императоры и мусульманские халифы видели своих противников врагами, с которыми никогда не было прочного мира, они также видели в них достойных врагов, с которыми можно бороться почти на основе равенства.
Византийские императоры играли важную роль в ранней мусульманской традиции; Mуxaммад широко (но почти наверняка ошибочно), как полагают, написал императору Ираклию, и император изображен в ранней мусульманской традиции с некоторым уважением и восхищением8.
Омейядский халиф аль-Валид I (705–715), стремясь украсить свою великую новую мечеть в Дамаске, обратился к византийским мозаикам для создания подходящих имперских украшений9. К IX веку византийские императоры, такие как Феофил, были готовы признать, что они могут извлечь уроки из развитой и сложной придворной культуры Аббасидов.
На Востоке к середине IX века, если не раньше, христиано-мусульманская граница достигла своего рода застоя: враждебность в сочетании с неким взаимным уважением обеспечивала своего рода стабильность. На Пиренейском полуострове противостояние между христианскими и исламскими силами показало параллели с Востоком, но во многом отличалось10.
Здесь также начался период первоначального завоевания 711–716 годов, когда во Франции продолжались набеги мусульман до 732 года. Это был период «джихадистского» государства, когда доходы и награды правящей элиты во многом зависели от добычи их завоеваний. Период консолидации границы может быть установлен в царствование Абд аль-Рахманa II (822–852), когда пограничные земли были разделены на ат-тугур aль-aвашим. Аль-Авасим был арабским термином, используемым для обозначения мусульманской стороны пограничной зоны между Византийской империей и халифатами Омейядов и Аббасидов в Киликии, северной Сирии и Верхней Месопотамии.
Было три из этих районов, основанных на Сарагосе, Толедо и Мериде. Термин thaghr был основан на восточной административной практике, и вполне вероятно, что районы в Аль-Андалусе имели меру финансовой независимости, сопоставимую с thughur в Сирии и Аль-Джазира.
Однако в отличие от Востока, где управление aль-Авасим оставалось в руках чиновников, назначенных халифами, контроль в Аль-Андалусе в некоторых случаях переходил в руки семей, которые можно было бы назвать «лордами-маршерами», особенно туджибис из Сарагосы, который фактически основал династию, которая просуществовала до XI века. В географическом плане сухопутная граница распалась на две отдельные зоны. На востоке, в долине Эбро и в предгорьях Пиренеев, правило 1000 метров, уже соблюдаемое на Востоке, в основном сохраняется в Испании. Мусульмане занимали равнины, а христиане – горы, и их взаимодействие было таким же взаимодействием жителей равнин и горцев, как и христиан и мусульман.
Христианские и мусульманские поселения были разделены короткими расстояниями, и ежедневное общение должно было быть тесным. Дальше на запад постоянное мусульманское поселение фактически остановилось в предгорьях Центральной Кордильеры. К северу от этих гор, по-видимому, была область ничейной земли, несколько похожая на Киликийскую равнину, в бассейне реки Дуэро, или, по крайней мере, область без крупных постоянных поселений11.
Как и на Востоке, эта «ничейная земля» была в конечном счете заполнена продвигающимся урегулированием, но в случае Испании и Португалии это урегулирование было достигнуто не мусульманами, проходящими через Центральную Кордильеру, но христианами, выдвигающимися на юг от баз, таких как Леон и Бургос. Пограничная война, рейды и местные споры были естественным следствием такого разделения территории, хотя отнюдь не ясно, что христианско-мусульманский конфликт был более распространенным или непрерывным, чем конфликты между различными христианскими или мусульманскими политиками.
Похоже, только в X веке спонсируемый государством джихад пытался объединить мусульман на основе их религии, чтобы противостоять общему врагу. Абд аль-Рахман III (912–961) провозгласил себя халифом в 929 году с титулом ан-Насир, победитель.
Неудивительно, что он искал на востоке образец халифского поведения и, хотя он не мог привести хадж в Мекку, как это сделали Аббасиды, он мог вести мусульман в священной войне до своего поражения в битве при Альхандеге / Симанкасе в 937 г.
Абд аль-Рахман провел ряд кампаний, в которых он руководил армией Кордовы и военными последователями различных лордов тугуров против христиан севера. Как и на Востоке, похоже, было мало или вообще не было попыток завоевать новую территорию, и при этом материальная добыча, предлагаемая небольшими и простыми поселениями христианского севера, не была главной движущей силой для суверена, который имел богатство мусульманскoгo югa в своем распоряжении.
Это было скорее публичное проявление его роли лидера – роли, которая позволила ему командовать пограничными лордами, которые иначе ревниво сохраняли бы свою независимость. После поражения 937 года, вызванного, по крайней мере частично, дезертирством туджиби, ведущих пограничных лордов, аль-Насир больше никогда не вступал в борьбу с христианами, и его мирная традиция поддерживалась его сыном и преемником Аль-Хакамa II (961–976).
Только когда власть была принята (или узурпирована) военным диктатором Ибн Аби Амиром, называемым аль-Мансур (Победоносец), мусульмане вновь принесли джихад в сердце христианской территории. В этом контексте интересно сравнить использование джихада со стороны халифа Аббасидов Мутасимa (833–842) и Ибн Аби Амира. Мутасим вступил на престол в результате государственного переворота и смог навязать свою власть благодаря силе его новой тюркской армии. Однако для многих мусульман легитимность как армии, так и самого халифа была сомнительной. Одним из важных способов, которыми халиф стремился установить свое политическое доверие, было руководство его новой армией лично против византийцев. Он также выбрал высококлассную цель или, по крайней мере, одну, которую он мог изобразить как таковую.
Сам Константинополь был теперь вне досягаемости мусульманских армий, но в 838 году он начал атаку на город Аморион, где родился византийский император Феофил. Город был должным образом захвачен, и хотя не было предпринято никаких усилий для удержания или заселения этого места, его можно представить как знаменитую победу. Был написан подробный отчет о достижениях халифатического оружия, и сочинены стихи в честь этого события.
Военную важность завоевания можно обсудить, но это был, безусловно, триумф по связям с общественностью. Сразу же после разграбления Амориона, халиф воспользовался своей укрепленной позицией, чтобы начать яростную чистку своих политических противников. Ибн Абих Амир, начиная с 976 года, находился в схожем положении.
Хотя он не узурпировал титул халифа (в отличие от Мутасимa oн не был членом правящей семьи), он взял контроль над молодым халифом Хишамом II (976–1009) и представил новый корпус элитных войск, в данном случае берберов из Северной Африки. В 999 году он начал серию разрушительных набегов на королевства христианского севера, кульминацией которых стало разграбление крупной цели – города и собора Сантьяго-де-Компостелла. И снова не было предпринято никаких попыток сохранить контроль или наступление мусульманского поселения в этом районе.
Отчеты о его триумфах были зачитаны в мечети в Кордове, и обилие новых рабов, должно быть, помогло населению принять его правление. В обоих этих случаях мы можем видеть, как джихад стал политическим средством, используемым для узаконивания правителя, а не выражением народного воинственного благочестия. Как и на Востоке, между христианами и мусульманами существовали культурные и дипломатические контакты12.
Часто они включали отправку в Кордову эмиссаров из христианских королевств и графств, а иногда и христиан, искавших убежища от своих соперников-мусульман.
Отличительной чертой границы отношений в Испании был смешанный брак между правителями Омейядов и принцессами из христианских правящих семей, особенно королей Памплоны (Наварра).
На Востоке нет параллели с этим: многие из аббасидских халифов фактически были сыновьями греческих рабских наложниц, и не было традиции брачных союзов между правящими семьями. Излишне говорить, что эти отношения во всех случаях были браком христианских девушек с мусульманскими мужчинами; нет никаких свидетельств того, что мусульманские женщины с высоким статусом имели отношения с христианами до возможного брака Заиды с Альфонсо VI (1072–1109) в последней четверти XI века. Неясно, обратились ли эти принцессы христианского происхождения в ислам или содержали женские христианские семьи при дворе в Кордове.
На обоих концах Средиземного моря первоначальные мусульманские завоевания сопровождались периодом, когда граница с христианами была расплывчатой и изменчивой, экспансионистский джихад все еще был реалистичным предложением, а доходы новой элиты были получены из добычи войны. К концу VIII века границы стабилизировались, укрепленные опорные пункты были установлены с обеих сторон и джихад периодически осуществлялся по причинам престижа и для легитимации новых суверенов или режимов.
На Востоке соотношение сил и инициативы начало меняться в пользу христиан во второй половине X века. Основной причиной этого стал распад Аббасидского халифата с 860-х годов. Это привело к тому, что власть в приграничных провинциях была захвачена местными лордами. Они больше не могли полагаться на финансовую и военную поддержку правителей мусульманского мира, и их собственные ничтожные ресурсы были совершенно недостаточны для противодействия возрождающейся власти византийских армий при македонской династии.
Первым важным шагом в византийском наступлении было завоевание Малатии в 934 году. Это не только уничтожило основную мусульманскую базу в стратегической долине Верхнего Евфрата, но и продемонстрировало, вне всякого сомнения, неспособность ослабленного правительства в Багдаде защищать границы мусульманского мира. Поколение спустя, византийские армии снова продвинулись, и правитель Хамданидов Алеппо, Сайф аль-Давла (945–967), прославленный великим поэтом аль-Мутанабби как герой ислама, был совершенно неспособен защитить города Киликийской равнины. Потеря Тарса в 965 году означала, что Киликия (мусульмане и арабоязычные с VIII века) перешли в византийские руки. С тех пор там никогда не говорили по-арабски.
Византийский захват Антиохии в 969 году открыл ворота для захвата большинства горных районов северо-востока Сирии в течение следующих десятилетий и создания византийской администрации. Это были районы, которые мусульмане завоевали в 630-х годах во время первой волны экспансионистской войны, и это был первый случай, когда любая из этих областей была потеряна для ислама. Завоевания не привели к большому мусульманскому населению под христианским правлением.
Новые районы были очищены от своих мусульманских жителей – своего рода религиозная чистка, и когда византийский император поставил своих лошадей в древнюю мечеть в Тарсе, это был явный сигнал о радикальном характере произошедших перемен. Вновь отвоеванные районы вокруг городов Мелитене (Малатья), Цезария Германикея (Мараш) и Самосата (Самсат) были заселены христианами13.
Это, по-видимому, было прагматическим ответом византийских властей на проблемы укрепления границы. Не было выраженной идеологии или риторики христианской солидарности. Несмотря на это, тот факт, что эти иммигранты поощрялись из-за их религиозных убеждений, а не, скажем, их военных или сельскохозяйственных навыков, свидетельствует о том, что религиозная солидарность считалась важной. Многие из этих иммигрантов были взяты из областей, находящихся под мусульманским владычеством (Египет и Сирия), и византийские власти привлекли их к тому, чтобы поселиться в районах вблизи арабской границы, где греки боялись жить. Было подсчитано, что между 936 и 1072 годами в этом районе впервые упоминается около 30 епископских престолов14.
За тот же период 56 из 156 монастырей, которые, как известно, существовали в этом районе, зарегистрированы впервые. Большинство из них не были грекоязычными и, что более важно, принадлежали к сирийской церкви миафизитов, которую власти Константинополя обычно считали еретической. Византийские власти на этом этапе четко осознавали, что христиан, даже еретиков, предпочитают мусульманам в качестве подданных, но они ограничены пограничными районами, далеко от центра греческого христианства и византийского правительства в Антиохии. Это принятие должно было быть напряженным в следующем столетии. К 1030-м годам появились явные признаки того, что многие мифизиты считали византийское правительство репрессивным, в то время как власти рассматривали их как потенциальных предателей15.
Мусульманские правительства были неэффективны в борьбе с византийским наступлением по крайней мере до тех пор, пока Фатимиды не начали утверждать свои власть в Сирии после 969 года, но в мусульманском мире было значительное возмущение по поводу потери этих территорий. В 966 году большая группа добровольцев из Хорасана попыталась пройти к византийской границе, но была остановлена и разогнана правителем буйидов Райя, который опасался, что они могут угрожать его правлению16.
В 972 году в Багдаде произошли демонстрации и беспорядки, когда мусульманское население потребовало, чтобы халиф и его покровитель Буйид повели их против неверных17. Энтузиазм благочестивых не был воплощен в действие, и нет никаких признаков того, что кто-либо из этих добровольцев достиг фронта или участвовал в походах против византийцев. Народный энтузиазм по поводу джихада, без государственной поддержки, не мог добиться значимого успеха.
На Пиренейском полуострове мусульмане дольше сохраняли инициативу. На протяжении всего X века мусульмане могли поддерживать свои пограничные посты и совершать набеги на христианскую территорию. Как и на Востоке, именно мусульманское разобщение позволило изменить баланс сил. Распад Халифата Кордовы после 1012 года позволил христианам воспользоваться соперничеством мусульман. Сначала они появились как ценные наемники и союзники в спорах за контроль над столицей. Вскоре они начали предъявлять финансовые требования.
Вместо того чтобы оккупировать новую территорию, христиане стремились воспользоваться слабостью мусульман, вынуждая царей Таифы18 платить парию (регулярные денежные выплаты данью).
Короли Таифы были правителями небольших владений, иногда не превышающих один город, на которые Аль-Андалус был разделен после распада Кордовского халифата в начале XI века. После 1086 года тайфа потеряли свою независимость и были включены в состав Империи Альморавидов.
Продвижение христианской границы на Пиренейском полуострове было скорее историей, а не завоеванием. Христианские короли и графы заселили такие древние места, как Леон и Бургос, в IX веке. Как и на Востоке, в X веке развитие пограничного монашества стало основной силой христианизации земли.
Другое сходство с Востоком заключалось в том, что некоторые из этих общин были иммигрантами из районов, находящихся под мусульманским владычеством, на юг, которых короли Леона призывали поселиться на их территории.
Доказательства этого движения все еще можно увидеть в таких церквях, как Сан-Мигель-де-Эскалада, к югу от Леона, основанной в 913 году, где сохранившаяся церковь показывает, как монастырская община Мозараб принесла с собой отличительные архитектурные формы аль-Андалуса, в дополнение к литургии Мозараба, и отчетливо арабизированные личные имена19.
Важность монастырей в заселении и христианизации приграничных районов часто связана с цистерцианцами и другими новыми орденами XII века, но фактически мы можем ясно видеть его предшественников в юго-восточной Анатолии и северной части Испании двумя веками раньше.
В то время как мусульманские халифаты на Востоке и в Иберии развивались как завоевательныe обществa, где рейды и добыча были наградой военных классов, в оседлые государства, где они жили за счет доходов от регулярного налогообложения, были и другие районы, где рейдовые отряды продолжались много дольше и в которых правительственные структуры фактически отсутствовали. Вероятно, именно мусульманские авантюристы из аль-Андалуса создали базу для пиратства и рейдов во Фраксинете (Фрежюс) на побережье Прованса в 891 году.
Как и их почти современники на Гарильяно на юге Италии, эти мародеры не признавали авторитет любого мусульманского правителя и, конечно, не пытались создать мусульманское государство в районах, в которых они действовали. Из их прибрежной крепости они смогли совершить набег далеко во внутренние районы. Несмотря на неоднократные попытки местных правителей и вмешательство византийского флота в 944–945 годах, мусульмане были в состоянии противостоять всем попыткам сместить их до 973 года20.
История христианско-мусульманского противостояния на юге Италии и Сицилии следует вл многом той же тенденции как на Востоке, так и на Пиренейском полуострове, но положение осложняется многочисленными противоречиями и соперничеством как по христианской, так и по мусульманской сторонам религиозного разделения.
Мусульманское завоевание Сицилии заняло три четверти века с момента прибытия Асада ибн аль-Фурата в 827 году до окончательного падения Таормины в 902 году. Медлительность мусульманского наступления по сравнению с другими областями, взятыми во время великих завоеваний VII и начала VIII веков были отчасти следствием небольшого размера мусульманских армий и силы сопротивления в таких крепостях на вершине холма, как Энна (Castrogiovanni).
Другим важным фактором была постоянная борьба между мусульманами, поселившимися на Сицилии, и аглабидскими амирами Кайравана, чьи попытки навязать мусульманам на островах политический контроль и налогообложение вызвали энергичное сопротивление. Мусульманская Сицилия оставалась государством джихада с очень неразвитой администрацией вплоть до X века.
Мусульмане также противостояли христианам на материке южной Италии. Здесь им помогало соперничество византийцев, папства и ломбардских династий. Мусульманская военно-морская власть часто способствовала возникновению споров между христианскими державами. Уже в 835–837 годах мы обнаруживаем, что арабские союзники, поддерживающие герцогов Неаполя в их борьбе, остаются независимыми от ломбардских герцогов Беневенто. Взамен герцог Эндрю помог мусульманам в завоевании Мессины у византийцев в 842–843 годах.
Несмотря на осуждение папства, неаполитанцы несколько раз возвращались к политике союза с мусульманами. В 902 году положение значительно изменилось. Как уже упоминалось, Таормина пала перед мусульманами, и в том же году аглабидский амир Ибрагим, который ушел в отставку, чтобы посвятить себя джихаду, был убит в неудачной попытке захватить Козенцу в Калабрии. Это поражение ознаменовало конец любой серьезной попытки мусульман завоевать южную Италию.
Однако это не ознаменовало конец рейдов или христианско-мусульманского противостояния в этом районе. Самым известным центром конфликта была мусульманская база, основанная примерно в 881 году в устье реки Гарильяно. Здесь, как и во Фрежюсе, община гази (ветераны джихада) поддержала себя, совершив рейд вглубь страны, и смогла разграбить монастырь в Монте-Кассино в 881–883 гг.
Попытки объединить христианские силы этого района против мародеров были подорваны политикой Гаэты и Амальфи. Оба города были полны решимости сохранить свою независимость от ломбардских герцогов Беневенто, и амалифтанцы также были в равной степени заинтересованы в сохранении торговли с мусульманским Тунисом. Лишь в 915 году, когда папство смогло собрать союз ломбардских и византийских сил и обеспечить нейтралитет Гаэты и Амальфи, мусульманская база была окончательно уничтожена.
После этого время от времени происходили набеги мусульман на юг Италии, например, разграбление Таранто в 928 году, но давление мусульман становилось спорадическим. Политическое положение на Сицилии снова изменилось после 969 года, когда Фатимиды покинули Северную Африку, чтобы установить свою власть в Египте.
Они позволили видной местной семье, происходящей из арабского племени калб, стать, по сути, наследственными правителями острова. Калбы, в свою очередь, стремились укрепить свои позиции, возобновив джихад на юге Италии под эгидой государства. Как и их современный андалузский эмир ибн Аби аль-Мансур, правители Калби пытались использовать джихад как способ подтвердить свою легитимность и свою власть над своими мусульманскими подданными. Эмир Абуль-Кaсим (970– 982) начал этот процесс, возглавив неоднократные нападения на Козенцу, Таранто и Отранто и извлекая из них дань.
В 982 году мусульманская армия разгромила войска императора Отто II при Капо Контроне, но эмир погиб как мученик в конфликте. Смерть Абуль-Кaсимa не означала окончания мусульманских набегов, но никто из его преемников не преследовал джихад с той же силой. При Джафаре ибн Юсуфе (998–1019 гг.) усилились волнения, кульминацией которых стал военный мятеж в 1015 г. и восстание против чрезмерного налогообложения в 1019 г., когда эмир был вынужден покинуть страну.
Его преемник Ахмад (1019–1036) попытался защитить свою позицию, заключив союз с византийскими императорами, и, подобно современным мусульманским правителям в Алеппо и в других местах на Востоке, он получил византийский почетный титул magistros в 1035 году. Этот христианский союз спровоцировал значительную народную враждебность и позволил его противникам на Сицилии восстать и убить его.
Это просто привело к дальнейшим междоусобицам и расколам в Калбидском амирате. Как и в мусульманской Испании, в то же время разногласия и споры между мусульманами открыли свои земли для проникновения и возможного завоевания со стороны христианских агрессоров. Еще одна государственная организация была создана на Крите, которая была завоевана у византийцев в 827 году группой мусульманских преступников, которые были изгнаны из Андалуса, а затем из Александрии, где они нашли убежище. Мусульманский эмират Крит никогда не развивался в полноценное государство, но оставался пиратской базой, постоянно угрожая морским путям Эгейского моря21.
Не все контакты между христианами и мусульманами происходили на уровне политического конфликта, а также расширения и сокращения территорий. В течение всего этого периода существовали мирные контакты между отдельными христианскими путешественниками и торговцами, хотя их число было значительно меньше, чем тех, кто путешествовал по Средиземному морю в позднюю античность. Недавние исследования определили около 105 западноевропейцев, которые посетили Иерусалим (тогда, конечно, под мусульманским правлением) между c. 700 и с. 900, и семь человек отправились в Багдад22.
Практически все они отправились по религиозным соображениям или в качестве послов. Число западных торговцев, зарегистрированных как активные в землях халифата в тот же период, действительно очень мало – конечно, не более десяти – и это указывает на то, что наиболее полное из представленных нами данных о западной коммерческой деятельности исходит из повествования о краже тела святого Марка из Александрии венецианскими купцами в 828 году. Паломничество, дипломатия и торговля были мотивами, побуждающими христиан посещать земли ислама. Из людей, отвечающих на эти мотивы, паломники были почти наверняка самой многочисленной группой и, безусловно, наиболее известной. Самым документально подтвержденным из паломников, посетивших Палестину, был святой Виллибальд23.
Виллибальд был англосаксом, который вместе с несколькими спутниками покинул свой дом в Хэмпшире весной 721 года. Они путешествовали по суше в Италию, оставаясь в монастыре в Риме в течение полутора лет, а затем отправились в южно-итальянский порт Гаэта, где нашли корабль из Египта. Это привело их вокруг Пелопоннеса к Малой Азии, и они провели еще одну зиму в Патаре на ликийском побережье. Весной они снова отправились в путь и в конце концов достигли сирийского побережья в Тартусе. Отсюда они пошли в Хомс, где их арестовали как шпионов.
К счастью для них, их допрашивал испанец, чей брат был евнухом в окружении халифа: предположительно, оба брата были взяты в плен во время мусульманского завоевания, всего тридцать лет назад. В результате этого вмешательства халиф, оказавшийся в то время в Хомсе, дал им разрешение продолжить путешествие и даже освободил их от уплаты налога. Они отправились на юг через Дамаск для посещения святых мест.
В течение следующих двух лет Виллибальд совершил всеобъемлющую поездку по Палестине на юг, в Газу и Ливан, и обратно в Хомс, где он получил письменное разрешение отправиться на корабле из Тира в Константинополь. Возможно, он также финансировал свои путешествия с небольшим количеством торговли на стороне. Он с радостью рассказал, как ему удалось вывезти из страны очень ценный бальзам, который он купил в Иерусалиме.
Остальные его путешествия в Константинополь, Рим и Германию (где он закончил долгую и выдающуюся карьеру в качестве епископа Эйхштата) нас здесь не касаются. Из его рассказа становится ясно, что между христианским миром и мусульманским миром осуществлялись пассажирские перевозки, и частные граждане, которые фактически были тем, кем он был, могли воспользоваться этим. Прибыв и уезжая, он должен был приобрести необходимые документы, но пока он был там, он, похоже, мог свободно циркулировать, и нет никаких предположений о народной враждебности к этим блуждающим странникам.
Основными опасностями были болезни, в том числе бубонная чума и нехватка пищи, – обе проблемы затронули как местных жителей, так и посетителей. Мы не можем знать, насколько далеко опыт Виллибальда был передан другим, но он дает нам некоторое представление о возможностях путешествий. Хотя точные данные трудно получить, представляется очевидным, что темпы паломничества в Палестину значительно увеличились в XI веке. До этого паломники были похожи на Виллибальда и его спутников: небольшие группы, которые договаривались о своем проезде и пропитании с местным населением. С 1000 года западные жители стали приходить в гораздо большем количестве. Родульфус Глабер говорит о «неисчислимом множестве людей со всего мира, больше, чем мог бы ожидать любой мужчина», который начал путешествовать в Иерусалим и продолжает отмечать новое явление: «многочисленные женщины, благородные и бедные, предприняли это путешествие24.
Мы также находим очень выдающихся деятелей, совершающих паломничество: епископ Конрад Констанцский (ум. 975) совершил его трижды, как и Фулк Нерра, граф Анжу, а великое немецкое паломничество 1064 года, как говорят, насчитывало 7 000 или даже 12 000 человек. Все эти паломники, конечно, прошли бы через исламские земли и вступили в контакт с мусульманским обществом. Даже если допустить преувеличение и чрезмерный энтузиазм со стороны наших источников, ясно, что в XI веке взаимодействие между христианами из Западной Европы и мусульманским мирома было более значительным, чем в раннее средневековье.
Причины этого роста не совсем понятны. Вполне возможно, что расширение коммерческих контактов сделало Восток более знакомым и доступным. Может также случиться так, что все больше внимания уделялось посещению земель, где Христос жил, умер и воскрес из мертвых, в отличие от посещения мощей мучеников. Святая Земля могла бы предложить очень мало реликвий, но она могла бы предложить единственное существенное место воскресения Христа из мертвых, даже если бы все, что вы могли видеть, было пустой гробницей. Дипломатические контакты между византийцами и мусульманами начались после первоначальных завоеваний Сирии и Египта25.
Хотя официального мирного соглашения не было, оно устраивало как христианских, так и мусульманских правителей время от времени заключать перемирие, особенно когда они были озабочены врагами ближе к дому. Похоже, что это началось в 650–651 годах, когда Констант II заключил соглашение с губернатором Сирии Муавией ибн Абу Суфьяном о предотвращении нападений арабских военно-морских сил, когда он был озабочен проблемами на Балканах. В IX веке фокус дипломатии изменился. В этот период сравнительной стабильности и паритета цель дипломатических миссий обычно заключалась в организации обмена заключенными: нам сообщили о 12 официальных встречах между 805 и 946 годами, на которых было обменено от 2 000 до 6 000 заключенных, обычно на pекe Ламис в Киликии.
Для организации этих встреч мусульманские послы были отправлены в Константинополь, а христианские – в Багдад. В 917 году два христианских посланника получили чрезвычайно щедрый и тщательно продуманный прием от халифа аль-Муктадира (908–932) чтобы продемонстрировать своим подданным, как ослабленный и обедневший халифат все еще может вызывать уважение представителей другой великой державы26.
После краха Xалифата и византийских достижений в северной Сирии с середины Х века, центр византийской дипломатии сместился на установление отношений с местными мусульманскими державами. Мусульманские правители Алеппо получили византийские административные титулы, такие как magistros и patrikios. Константин IX в середине XI века выделил средства на реконструкцию храма Гроба Господня в Иерусалиме, возможно отстаивая какое-то право защищать христианские общины под властью мусульман.
Неудивительно, что дипломатические связи между западным христианским миром и халифатом развивались медленнее и носили эпизодический характер. Самым известным эпизодом было посольство Карла Великого в Харун-аль-Рашид в 797 году. Речь шла о желании императора основать монастырь и хоспис в Иерусалиме. Доказательств этих контактов в арабских источниках нет, но кажется, что ответ был благоприятным, что разрешение было дано и что халиф послал несколько подарков, включая знаменитого слона, который произвел большое впечатление на императорском дворе. Монастырь и хоспис, несомненно, процветали, и когда в 867 году Бернард Монах (Bernardus Sapiens) посетил Иерусалим, он смог остаться «в общежитии самого славного императора Карла»27.
В 802 году император отправил еще одно посольство, и делегация из Багдада, принесшая подарки, возвратила благосклонность в 806 году, но эта имперская дипломатия не проложила путь для постоянных контактов. В 906 году маркграф Берта из Тосканы направила миссию халифу аль-Муктафи в Багдаде с подарками, в которые входили рабы мужчин и женщин из славянских земель и мечи. Понятно, что между религиозной пропастью были коммерческие контакты, но оценить масштабы их сложно. С тех пор, как Анри Пиренн утверждал, что приход мусульман вызвал почти полный разрыв торговых связей через Средиземное море, вопрос о торговле или ее отсутствии стал предметом более общих споров о происхождении средневековой западной экономики. Мы можем, однако, сделать некоторые обобщения с некоторой уверенностью.
По сравнению с коммерческими связями, которые должны были вырасти с XI столетия, контакты в раннем средневековье были очень спорадическими. Между христианскими и мусульманскими державами не сохранилось никаких коммерческих договоров, а также нет никаких постоянных торговых колоний. Похоже, что это не было результатом какого-либо отвращения среди мусульман к ведению торговли с христианами, а более просто потому, что христианский мир произвел очень мало того, чего хотели мусульмане.
Бедный Запад едва ли был рынком для тонкого текстиля и специй, которые были товаром для торговли на большие расстояния. Только спрос на североевропейских рабов был последовательным и плавучим, и они были приобретены насилием и захватом так же, как коммерческими отношениями. После низкой точки около 700 года спрос на товары (произведенные в мусульманском мире или транспортируемые через него) восстановился. Шелк был желанным предметом роскоши, и некоторые изделия из него сохранились до наших дней в церковных сокровищницах28.
Папы в конце VIII и начале IX веков были особенно щедрыми дарителями шелка в качестве наград и дипломатических подарков. В то время как некоторые из этих шелков были, без сомнения, византийского происхождения, другие, конечно, пришли из мусульманских стран. На произведении, сохранившемся в Хюе в Бельгии, имеется согдийская надпись о том, что оно было изготовлено недалеко от Бухары в VIII или IX веках. Специи, такие как перец и корица, высоко ценились не только для придания вкуса пище, но и в качестве ингредиентов в лекарствах и зельях, а некоторые рецепты этих зелий сами были мусульманского происхождения29.
Благовония были очень важны в ритуалах как Каролингской, так и Византийской церквей, и очевидно, что их употребляли в больших количествах30. Однако настоящий ладан исходит из очень ограниченного географического района на юге Аравии и Африканского Рога. Его могли привезти только в Средиземное море, а затем в христианские земли мусульманские купцы, однако этот процесс практически не виден в исторических записях. Использование благовоний в таком большом масштабе должно было подразумевать непрерывные и гармоничные отношения на границах христианского мира, но кто их провел и где, это отнюдь не ясно.
Этот обширный импорт, похоже, не привел к кризису торгового баланса. Присутствие очень значительного числа мусульманских дирхамов и динаров в Западной Европе и почти полное отсутствие христианских монет на Ближнем Востоке позволяют предположить, что Европа, возможно, на самом деле имела избыток. Христианский мир, конечно, экспортировал пушнину и древесину в исламский мир, но наиболее важные и наиболее опасные взаимодействия были связаны с работорговлей. С середины VIII столетия в странах исламского мира был явно неисчерпаемый спрос на европейских рабов.
Торговля, возможно, получила толчок от сокращения населения, вызванного последним спазмом чумы раннего средневековья, которая поразила Ближний Восток после 747 года, но работорговля продолжала развиваться после того, как демографическая чрезвычайная ситуация изменилась. С первых дней мусульманского завоевания византийские военнопленные были важным источником рабов в мусульманском мире.
По крайней мере, некоторые из них были освобождены и стали вольноотпущенниками, а некоторые стали играть важную роль в политике и управлении.
Они были важными сторонниками семьи Омейядов, и именно мавали, сами бывшие рабы или сыновья бывших рабов, сформировали основную опору первого из правителей Омейядов в Кордове Абд аль-Рахман I в 756 году, когда он впервые вошел в аль-Андалус. Византийские рабыни высоко ценились в гаремах аббасидских халифов IX и начала X веков. По крайней мере, один из них, аль-Мутадид (892–902), говорил по-гречески так же, как и по-арабски, поскольку это был буквально его родной язык.
С конца VIII века рабов покупали издалека. Рабы из Западной и Северной Европы стоили дорого в Византии и еще выше в странах ислама. Христианские и мусульманские купцы могли бы получать огромную прибыль, покупая рабов на северных берегах Средиземного моря и продавая на юге. Основным торговым центром была Венеция, куда мусульманские купцы приходили закупать рабов из Восточной Европы, но была также более неформальная торговля в других итальянских портах, таких как Неаполь, и просто на лиманах, куда людей, захваченных в ходе местных набегов, привозили на продажу.
Когда в 867 году Бернард Монах (Bernardus Sapiens) из Шампани и два его товарища отправились в паломничество в Святую Землю, они отправились в Бари, тогда находившийся в руках мусульман, чтобы найти корабль, который отвезет их в Александрию. Они получили гарантии безопасности от арабского эмира Саудана и были отправлены в Таранто, чтобы сесть на корабль.
Здесь они нашли 9000 несчастных пленников-христиан, недавно захваченных во время мусульманских набегов на Венафро и Монте-Кассино, которые находились на борту шести кораблей, готовых отправиться на невольничьи рынки Туниса и Египта.
Удивительно, но Бернард и его спутники были взяты в качестве платных пассажиров и, защищенные документами, которые Содан предоставил им, отправились в прямую поездку в Александрию в течение месяца, по-видимому на том же судне что и их жалкие единоверцы. Когда они покинули судно, моряки потребовали по два золотых с каждого из них в качестве платы за проезд, и они продолжили свое паломничество без всяких забот31.
Больше ничего не слышно о судьбе заключенных. Рабы, которых видел Бернард, были итальянскими горожанами и сельскими жителями, но многие из рабов, которые проходили через Венецию, были славянами из Восточной Европы, захваченными или купленными там, а затем проданными в Венеции. В течение всего периода Каролингов церковь неоднократно предпринимала, без сомнения, искренние попытки предотвратить продажу христиан в руки мусульман.
Многие из славян были язычниками, поэтому их можно было купить и продать с чистой совестью. Однако спрос был настолько высок, а потенциальная прибыль настолько соблазнительна, что венецианцы и другие итальянские купцы постоянно нарушали эти церковные запреты. Как и в случае паломничества, в XI веке произошло качественное и количественное расширение торговли с мусульманским миром. К 1000 году в Александрии и Фуста-те (Старый Каир) были итальянские купцы. В XI веке документы в Генизе полны ссылок на «франков», их значение для рынка специй и древесины, а также их готовность принимать товары более низкого качества32. Города Египта были не единственными точками соприкосновения: когда Насир-и-Хусрав путешествовал из Ирана в Египет в середине XI века, он обнаружил, что Триполи в Ливане часто посещали западноевропейские корабли33.
Между тем флоты Генуи и Пизы все активнее действовали в Тунисе и вдоль мусульманских побережий Испании. В раннем средневековье отношения между христианами и мусульманами были прерывистыми. На Востоке и в Испании были области, в которых локализованные незарегистрированные контакты были обычным явлением.
Наиболее зафиксированные контакты были военными. На самом раннем этапе мусульманское государство джихада основывалось на политике непрерывных набегов и экспансии, в ходе которой трофеи, как товары, так и рабы, обеспечивали доход и вознаграждение военной элиты. Эта фаза завершилась на востоке к 720 году, на Пиренейском полуострове к 750 году, а на Сицилии и на юге Италии к 900 году, хотя она сохранилась на аванпостах, таких как Фрежюс и река Гарильяно, вплоть до X века.
На смену государствам джихада пришли государства, в которых профессиональная армия получала зарплату за счет налогов, взимаемых как с мусульманского, так и с христианского населения.
Джихад стал институционализирован и использовался правителями для утверждения своего престижа и легитимности.
Третий этап – постепенная христианская экспансия за счет мусульман, начиная с середины X века на востоке и до середины XI века в Испании и Португалии. Паломники, торговцы и послы также наладили связи. Что касается торговцев и паломников, то их число было небольшим, и, похоже, не было организованных учреждений, за исключением общежития Карла Великого в Иерусалиме.
В XI веке картина изменилась с растущей быстротой по мере увеличения масштаба и частоты контактов. Корабли из западноевропейских портов находились в постоянно увеличивающемся количестве в портах Леванта и Египта. На Пиренейском полуострове христиане севера добивались военных успехов за счет разделенных королевств Тайфы, и норманны начали освобождение Сицилии от ее мусульманских правителей. Не может быть никаких сомнений в том, что границы христианского мира значительно расширились за полвека до Первого крестового похода.
4
Средневековая геополитика: истоки джихада и исламские завоевания
В своей досовременной концепции джихад был разработан для расширения и защиты исламского государства, сделав социальным долгом мусульман активно «сражаться на пути Аллаха» и тем самым доказывать подлинность своей веры. Этот социальный долг был воплощением на протяжении всей жизни усилий Пророка Мухаммеда, который не только возглавил раннее исламское движение, но и возвестил политическую революцию, которая спровоцировала преобразования, необходимые для того, чтобы исламские завоевания установили контроль над тремя пятыми христианского мира1.
Исламские завоевания произошли во время правления Мухаммеда, с 622 г. до его смерти в 632 г. За это долгое десятилетие в политической динамике Аравийского полуострова произошли три основных преобразования, которые создали условия, необходимые для завоеваний.
Рассмотрим исторический контекст завоеваний и три основных преобразования, которые сделали их возможными.
Во-первых, арабские племена объединились вокруг новых идеологических и институциональных структур ислама, что привело к возникновению революционного исламского государства, способного решать логистические задачи завоевания. Во-вторых, обращенные в ислам приняли идентичность как члены мусульманского сообщества, или уммы, что поставило их в антагонистические отношения с немусульманами. В-третьих, Мохаммед и другие религиозные элиты сформулировали концепцию джихада, которая быстро стала фундаментальной социальной обязанностью исламского общества. Без этих преобразований исламские завоевания были бы исторически невозможны.
Истоки исламских завоеваний уходят корнями в политические и религиозные революции, возглавляемые пророком Мухаммедом и его последователями. Раннее исламское движение тяготело к дискурсу радикального монотеизма во главе с Мухаммедом, который отчасти был духовной реакцией на материалистические элементы в языческом мекканском обществе. Как религиозные реформаторы, Мохаммед и его последователи стремились заставить всех мекканцев принять его заявление о том, что он является исключительным апостолом Бога, и исламские ценности религиозной преданности, нравственной чистоты и дисциплины. К началу 630 г., после многих лет сопротивления со стороны более могущественных мекканцев, мусульмане захватили Мекку и основали новый центр моральной и политической власти в Аравии. Спустя годы некогда раздробленная племенами Аравия превратилась в единое государство.
Структурные реформы, связанные с объединением Аравии, глубоко трансформировали конфликт в раннем средневековом ближневосточном мировом порядке. Мусульманская Аравия превратилась в полностью автономный религиозно-политический институт, который превратился в мощную военную силу. И в отличие от других властей в регионе и своих противников, он развил способность мобилизовать рассредоточенные арабские племена благодаря своей монополии на власть в духовных владениях Аравийского полуострова. Существовал не только один универсальный и неделимый Бог, чей моральный авторитет существовал в одном месте земной власти (пророк Мухаммед), но также существовала исключительная единая исламская община.
Мусульмане назвали эту общину «уммой». Хотя сама концепция уммы не объединяла Аравию, ее обещание награды в загробной жизни в обмен на набожную преданность усиливало привлекательность послания. Построение уммы как основной групповой идентичности для всех, кто присоединился к религии Мухаммеда, заменило чувство лояльности и идентичности, которое арабы давали своим племенам. Последовавший за этим союз племен под властью уммы возвел ислам не просто в религию, а в политический институт, способный продвигать и защищать свои интересы за рубежом.
Умма дискурс неизбежно влечет за собой социальный порядок, дифференцированный между мусульманами (привилегированное положение как людей, обладающих моральным авторитетом) и немусульманами, которые были восприняты как морально несостоятельные. Все мусульмане были призваны объединиться против немусульман, или «неверующих».
С этой позицией мусульманские религиозные деятели в конечном итоге провели различие между теми, кто населяет Дар аль-Ислам, или территория Ислама, и Дар аль-Харб, или территория войны. Это поместило верующих в Дар аль-Ислам, состоящий из территории, управляемой мусульманами, которая символизировала мир, вместо идеала уммы. И наоборот, Дар аль-Харб был составлен на территории, контролируемой немусульманами, кощунственной общиной, которая, как считается, отвергла ислам и тем самым утверждала состояние конфликта с мусульманами. Это было далее разделено, чтобы различать враждебных и пассивных немусульман. Исламские лидеры поручили своим армиям встретить силой только враждебных немусульман, тогда как пассивных немусульман нужно было сначала пригласить принять ислам и жить в Дар-аль-Ислам. Это сделало цели и интересы мусульман и немусульман по своей сути противоречивыми и обреченными на конфликт.
Чтобы эти структурные антагонизмы переросли в беспрецедентную форму насилия, должно было кристаллизоваться одно последнее условие: эволюция института джихада. Несмотря на противоречивость в качестве предмета (западных) академических исследований, мусульманские ученые, а также его первые последователи рассматривали джихад как разновидность войны, имеющую духовное значение. Созданный для расширения и защиты исламского государства, джихад сделал борьбу общественным долгом и фактически сакрализовал борьбу в исламской структуре войны. Это дало мусульманам военную идентичность, которая позволила им стереть свои грехи, взяв в руки меч. Грешники могли засвидетельствовать чистоту своей веры, умирая в битве мученической смертью, которая гарантировала переход в Рай.
Таким образом, индивидуальная борьба была связана с борьбой государства. Таким образом, джихад определил моральную цель войны в исламском обществе, а на более глубоком уровне – способ выражения человеком значения своей человечности как продолжения воли Бога. Как концепция и действие, санкционированные Богом, джихад создал войну как законный ответ на политическую жизнь в исламском обществе. Джихад родился из чувства преследования Мохаммеда и его последователей со стороны языческой элиты Мекки в первые годы ислама. Ранние коранические откровения давали мусульманам разрешение нападать на арабов-язычников, но позже это было истолковано как включающее всех враждебных немусульман. Как сказано в Суре 2: 190: «Сражайтесь на пути Бога, те, кто сражаются с вами; Но не выходите за рамки. Бог не одобряет агрессоров!» Таким образом, законный джихад был ответом только против тех, кто стремился подорвать мирное распространение ислама посредством обращения, а не вооруженной силы.
Именно эта особенность исламского института войны позволила превратить основной структурный антагонизм ислама (верующие против неверующих) в насильственные конфликты при определенных религиозно предписанных обстоятельствах. Новое социальное построение справедливости войны в сочетании с вышеупомянутыми онтологическими измерениями джихада определили природу и условности, а также транслокальные нормативные и идеальные структуры, которые определили легитимность и моральную цель того, что стало известно как исламские завоевания.
5
Краткая хронология Крестовых походов
По определению главного редактора исторического сайта «Путешествия во времени» Павела Чайки: крестовые походы – вооруженное движение народов христианского Запада на мусульманский Восток, выразившееся в целом ряде походов в продолжение двух столетий (с конца XI до конца XIII в.) c целью завоевания Палестины и освобождения Гроба Господня из рук неверных; оно является могущественной реакцией христианства против усилившейся в то время власти ислама (при халифах) и грандиозной попыткой не только завладеть некогда христианскими областями, но и вообще широко раздвинуть пределы господства креста, этого символа христианской идеи. Участники этих походов, крестоносцы, носили на правом плече красное изображение креста с изречением из Святого Писания (Лук. 14,27), благодаря чему и походы получили название «крестовых».
Причины крестовых походов
Причины крестовых походов лежали в западноевропейских политических и экономических условиях того времени: борьба феодализма с возрастающей властью королей выдвинула, с одной стороны, ищущих независимых владений феодалов, со другой – стремление королей избавить страну от этого беспокойного элемента; горожане видели в движении в далекие страны возможность расширения рынка, а также приобретения льгот от своих ленных сеньоров, крестьяне спешили участием в крестовых походах освободиться от крепостной зависимости; папы и вообще духовенство нашли в руководящей роли, которую им предстояло играть в религиозном движении, возможность осуществления своих властолюбивых замыслов. Наконец, во Франции, разоренной 48-ю голодными годами в короткий промежуток времени с 970 по 1040 годы, сопровождаемыми моровой язвой, к вышеуказанным причинам присоединилась надежда населения найти в Палестине, этой стране, еще по ветхозаветным преданиям «текущей млеком и медом», лучшие экономические условия.
Другой причиной крестовых походов была перемена положения на Востоке. Уже со времен Константина Великого, воздвигшего у Святого Гроба великолепную церковь, на Западе вошло в обычай путешествовать в Палестину, к святым местам, и халифы покровительствовали этим путешествиям, доставлявшим стране деньги и товары, позволив пилигримам построить церкви и больницу. Но когда Палестина к концу X столетия подпала под власть радикальной династии Фатимидов, начались жестокие притеснения христианских пилигримов, еще более усилившиеся после завоевания Сирии и Палестины сельджуками в 1076 году.
Тревожные известия о поругании святых мест и о дурном обращении с богомольцами вызвали в Западной Европе мысль о военном походе в Азию для освобождения Святого Гроба, вскоре приведенную в осуществление благодаря энергической деятельности папы Урбана II, созвавшего духовные соборы в Пьяченце и Клермоне (1095), на которых вопрос о походе против неверных был решен утвердительно, и тысячеголосый возглас народа, присутствовавшего на Клермонском соборе: «Deus lo vult» («Такова воля Божия») сделался лозунгом крестоносцев. Настроение в пользу движения было подготовлено во Франции красноречивыми рассказами о бедствиях христиан в Святой Земле одного из пилигримов, Петра Пустынника, присутствовавшего также и на Клермонском соборе и воодушевившего собравшихся яркой картиной виденного на Востоке угнетения христиан.
Первый крестовый поход
Выступление в Первый крестовый поход было назначено на 15 августа 1096 года. Но раньше чем приготовления к нему были окончены, толпы простого народа, под предводительством Петра Пустынника и французского рыцаря Вальтера Голяка, отправились в поход через Германию и Венгрию без денег и запасов. Предаваясь по пути грабежу и всякого рода бесчинствам, они были отчасти истреблены венграми и болгарами, отчасти достигли греческой империи. Византийский император Алексей Комнин поспешил переправить их через Босфор в Азию, где они окончательно были перебиты турками в битве при Никее (октябрь 1096 г.). За первой беспорядочной толпой последовали другие: так, 15 000 немцев и лотарингцев, под предводительством священника Готшалька, отправились через Венгрию и, занявшись в прирейнских и придунайских городах избиением евреев, подверглись истреблению со стороны венгров.
Настоящее ополчение выступило в Первый крестовый поход только осенью 1096 г., в виде 300 000 хорошо вооруженных и превосходно дисциплинированных воинов, под предводительством самых доблестных и знатных рыцарей того времени: рядом с Готфридом Бульонским, герцогом Лотарингским, главным предводителем, и его братьями Балдуином и Евстафием (Эсташем), блистали: граф Гуго Вермандуа, брат французского короля Филиппа I, герцог Роберт Нормандский (брат английского короля), граф Роберт Фландрский, Раймунд Тулузский и Стефан Шартрский, Боэмунд, князь Тарентский, Танкред Апулийский и другие. В качестве папского наместника и легата войско сопровождал епископ Адемар Монтейльский.
Участники Первого крестового похода прибыли различными путями в Константинополь, где греческий император Алексей вынудил у них ленную присягу и обещание признать его феодальным сеньором будущих завоеваний. В начале июня 1097 г. войско крестоносцев появилось пред Никеей, столицей сельджукского султана, и после взятия последней подвергалось чрезвычайным трудностям и лишениям. Тем не менее, им были взяты Антиохия, Эдесса (1098) и, наконец, 15 июня 1099 г., Иеру-салим, бывший в то время в руках египетского султана, безуспешно пытавшегося восстановить свое могущество и разбитого наголову при Аскалоне.
Взятие Иерусалима крестоносцами
По окончании Первого крестового похода Готфрид Бульонский был провозглашен первым иерусалимским королем, но отказался от этого звания, называя себя лишь «защитником Гроба Господня»; в следующем году он умер, и ему наследовал брат его Балдуин I (1100–1118), завоевавший Акку, Берит (Бейрут) и Сидон. Балдуину I наследовал Балдуин II (1118–1131), а последнему Фульк (1131–1143), при котором королевство достигло наибольшего расширения своих пределов.
Под влиянием известия о завоевании Палестины в 1101 г. двинулось в Малую Азию новое войско крестоносцев под предводительством герцога Вельфа Баварского из Германии и два других, из Италии и Франции, составившие в общей сложности армию в 260 000 человек и истребленные сельджуками.
Второй крестовый поход
В 1144 году Эдесса была отнята турками, после чего папа Евгений III объявил Второй крестовый поход (1147–1149), освобождая всех крестоносцев не только от их грехов, но вместе с тем и от обязанностей относительно их ленных господ. Мечтательный проповедник Бернард Клервоский сумел, благодаря своему неотразимому красноречию, привлечь ко Второму крестовому походу короля французского Людовика VII и императора Конрада III Гогенштауфена. Два войска, составлявшие в общей сложности, по уверениям западных хронистов, около 140 000 латных всадников и миллион пехотинцев, выступили в 1147 г. и направились через Венгрию и Константинополь и Малую Азию. Вследствие недостатка продовольствия, болезней в войсках и после нескольких крупных поражений план отвоевания Эдессы был оставлен, а попытка нападения на Дамаск не удалась. Оба государя возвратились в свои владения, и Второй крестовый поход окончился полным неуспехом.
Государства крестоносцев на Востоке. Третий крестовый поход
Поводом к Третьему крестовому походу (1189–1192) послужило завоевание Иерусалима 2 октября 1187 г. могущественным египетским султаном Саладином. В этом походе участвовали три европейских государя: император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский Ричард Львиное Сердце. Первым выступил в Третий крестовый поход Фридрих, войско которого по пути возросло до 100 000 человек; он избрал путь вдоль Дуная, по дороге должен был преодолевать происки недоверчивого греческого императора Исаака Ангела, которого только взятие Адрианополя побудило дать свободный проход крестоносцам и помочь им переправиться в Малую Азию. Здесь Фридрих разбил в двух сражениях турецкие войска, но вскоре после этого утонул при переправе через реку Каликадн (Салеф). Сын его, Фридрих, повел войско далее через Антиохию к Акке, где нашел других крестоносцев, но вскоре умер. Город Акка в 1191 г. сдался французскому и английскому королям, но открывшиеся между ними раздоры принудили французского короля вернуться на родину. Ричард остался продолжать Третий крестовый поход, но, отчаявшись завоевать Иерусалим, в 1192 г. заключил с Саладином перемирие на три года и три месяца, по которому Иерусалим остался во владении султана, а христиане получили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а также право свободного посещения Святого Гроба.
Четвертый крестовый поход
Четвертый крестовый поход (1202–1204) имел первоначально целью Египет, но участники его согласились оказать помощь изгнанному императору Исааку Ангелу в его стремлении снова взойти на византийский трон, что увенчалось успехом. Исаак вскоре умер, а крестоносцы, отклонившись от своей цели, продолжали войну и взяли Константинополь, после чего предводитель Четвертого крестового похода, граф Балдуин Фландрский, был избран императором новой Латинской империи, просуществовавшей, однако, только 57 лет (1204–1261).
Осада Константинополя крестоносцами. Пятый крестовый поход
Не принимая во внимание странного Крестового похода детей в 1212 году, вызванного желанием испытать действительность воли Божьей, Пятым крестовым походом можно назвать поход короля Андрея II Венгерского и герцога Леопольда VI Австрийского в Сирию (1217–1221). Вначале он шел вяло, но после прибытия с Запада новых подкреплений крестоносцы двинулись в Египет и взяли ключ для доступа в эту страну с моря – город Дамиетту. Однако попытка захватить крупный египетский центр Мансуру успеха не имела. Рыцари ушли из Египта, и Пятый крестовый поход окончился восстановлением прежних границ.
Шестой крестовый поход
Шестой крестовый поход (1228–1229) совершил германский император Фридрих II Гогенштауфен. За долгие отсрочки начала похода папа отлучил Фридриха от церкви (1227). На следующий год император все же отправился на Восток. Пользуясь раздорами тамошних мусульманских владетелей, Фридрих завел с египетским султаном аль-Камилем переговоры о мирном возвращении христианам Иерусалима. Чтобы поддержать свои требования угрозой, император и палестинские рыцари осадили и взяли Яффу. Угрожаемый еще и султаном дамаскским, аль-Камиль подписал с Фридрихом десятилетнее перемирие, вернув христианам Иерусалим и почти все земли, некогда отнятые у них Саладином. По окончании Шестого крестового похода Фридрих II короновался в Святой Земле иерусалимской короной.
Нарушение перемирия некоторыми пилигримами повело через несколько лет к возобновлению борьбы за Иерусалим и к окончательной его потере христианами в 1244 г. Иерусалим отняло у крестоносцев тюркское племя хорезмийцев, вытесненное из прикаспийских областей монголами во время движения последних на Европу.
Седьмой крестовый поход
Падение Иерусалима вызвало Седьмой крестовый поход (1248–1254) Людовика IX Французского, давшего во время тяжкой болезни обет сражаться за Гроб Господень. В августе 1248 г. французские крестоносцы отплыли на Восток и провели зиму на Кипре. Весной 1249 г. армия Людовика Святого высадилась в дельте Нила. Вследствие нерешительности египетского полководца Фахреддина она почти без труда взяла Дамиетту. Задержавшись там на несколько месяцев в ожидании подкреплений, крестоносцы в конце года двинулись на Каир. Но у города Ман-суры путь им преградила сарацинская армия. После тяжких усилий участники Седьмого крестового похода смогли переправиться через рукав Нила и даже на время ворваться в Мансуру, но мусульмане, воспользовавшись разделением христианских отрядов, нанесли им большой урон.
Крестоносцам следовало отступать к Дамиетте, однако вследствие ложных понятий о рыцарской чести они не поспешили сделать это. Вскоре их окружили крупные сарацинские силы. Потеряв множество солдат от болезней и голода, участники Седьмого крестового похода (почти 20 тысяч человек) были вынуждены сдаться в плен. Еще 30 тысяч их товарищей погибло. Христианские пленники (в том числе и сам король) были освобождены лишь за огромный выкуп. Дамиетту пришлось вернуть египтянам. Уплыв из Египта в Палестину, Людовик Святой еще около 4 лет провел в Акке, где занимался обеспечением христианских владений в Палестине, пока смерть его матери Бланки (регентши Франции) не отозвала его на родину.
Крестовый поход Людовика Святого. Восьмой крестовый поход
Вследствие полной безрезультатности Седьмого крестового похода и постоянных нападений на христиан Палестины нового египетского (мамлюкского) султана Бейбарса тот же король Франции Людовик IX Святой предпринял в 1270 году Восьмой (и последний) крестовый поход. Крестоносцы поначалу вновь думали высадиться в Египте, но брат Людовика, король Неаполя и Сицилии Карл Анжуйский склонил их плыть в Тунис, который был важным торговым конкурентом Южной Италии. Выйдя на берег в Тунисе, французские участники Восьмого крестового похода стали ждать прибытия войска Карла. В их тесном лагере началась чума, от которой умер сам Людовик Святой. Мор причинил армии крестоносцев такие потери, что приехавший вскоре после смерти брата Карл Анжу предпочел прекратить поход на условиях выплаты правителем Туниса контрибуции и освобождения им христианских пленников.
Конец Крестовых походов
В 1286 г. отошла к Турции Антиохия, в 1289 г. – ливанский Триполи, а в 1291 г. – Акка, последнее крупное владение христиан в Палестине, после чего они вынуждены были отказаться и от остальных владений, и вся Святая Земля соединилась опять в руках магометан. Так окончились Крестовые походы, стоившие христианам стольких потерь и не достигшие первоначально намеченной цели.
6
Средневековая геополитика: крестовые походы на Святую Землю
Крестовые походы на Святую Землю были «освободительными войнами», первоначально начатыми Церковью, чтобы вернуть Иерусалим христианскому правлению. После Первого крестового похода и установления княжеств крестоносцев (графство Эдесса, Антиохийское княжество, графство Триполи и Иерусалимское королевство – все вместе известны как Outremer), эти экспедиции проводились главным образом для защиты святых мест или, после его потери в 1187 году и снова в 1244 году, вернуть Иерусалим для латинского христианского мира1.
Хотя эти войны были санкционированы и велись от имени Церкви, эти войны велись князьями, дворянами и рыцарями со всех концов латинского христианского мира, а также так называемыми «крестоносцами» (milites ad terminum) и военными орденами, такие как тамплиеры и госпитальеры. Они сражались главным образом против ряда мусульманских держав, хотя Четвертый крестовый поход в конечном итоге велся против Византийской империи, другого христианского государства. Хотя идея запуска дополнительных экспедиций по освобождению Иерусалима продолжалась в течение значительного времени, крестовые походы на Святую Землю фактически закончились падением последнего христианского оплота в Палестине – Аккa – в 1291 году.
Как утверждает Джонатан Райли-Смит в своей книге «Крестовые походы: история»2, после «рождения» крестового движения и Первого крестового похода, история крестовых походов на Святую Землю может быть описана в несколько отдельных этапов.
Первый из них – 1102–1187 гг. – он описывает как «крестовый поход в подростковом возрасте». На этом этапе церковь и княжества крестоносцев были вынуждены решительно перейти к обороне из-за все более единого исламского государства, стремившегося отвоевать Иерусалим и искоренить христианское присутствие в Сирии и Палестине. Успех Первого крестового похода во многом был обусловлен разобщенностью и междоусобными конфликтами в исламском мире. Это также относится и к периоду создания государств крестоносцев: разобщенность между соседними мусульманскими государствами (Рум, Алеппо и Мосул, Дамаск, Египет, Сейхар, Хама, Хомс) означала, что христианские принцы могли противостоять друг другу с большим стратегическим эффектом.
Однако почти сразу после освобождения Иерусалима мусульманская оппозиция начала объединяться: например, египетские силы пытались захватить Иерусалим уже в 1099 году, как и силы султаната Ирака, начиная с 1110 года. Зловещее с точки зрения Церкви все более объединенное мусульманское государство с центром в Мосуле и Алеппо начало объединяться в 1120-х годах. Когда в 1128 году был назначен новый губернатор, Имад ас-Дин Зенги, он возглавил этот новый объединенный эмират в серии кампаний, направленных на дальнейшее расширение того, что стало его личным достоянием, за счет его христианских и мусульманских соседей. Когда в 1144 году граф Эдесса вступил в оборонительный союз с одним из мусульманских противников Зенги, Зенги почувствовал возможность и напал на графство Эдесса.
Почти сразу после того, как они захватили Иерусалим в 1099 году, руководство крестоносцев осознало, что для обеспечения безопасности Святой Земли необходимо создать своего рода оборонительный буфер вокруг Иерусалима. В дополнение к «внутреннему кольцу», сформированному княжествами, основанными во время Первого крестового похода, для этого также потребуется «внешнее кольцо», включающее ключевые стратегические города Аскалон, Алеппо, Дамаск и средиземноморские порты, которые все могли бы обеспечить плацдарм для любого будущего мусульманского контрнаступления против Иерусалимского королевства.
С падением Эдессы эта стратегия была серьезно скомпрометирована. 1 декабря 1145 года папа Евгений III отреагировал на это нежелательное событие, выпустив общее письмо под названием Quantum praedecessores, в котором содержался призыв ко Второму крестовому походу для борьбы в защиту Святой Земли. После плохого первоначального ответа энциклика была переиздана 1 марта 1146 года, и аббату Бернару из Клерво было поручено проповедовать крестовый поход во Франции и Германии. Quantum praedecessores был дополнен второй энцикликой, выпущенной в октябре того же года, Divini dispensatione – специально для итальянского духовенства.
В дополнение к призыву вооруженных мирян взять крест и прийти на помощь осажденным братьям в Аутремере, оба эти письма предлагали тем, кто принял крест, прощение грехов, защиту собственности и другие привилегии. Mотивы этого призыва к крестовому походу: с одной стороны, необходимость исправить несправедливость, допущенную мусульманами (незаконный захват одного из старейших из всех христианских городов; разграбление местной церкви и ее реликвий и убийство местного архиепископа и его духовенства); и, с другой стороны, необходимость справиться с угрозой для Церкви и всего христианского мира, вызванной потерей города. Папа распространил крестовый поход на Иберию и балтийскую границу, фактически разрешив кампанию с тремя фронтами по защите и расширению латинского христианского мира.
Ответом на призыв стала необычайная мобилизация вооруженных мирян латинского мира. В 1147 году две массивные армии – одна под руководством французского короля Людовика VII, другая под руководством Конрада III из Германии – вступили в быстрой последовательности по сухопутному маршруту через византийскую Грецию и Анатолию в Сирию. Однако, несмотря на огромный энтузиазм, порожденный этим предприятием, печальная реальность (с точки зрения Церкви) заключалась в том, что эти армии крестоносцев просто не справлялись с борьбой против мусульман, угрожающих Аутремеру. На фоне политического маневрирования французских, немецких и византийских лидеров турки-сельджуки нанесли сокрушительные поражения армии Конрада в Дорилее и армии Луи в Лаодикии, как в Малой Азии.
Несмотря на явную опасность, которую представляет объединение Египта и Сирии под руководством Саладина в 1174 году, последовавшая за этим деморализация и разочарование выдвинули на первый план возможность крупного крестового похода на Восток для большей части поколения.
Второй этап с 1187 год.
Прежде всего, этот этап, который начался с падения Иерусалима и победой Саладинa в 1187 году и завершился его восстановлением в латинском христианстве в 1229 году, характеризовался глубоким изменением геополитической цели: в течение этого периода крестовые походы проводились уже не с целью защиты защита Иерусалима, а с целью его восстановления.
После провала Второго крестового похода, джихада против христианских княжеств предоставлена общая цель и объединяющий религиозный центр для мусульманских государств в регионе. Опираясь на это, сын и преемник Зенги, Нур ад-Дин, сначала создали единый сирийский эмират, а затем заключил союз с Египтом с целью оказания давления на христиан.
После его смерти визирь Египта Саладин вторгся в Сирию и основал султанат Айюбид, создав впервые действительно объединенную мусульманскую политику, окружающую Аутремер. Как только он укрепил свою власть над этой «империей», Саладин возобновил джихад против княжеств крестоносцев.
После сложного периода, отмеченного несколькими заметными победами и несколькими серьезными поражениями, а также в момент, когда «христиане были исключительно слабыми и разделенными», армия Саладина атаковала Тверию. Когда христианская армия двигалась, чтобы освободить осажденную цитадель, Саладин поймал их в крайне неблагоприятном положении и нанес им сокрушительное поражение в битве при Хат-тине.
Большинство массивного христианского воинства было убито или захвачено, включая Короля Иерусалима, Мастера Храма и многих других важных лидеров. Кусок Истинного Креста, который, по-видимому, был найден во время Первого крестового похода и, как правило, переносился в битву королем Иерусалима, был захвачен победителями-мусульманами и перевернулся вверх ногами по улицам Дамаска. С княжествами, лишенными своих лучших воинов, Аутремер был сокращен до немногим больше, чем прибрежные анклавы Триполи, Антиохии и Тира.
29 октября 1187 года папа Григорий VIII отреагировал на эти катастрофические события выпуском энциклики – Audita tremendi, в которой призвал князей, дворян и рыцарей латинского христианского мира начать экспедицию, чтобы еще раз освободить Иерусалим от мусульман. Энциклика началась с характеристики катастрофического падения Иерусалима как наказания за коллективную греховность всего христианского мира; папа утверждал, что город был потерян из-за грехов христиан повсюду. В таком случае, продолжала энциклика, искупление и освобождение Святых Мест обязательно требовало покаянных жертв со стороны христиан повсюду.
По сути, папа призвал латинский христианский мир искупить себя через акты покаяния, благочестия и очищения, включая участие в экспедиции по освобождению Иерусалима. В практическом плане энциклика также стремилась облегчить такую экспедицию, навязывая семилетнее перемирие по всему латинскому христианству и мобилизуя князей и знать латинского христианского мира, предлагая им теперь обычные послабления, привилегии и защиту в обмен на их покаяние, участие в вооруженном паломничестве в Иерусалим.
Ответ на призыв Григория был, возможно, крупнейшим военным предприятием в средние века. Ричард I (Львиное Сердце) из Англии, Филипп II (Август) из Франции и Фридрих I (Барбаросса) из Священной Римской империи вели огромные армии на Святую Землю.
Ричард Львиное Сердце и Третий крестовый поход
Продолжая концентрироваться на крестовых походах, мы подошли к кампании на Святой Земле – Третьему крестовому походу (1189–1192), который возглавлял английский король Ричард Львиное Сердце. Mы попытаемся объяснить один из самых важных вопросов войны: почему король Ричард решил отказаться от своей попытки освободить Иерусалим в 1192 году?
Однако в очередной раз кампания оказалась неудачной. Фредерик случайно утонул в пути, оставив крупную армию под командованием герцога Леопольда IV Австрийского, чтобы продвинуться в Палестину. Разногласия между тремя лидерами временного крестового похода впоследствии привели к отъезду Леопольда и Филиппа из Святой Земли в 1191 году. Это оставило только Ричарду продолжение кампании, что он сделал умело и с некоторыми заметными военными успехами против Саладина. Когда он начал свою кампанию, Латинское королевство состояло всего лишь из нескольких прибрежных городов и нескольких изолированных внутренних крепостей3.
Под руководством короля Ричарда (король Франции Филипп II покинул Святую Землю вскоре после падения Акры), они затем двинулись на юг вдоль побережья, снова обогнав Саладина в битве при Арсуфе (7 сентября) и захватив Яффу (10 сентября) – порт, который был лучшим плацдармом для наступления на Иерусалим. Оттуда крестоносцы начали осторожно двигаться вглубь страны, захватив Казаль-де-Плейнс и Казаль-Мойен (31 октября), ближайшее из укреплений, построенных для защиты дороги в Иерусалим. Так как они были уничтожены Саладином то крестоносцы были вынуждены потратить следующие две недели на их восстановление.
Как только эти укрепления были восстановлены, Ричард снова продвинулся, на этот раз взяв Рамлу (17 ноября) и вынудив Саладина уйти в Латрун. Затем наступила непогода, и Ричард остановил наступление в надежде, что Саладин будет вынужден расформировать свою полевую армию (как требовали эмиры султана, учитывая трудности поддержания сил и проведения кампаний в зимнее время). Саладин смог сохранить свою полевую армию до 12 декабря, но затем был вынужден разогнать большую часть своего войска и уйти с сильно уменьшенными силами в Иерусалим. После Рождества Ричард возобновил наступление, захватив Бейт-Нубу, всего в 12 милях от Священного города, 3 января 1192 года.
Теперь казалось, что сцена подготовлена для решительного наступления на Иерусалим. Большая и хорошо обеспеченная армия крестоносцев, имеющая опыт в осадном искусстве, продвинулась в пределах досягаемости от Священного города. Полевая армия Саладина, которая была источником большого беспокойства для Ричарда на марше внутри страны, разбросана по четырем углам его империи. Несмотря на погоду и ужасные условия, у крестоносцев был высокий моральный дух. Казалось, все указывает в сторону неизбежной – и неизбежно успешной – атаки на Иеру-салим за некоторое время до возобновления сезона агитации весной.
И затем, 8 января, Ричард приказал отступить к Рамле, первый этап в более общем уходе вплоть до побережья. Как мы можем объяснить этот потрясающий поворот? Как мы можем объяснить роковое отступление, когда главная цель и цель крестового похода оказались в руках Ричарда?
Общепринято мнение, что решение короля Ричарда отказаться от наступления на Иерусалим в январе 1192 года было более или менее рациональным стратегическим ответом на объективные военные обстоятельства. Погода была ужасная – сильный ветер; очень низкие температуры; дождь, град, мокрый снег и снег – и все хуже. Броня и мечи ржавели, еда разлагалась, одежда гнила. И истощение из-за болезней, дезертирства ускорилось.
6 января состоялась встреча руководства крестового похода для обсуждения дальнейших шагов. На этой встрече были выдвинуты два аргумента. С одной стороны, те крестоносцы из Европы, которые «взяли крест» (обет совершить паломничество к святым местам), решительно выступали за нападение. Они стремились выполнить свои клятвы и верили, что находятся на пороге этого. Они утверждали, что, учитывая судьбу гарнизона Акpa (который был убит после длительной осады), гарнизон Иерусалима, вероятно, сдастся при первых признаках нападения.
С другой стороны, те, кто имел более глубокие корни в Святой Земле, особенно тамплиеры и госпитальеры, выступали против нападения на Иерусалим. Их логика была проста: если крестоносцы осадили Святой город, в конечном итоге они окажутся в ловушке между гарнизоном и освобождающей армией, которая неизбежно прибудет после возобновления сезона кампании. В дополнение к этому, утверждали они, существовала постоянная угроза со стороны остаточных, но мощных сил айюбидов, которые преследовали линии снабжения христианских хозяев. Наконец, они утверждали, что, даже если Иерусалим был взят, его нельзя было удержать. Ибо подавляющее большинство паломников, исполнившие свои клятвы, отправятся на Святую Землю навсегда, а остальной силы недостаточно для защиты Священного города.
В нынешней общепринятой версии, Ричард тщательно взвешивает эти аргументы, пытаясь определить дальнейший ход крестового похода на основе военно-оперативных соображений. В какой-то момент в обсуждениях он, как говорят, попросил кого-то с местными знаниями нарисовать карту Иерусалима. Как только он увидел степень городских укреплений, он сразу понял, что его силы не могут ни охватить город на достаточной глубине, ни помешать его гарнизону успешно атаковать.
Говорят, что это осознание нарушило равновесие в пользу тех, кто выступал за отказ от наступления на Иерусалим.
Что мы должны сделать из этого объяснения? Действительно ли мы согласны с тем, что самый острый военный ум и самый опытный крестоносец христианского мира не попросил бы карту защиты Иерусалима, пока он не всего в нескольких милях? Должны ли мы верить в то, что, если бы он серьезно относился к нападению на Иерусалим, Ричард привел бы войско крестоносцев в пределах досягаемости от Священного города, а затем отказался бы атаковать его из-за плохой погоды или шансов на то, что освободившаяся армия Айюбидов прибудет несколько месяцев спустя в будущем?
Учитывая то, что мы знаем о характере Ричарда, это кажется маловероятным.
Альтернативное объяснение, ключ к разгадке этой загадки просто не найти в узкой логике оперативных военных расчетов. Скорее, это должно быть обнаружено в более широкой логике стратегической мысли Ричарда. Что я имею в виду под этим? Проще говоря, я имею в виду, что Ричард не решил отказаться от похода на Иерусалим, потому что на встрече 6 января его убедили, что погода, ухудшение морального состояния, угроза освобождения сарацинской армии, протяженность городских укреплений или любые другие строго военные соображения продиктовали смену политики. Скорее он отказался от наступления, потому что он никогда не намеревался напасть на Иерусалим.
Немного расширяя рамки, я привожу здесь аргумент, что Ричард никогда не предполагал использовать грубую военную силу для захвата Иерусалима и восстановления княжеств крестоносцев.
Другими словами, он никогда не представлял себе прямую завоевательную войну, в которой айюбиды были изгнаны из Святой Земли одной лишь силой оружия. Вместо этого Ричард рассматривал использование военной силы как средство давления на Саладина путем переговоров, которое позволило бы ему реализовать свои основные стратегические цели (жизнеспособное христианское присутствие на Святой Земле; христианский доступ к святым местам) в кратчайшие возможные сроки (Ричард прекрасно понимал, что и король Филипп, и его брат принц Джон хорошо использовали его отсутствие, чтобы подорвать его положение во Франции и Англии).
Какие доказательства можно привести в поддержку этого аргумента? Что ж, если мы внимательно посмотрим на запись Ричарда на Святой Земле через этот объектив, две (тесно связанные) модели станут видимыми. Во-первых, мы видим последовательность попыток прийти к урегулированию на основе переговоров с Саладином. С октября 1191 года Ричард поддерживал регулярные контакты с братом султана аль-Адилем, стремясь достичь урегулирования на основе переговоров, которое позволило бы достичь основной стратегической цели Ричарда, в то же время освободив его для возвращения домой, чтобы иметь дело с Филиппом и Джоном. Некоторые из предложений Ричарда – такие как предложение жениться на его сестре Джоан в Аль-Адиль в рамках проекта кондоминиума – могли быть немного надуманными.
Во-вторых, мы видим последовательную структуру военных операций, которая не имеет большого смысла, если бы стратегия Ричарда была завоевательной, но имеет большой смысл, если его стратегия заключалась в максимизации переговорного рычага. Еще в августе 1191 года Ричард, похоже, решил, что прямое нападение на Иерусалим – стратегия военного завоевания – нецелесообразно: так как тамплиеры и госпитальеры будут бесконечно консультировать его, марш внутри страны подвергнет его возможности кровавой расправы в Хаттине; город будет чрезвычайно трудно взять без жесткой и длительной осады; и даже если бы Иерусалим действительно пал перед крестоносцам, его было бы очень трудно удержать. На мой взгляд, именно на этом самом раннем этапе крестового похода Ричард выбрал косвенный дипломатический подход.
После падения Акры первоначальный план Львиного Сердца состоял в том, чтобы пройти вдоль побережья к Аскалону, который доминировал на пути между Сирией и Египтом (последний являлся источником богатства Саладина). Аргументация Ричарда состояла в том, что, когда он контролирует Аскалон, он может угрожать Египту, гораздо более важному для Саладина, чем Иеру-салим, и, таким образом, создать благоприятный контекст для переговоров (которые он начал почти сразу после прибытия в Святую Землю). Однако, подчиняясь давлению руководства крестового похода, в сентябре Ричард неохотно согласился с требованием большинства о том, что он возглавит нападение на Иерусалим.
К октябрю, однако, даже когда крестоносцы начали наступление на Священный город, Ричард начал готовиться к полномасштабному вторжению в Египет – хотя, опять же, похоже, его целью было скорее убедить Саладина в его серьезности, чем фактически приведено в движение крупное наступление.
И, конечно же, после решения отказаться от наступления на Иерусалим в январе 1192 года, когда Ричард мог повести крестоносцев против любой цели, он немедленно повел войско на Аскалон.
В самом деле, запись указывает, что каждый раз, когда Ричард смог добиться своего, он вел крестоносцев к тому, что можно считать только его главной стратегической целью: Аскалону, опоре в империи Саладина и козырю столь огромной ценности, что Саладин сам однажды разрушил там укрепления, чтобы они не попали в руки Ричарда.
С этой точки зрения решение «отказаться» от наступления на Иерусалим в январе 1192 года вполне объяснимо. Для Ричарда захват Иерусалима силой оружия никогда не был главной стратегической целью. Конечно, он согласился возглавить наступление под давлением и, вероятно, надеялся, что такое продвижение поможет Саладину договориться об урегулировании, выгодном для крестоносцев. Но он никогда серьезно не намеревался осадить Святой Город. Когда ему удалось отменить аванс, он воспользовался этой возможностью, возобновив как переговоры, так и свою косвенную стратегию давления на Саладина путем взятия, укрепления и удержания Аскалона.
O двух вопросах «что если», которые естественным образом возникают при любом обсуждении этого рокового стратегического решения: что если христианское войско не отказалось от наступления на Иерусалим, а вместо этого осадило его? И что если эта осада была успешной и Иерусалим был бы возвращен в руки христиан?
Средневековая геополитика: мог ли король Ричард захватить Иерусалим во время третьего крестового похода?
Эндрю Лэтэм обсуждаeт стратегическое обоснование решения короля Ричарда отказаться от движения по Иерусалиму в январе 1192 года. Oн утверждаeт, что общепринятым объяснением было то, что сочетание тактических / оперативных факторов в конце декабря / начале января сошлось, чтобы убедить Львиное Сердце, что он просто не мог продвинуться дальше к Святому Городу.
Aльтернативное объяснение Эндрю Лэтэм состояло в том, что Ричард еще в сентябре 1191 года решил, что Иерусалим не может быть взят силой, и согласился продвигаться по городу осенью 1191 года в результате политического давления, оказанного на него изнутри крестового похода – его предпочтение было косвенной стратегией, которая включала бы угрозу Египту и затем ведение переговоров по Иерусалиму с позиции силы.
Хотя эти два объяснения различаются во всех отношениях, они разделяют одно чрезвычайно важное предположение: что, учитывая его местоположение, погоду и ограничения христианского воинства, Иерусалим просто не может быть взят силой оружия. Но допустимо ли это предположение? Что, если Ричард продолжил атаку в декабре 1191 года? Разве город пал бы от крестоносцев? Или христианское войско разбилось бы об стены Священного города? Хотя мы никогда не можем знать наверняка, Эндрю Лэтэм утверждаeт, что если бы Ричард настаивал на своем нападении, Иерусалим вполне мог бы оказаться перед ним в январе 1192 года. Он пишет о более широких стратегических последствиях такого развития событий.
Иерусалим: «Мост слишком далеко»
Почему Ричард верил, что Иерусалим нельзя взять силой оружия? Можно выделить два типа аргументов. Во-первых, на стратегическом уровне есть аргумент, что, хотя Ричард был фактически непобедим, пока он действовал недалеко от побережья, если бы он рискнул удалиться слишком далеко вглубь страны, он рискнул бы подобным Хаттину поражением от рук численно превосходящих сил Саладина (некоторые оценки дают султану преимущество примерно 2 : 1). Конечно, одно из больших преимуществ, которым пользовались крестоносцы, заключалось в том, что после падения Акры они имели полное морское господство в восточном Средиземноморье (относительно небольшой флот Саладина был практически уничтожен в ходе этой осады). Это не только предоставило им стратегическую мобильность, но и гарантировало, что независимо от того, насколько эффективна стратегия выжженной земли Саладина (и она была очень эффективной), крестоносцы всегда будут иметь доступ к бортовым запасам продовольствия, воды, рабочей силы и оборудования. Эти силы также защищали морской фланг крестоносцев, эффективно предотвращая использование Саладином такой тактики охвата, которую он использовал для столь великого эффекта в битве при Хаттине.
С этой точки зрения стратегическая проблема, с которой столкнулся Ричард, заключалась в том, что Иерусалим находился не на побережье, а, скорее, на Иудейских холмах, чуть более чем в 50 километрах (30 милях) от Яффы (ближайшего порта).
Если бы Ричард осаждал Священный город, eму пришлось бы вывести свои войска из Яффы вглубь страны по очень сложной местности (когда он покинул прибрежную равнину). Его линии снабжения будут уязвимы для нападения, и, действительно, войско уязвимo для окружения и уничтожения. Его главное стратегическое преимущество, военно-морское превосходство, было бы аннулировано, а главное преимущество Саладина – стратегическая глубина – усилилось. Итог: в стратегическом плане Иерусалим был просто «слишком длинным мостом» (если использовать анахронизм) для Ричарда и христианской армии. Нападать на это всегда было стратегической глупостью.
В дополнение к этой стратегической ситуации существовали также тактические и оперативные факторы, которые делали шансы на успешное нападение на Иерусалим чрезвычайно малыми (по крайней мере, в глазах некоторых людей). Сначала были оборонительные сооружения города. Они были настолько обширны, что Ричард сомневался, что у него достаточно сил, чтобы правильно их осадить. Кроме того, Саладин сумел укрепить их во время медленного продвижения Ричарда с побережья, используя 2 000 христианских рабов для укрепления стен и углубления заграждения. Таким образом, к декабрю 1191 года степень и состояние обороноспособности города предполагают, что любая осада должна была быть длительной. Поскольку такую осаду было бы трудно выдержать с точки зрения материально-технического обеспечения (нехватки поставок), политически многим лидерам крестовых походов не хватало стратегического терпения и / или требовалось заниматься бизнесом дома.
Во-вторых, погода. К концу декабря 1191 года войско крестоносцев подверглось сильным дождям, снегу, граду и сильным ветрам. Броня и оружие ржавеют; гниение одежды и пищи; гибель лошадей (от болезней и даже от утопления в грязи); и люди умирают, дезертируют или уходят. Многие, включая Саладина, считали, что напасть на Иерусалим в этих условиях было просто невозможно. В-третьих, были материально-технические трудности: было трудно вывезти достаточное количество еды и других материалов из Яффы – ситуация усугублялась частыми набегами на караваны снабжения крестоносцев со стороны конницы Саладина. Наконец-то появилась топография. Иерусалим не был Акром, и успешная осада первого была значительно затруднена долиной, которая окружала город со всех сторон, за исключением небольшого участка на севере. Взятые вместе, эти стратегические, оперативные и тактические факторы в совокупности позволяют предположить, что Ричард был прав в своем суждении о том, что Иерусалим неприступен и поэтому не должен подвергаться нападению. Но что если его суждение было неверным?
Иерусалим: «карточный домик»
Дело о том, что Иерусалим был далеко не неприступным, основывается на двух аргументах. Первое связано с военной ситуацией. Проще говоря, к январю 1192 года стратегическая позиция Саладина действительно обострилась.
Как и войско Ричарда, войско Саладина состояло из двух элементов: с одной стороны, его домашние войска и прямые вассалы; с другой – те, над кем он осуществлял небольшую прямую власть и кого он мог только убедить (а не приказывать). К концу 1191 года многие из последней группы требовали освобождения от службы Саладину, чтобы вернуться домой. Причины этого, конечно, различны, но по большей части это нежелание продолжать агитацию можно объяснить истощением (они и их люди постоянно воевали), политикой (им нужно было заниматься делами дома).
Какова бы ни была причина, 12 декабря Саладин согласился освободить своих союзников и отступил с относительно небольшой силой в Иерусалим (оставив еще одну небольшую, но опасную ударную силу за стенами, чтобы преследовать линии снабжения крестоносцев). Несмотря на то что некоторые подкрепления прибыли из Египта в конце декабря, возникает вопрос о том, было ли это значительно уменьшенное количество численно достаточным для гарнизона Иерусалима, даже учитывая его улучшенную оборону. И, с качественной точки зрения, существуют реальные вопросы о том, готов ли гарнизон противостоять нападению крестоносцев. Гарнизон Акры (элитные вой-ска) хорошо сражался при гораздо более благоприятных обстоятельствах, но в конечном итоге потерпел поражение (несмотря на то что Саладин бросил все, что у него было, в невероятно безуспешную попытку освободить его).
Кроме того, ситуация с поставками была также нестабильной для Саладина. В дополнение к общей нехватке продовольствия, стратегия истощения Ричарда дала желаемый эффект – ужасная погода повлияла на мусульманские силы, убив многих лошадей и других животных иерусалимского гарнизона. Вместо неприступной крепости, Иерусалим был фактически неадекватным гарнизоном, плохо снабженным и слабо укрепленным городом, у которого было мало реальных шансов противостоять даже умеренно серьезной атаке.
Второй аргумент против тезиса о непримиримости связан с моральным духом, то есть с готовностью гарнизона встать и сражаться. Здесь у нас нет прямых свидетельств состояния боевого духа защитников, но в более общем плане мы знаем из мусульманских летописцев, что пораженчество было широко распространено в армии Саладина после падения Акры. Возможно, более показательно, что у нас также есть современные отчеты о моральном духе солдат Саладина во время второго марша Ричарда по Иерусалиму летом 1192 года.
Эти отчеты дают представление о настроениях, которые, как можно разумно предположить, преобладали среди гарнизона Иерусалима в конце 1191 года / начало 1192 года. Каковы были эти настроения? Говоря прямо, страх и пораженчество. По словам мусульманского летописца Ибн Шаддада, гарнизон летом 1192 года (как, разумеется, зимой 1191/1192) был обеспокоен тем, что их ждет судьба гарнизона Акры, если они не смогут сдать город без боя: поражение и бойня.
Они не хотели воевать (в воздухе витал дух мятежа), и их не особенно волновали попытки Саладина вызвать джихад. И, согласно Ибн Шаддаду, ведущие эмиры Саладина не проявляли гораздо большего боевого духа, чем удрученные рядовые. Снова возвращаясь к Акре, они испугались и были готовы бежать.
В этом случае, конечно, им не пришлось этого делать, поскольку Ричард решил повернуть назад. Но не может быть никаких сомнений в том, что моральный дух в иерусалимском гарнизоне был ужасно низким в обоих случаях, когда Ричард наступал на город. Как известно любому, кто изучал военную историю, моральный дух часто является решающим фактором в любом сражении. При всех равных условиях (которых в данном случае не было) моральный дух или боевой дух обычно являются решающим фактором (хотя удача также играет роль). Зимой 1191/1192 г. боевой дух Иерусалимского гарнизона Саладина, вероятно, достиг своего минимума. С другой стороны, несмотря на погоду и все остальное, чем ближе христианский воин становился к Иерусалиму, тем сильнее улучшался его боевой дух. Отсутствие божественного вмешательства (или слепой удачи / судьбы).
В целом, картина Иерусалима зимой 1191/1192 года не относится к «неприступной крепости». Скорее, это один из «карточных домиков», просто ожидающих, когда кто-нибудь придет и снесет его. Кажется, что Ричард, несмотря на все его стремление и способности, просто не был тем, кто это делал.
Средневековая геополитика: контрфактическая история Третьего крестового похода
Эндрю Лэтэм утверждает, что к январю 1192 года «соотношение сил» на Святой Земле было таким, что если бы он продолжил наступление на Иерусалим, Ричард Львиное Сердце наверняка забрал бы город у Саладина. Очевидная встречная претензия к этому аргументу заключается в том, что «Ричард мог бы захватить Святой Город, но он определенно не мог удерживать его очень долго». Эндрю Лэтэм рассматривает этот встречный aргумент, задавая следующий вопрос: что бы произошло, если бы Ричард победил Саладина и захватил Иерусалим в начале 1192 года?
Аргумент, который Эндрю Лэтэм приводит в ответ на этот вопрос, состоит в том, что если бы крестоносцы под руководством Ричарда захватили Иерусалим в 1192 году, они бы начали развал империи Айюбидов Саладина, создав таким образом стратегические условия, необходимые для обеспечения безопасности королевств крестоносцев (включая город Иерусалим). в течение очень долгого времени.
Аргумент:
Паломники, завершив свое паломничество,
покинут Святую Землю
Большая часть литературы, посвященной Третьему крестовому походу, предполагает или утверждает, что даже если бы Ричард захватил Иерусалим, он не мог бы удерживать его долго. Действительно, сам Ричард, похоже, поверил в это, как, очевидно, и гроссмейстеры военных орденов. Но что именно является основанием для такого взгляда? И, с учетом ретроспективного взгляда, все еще кажется таким же убедительным, как в конце XII века?
Крестовый поход Ричарда состоял из трех основных типов воинов. Во-первых, это были коренные жители королевств крестоносцев. Иногда насмешливо именуемые пулинами, они были потомками коренных христианских жителей Святой Земли или тех европейцев, которые пустили корни на латинском востоке после первого крестового похода. Во-вторых, были члены военных орденов (тамплиеры, госпитальеры и т.д.). Эти люди были завербованы по всему латинскому христианскому миру, но долго служили (иногда всю свою карьеру) на Святой Земле. Наконец, были «паломники» – те европейцы, которые дали клятвы совершить паломничество к святым местам либо в качестве навязанного акта покаяния, либо навязанного акта преданности и благочестия.
Аргумент о том, что Иерусалим, даже если он будет взят Ричардом, не может удерживаться им, в значительной степени основывается на предположении, что после совершения соответствующих актов покаяния паломники (большая часть войска Ричарда) просто покинут Святую Землю и вернуться на свои земли во Францию или Англию или куда угодно.
Это, по крайней мере, так утверждается, фактически лишило бы королевства крестоносцев воинственных людей, оставив только остатки сил (пулины и военные ордена), совершенно неспособные удержать Святую Землю (и, возможно, особенно уязвимый город Иерусалим) против неизбежной контратаки Айюбидов.
Hасчет исторического прецедента Первого крестового похода на первый взгляд, это кажется достаточно правдоподобным. Паломники, завершив свои паломничества, вернутся домой в Европу, чтобы возобновить свою жизнь. Саладин восстановит свои позиции, призовет резервы со всей своей империи и, возможно, более широкого мусульманского мира, захватит Иерусалим и, возможно, даже продолжит полностью уничтожать христианские княжества раз и навсегда. В конечном счете, однако, аргумент не удается поддержать (по крайней мере мне) по одной простой причине: он противоречит фактическому историческому опыту.
Те же аргументы можно было легко привести (и, вероятно, были) во время Первого крестового похода (который проводился исключительно паломниками, пулинами- населениeм Иерусалимского королевства во время крестовых походов). И все же после этого первого «вооруженного паломничества» были созданы четыре огромных христианских княжества, три из которых выжили, даже процветали, в течение почти столетия. Конечно, бойцов всегда было мало. Но сочетание боевой эффективности, умелого руководства, ловкой дипломатии и периодических притоков новой крови из Европы оказалось достаточным для того, чтобы поддерживать Латинский Восток против всего, что Саладин и его предшественники могли бросить в них, вплоть до катастрофической битвы при Хаттине. Поражение было результатом непредвиденных обстоятельств – оно не было неизбежным. Представьте, что по ходу истории король Гай не приказал своей армии идти против Саладина в Тверии.
В конечном счете, Эндрю Лэтэм хотел сказать, что тем или иным крестоносцам удалось найти достаточно рабочей силы как для создания жизнеспособных политико-экономических единиц, так и для защиты их от всех желающих. Если бы это было возможно в 1099 году, а не в 1192-м?
Нам не нужно представлять себе, какая энергия высвободилась бы в христианском мире, если бы Ричард захватил Святой город в XII веке.
Нам осталось только взглянуть на исторический прецедент в конце XI, чтобы увидеть, что произошло бы: огромные волны поселенцев и воинов стекались бы в регион, обеспечивая боевую рабочую силу, необходимую для обеспечения безопасности на Латинском Востоке. Если предположить, что Саладину удалось бы продержаться хотя бы одну военную кампанию, то был бы удержан не только город Иерусалим, но и королевство. Учитывая что к 1193 году Саладин был мертв, а его империя распалась. Все, что нужно было, – это удерживать город до зимы 1192 года.
Второй контраргумент: если бы Саладин потерял Иерусалим, его империя – и, следовательно, угроза Иерусалиму – исчезла бы, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе (успешное нападение на Иерусалим) вызвало бы (небеспрецедентную) социальную динамику в Европе, что поставило бы королевства крестоносцев на прочную стратегическую основу и тем самым обеспечило бы сохранение Иерусалима в христианских руках.
Проблема, по мнению тех, кто утверждает, что Иерусалим невозможно удержать, заключалась в том, что это спорный вопрос, поскольку Саладин вернул бы город в краткосрочной перспективе, тем самым разрушив любую долгосрочную динамику.
С этой точки зрения, как только весной 1192 года начнется следующий сезон кампании, Саладин заново соберет свою армию, маневрирует ею сначала, чтобы осадить Иерусалим (перерезав линию жизни города, ведущую к Яффe), затем осадить его, а затем, наконец, снова взять город – и все это до того, как из Европы могла прибыть волна поселенцев и солдат, чтобы укрепить христианские позиции.
Более того, при захвате Священного города Саладин восстановил бы стратегическую инициативу, предоставив ему сильную позицию для решительного разгрома крестоносцев раз и навсегда. Опять же правдоподобный аргумент – по крайней мере, на поверхности. Но эта линия рассуждений в конечном счете основана на неверном понимании влияния Саладина на власть и неправдоподобных объяснениях возможных последствий его потери Иерусалима. Если начнем с основ и характера власти и влияния Саладина в мусульманском мире. то ко времени Третьего крестового похода султан сумел объединить Египет и Сирию в единую империю Айюбидов. Тем не менее, важно отметить, что эта империя (и сеть альянсов, исходящих из нее) всегда была ненадежной. Саладин должен был посвятить много времени и энергии управлению своими вассалами и союзниками, используя силу, щедрость или какую-то комбинацию этих двух факторов, чтобы удержать всю ветхую систему вместе.
Это, однако, было только частично успешным: многие мусульманские лидеры, как в пределах империи, так и за ее пределами, не были убеждены, что Саладин был мотивирован благочестием, поскольку они знали из личного опыта, что все, что он делал, руководствовалось прежде всего личными и династическими амбициями. Гораздо более успешной в укреплении его сюзеренитета над империей была его личная репутация лидера, который мог решительно победить христиан на поле битвы (Хат-тин, 1187), и как лидера, который освободил почти всю Палестину – и особенно святой город Иерусалим – от неверных. Ничто не может сравниться с успехом, и Саладин действительно оказался очень успешным генералом.
К тому времени, когда Ричард начал свое первое наступление на Иерусалим в 1191 году, военная репутация Саладина уже начала разрушаться. Во-первых, он не смог захватить город Тир после своей победы в Хаттине. Затем он показал неспособность освободить осажденный город Акра (и предотвратить бойню его гарнизона, в которой многие обвиняли султана). Наконец, в сентябре 1191 года произошел катастрофический разгром войск Ричарда под Арсуфом. Учитывая все это, каково будет наиболее вероятное последствие падения Иерусалима в 1192 году перед Ричардом?
По мнению Эндрю Лэтэма, результат не должен был бы привести к тому, что Саладин благоразумно уйдет в Дамаск, чтобы зализать свои раны и восстановить свою армию. Это не повлекло бы за собой его возвращение с восстановленной армией весной, чтобы осадить и вновь захватить Иерусалим. Скорее, более вероятным исходом был бы личный позор Саладина (он стал бы рассматриваться не только как некомпетентный генерал, но и как человек, потерявший Иерусалим). Союзники покинули бы его; вассалы порвали бы с ним; соперники (даже в пределах его собственной семьи) убрали бы его.
Проще говоря, с падением Иерусалима идеологический клей, удерживающий империю Саладина, был бы разрушен. Почти наверняка это серьезно ослабило бы, возможно даже разрушило, империю, поскольку межмусульманские конфликты и соперничество, которые создали такие благоприятные условия для христиан до, во время и после Первого крестового похода, вновь возникли бы всерьез. Суть в том, что весной 1192 года за воротами Священного города не появилось ни одной массивной армии айюби-дов. Действительно, маловероятно, что какая-либо серьезная угроза городу будет создаваться в течение нескольких лет. Тем временем волны европейских поселенцев и солдат наводнили бы Святую Землю (как они это сделали после захвата Иеру-салима в 1099 году), поставив Латинский Восток и его столицу Иерусалим в безопасное стратегическое положение на десятилетия вперед.
Однако, хотя Ричард фактически полностью изменил большинство завоеваний Саладина после битвы при Хаттине, он не смог ни разбить армию султана, ни заставить его покинуть Иерусалим. Лучшее, что он мог сделать, – это согласованное урегулирование, которое гарантировало безоружным христианским паломникам доступ к святым местам, но оставило Святой Город в руках Айюбида. Достигнув этого – и создав геополитические условия, необходимые для выживания Королевства Иеру-салим в течение еще одного столетия, – Ричард навсегда покинул Святую Землю в 1192 году.
Хотя кампания Ричарда против Саладина была в некотором смысле удивительно успешной, с точки зрения Церкви она явно не смогла достичь целей, сформулированных в Audita Tremendi, чтобы быть уверенным, что княжества крестоносцев были восстановлены, и их стратегическое положение значительно улучшилось. Но, как говорит Мэдден, «целью этих государств была защита святых мест; они не были самоцелью». Для папства и многих временных лидеров латинского христианства неспособность Ричарда освободить Иерусалим из-под власти Саладина была сокрушительной неудачей, которую нужно было обратить вспять при первой же возможности.
Неспособность реализовать эту важнейшую цель, таким образом, подготовила почву для еще трех крупных крестовых походов, все из которых были призваны вернуть святые места латинскому христианскому миру. В 1198 году папа Иннокентий III (1198–1216) издал «Энциклику поста несчастного», запустив Четвертый крестовый поход (1202–1204). Общепризнанной целью этой кампании было «освобождение Иерусалима путем нападения на Египет». Однако вскоре он был направлен на византийскую столицу, главным образом в результате стратегического расчета, что «Константинополь в надежных западных руках может считаться таким же активом для освобождения Иерусалима, как и завоевание Александрии».
В то время как ему удалось установить Латинское Королевство Константинополь, этот крестовый поход слишком явно не смог реализовать заявленную цель освобождения Иерусалима.
Пятый крестовый поход (1217–1221), также начатый Иннокентием III, также был призван использовать «полную экономическую, военную и духовную мощь» латинского христианского мира для задачи освобождения Иерусалима, на этот раз под еще более жестким руководством Церкви. Ближайшей целью крестового похода снова был Египет – Нильский порт Дамиетта должен был быть захвачен и использован в качестве базы для нападения на Каир, который в свою очередь должен был использоваться в качестве базы для освобождения Иерусалима. После обширных приготовлений Дамиетта подверглась нападению и была захвачена в 1219 году. Однако в августе 1221 года армия крестоносцев оказалась в окружении сил Айюбидов близ Эль-Мансуры и была вынуждена уйти из Египта.
Шестой крестовый поход (1228–1229) должен был оказаться значительно более успешным, хотя и в большей степени благодаря искусной дипломатии, чем удачному браку. Под давлением сначала папы Гонория III, а затем Григория IX император Священной Римской империи и король Иерусалима Фридрих II, наконец, начал свой долгожданный крестовый поход в 1228 году. Однако он начал свою экспедицию без одобрения папы, потому что, терпя неудачу так долго, чтобы выполнить свою клятву крестоносца, он находился под санкцией отлучения. Хотя его статус отлученного от церкви вызывал у него значительные политические трудности – ему не предоставлялась защита и привилегии крестоносцев; ему противостояли военные приказы, – Фридрих все же смог заставить султана Египта аль-Камиля сесть за стол переговоров.
Хотя сам договор больше не действует, его условия широко освещались в современных отчетах. С одной стороны, взамен столь необходимого десятилетнего перемирия аль-Камиль согласился с тем, что Королевство Иерусалим будет простираться от Бейрута до Яффы и будет включать в себя Вифлеем, Назарет, Бельфор и Монфор и город Иерусалим (который будет демилитаризованным). С другой стороны, Фридрих согласился с тем, что мусульманские жители сохранят контроль над своими святыми местами (Куполом Скалы и Храмом Соломона), останутся во владении своей собственностью и будут управлять собственной системой правосудия. Он также согласился с тем, что Иерусалимское королевство будет оставаться нейтральным в любом будущем конфликте между султанатом и христианскими княжествами Триполи и Антиохии, в то время как многие осуждали его за «унизительный» характер этого исхода.
Средневековая геополитика: крестовые походы на Святую Землю, фаза третья
Третий этап крестовых походов на Святой Земле – период его «зрелости» – начался с истечением перемирия Фридриха в 1239 году и закончился падением последнего остатка Аутремера, города Акры, в 1291 году.
Его вступительный акт включал оккупацию беззащитного города Иерусалима силами айюбидского эмира Керака в 1239 году. На фоне междоусобного конфликта в мусульманском мире в течение следующих двух лет второстепенные армии крестоносцев могли играть на мусульманских группировках друг против друга, тем самым обеспечив возвращение города Иеру-салима и значительно расширив границы Иерусалимского королевства. Но региональный баланс сил вскоре снова изменился, и мусульмане вновь захватили беззащитный город в 1244 году, впоследствии уничтожив его христианских жителей, и подожгли Храм Гроба Господня. Это подготовило почву для последних трех актов этой фазы крестовых походов на Восток.
Седьмой крестовый поход (1248–1254) во главе с королем Франции Людовиком IX был прямым ответом на потерю Священного города. Луи привел огромную армию в Египет, оккупировав Дамиетту почти без сопротивления, а затем наступая на Каир. Однако усиление сопротивления мусульман и вспышка дизентерии в армии крестоносцев изменили ход событий, и Луи был вынужден отступить к своей оперативной базе в Дамиетте. Дополнительные мусульманские успехи вскоре сделали положение армии крестоносцев несостоятельным, и первая попытка Луи освободить Иерусалим закончилась его сдачей султану Египта 6 апреля 1250 года.
Восьмой крестовый поход (1270) был второй попыткой короля Людовика освободить святые места. На этот раз он принял трехступенчатую стратегию: во-первых, атаковать Тунис; во-вторых, продвинуться вдоль северного африканского побережья и взять Египет; и, в-третьих, освободить Иерусалим. Сначала экспедиция пошла хорошо: Карфаген пал в июле 1270 года, и сицилийский флот во главе с Карлом Анжуйским приближался к порту с подкреплением, которое позволило бы королю использовать эту первоначальную победу. 25 августа, однако, Луи умер от дизентерии; крестовый поход был заброшен вскоре после этого.
Наконец, сразу после неудачного Восьмого крестового похода английский принц Эдвард возглавил экспедицию на Святую Землю, чтобы помочь защитить Триполи и оставшееся королевство Иерусалима. Это был Девятый крестовый поход (1271– 1272), условно считающийся последним крупным крестовым походом на Святую Землю. Это закончилось, когда был подписан договор между Египтом и Иерусалимским королевством. После смерти своего отца, короля Генриха III, Эдвард вернулся домой, чтобы занять английский престол как Эдвард I.
Как ясно показывает этот схематический набросок, крестовые походы на Святую Землю были продуктом взаимодействия нескольких факторов: они отражали отличительные военные возможности Церкви (армия крестоносцев и военные религиозные ордена); они выражали интересы папства (освобождение и защита Иерусалима); и они стали возможными благодаря институту крестового похода (представляя Церковь как законную воинственную единицу, а «крестоносца» – как узнаваемую форму auctore с определенным портфелем религиозных интересов).
Конечно, крестовый поход был не единственной формой вой-ны, проводимой христианскими силами на Святой Земле. Динамика общественной или политической войны явно прослеживалась на протяжении двух веков латинского политического присутствия в Сирии и Палестине.
Тем не менее, любой серьезный учет средневековой геополитики должен признавать и принимать во внимание отличительные черты этих церковных войн. Хотя крестовые походы часто переплетались с другими формами насильственных конфликтов, они не сводились к ним; и при этом они не были мотивированы тем же самым основополагающим созвездием военных подразделений, структурных антагонизмов и институтов, которые породили эти другие формы войны. Скорее, они были отличительной формой организованного насилия, которое, как мы увидим, нашло свое выражение и в других частях латинского христианского мира.
Средневековая геополитика: институт крестового похода
Мы хотим расширить эту дискуссию, сосредоточив внимание на институте «крестового похода» как типе войны, наиболее тесно связанном с этой военной мощью. Какова природа этого учреждения? Каковы были его корни? И чем крестовый поход отличался от публичных войн средневековой геополитики ?
Институт крестового похода был построен, по крайней мере частично из сырья, предоставленного культурным повествованием христианской «священной войны» (bellum sacrum). Как впервые заявил Карл Эрдманн в своей монографии 1935 года «Происхождение идеи крестового похода»4, крестовые походы были фактически кульминацией исторического развития христианского института «священной войны», который он определил как «любую войну, которая рассматривается как религиозный акт или каким-то образом устанавливается в прямом отношении к религии». По словам Эрдманна, этот институт развивался в три исторических этапа.
Во-первых, в V веке Августин (ум. 430) заложил основы, представив идею о том, что сохранение единства христианской церкви является справедливым поводом для войны. Столкнувшись с угрозой доктринального и институционального единства Церкви со стороны донатского движения, а также осознав доктринальный запрет на принудительное обращение, Августин в конечном итоге пришел к выводу, что (военная) сила может быть использована для восстановления истинной веры этих людей, которые впали в доктринальную ошибку (то есть еретики, раскольники и отступники). В сущности, разрозненные и рудиментарные труды Августина на тему организованного насилия привносят в средневековый институт войны два взаимосвязанных, но отчетливых дискурсивных течения: «справедливую вой-ну» или войну, ведущуюся с временной властью для борьбы с несправедливостью. Bellum Deo auctore, в котором одна сторона борется за свет, другая за тьму; одна сторона Христа, другая дьяволa.
Во-вторых, при папе Григории I (ум. 604 г.) моральные цели таких войн были расширены, чтобы включить насильственное покорение язычников. По сути, Григорий ввел доктрину того, что Эрдманн назвал «косвенной миссионерской войной», то есть войной, сражающейся за покорение язычников, не как средство насильственного обращения, а как «основу для последующей миссионерской деятельности, которая будет защищаться и поощряться государственная власть».
Наконец, ранние папы-реформаторы – Лев IX, Александр II и Григорий VII, – столкнувшись со значительными военными угрозами, исходящими от исламского мира, внесли мысль о том, что на законных основаниях можно вести войну в защиту Церкви и христианского мира. Они также инициировали практику возмездия за грехи в качестве награды за военную службу против врагов Церкви. Исходя из этого, заключил Эрдманн, это был всего лишь короткий эволюционный скачок от священной войны к крестовому походу за освобождение Святой Земли, начатому в 1095 году.
Излишне говорить, что с тех пор как впервые было выдвинут более семи десятилетий назад, «тезис Эрдманна» подвергался тщательному анализу и активным дебатам. Но хотя в существующей историографической литературе, может быть, мало единого мнения о том, в какой степени крестовые походы были священными войнами, для целей этого исследования три вывода кажутся оправданными.
Во-первых, кажется неопровержимым, что богатый и сильно резонирующий дискурс о священной войне был частью геополитического воображения латинского христианского мира. Во-вторых, можно сказать, что этот дискурс влечет за собой следующие определяющие элементы: священные войны велись от власти Бога; они были объявлены и направлены духовенством; они были средством защиты Церкви от ее внутренних и внешних врагов; и они были связаны с духовными наградами. Наконец, не может быть никаких сомнений в том, что на архитекторов Первого крестового похода большое влияние оказали практики и дискурсы священной войны, когда они представляли кампанию по освобождению Святой Земли. В этом отношении не нужно принимать утверждение Эрдманна о том, что крестовые походы были не более чем священные войны. Кажется, трудно избежать заключения, что институт крестового похода был собран, по крайней мере частично, из культурных материалов, предоставленных дискурсом Bellum Sacrum, и что поэтому он обязательно имел многие характеристики христианской «священной войны».
Но если правда, что институт «крестового похода» увековечил наследие более старого института священной войны, то верно и то, что он поделился не только небольшим генетическим материалом с ранее существовавшим дискурсом Bellum iustum или «справедливая война». Действительно, институт «крестового похода» включает в себя так много элементов этого старого дискурса, что некоторые утверждают, что, по сути, он представляет собой нечто большее, чем «справедливая война Церкви». Что же тогда являлось ключевыми военными элементами дискурса крестового похода?
С риском исключения важных различий внутри и между школами канонической юриспруденции, ответ на этот вопрос можно резюмировать в следующих терминах. Что касается вопроса о справедливом деле, канонисты считали, что Церковь может объявить и направить «справедливую войну» в ответ на некоторые несправедливости, совершенные неверными. Эти несправедливости включали в себя посягательства на христианское содружество, посягательства на законные права христиан и / или незаконный захват товаров или имущества, «законно и законно удерживаемых христианами в соответствии с божественным законом и ius gentium». Единственная реальная дискуссия, по-видимому, состояла в том, требовала ли «несправедливости» (насильственного) действия «квалификация как таковая» или является ли простое отрицание христианской веры, как определено латинским духовенством, ущербом для божественного закона и / или Церкви, достаточным для оправдания войны.
В любом случае сторонники обоих взглядов утверждали, что война для восстановления земель, потерянных для мусульман (особенно Святой Земли), для наказания и принуждения еретиков или для защиты Церкви и христианского мира от врагов веры (inimici ecclesiae) однозначно соответствует нормам справедливого дела, установленным в каноническом праве. Что касается вопроса о «законной власти», канонисты также определили очаг воинской власти в рамках справедливой войны, утверждая, что, хотя Церковь, очевидно, была наделена властью объявлять и направлять крестовый поход, в конечном счете папа (будучи викарием Христа и, таким образом, обладая уникальной «полнотой власти»), служил чиновником, «наиболее подходящим для осуществления этой власти». Таким образом, как утверждал Фредерик Х. Рассел5, несколько неопределенная концепция «священной войны» была конкретизирована в крестовом походе как справедливая война Латинской Церкви.
Наконец, просто невозможно полностью понять основополагающий идеал «крестового похода», не проследив его связи с устоявшимся религиозным дискурсом «покаяния». Как убедительно демонстрирует Маркус Булл, благочестие резко усилилось во всем латинском христианском мире после феодальной революции, что в конечном итоге стало ключевым элементом конститутивного повествования о дворянстве6. Этот новый сценарий «набожного христианина», однако, с самого начала находился в напряжении как со старым сценарием «благородного воина», так и с фактическими повседневными практиками благородного дворянства (которые, учитывая христианское онтологическое повествование, могли быть сформулированы только как «греховные»).
То, что эта напряженность вызвала значительную духовную тревогу, хорошо подтверждается в литературе, как и желание, которое оно побудило у многих искупить свои грехи, совершая акты покаяния. Латинская христианская пенитенциарная система, конечно, долгое время предлагала благородным (и другим) грешникам механизмы для получения прощения своих грехов: раскаяние, исповедание, покаяние (пост, паломничество на Святую Землю, благочестивое исполнение заслуги и т.д.) и отпущение грехов – все это является частью сложной системы для удовлетворения Бога за преступления против Его закона. Таким образом, Церковь предлагалa отдельным дворянам способ смягчить беспокойство, возникающее из-за одновременного принятия двух основополагающих сценариев, которые в конечном итоге были противоречивыми.
Но эта система покаяния не обошлась без ограничений. До конца XI века Церковь, как правило, требовала, чтобы благородные кающиеся принимали наказания (такие, как отказ от военных действий), что равносильно отрицанию ключевых аспектов их основной идентичности как воинов – требование, которое вызывало сильную напряженность и собственные страхи.
Однако в течение десятилетий, непосредственно предшествовавших Первому крестовому походу, возникла новая форма покаяния, которая давала представителям знати возможность искупить свои грехи, не отрицая своей воинской идентичности: освященное насилие, направленное против неверных, отступников и других врагов Церкви. Начиная с понтификата Григория VII, Церковь начала учить, что «участие в войне определенного рода может быть актом милосердия, к которому прилагается заслуга, и утверждать, что такое действие действительно может быть покаянным». С этим революционным нововведением «акт сражения был поставлен на один и тот же уровень заслуг, что и молитва, дела милосердия и поста».
Как эти разрозненные интеллектуальные и институциональные элементы были объединены в радикально новый институт крестового похода? Проще говоря, можно сказать, что этот синтез является результатом расширенного процесса экспериментов и бриколажа, начатого церковными чиновниками в XI веке.
Усиливающееся военное давление, испытываемое христианским миром в этот период, в сочетании с растущим ощущением, что оккупация бывших христианских земель мусульманами по своей сути несправедлива, дало этим чиновникам мощный стимул начать поиск путей мобилизации военного потенциала христианского мира в первую очередь для защиты respublica Christiana против дальнейших вторжений, затем для освобождения тех территорий, которые уже были потеряны для ислама. Результатом стала серия так называемых précroisades – случаи покаянных войн, которые предопределили собственно крестовые походы – они включали войны немцев против славян, бои норманнов на юге Италии и Сицилии, ранние кампании испанской Реконкисты и морские рейды, проводимые итальянском Stato da Mar.
Тем не менее, ключевым каталитическим событием в развитии собственно крестового похода, по-видимому, было посольство, отправленное византийским императором Алексием I Комниным в совет латинских епископов в Пьяченце в марте 1095 года. Через это посольство византийцы, подвергшиеся жесткому давлению со стороны турок, продвигаясь через Малую Азию к Константинополю, попросили папу призвать западных христиан оказать военную помощь своим восточным единоверцам, чтобы остановить мусульманскую экспансию.
Папа Урбан II, давно обеспокоенный угрозой мусульманства для восточной границы христианского мира и надеющийся восстановить единство respublica Christiana, откликнулся на этот призыв. Папа проповедовал «освободительную войну» (тщательно созданную, чтобы соответствовать критериям справедливого дела и основной концепции реформаторов libertas ecclesiae) в которой и христиане, и христианские святые места должны были быть освобождены от господства мусульман.
В качестве стимула принять участие в этой войне Урбан предложил прощение грехов тем, кто совершил свое покаянное (вооруженное) «паломничество» в Иерусалим. Результат: массивная военная экспедиция на Восток, которая не только освободила Иерусалим (1099 г.), но и создала серию латинских королевств в Сирии и Палестине, которые должны были сохраняться в течение почти 200 лет. Хотя успех этой экспедиции был в значительной степени следствием раздробленности и междоусобных конфликтов в исламском мире, в христианском мире он рассматривался как «чудесный пример божественного вмешательства и доказательства того, что крестовый поход действительно был тем, чего хотел Бог». Таким образом, это оказалось критическим моментом в развитии института крестового похода.
К концу XI века институты священной войны, справедливой войны и покаяния соединились, составив то, что Мишель Вилли назвал «новым синтезом»: институтом «крестового похода»7. Это учреждение создало базовое культурное понимание или конститутивный идеал того, что юрист XIII века Генрих Сегузио (ум. 1271 г.) назвал «римской войной» (bellum Romanum), то есть он представлял крестовый поход значимой категорией мышления и действий средневекового латинского христианского мира8. Для целей данного исследования, три элемента этого нового института имеют центральное значение.
Во-первых, новый дискурс представлял крестовый поход как военный инструмент для исправления несправедливости и борьбы со злом в мире. В частности, он определил крестовые походы как форму справедливой войны, моральные цели которой заключались в освобождении христиан, возмещении нанесенного им юридического вреда, восстановлении истинной веры еретиков и защите христианского мира и Церкви от нападок.
Во-вторых, крестовый поход представлял собой инструмент церковного государственного управления. В то время как светские полномочия могли быть (и обычно были) мобилизованы для осуществления любого данного крестового похода, власть для запуска Bellum Romanum была сохранена исключительно за папством.
Наконец, крестовые походы были созданы в средневековом воображении как акт благочестия, покаяния и христианской любви (Caritas). Церковные лидеры и будущие крестоносцы одинаково понимали крестовые походы как инструмент для построения более справедливого мирового порядка и как механизм для прощения отдельных грехов. Безусловно, институт крестового похода значительно эволюционировал в течение столетий после Первого крестового похода (крестовые походы за пределы Святой Земли; дальнейшее совершенствование канонического права; развитие богословия греха и покаяния; создание военных орденов и т.д.).
Однако на протяжении всей позднесредневековой эпохи институт «крестового похода» сохранял свой основной характер в виде покаянного военного паломничества, санкционированного папой и направленного против врагов Христа и Его Церкви.
7
Политические последствия крестовых походов
Российский востоковед: В.В. Наумкин1: «В течение многих лет востоковеды всего мира с восхищением произносили имя историка-арабиста и исламоведа Бернарда Льюиса, и среди западных специалистов по истории арабо-мусульманской цивилизации долгое время не было человека более авторитетного. Его книги издавались миллионными тиражами, ими зачитывались, оценки Льюиса формировали представление о предмете у огромной массы читателей.
Эрудиция, владение историческим материалом, полет мысли автора находили почитателей не только на Западе, но и в исламском мире. Увы, труды Льюиса последних лет все в большей степени отмечены печатью идеологизации, политической ангажированности, агрессивной тенденциозности, а выводы все дальше уходят от академической объективности. В лекции «Последнее наступление ислама?» Льюис окидывает взглядом историю взаимоотношений христианско-иудейской западной цивилизации и арабо-мусульманского мира через призму введенной им в прошлом в оборот идеи «столкновения цивилизаций». Впоследствии она получила детальное развитие в нелепой концепции Самьюэла Хантингтона. В рамках данной статьи нет необходимости доказывать, что все культуры и цивилизации подверглись столь сильному смешению и взаимовлиянию, что говорить об их непримиримой обособленности – очевидная фикция.
Эдвард Саид, известный американский (палестинского происхождения) профессор английской литературы (он скончался в 2003 году) обвинял Бернарда Льюиса в том, что тот, «используя ложные аналогии, искажает истину и косвенно – методы исследования, создавая при этом видимость всезнающего ученого авторитета». Эта беспощадная оценка содержалась в послесловии к новому изданию (1995) книги Саида «Ориентализм», впервые выпущенной в свет в 1978-м. В ней автор резко критиковал Льюиса, увлеченного, как он считал, «своим проектом разоблачить, развенчать, дискредитировать арабов и ислам» и задачей показать, «что ислам – это антисемитская идеология, а не просто религия». Книга Саида, в свою очередь, подверглась критике в работе Льюиса «Ислам и Запад».
Эдвард Саид пишет: «Я не хотел бы, чтобы эти заметки рассматривались как «наш ответ» Льюису в духе антиориентализма a` la Эдвард Саид или, тем более, модного нынче антиамериканизма. Это лишь размышления, на которые наводит выступление знаменитого профессора Принстонского университета. Выдвигаемый в лекции тезис о том, что Крестовые походы Запада были квазиджихадистским ответом на джихадистскую экспансию арабо-мусульманского Востока, вызывает образ фехтовального поединка. В различные исторические периоды стороны меняются местами, нанося друг другу уколы и всегда держа шпагу наготове. В VII столетии молодое арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом, действительно осуществило серию успешных завоеваний, подчинив себе и часть Европы – Испанию. Впоследствии Испания, отвоевавшая в результате Реконкисты захваченные арабами территории, вновь стала христианской. Арабо-мусульманский мир начал ужиматься, а обычные для любой империи междоусобицы привели к делению на обособившиеся сегменты. Азиатская часть оказалась в XI веке под контролем тюрков-сельджуков, которые отобрали у багдадского халифа из династии Аббасидов светскую власть и сохранили за ним лишь роль верховного религиозного правителя мусульман.
Христиане и иудеи по-прежнему мирно сосуществовали с мусульманами в аббасидском Халифате. Более того, евреи, подвергавшиеся преследованиям в христианской Испании, находили убежище у мусульман-арабов. Рядом с Халифатом продолжала существовать Византия, и к моменту начала в том же XI столетии Крестовых походов (которые, кстати, тогда так не назывались) византиец чувствовал себя гораздо комфортнее в Дамаске, Багдаде или Каире, нежели в Париже либо Риме».
Как пишет известный западный исследователь Стивен Рансимэн, «за исключением редких периодов кризиса и репрессалий, власти в Византийской империи и в Халифате соблюдали договоренность не принуждать друг друга к обращению в другую религию и позволять свободу вероисповедания… Западный христианин не разделял византийскую терпимость и чувство безопасности. Он гордился тем, что был христианином и, как он полагал, наследником Рима; в то же время он остро чувствовал, что во многих аспектах мусульманская цивилизация была выше, чем его».
Как бы то ни было, импульсом для Крестовых походов было не только объясняемое религиозно-геополитическими мотивами стремление западнохристианского мира вернуть себе господство над Иерусалимом. Имелись соображения экономического и политического свойства – пограбить богатый Восток, консолидировать власть в своих странах, прежде всего во Франции, сыгравшей главную роль в кампаниях. Однако всерьез спорить о том, было ли вторжение крестоносцев агрессией или ответом на арабо-исламскую угрозу, не только академически некорректно и бесперспективно, но и смешно.
Слава богу, профессор признает, что поведение крестоносцев на Востоке было «чудовищным и варварским», но делает он это лишь затем, чтобы высказать мысль о «непропорциональности» извинения папы за Крестовые походы. Сказал бы прямо, что Алжиру, к примеру, надо извиниться за своих пиратов, досаждавших европейцам в период Средневековья. Но надо признать, что в Крестовых походах было и благо. В течение двух веков господства епископов и рыцарей-крестоносцев над частью Арабского Востока его цивилизация оказывала огромное влияние на многие стороны материальной и духовной культуры европейцев.
Благодаря контактам с мусульманами, европейские рыцари стали не только чаще мыться, но даже использовать при этом горячую воду, устраивая неизвестные им прежде горячие бани, относительно часто менять белье и верхнее платье, чего раньше не делали вовсе, носить бороду похожего на восточный, фасона, и тюрбан. Познакомившись в Сирии с ветряными мельницами, они заимствовали это техническое новшество, равно как и водяное колесо. Они узнали о существовании почтовых голубей, научились выращивать немалое число новых сельскохозяйственных культур, впервые получили представление о сахарном тростнике. Европейские рыцари полюбили мягкие и красивые восточные одеяния, сменившие их грубые одежды, ковры, которыми украсили свои жилища, переняли производство многих изящных тканей, которые до сих пор называются по-арабски. На Запад попали восточные геральдические знаки, арабские музыкальные инструменты и другие атрибуты ближневосточной культуры. Эти заимствования дополнили то мощное цивилизационное влияние, которое еще до Крестовых походов оказали на средневековую Европу исследования арабских философов, теологов, математиков, медиков, астрономов и др.
Через эти труды до европейской науки дошли величайшие достижения как греков, давно и хорошо освоенные арабами, так и самих арабов. Духовное обогащение шло, впрочем, через Испанию и Византию, а крестоносцы не проявляли никакого интереса к данной сфере. Тем не менее средневековый опыт столкновения Европы с мусульманским Востоком подтверждает, что взаимовлияние цивилизаций происходит всегда и, как правило, продолжается во время столкновений и завоеваний. Так было в Средние века, так было во времена «классического» западного колониализма, то же самое происходит и сегодня.
Правда, средневековые европейцы не восприняли у арабов-мусульман достаточно высокой для того времени степени свободы, какой отличалась интеллектуальная жизнь Халифата. В публичных диспутах и на страницах своих книг арабские философы-перипатетики и теологи-мутакаллимы2 спорили, к примеру, о том, является ли наш мир извечным или сотворенным (в Европе инквизиция быстро сожгла бы спорщиков на костре). А известные арабские поэты позволяли себе такие высказывания о религии, из-за которых в нынешнем мусульманском мире им бы наверняка не поздоровилось. Почему в этом соперничестве за то, кто более развит и более свободен, стороны поменялись местами – предмет особого разговора. Однако совершенно очевидно, что некорректно, как это делает Льюис, приписывать Западу монополию на знание и свободу: ход истории переменчив. А рассуждения профессора о рабстве у мусульман и вовсе непонятны (не будем вспоминать позорные страницы истории западной работорговли).
Сегодня Запад является и источником технологических достижений, заимствуемых Востоком, и отторгаемых мусульманским миром норм, которые расцениваются как проявление моральной распущенности, разложения и деградации. Но именно так же смотрели на Ближний Восток и европейские борцы за Иерусалим эпохи Крестовых походов, и европейские путешественники XIX века. В жизни ближневосточного общества они находили вседозволенность, аморальность, сексуальную распущенность. Так, по выражению Эдварда Саида, «каждому европейцу, путешествующему по Востоку либо постоянно там проживающему, приходилось защищаться от его тревожащего влияния.
В большинстве случаев казалось, что Восток оскорбляет нормы сексуального приличия». Знаменитый английский исследователь Египта XIX столетия Эдвард Уильям Лэйн говорил об избыточной «свободе половых сношений» в этой стране. Иначе говоря, и здесь стороны поменялись местами. А ведь различие в морально-этических установках играет немалую роль в существующих сегодня острых противоречиях между Западом и мусульманским миром. Когда глубже познакомишься с подходом Льюиса к истории исламского Востока, уже не удивляешься, что в Европе ему столь не нравится «так называемое уважительное отношение к разным культурам». Особо острое неприятие вызвало у профессора высказывание премьер-министра Франции, в котором тот упомянул о блестящей победе египетского султана Салах ад-Дина, основателя династии Айюбидов, над крестоносцами и освобождении Иерусалима. Но к началу Крестовых походов арабы действительно жили в Иерусалиме уже несколько веков. Конечно, когда-то они пришли туда, как пришли на те или иные территории подавляющее большинство народов (например, европейские переселенцы в Америку). Иерусалимские святыни, бесспорно, принадлежат всем трем монотеистическим религиям, но политизировать историю в духе концепции «единой и неделимой столицы Израиля», по меньшей мере, неакадемично. Безусловно, арабский мир стал отставать от Запада задолго до начала колониальных завоеваний. Но европейский колониализм Нового времени и продолжающаяся до сих пор экспансия Запада, откровенное стремление к доминированию, навязывание своих ценностей и прямое вооруженное вмешательство – главные факторы фрустрации мусульманских народов Ближнего Востока и радикализации ислама. Религия становится важнейшим инструментом сохранения культурной идентичности мусульманского Востока.
Любое цивилизационное вмешательство – война, завоевания, установление колониального доминирования либо более изощренные современные формы – всегда имеет две стороны. С одной стороны, оно способствует обмену культурными нормами и ценностями (за исключением тех случаев, когда вмешательство приводило к уничтожению народов и поглощению культур). С другой – бумерангом возвращается к новым поколениям, вызывая очередные витки противостояния народов. Увы, в дискурсе Льюиса отчетливо слышится нотка превосходства и пренебрежительности: страны исламского мира долго подчинялись внешним силам (символическим началом этой эпохи была экспедиция Наполеона в Египет), теперь Ближний Восток больше ими не управляется, а «приспособиться к ситуации, требующей от них отвечать за свои действия и их последствия, мусульманским государствам трудно».
Последствием Крестовых походов можно считать усиление власти и значения пап, как главных их зачинщиков, далее – возвышение королевской власти вследствие гибели многих феодалов, возникновение независимости городских общин, получивших, благодаря обнищанию дворянства, возможность покупать льготы у своих ленных владетелей; введение в Европе позаимствованных у восточных народов ремесел и искусств. Итогами Крестовых походов было увеличение на Западе класса свободных земледельцев, благодаря освобождению от крепостной зависимости участвовавших в походах крестьян. Крестовые походы содействовали успехам торговли, открыв ей новые пути на Восток; благоприятствовали развитию географических знаний; расширив сферу умственных и нравственных интересов, они обогатили поэзию новыми сюжетами. Еще одним важным итогом Крестовых походов было выдвижение на историческую сцену светского рыцарского сословия, составившего облагораживающий элемент средневековой жизни; следствием их было также возникновение духовно-рыцарских орденов (иоаннитов, тамплиеров и тевтонов), игравших немаловажную роль в истории.
Если бы не было Крестовых походов…
Тут надо помнить одну вещь. Турки-сельджуки захватили Иерусалим в 1076 году. А Первый крестовый поход, крестьянский, произошел лишь двадцать лет спустя – в 1096-м. И дело вовсе не в том, что весть из Святой Земли в Европу шла так долго, а в том, что существовали серьезные проблемы с поиском желающих. Потому что первый призыв к христианам отправиться на Восток с оружием в руках прозвучал в 1071 году. Тогда речь шла о помощи Византии, которая столкнулась с нашествием сельджуков и не могла противостоять ему. Но на тот призыв мало кто откликнулся.
Когда же сельджуки добрались до Иерусалима, то у Ватикана появился не только железный повод для объявления войны, но и еще и очень хороший стимул подтянуть к этой войне побольше добровольцев. Дело в том, что Храм Гроба Господня был местом паломничества, куда ежегодно отправлялись тысячи европейцев. Слово «Иерусалим», говорило католикам куда больше, чем слово «Византия». Наконец, за святой город они готовы были проливать кровь, чего не скажешь о совершенно чуждой им Империи. Призыв к походу распространяли еще предшественники Урбана II – Григорий VII и Виктор III. В первом случае Папе удалось собрать войско из нескольких десятков тысяч человек, но в Святую Землю оно так и не отправилось из-за обострения в отношениях Ватикана с германскими императорами. На призыв Виктора откликнулись несколько итальянских городов, которые соорудили небольшой военный флот и атаковали корабли сарацин у северного берега Африки. Обращение Понтифика они восприняли как законный повод развязать оборонительную войну за сохранность своих портов, которые сильно страдали от набегов мусульманских пиратов.
Вот только к 1095 году ситуация в Европе несколько успокоилась. Вот уже пару лет, как Запад жил без больших войн, а у многих крупных феодалов имелся политический резон для похода на Иерусалим. Это достаточно убедительно показывает список тех, кто возглавил Первый крестовый поход. Боэмунду Тарентскому нужны были земли, Раймунду Тулузскому – хорошие отношения с Римом. Графа Роберта Фландрского буквально вынудил отправиться в поход король Франции Филипп I. Немалую роль в популяризации похода сыграли и еще два фактора: папские посулы и рьяные проповедники.
Урбан II обещал, например, полное и пожизненное отпущение грехов всем, кто отправится освобождать Иерусалим. То есть потенциальный крестоносец получал не только немедленную индульгенцию, но еще и право свободно грешить до конца своих дней. Эту идею по Европе активно разносили проповедники, самым известным из которых был Петр Амьенский, известный также как Петр Пустынник. Его пламенные проповеди способствовали тому, что под знамена Христова Воинства встали тысячи истово верующих католиков.
Споры о том, был ли Пустынник послан Папой или действовал по собственному почину, однозначного ответа на этот вопрос не дают. Его деятельность, однако, привела к тому, что на Иеру-салим двинулась несметная рать крестьян, нищих и прочей черни. Эти люди не знали, где находится Иерусалим, но были уверены, что сам Господь приведет их под его стены. Этот поход закончился трагически, чего не сказать о походе феодалов. К слову, один из его лидеров, Готфрид Бульонский, отправился воевать, вдохновившись речами Петра Амьенского.
Политические последствия
Крестовых походов было достаточно много. Личные номера имеют восемь из них, но список этим не ограничивается. В это число не входят, например, Арьергардный крестовый поход, Поход бедноты, Поход детей и целый ряд мелких акций европейских феодалов. За названием «Крестовые походы» скрывается два века непрерывных войн на Ближнем Востоке. В эти войны были вовлечены все государства того региона, плюс несколько европейских держав. Так что в этой главе мы можем рассмотреть лишь отдельные политические аспекты похода. Итак:
1. Новая последовательность английских королей
Как известно, одним из предводителей Первого крестового похода был Роберт Нормандский – старший сын Вильгельма Завоевателя, который, по воле отца, не унаследовал английский престол. Ему досталась лишь Нормандия, в то время как Англия отошла его младшему брату Вильгельму. Роберт смирился с этим, но только, что называется, разово.
Он уступил трон Англии одному брату, но не собирался уступать второму – Генриху Боклерку. А так как Вильгельм II умер бездетным, передав трон младшему брату, то Роберт заявил свои права на престол. Окажись он в то время в Нормандии и наверняка выиграл бы ту войну. Но он был в момент гибели брата на Сицилии, где отдыхал после похода. Пока Роберт собирался воевать, Генрих успел укрепить свою оборону. В итоге Роберт не только проиграл борьбу за трон, но и угодил в тюрьму, где провел остаток своих дней.
2. Алиенора Аквитанская не развелась бы с Людовиком VII
Алиенору и ее мужа – Людовика VII Молодого рассорил именно Крестовый поход. Король Франции, отправившийся освобождать Эдессу, зачем-то взял с собою жену. Алиеноре в походе было скучно, тем более что армия ее мужа отправилась в Святую Землю не по морю, а по суше, через всю Европу. Людовик потерпел в походе полное фиаско, а Алиенора изменила ему с князем Антиохийским, что ускорило развод. Речь тут, кстати, идет не только о целостности брака. Алиенора стала затем супругой короля Англии Генриха II, к которому отошли и все ее французские владения. Таким образом, Генрих стал правителем не только Англии, но и половины Франции, что заметно осложнило отношения двух стран, став основой для длительного конфликта.
3. Столетняя война на двести лет раньше
Ричард Львиное Сердце, с учетом изложенных выше обстоятельств, мог бы вообще не родиться. Однако если бы на свет появился человек с его характером и способностями, то избежать англо-французской войны было бы невозможно. Слишком велика была ценность Аквитании, Анжу, Нормандии и других областей, которые находились во Франции, вассально зависели от Парижа, но являлись частью английских владений. Ричард, умчавшийся в Иерусалим, французские дела пустил на самотек.
В итоге он и его брат Иоанн попросту потеряли все эти земли, бывшие наследием нескольких поколений их предков. Ричард, правда, пытался исправить ситуацию. Вернувшись в Англию после похода и плена, он отправился воевать во Францию, где позже погиб. Останься он в Европе, и судьба его французских владений сложилась бы по-другому.