Читать онлайн Армия Наполеона бесплатно
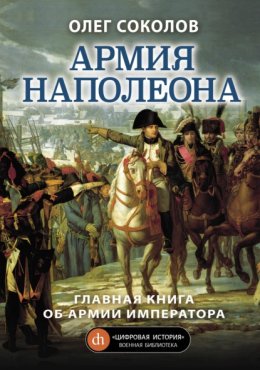
ОТ АВТОРА
Перед вами первая на русском языке книга об армии Наполеона... "Как? - быть может, удивится образованный читатель. - Разве о Наполеоновской эпохе не написана целая груда исторических произведений, разве знаменитые русские и советские историки-Михайловский-Данилевский, Богданович, Тарле, Манфред - не посвятили десятки увесистых томов описанию войн России и Франции?" Действительно, о войнах Наполеона и о самом Императоре написано не просто много исторических работ - их число измеряется почти астрономической цифрой, более того, нет, по всей видимости, другой эпохи в истории человечества, которой было бы посвящено столько исторических, полуисторических, научно-популярных и просто художественных сочинений. Тем не менее даже французские авторы, создавшие огромную наполеониану, как ни странно, отвели в ней лишь малую долю произведений тем, кто своими жертвами принес Императору всемирную славу. Этот факт объясняет то, что в XIX в. тема жизни армии как таковой (а не только походов и сражений) фактически просто отсутствовала в мировой исторической литературе. Взлет интереса к военной тематике и армии в частности, который Франция переживала в конце XIX -начале XX вв. был прерван мировой войной, надолго создавшей неблагоприятную конъюнктуру для всех исследований в этой области. Только во второй половине нашего века опять стали появляться интересные исторические исследования, посвященные войне и армии. Более того, военная история постепенно была "реабилитирована" в кругу университетских ученых. Так что работы таких выдающихся специалистов Франции в области истории армии Старого Порядка (до 1789 г.), как Ален Корвизье, Жан Шаньо и Жильбер Бодинье стали поистине образцом военно-исторических исследований, сочетающих в себе самые передовые методики университетских изысканий с прекрасным пониманием специфики армейской среды, о которой авторы знают не понаслышке.
Тем не менее армия Наполеона осталась вне сферы этих блистательных исторических исследований. Если королевские войска вследствие удаленности от настоящего времени считаются в современной Франции политически "безопасной" тематикой, то от армии Наполеона многие университетские специалисты предпочитают держаться в стороне - слишком многих животрепещущих вопросов приходится касаться, разбирая эту бурную эпоху, слишком многое может быть истолковано как политическая декларация... Поэтому-то в современной Франции и пишут с удовольствием о личности Императора, о его женах, фаворитках, политических проходимцах типа Фуше и Талейрана, но только вскользь упоминают об армии и той гигантской роли, которую она сыграла в полной драматизма истории Первой Империи. Армии Наполеона посвящены лишь узкоспециальные, изданные микроскопическими тиражами книги для коллекционеров: по оружию, мундирам, знаменам, военному быту или... форменным пуговицам. Занимаясь последней темой, можно быть абсолютно уверенным, что не затронешь ничьи политические интересы, как, впрочем... и интересы вообще.
Что касается российской исторической науки, то причины отсутствия произведений, посвященных армии Наполеона, совершенно иные и вполне очевидны. Еще недавно своеобразно понимаемый патриотизм в подходе к подобным темам приводил к тому, что, читая некоторые произведения советских историков, лишь с трудом можно было понять, а с кем вообще воевала русская армия в любую, наперед заданную эпоху, и в начале XIX в., в частности.
Тем не менее, даже если рассматривать наполеоновскую армию лишь как неприятеля, с которым пришлось сражаться русским солдатам, совершенно очевидно, что без понимания этого неприятеля абсолютно невозможно сколько-нибудь объективно и полно осветить события русско-французских военных конфликтов 1805 - 1807 гг., заграничных походов русской армии 1813 - 1814 гг. и, конечно, знаменитой Отечественной войны 1812 г., без знания которых просто невозможно правильно понять историю России вообще.
Однако значение данного сюжета представляется далеко выходящим за рамки простой необходимости знания противника. Наполеоновская армия в 1805 - 1811 гг. прокатилась по Европе всесокрушающей волной, опрокидывая повсюду обветшалые режимы и устанавливая новый общественный порядок. Она явилась также становым хребтом огромной Империи, простиравшейся в эпоху наибольшего могущества от холодных мазурских болот до несущего свои воды среди тропических садов Гвадалквивира. Не изучив гигантскую военную машину Наполеона, невозможно правильно представить и политические, и социальные процессы, проистекавшие на всем европейском континенте в один из самых важных, поворотных моментов в его истории.
Волге того, наполеоновская армия, как будет видно из глав этой книги, представляет собой явление, далеко выходящее по своему значению за рамки французской истории. Являясь в период своего наибольшего могущества армией всеевропейской, она дает интереснейший пример военного строительства, не потерявший в ряде моментов значения и поныне. Действительно, если оружие и военная техника неузнаваемо изменились за последние двести лет и тактические приемы войск Наполеона могут интересовать нас лишь только с научно-познавательной точки зрения, то глубинные мотивы поведения человека на войне перед лицом смертельной опасности остались прежними. Темы солдата и долга, офицерской чести, взаимоотношений командиров и подчиненных, армии и общества остались актуальными и поныне. Наполеоновская армия является интереснейшим примером одного из возможных решений подобного рода проблем. Более того, отдельные элементы этих решений могут быть использованы в военном строительстве и в настоящее время. Причем, как это ни парадоксально звучит, пример наполеоновских вооруженных сил в этом смысле может оказаться для современного русского офицера куда более интересным с практической точки зрения, чем пример русской армии 1812 г. Не следует забывать, что наша страна оставалась в начале XIX в. страной, экономика и социальная жизнь которой основывались на базе помещичьего землевладения. Солдаты, как известно, были выходцами из крепостных крестьян, офицеры - из дворянского сословия. И хотя последние исследования наших историков во многом заставляют нюансировать эти положения (так, например, сейчас доказано, что лица недворянского происхождения составляли от одной восьмой до одной четверти офицеров российской армии, что у солдат было немало возможностей выслужиться и т. д.), тем не менее совершенно очевидно, что Россия этого времени была страной, не только живущей в обществе с иным, чем сейчас, уровнем технического развития. Это была страна, находившаяся совсем в ином "пространстве" - политическом, ментальном, экономическом. Напротив, наполеоновская Империя по многим своим параметрам быта государством современным, в законах которого были официально сформулированы положения, ставшие постулатами для общества конца XXв.: равенство граждан перед законом, свобода совести, передвижений и т. д. Наконец, в основе материальной базы наполеоновского государства лежала весьма близкая по типу к современной "рыночная" экономика. Как увидит читатель из последующих глав, даже закон о воинской обязанности граждан пришел в современный мир из наполеоновской Франции. Именно поэтому всесторонне исследованная и правильно понятая армия Наполеона может дать информацию к размышлению не только для кабинетного историка, но и для боевого офицера, и для высокопоставленного государственного служащего, и для политического деятеля, наконец, для любого образованного человека, пытающегося понять процессы, происходящие в обществе.
Книга, лежащая перед вами, как раз и представляет собой попытку с максимально возможной объективностью на основе огромного массива неопубликованных документов и печатных источников исследовать армию Наполеона снаружи и изнутри, понять людей, которые шли в рядах императорских полков, рассказать об их жизни, показать блеск триумфальных парадов и грязь биваков, работу высокопоставленных штабных офицеров и малозаметных администраторов, пышное сверкание генеральских свит и смрад и кровь заброшенных госпиталей; наконец, рассказать о взаимоотношениях этих людей между собой, об их отношении к друзьям, врагам, союзникам и попытаться понять, быть может, самое главное - какую роль сыграла наполеоновская армия в общественных процессах во Франции и на европейском континенте.
Не стоит, видимо, долго распространяться о некомпетентности ряда отечественных "военных историков", писавших на эту тему. Тем не менее не сказать хотя бы два слова просто невозможно. Трудно остаться равнодушным к сочинениям еще недавних корифеев советской военно-исторической науки. Взять хотя бы известнейшего историка П. А. Жилина, написавшего немало объемистых трудов о войнах Франции и России в начале XIX в. и, следовательно, косвенно затронувшего и нашу тему. Как бы отнесся уважаемый читатель к французскому историку, который задумал бы высказывать свое мнение относительно истории российской армии, вообще не зная русского языка и не прочитав ни одной русской книги? Наверное, подобный "исследователь" вызвал бы лишь насмешку, а то и более того, презрение к своей персоне. Почему же г-н Жилин в своих сочинениях осмеливался высказываться о стратегии, оперативном искусстве и тактике армии Императора, о ее организации, духе и потерях, даже не ознакомившись в подлиннике ни с одним французским документом? Почтенный корифей советской военно-исторической науки называет, например, Мэтью Думасом известнейшего французского генерала Матье Дюма! Почему? Да просто потому, что французское Mathieu Dumas, прочитанное по-английски по слогам, и даст примерно указанный набор звуков. А что сказал бы сам Жилин, если бы кто-нибудь из американских советологов стал цитировать Ленина в переводе не по Полному собранию сочинений, а, скажем, из какой-нибудь книжки с картинками, изданной в Бразилии малоизвестным автором? Конечно, взорвался бы возмущением против империалистов, издевающихся над великим наследием. Но сам г-н Жилин цитирует Наполеона не по его официальной 32-томной корреспонденции и дополнениям к ней, а по малоизвестным книжкам русских авторов начала XIX в. (благо, они французский знали), писавших к тому же русским языком, далеким от современных литературных норм. Так что Император французов в книгах Жилина и ему подобных обращается к своим солдатам в манере, близкой по стилю персонажу одной из известных кинокомедий: "Аки... Паки... иже... херувимы..." (Необходимо помнить, что французский язык XVIII в. был уже весьма близок к современному, а после Великой французской революции он фактически соответствовал современным литературным нормам.)
Интересно также, что подумал бы любой русский историк, если бы ему показали книгу, скажем, о русско-турецкой войне, где потери русских войск в битве под Рымником на полном серьезе приводились бы не в соответствии с документами армии Суворова, а в согласии с тем, что докладывал султану турецкий визирь? Конечно, он просто рассмеялся бы и зачитывал бы отрывки из подобного произведения, чтобы позабавить своих интеллигентных гостей между жарким и десертом... Но почему тогда потери Великой Армии в битве под Смоленском практически во всех советских исторических сочинениях даются на основании... бравурного рапорта Багратиона в послании Александру I, где, не заботясь о точности деталей, знаменитый генерал выставлял заслуги своих подчиненных и свои личные в пику конкуренту военному министру Барклаю де Толли! И это в то время, когда существуют опубликованные в сборниках документов (не надо ездить в Парижские архивы) рапорты французского командования, из которых можно с точностью до одного человека узнать потери отдельных дивизий и даже полков.
Что уж говорить, когда дело заходит о делах, относящихся к внутренней жизни наполеоновских войск. Здесь даже знаменитый Тарле (который, конечно, прекрасно владел французским языком, работал во французских архивах, но мало интересовался армейскими проблемами) выдавал такие шедевры, что и не знаешь, что сказать. Так, например, выдающийся академик бросил фразу, облетевшую впоследствии многие исторические книжки: "Когда однажды восторгались геройской храбростью маршала Ланна, водившего столько раз свои гусарские полки в атаку, присутствующий Ланн с досадой вскричал: "Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь!.."" Только дело в том, что маршал Ланн никогда не был гусаром и никогда не водил в атаки гусарские полки... А фраза действительно была сказана, правда, чуть погрубее, и совсем не Ланном, а знаменитым кавалерийским дивизионным генералом Лассалем.
Впрочем, список несуразиц, полной неинформированности в вопросах, рассматриваемых в данной книге, можно было бы продолжать до бесконечности.
Справедливости ради нужно отметить, что все эти несуразицы "классических" советских историков в последнее время померкли перед вновь появившимися популярными произведениями о Наполеоновской эпохе. Полки книжных магазинов заполонили чудовищные опусы, являющиеся чаще всего корявым переводом, сделанным с англо-американских изданий, очевидно, недоучившимися студентами-филологами, выгнанными со второго курса за неуспеваемость. Но все рекорды здесь бьет "Интерактивная энциклопедия на русском языке" - "Наполеон, Европа, Империя", выпущенная в виде компакт-диска. Уже одна надпись на диске заставляет изумленно открыть глаза: "Наполеон Бонопарт" (!). Но волосы буквально встают дыбом, когда "перелистываешь" на компьютере страницы этой энциклопедии. Из нее, например, можно узнать, что "Наполеон I провозглашен Императором в 35. После "Меровиньян- цев, Каролиньянцев и Капетианцев"" (!!!). Нет, это не кавказская семья, просто автор имеет в виду династии Меровингов, Каролингов и Капетингов. Много новых фамилий маршалов и генералов может также открыть для себя историк благодаря этому чуду техники. Навряд ли кто-нибудь во Франций знает Деза, Огеро, Ланнеса, Сен-Кира и Коленкора. И это неудивительно, ибо речь идет о неожиданной транскрипции фамилий знаменитых Дезе, Ожеро, Ланна, Сен-Сира и Коленкура. А как думает уважаемый читатель, что имел в виду автор энциклопедии под названием картины "Неожиданность в Табур-Бридж"? Это просто-напросто знаменитая картина Ф.-А. Летьера "Взятие Таборского моста" (маршалами Мюратом и Ланном в 1805 г.), название которой было переведено двоечником. А как по-вашему расшифровывается словосочетание "Повозка модель Теаг XI"? Это не что иное, как пушка образца XI года Республики! Даже если вы очень внимательно изучали историю Великой французской революции, сомнительно, чтобы вы знали такой эпизод, как "Клятва на теннисном корте". Догадались? Да, да, это знаменитая "Клятва в зале для игры в мяч", которую обессмертил своим полотном Давид. Зато можно держать пари, что вы не угадаете, что такое "Фонтан Мозеса". Увы, так безвестный студент окрестил источники Моисея, которые Бонапарт посетил во время Египетской кампании... И этот список очень бы хотелось продолжить, поскольку только из разбора упомянутого опуса получился бы великолепный сборник анекдотов. Но мы сделаем это как-нибудь в другой раз. А пока вернемся к серьезным вещам...
Нам хотелось сделать такое исследование, которое поставило бы крест на всех "сказках" о военном аспекте наполеоновской эпопеи и к которому смогут обратиться все историки, любители истории и просто люди, которых интересует бурная и удивительная эпоха войн Первой Империи.
Автор этой книги занимался наполеоновской тематикой почти столько, сколько помнит себя, а в течение десяти последних лет имел возможность работать в архиве, где собрано самое большое количество документов по исследуемому вопросу, - Архиве исторической службы французской армии в Венсеннском замке (Service Historique de L'Armée de Terre), расположенном в пригороде Парижа. За это время было исследовано почти десять тысяч послужных списков солдат, сотни личных дел офицеров, генералов и маршалов Первой Империи, просмотрены тысячи писем, приказов, распоряжений, отчетов этой эпохи. Нужно сказать, что некоторые из исследований, проведенных при подготовке этой книги, еще ни разу не делались и французскими историками, в частности упомянутые послужные списки еще практически не изучались исследователями - специалистами по наполеоновской тематике, хотя в отношении войск королевской Франции подобная работа была осуществлена выдающимся военным историком Аленом Корвизье и его учениками.
Тем не менее было бы неискренним утверждать, что все выводы представленного на суд читателя сочинения сделаны на основе только каких-то необыкновенных, никому еще не известных источников. Немалая часть документов, относящихся к Наполеоновской эпохе, давно опубликована. Прежде всего, еще во второй половине XIX в. во Франции эпохи Второй Империи была предпринята колоссальная работа по публикации уже упомянутой нами 32-томной "Корреспонденции Наполеона", где собраны десятки тысяч строго проверенных на подлинность писем, распоряжений, приказов и даже просто резолюций Императора. Впрочем, в это гигантское собрание не вошел ряд документов: одни по причине упоминания не слишком выгодных для императорского правительства фактов, другие просто потому, что не были еще найдены. Но практически все недостающие бумаги были изданы позднее Лесестром, Бротонном, Люмброзо... Кроме этих важнейших сборников документов, в конце XIX- начале XX вв. (до Первой мировой войны) были осуществлены серьезные публикации бумаг выдающихся военных и политических деятелей Первой Империи: Евгения Богарне (10 томов), Жозефа Наполеона (10 томов), Жерома Бонапарта (7 томов), а также публикации документов, относящихся к той или иной кампании. Среди последних поистине грандиозный труд Аломбера и Колена по кампании 1805 г. на германском театре военных действий (6 томов, во многих из которых почти тысяча страниц!), Баланьи "Кампания Наполеона в Испании" (5 томов), Фабри "Русская кампания" (5 огромных томов документов, относящихся к действиям на центральном направлении, плюс отдельные приложения, посвященные фланговым корпусам), Саски "Кампания 1809 г. в Германии", Фукар "Прусская кампания 1806 г.", "Польская кампания 1807 г.", многие другие, одно перечисление которых заняло бы несколько страниц. Конечно, не в силах одного человека переработать такую массу документов, тем не менее многолетняя работа в этой области не осталась безрезультатной. Использование огромного массива источников позволило автору сделать ряд весьма неординарных выводов, прочно опирающихся на крепкий документальный фундамент.
Однако эта книга все же была бы лишь сухим статистическим сборником, если бы при написании ее не был использован другой гигантский блок источников, а именно мемуарная литература. Наполеоновской эпохе в этом смысле повезло. Только на французском языке к настоящему времени опубликовано около полутора тысяч названий мемуаров деятелей этого бурного исторического периода, среди которых добрых две трети - т. е. около тысячи наименований (!) - это мемуары и дневники солдат и офицеров армии Наполеона.
Как известно, мемуарная литература - источник, к которому надо подходить очень осторожно. Подчас воспоминания пишутся спустя много лет после описываемых событий. Кто-то - и это довольно часто встречается в отношении мемуаров бывших высокопоставленных лиц - занимается лишь тем, что оправдывает свои поступки, другие - те, кто вел активную деятельность на важных постах в период написания мемуаров - книгой о прошлом, воюют на политическом фронте уже совершенно иного времени, кто-то сводит счеты с бывшими врагами, а есть и те, кто просто-напросто... забыл, что было с ним лет тридцать-сорок тому назад.
Впрочем, обладая определенным запасом знаний об эпохе, наиболее очевидные из опусов подобного типа можно легко отсеять, ибо их явная тенденциозность или грубые анахронизмы видны опытному исследователю с первых двух-трех страниц. Те же из мемуаров, которые, не страдая вопиющими недостатками, все же вызывают сомнения, могут быть большей частью легко проверены на достоверность с помощью документов.
Действительно, авторы и не подозревали, что среди их будущих читателей будут такие, которые в любой момент смогут, например, заглянуть в послужной список офицера, а порой даже солдата, фамилия которого была упомянута в тексте. Проверить чуть ли не по минутам место нахождения на походе той или иной дивизии, точно узнать численность какого- либо подразделения и т. д. Все это позволяет выбрать из гигантского пласта мемуарной литературы действительно ценные произведения, точно отражающие дух и события эпохи.
Большей частью это сочинения, созданные прямо по горячим следам. Например, хотя и довольно краткие, но очень яркие и точные воспоминания солдата полка Почетной Гвардии Жана Ламбри о кампании 1813 г., написанные им в феврале 1814 г., когда он, серьезно заболев, должен был лежать в постели. Есть и такие, которые были отредактированы хотя и спустя немалое количество лет, но с использованием сохранившихся дневника и писем. В частности, замечательные и очень полные мемуары гусарского офицера д'Эспеншаля. Однако особенно интересны были для автора данной книги дневники современников. Впрочем, дневники тоже бывают разные. Некоторые, например, практически ничего не дают для понимания эпохи из-за своей чрезмерной краткости: у автора не было ни времени, ни способностей писать пространные заметки; другие слишком "приземлены" и описывают лишь заботы, связанные с устройством ночлега, пропитанием и сапогами... Все это, конечно, интересно и нужно для работы по истории армии, но записки, вращающиеся исключительно вокруг бивачного костра, сообщают лишь малую часть интересующей нас информации. Зато в этом жанре существуют и просто удивительные произведения. Среди них выделяется, например, дневник офицера полка легкой пехоты Фантена дез Одоара, цитаты из которого читатель не раз встретит на страницах этой книги. Суб-лейтенант Фантен начал свой дневник 20 июля 1800 г. (1 термидора VIII года Республики по принятому тогда во Франции календарю) и скрупулезно записывал все, что с ним происходило до самого последнего дня Империи (он продолжал дневник и позднее, но к теме нашего исследования это уже не имеет отношения). Интересно, что автор, обладавший недюжинным литературным талантом, писал не каждый день, а примерно раз в неделю, когда у него находилось достаточно много свободного времени. Поэтому записи часто очень полные и содержательным. В них, с одной стороны, отсеяно все малозначительное, так как прошедшие несколько дней позволяли автору провести определенный отбор информации, с другой стороны, все яркие и важные происшествия описаны очень обстоятельно, причем реакция на них практически всегда мгновенная. Нечего и говорить, что ни о каких анахронизмах и забвениях здесь и речи быть не может - автор живет, действует и пишет в эпицентре главных событий этой драматической эпохи.
Документы, равные по значимости дневнику Фантена дез Одоара, конечно, составляют небольшую часть дневников и мемуаров, однако если вспомнить, что военным событиям Первой Империи посвящено около тысячи наименований подобной литературы, читатель легко может догадаться, что автор не чувствовал дефицита подобных источников.
Разумеется, при работе над книгой было использовано и громадное количество специальной литературы и исследований, относящихся к наполеоновской эпохе. Среди них встречаются и совершенно неожиданные произведения. Кто бы, например, мог подумать, что, пожалуй, лучшее исследование по французской полевой артиллерии эпохи войн Революции и Империи будет опубликовано в Хельсинки в 1956 г., а написано оно офицером финской артиллерии Матти Лауэрма...
Работая с многочисленными источниками и литературой, автор всегда прежде всего видел задачу создания произведения не просто познавательного и интересного, но и абсолютно погруженного в дух описываемой эпохи. С этой же целью производился и тщательный подбор иллюстраций. Нужно сказать, что во многих даже очень достойных исторических работах, освещающих военные события периода Первой Империи, иллюстративный ряд зачастую совершенно не отражает описываемую эпоху. Это связано а тем, что, начиная с 30-х гг. XIX в., когда эпоха Романтизма вызвала к жизни небывалый интерес к эпохе Наполеона, и особенно к его военным походам, появилось огромное количество гравюр, литографий и лубочных картинок, изображающих Императора и его маршалов, ветеранов Старой Гвардии и, конечно же, сражения и памятным события Наполеоновской эпохи. Художественное качество этих произведений очень различное - от шедевров до дешевого китча. Однако практически всех их объединяет одно - они совершенно не отражают стиля и духа наполеоновской Империи. Начиная с общей художественной концепции и кончая деталями униформы, аксессуарами, прическами, оружием - все здесь выражает совершенно иные вкусы, иное миропонимание, живет и действует в совершенно других исторических реалиях. Художники этого времени не занимались научной реконструкцией изображаемой эпохи, они просто отражали то, что видели вокруг себя (благо, по их мнению, мода, конечно, изменилась, но не слишком), добавляя кое-какие элементы, призванные показать, что речь идет о Наполеоновской эпохе. Все это не значит, конечно, что позже, и в частности в XX в., художники не писали более дурных картин о Наполеоновской эпохе. Писали, да еще какие, где буквально каждый элемент вопиет горячечным бредом и сплошными анахронизмами... Но дело в том, что, по крайней мере, к этим произведениям историки относятся настороженно, в то время как литографии второй четверти XIX в. рассматриваются чуть ли не как подлинные документы.
Автору же этой книги хотелось, чтобы читатель увидел настоящую Наполеоновскую эпоху, поэтому все иллюстрации подбирались по принципу абсолютного соответствия духу и правде времени. С этой точки зрения наиболее ценными для нашей темы явились произведения художников, имевших возможность делать зарисовки армии Наполеона непосредственно в гуще событий: на кантонир-квартирах, марше, биваке, а иногда и прямо в бою под пулями и ядрами. Это рисунки и картины Альберта Адама, Бенжамена Зиса, Жана Свебаха, Джузеппе Баджетти, Бакле д'Альба и др. Но особенно выделяются своей точностью и прекрасным художественным вкусом картины Луи-Франсуа Лежена, офицера штаба Бертье, впоследствии генерала (!), который в перерывах между военными походами и напряженной работой в штабе создавал великолепные батальные полотна. Наряду с такими почти фотографически достоверными изображениями военной действительности той эпохи, для нас были интересны работы официальных художников эпохи Империи - Гро, Тевенена, Дебре, Готеро, Тоне... В их картинах немало помпезности и театральности. Это, конечно, уже не точные зарисовки, сделанные в пылу боя, а постановочные академические композиции. Однако их ценность для нас велика, ведь они являются слепком духа и стиля эпохи, а костюмы, аксессуары, знамена и оружие здесь обычно переданы очень точно. Наконец, к третьей группе тех, чьи произведения использовались как иконографический материал для книги, относятся мастера XX в., специалисты по военной истории, униформе и повседневной жизни Наполеоновской эпохи. Таких художников очень немного. Среди них, прежде всего, Эдуард Детайль - один из самых крупных художников-баталистов нашего века, блистательный специалист в области истории Наполеоновской эпохи и основатель самого знаменитого военного музея Европы - Музея Армии в Париже. Вслед за ним идут продолжатели его дела Пьер Бениньи и Люсьен Руссело. Наконец, талантливый современный русский художник и специалист в области истории воен- ного костюма Сергей Летин под пристальнейшим, можно даже сказать, привередливейшим контролем автора за точностью изображения мундиров и экипировки исполнил блистательную серию униформологических планшетов, украсивших страницы этой книги.
Надеюсь, что представленная на суд читателя книга послужит делу настоящей, объективной и серьезной военно-исторической науки. Автор выражает глубокую признательность тем, кто непосредственно принимал участие в подготовке этого труда:
Шиканову Владимиру Николаевичу (автору приложений IV, V (часть 2) и VII)
Суслову Павлу Викторовичу (автору приложения V (часть 1)) за ряд материалов, использованных при написании главы XIII.
Тем, кто помог в архивных изысканиях и в обработке огромного количества данных послужных списков: Соколову Валерию Матвеевичу, Соколовой Анастасии Валерьевне и Кукушкиной Анне Анатольевне.
Автор благодарит также Васильева Алексея Анатольевича и Турусова Виктора Павловича за ряд важных консультаций и советов.
Глава I. ОТ РЕВОЛЮЦИИ К ИМПЕРИИ
В политическом мире произошли настоящие чудеса, и свершены они французской армией. Эта армия являет собой удивительный феномен, который должен привлечь любопытство одних и заставить задуматься других.
Фон Фабер* (январь 1808г.).
Невозможно начать рассказ об армии Наполеона, не осветив хотя бы вкратце ее непосредственную предысторию. Конечно, понятие "предыстория" весьма относительно, и, очевидно, в поисках истоков можно зайти далеко, ведь в эпоху Наполеона в войсках продолжало жить немало традиций королевской армии, а некоторые обычаи, термины и т. п. восходили и к французскому рыцарству, и к римским легионам. Однако значение подобных традиций ограничено, при необходимости о них можно упомянуть непосредственно в основном повествовании.
Иначе обстоит дело с эпохой Великой французской революции. Армия Наполеона вышла из армии Республики - организационно, материально, психологически. Конечно, войска Империи претерпели громадные изменения во всех отношениях по сравнению с периодом революционных войн, но многое осталось постоянным до самого момента падения Империи и в известной степени сохранилось даже в современной французской армии. Наконец, армия революции создала самого Наполеона Бонапарта, взрастила будущую блестящую плеяду маршалов и генералов и в немалой, если не в решающей, степени определила сам факт установления Консульства Бонапарта, а затем - Империи Наполеона I.
Поэтому перед тем, как мы погрузимся в полную накала страстей атмосферу войн Империи, необходимо хотя бы ненадолго взглянуть на полтора десятилетия назад, в то время, когда под ударами революционной волны рухнуло здание тысячелетней французской монархии.
Как получилось, что Европейский континент, если и не мирно дремавший, то, по крайней мере, живший в относительной стабильности, нарушаемой лишь ограниченными локальными войнами, вдруг вспыхнул пламенем огромного военного пожара мирового значения?
Еще недавно для почтенного советского "ливрейного" историка и вопроса не могло возникнуть по этому поводу. Конечно же, войну начала коалиция феодальных держав с целью задушить Великую революцию... Теперь, когда слово "революция" принято произносить со знаком минус, благонамеренный русский историк, очевидно, должен в ярких красках описать ужасы якобинского террора и воздать хвалу французским "белым" полкам (благо, слово "белые" идет, также как и многое в русской революции, от этой эпохи).
Не следуя за политической конъюнктурой ни тогда, ни сейчас, мы постараемся ответить на этот вопрос с максимальной беспристрастностью и объективностью.
Когда прогремели залпы пушек, возвещавшие о штурме Бастилии, и пресса разнесла их раскаты по всей Европе, реакция на революционные события у большинства монархических государств, как ни странно, была отнюдь не враждебной. Еще не подозревая, какую опасность таит для них гигантский революционный взрыв, они видели во французских событиях лишь ослабление конкурента, каковым было для них на международной арене королевство Бурбонов. Тем более, подавляющее большинство лидеров Революции на первоначальном этапе и подавно не помышляли о войне.
Однако очень скоро это отношение стало изменяться с обеих сторон. Огромная пропагандистская сила революции начала всерьез беспокоить монархов, тем более что вся просвещенная Европа читала по-французски и так или иначе находилась под воздействием французской культуры. А первыми действиями, которые уже не на шутку взволновали правительства иностранных держав, стали акты Национального учредительного собрания, декретирующие присоединение к Франции Авиньона и земель немецких князей в Эльзасе. Население этих крошечных владений, окруженных со всех сторон французской территорией, было охвачено революционным брожением и в подавляющем большинстве требовало свержения своих сеньоров и присоединения к Франции.
* Фон Фабер - высокопоставленный российский чиновник, родом из прибалтийских немцев, автор брошюры, посвященной армии Революции и Империи, изданной в Петербурге в 1808 г.
Вступление французов в Савойю. Гравюра из газеты Revolutions de Paris.
Тысячи французских эмигрантов, хлынувших за границу в связи с радикализацией революционного процесса, готовились к активным действиям. Они собирали свои полки, проникали повсюду ко дворам европейских монархов, запугивая их надвигающейся революцией и требуя от них активных действий. Из- за границы раздались первые угрозы в адрес Франции и бряцание оружия, ставшие уже нешуточными после эпизода с Авиньоном и владениями немецких князей в Эльзасе. 29 августа 1791 г. в замке Пильниц император Леопольд II и прусский король Фридрих- Вильгельм подписали декларацию о совместных действиях и помощи французскому монарху. Людовик XVI и Мария-Антуанетта просили у своих коронованных родственников хорошенько припугнуть чернь. Но все же никто еще всерьез не думал о войне, речь шла скорее об угрозах и политических декларациях. Однако сбор войск на границах и угрозы вызвали не страх среди политических деятелей революции, а напротив, дали им пищу для громоподобных речей. Именно тогда в их головах стали рождаться планы превентивного удара. В ослеплении они считали, что борьба будет легкой. С трибуны Национального собрания Бриссо восклицал: "Французская революция будет священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к ней приблизиться!" Ему вторил Инар: "Твердо скажем европейским кабинетам: если короли начнут войну против народов, мы начнем войну против королей!", а депутат Фоше заявлял: "Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых рабов, их армии растают, как глыбы льда на пылающей земле!"
И вот в результате 20 апреля 1792 г. подавляющим числом голосов Законодательного собрания* война была объявлена. Однако первые же столкновения с неприятелем оказались для лишенных организации и дисциплины французских войск роковыми. Едва увидев аванпосты австрийцев, армия, наступавшая на Монс, с криком "Измена!" бросилась бежать.
* 1 октября 1791 г. на смену Национальному учредительному собранию пришло так называемое Законодательное собрание.
Но неудачи и вступление неприятельских войск на французскую территорию не запугали мятежную столицу, напротив, весь Париж всколыхнуло мощным импульсом. "Отечество в опасности!" - провозглашали юные ораторы, опоясанные трехцветными шарфами, под звон набатов и гром орудий, стоявших на Новом мосту. Тысячи добровольцев зашагали к границам. Они были еще не обучены, плохо вооружены, но полны решимости и энергии. Король, королева, а также эмигранты, не понимавшие всей силы этого поднимающегося шквала, требовали от командования коалиции хорошенько пугнуть мятежников. Под их давлением герцог Брауншвейгский, в общем довольно мягкий и совсем не жестокий человек, подписал манифест, где он обещал, что в Париже не останется камня на камне, если хоть один волос упадет с головы монарха.
Вместо испуга этот манифест, попавший в раскаленную страстями столицу Франции, вызвал взрыв. " 10 августа, спустя три дня после того, как о нем узнали парижане, монархия была свергнута. Невиданный дотоле порыв охватил сотни тысяч людей. С трибуны Законодательного собрания Дантон громовым голосом произнес обессмертившие его слова: "Набат, который звучит,- это не сигнал тревоги, это марш к атаке на врагов Отечества. Чтобы их победить, господа, нам нужна отвага, еще раз отвага, снова отвага, и Франция будет спасена!" Для французов с этого мгновения война стала войной не на шутку. 20 сентября в битве при Вальми они остановили атаковавших пруссаков и скоро сами перешли в наступление на всех фронтах. На севере, разбив австрийцев под Жемаппом, республиканцы заняли Бельгию. На востоке, тесня пруссаков, вошли в Майнц. На юге при ликовании народа вступили в Ниццу и Савойю. Эти успехи вскружили голову правительству Республики. Радостный прием, который встретили французские войска в Савойе и части германских земель, кажется, подтверждал самые фантасмагорические прожекты освобождения человечества. С трибуны Конвента* Грегуар провозгласил: "Жребий брошен! Мы кинулись в борьбу! Все правительства -наши враги, все народы - наши союзники! Или мы будем уничтожены, или человечество будет свободным!" Так полушуточная война превращалась в мировой пожар.
Теперь настало время и коалиции задуматься о том, чем она рискует. Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, Неаполь, Сардиния, множество мелких государств Германии - все поднялись на борьбу. Отныне они понимали, что силы Республики велики, и готовились теперь не к военной прогулке, а к битве не на жизнь, а на смерть. Весной 1793 г. коалиция перешла в наступление. На удесятеренный натиск врага, на сплошные неудачи на фронтах Республика ответила со стократно возросшей энергией и решимостью. К концу 1793 г. французские войска были доведены до небывалой доселе численности: почти миллион человек. Они обрушились на врага с неукротимой энергией и вскоре вновь добились побед. Однако теперь*уже никто не мог остановиться: война стала яростной, отчаянной, идеологизированной. Революционные армии снова повсюду пересекли границы Франции, устанавливая везде новые порядки.
* В сентябре 1792 г. был собран новый высший законодательный орган - Национальный конвент.
Конечно, не стоит смотреть на войны Великой французской революции с современной точки зрения. Они были далеко не столь жестокими и кровавыми, как мировые войны XX в. Еще не были утрачены замечательные "пережитки прошлого": красочные мундиры, военная музыка, любезности между офицерами воюющих сторон и рыцарские жесты по отношению к поверженному неприятелю. Однако Революция до предела идеологизировала войну, выпустила из бутылки джина национальных страстей, ослабленных в космополитический век Просвещения. Перехлестнувшись через границы Франции, война становилась необратимой. Коалиция отныне не могла уступить, ибо победный марш республиканских войск заставлял шататься все европейские троны. С другой стороны, для Республики невозможно было отдать свои завоевания, ибо это означало бы усиление неприятеля, поставившего себе целью не только во что бы то ни стало реставрировать Французскую монархию, но и заставить Францию заплатить за все потери и расходы коалиции.
Ж.-Л. Давид. Портрет Келлермана (1735-1820). Уголь. Будущий маршал Империи, генерал Келлерман командовал армией, которая остановила нашествие пруссаков в битве при Вальми, 20 сентября 1792 г.
Э. Детайль. Братание солдат полка генерал-полковника и Парижской национальной гвардии (1789 г.).
Все вышесказанное говорит о том, что не феодальные державы бросились, чтобы задушить Революцию, которая героически и справедливо защищала себя, как это доказывала марксистско-ленинская историография, тут же добавляя, что потом пришло чудовище Наполеон и мгновенно превратило "хорошие" войны Революции в захватнические и "империалистические". Войну в 1789-1791 гг. не планировали и не хотели ни идеологи революции, ни правительства монархических стран Европы. Она началась вне зависимости от чьей-либо воли и, благодаря неумолимому воздействию обстоятельств, превратилась в ожесточенный всеевропейский конфликт, пламя которого все более разрасталось и остановить который могла только окончательная победа одной из сторон.
В пламени этой борьбы родилась новая армия. Старые королевские войска подверглись процессу разложения в период Революции. Огромное количество солдат дезертировало, офицеры эмигрировали или ушли в отставку. Даже самые ярые оптимисты понимали, что с этими ослабленными полками нечего было и думать противостоять силам складывающейся коалиции. Поэтому было принято решение о создании новых сил - батальонов добровольцев (волонтеров). Декрет о создании этих частей был утвержден Национальным собранием 12 июня 1791 г. Запись в батальоны должна была быть добровольной, а сами добровольцы - выходцами из национальной гвардии. Последнее условие означало, что это должны быть "почтенные", "благонадежные" люди, ибо только они допускались в национальную гвардию.
В приграничных департаментах, где опасность иностранного вторжения ощущалась как нечто весьма реальное, формирование батальонов волонтеров происходило быстро и дало наибольшие результаты. Много добровольцев было и в охваченном революционным порывом Париже. Зато департаменты, где сильны были клерикальные и консервативные слои, выставили очень небольшое количество батальонов, а некоторые - вообще ни одного. Тем не менее к 1791 г. было сформировано более полутораста батальонов общей численностью около 100 тыс. человек.
Батальоны волонтеров резко отличались от линейных войск. Здесь все было иное - начиная от менталитета, пронизанного революционной идеологией, и кончая униформой, которая у добровольцев была национальных цветов (синий мундир с белыми и красными декоративными деталями), а у старых королевских пехотных полков - белого цвета. Отсюда насмешливые прозвища: "васильки" - так называли волонтеров старые солдаты - и "белозадые", как, недолго думая, окрестили их добровольцы.
Особенно отличался порядок формирования командных кадров волонтерских батальонов. Он был поистине "революционным". Всех командиров, от капрала до полковника, избирали сами добровольцы. Однако здесь сразу нужно сделать важное замечание. Еще до конца 1791 г. появился закон, согласно которому офицерами могли быть выбраны только те, кто уже служил в армии, или, за их неимением, был офицером в национальной гвардии (последнее фактически означало принадлежность к зажиточной буржуазии). Наконец, выборы проходили непосредственно в департаментах под контролем местных властей во главе с буржуазной верхушкой, опиравшейся на свои клиентелы. Так что в результате командовали в батальонах волонтеров не лихие неграмотные мужланы, а, скорее наоборот, очень почтенные граждане. Впрочем, были, конечно, и исключения.
Батальоны волонтеров 1791 г. были, в общем, крайне разнообразны по своему качеству. Вероятно, поэтому столь противоречивы высказывания о волонтерах, колеблющиеся от самых восторженных до самых презрительных.
Вот что писал, например, генерал Монтескью военному министру Сервану по поводу качества частей своей армии: "Полки (имеются в виду линейные войска*), которые прислали из Эльзаса, находятся в жалком состоянии. Во всей армии нет ничего приличного, кроме нескольких батальонов волонтеров. Я хотел бы от всего сердца, чтобы вы прислали побольше этих батальонов, и уверен, что из них можно извлечь большую пользу. Они обычно лучше обучены, лучше дисциплинированны и более подвижны, чем полки. Если бы эти батальоны были более многочисленны, я охотно согласился бы не иметь других войск"1.
* Здесь и далее курсивом выделены комментарии автора книги к цитатам.
Генерал Дампьер с большой похвалой отзывался о поведении волонтеров в битве при Жемаппе: "Три первые батальона Парижа стояли слева от Фландрского полка, эти три батальона вели себя очень достойно. 1-й Парижский батальон под командованием храброго Баллана отбил атаку эскадрона Кобурга, поддержанного гусарами, уложив перед собой впечатляющий вал из людей и лошадей. 2-й и 3-й вели огонь по венгерским гренадерам. Эти батальоны находились под командованием двух командиров, известных своей отвагой - граждан Мальбранша и Лака..."2
Равным образом имеются и противоположные свидетельства. Вот что писал военному министру генерал Ламорисьер 9 октября 1791 г.: "Я имею честь донести Вам об отсутствии дисциплины, царящем в этих частях, и прошу Вас сообщить, есть ли эффективный способ наказаний, который позволил бы внедрить среди волонтеров подчинение и субординацию, необходимые для каждого солдата. Их командиры неоднократно приказывали им построиться как для того, чтобы изучать военные упражнения, так и для других целей. Значительная часть волонтеров в открытую отказались явиться, другие же не явились молча. Со всех точек зрения граждане желали бы убрать отсюда эти войска, дурное поведение которых их беспокоит"3.
Ж.-Б. Зееле. Волонтер на посту, 1793 г. Акварель с натуры.
Э. Детайль. Отправление волонтеров в поход. Действие происходит в Париже на Новом мосту.
Наконец, генерал Вимпфен писал 31 декабря 1791 г. из Кольмара: "Вы поймете, что батальонам волонтеров Верхнего Рейна, а также Верхней Саоны и Дуба многого не достает, чтобы быть использованными в качестве воинских частей. Это отставание связано с двумя пороками в их организации, о которых я предупреждал военного министра еще в момент их формирования. Первый - это способ производства офицеров, который вызвал дурные и даже просто смешные результаты. Интриганы, болтуны и особенно выпивохи победили на выборах способных людей. Второй - то, что департаментам поручено обмундировывать и экипировать волонтеров, в то время как у этих департаментов нет ни су, да и к тому же это не их сфера деятельности..."4
Тем не менее в общем превалируют положительные высказывания. Волонтеры 1791 г. быстро приобрели выправку. Из писем волонтеров мы видим, что воинские упражнения проводились регулярно и зачастую почти каждый день5. С началом войны они хладнокровно приняли боевое крещение и скоро стали достойными солдатами.
Хотя волонтеры 1791 г. пополняли силы армии, но все-таки объявление войны застало Францию недостаточно готовой к борьбе. Необходимы были новые контингенты. И решили снова прибегнуть к методу, давшему положительные результаты.
11 июля 1792 г. Законодательное собрание провозгласило: "Граждане! Отечество в опасности! Пусть те, кто получат честь отправляться первым, чтобы защитить все, что у них есть дорогого, помнят, что они французы и свободны; пусть их сограждане поддерживают у очагов безопасность личности и собственности, пусть магистраты народа будут бдительны, пусть все в спокойствии и отваге, характеризующих истинную силу, ждут для действия слова закона, и Отечество будет спасено!"6
12 июля закон провозгласил первый набор в 50 тыс. человек для пополнения линейных войск и формирования новых 42 батальонов (около 33 600 человек) волонтеров.
В Париже, раскаленном энтузиазмом, и в восточных департаментах, находящихся под непосредственной угрозой, набор происходил активно. 22 июля по улицам прошли кортежи Национальной гвардии, неся огромные панно с надписями "Отечество в опасности!" На Новом мосту каждый час грохотали орудия, отовсюду раздавался треск барабанов, звуки труб, призывы ораторов, стук копыт по мостовой и лязг оружия. В этой насыщенной подъемом и энтузиазмом атмосфере набор осуществлялся быстро. Только за неделю записалось 15 тыс. добровольцев. Не меньше желающих было и в приграничных департаментах. Только один департамент Верхней Сены дал сразу 8 батальонов. Что же касается контрреволюционных районов, здесь противодействие было еще острее, чем в 1791 г. В общем же, призыв 1792 г. поставил в строй огромное пополнение, причем необходимо отметить, что на этот раз наряду с городами значительный вклад внесла и деревня. В то время как в 1791 г. только 15% волонтеров были выходцами из сельской местности, в 1792 г. таковых было уже 69%.
Это пополнение необходимо было снабдить командными кадрами. Как и в 1791 г., офицеры избирались непосредственно волонтерами. Однако условия выборов, да и сам контингент избирателей, были другими. Революция вступила в новый, более радикальный, период. Выборы на командные посты проходили на этот раз вне контроля местной элиты. Результат поэтому оказался соответствующим. Среди офицеров практически не осталось дворян (лишь 0,7% вместо 4,0% в 1791 г.), уменьшилось количество буржуа, зато вырос процент ремесленников с 22,8 до 32,9%; наконец, до 13-15% младших офицеров были сыновьями крестьян7.
Офицеры волонтеров 1792 г. были людьми, имеющими немало доброй воли и отваги, но их образовательный уровень был значительно ниже, чем у их предшественников в 1791 г. Наконец, полностью "демократические" выборы привели к тому, что командиры оказались в значительной степени зависимы от своих солдат.
В результате в данном случае свидетельства современников почти единодушны: волонтеры 1792 г., несмотря на свой патриотический дух, были крайне недисциплинированны, слабы в воинской выучке, подвержены панике. "Парижские батальоны старого набора (т. е. 1791 г.) были великолепны, но мне кажется, что новые отвратительны, - рассказывает очевидец. - Я не могу дать вам полной картины, сколько плохого можно о них рассказать. У этих парижан высокомерный вид... Они, кажется, презирают остальную часть армии и желают везде командовать... тем не менее, что касается военных эволюции и ружейных приемов, они находятся в самом грубейшем невежестве, так что на них больно смотреть"8.
Создание батальонов волонтеров, а затем полурегулярных частей под названием легионов и вольных рот, быстрый численный рост батальонов за счет новых, уже принудительных наборов, привели к резкому возрастанию армии нового типа, которая, как уже отмечалось, сосуществовала параллельно с линейными войсками в 1791-1793 гг. Численность войск обоих категорий к концу 1792 - началу 1793 гг. привел в своем рапорте Конвенту Дюбуа-Крансе. Согласно этому рапорту, в вооруженных силах Республики было 98 линейных полков, которые вместе с егерскими батальонами имели в своих рядах около 133 тыс. человек. Кроме того, в линейных войсках было 35 тыс. кавалеристов и около 10 тыс, артиллеристов. 517 батальонов волонтеров, имевшихся на данный момент, насчитывали по спискам 289 114 человек. В общей сложности предполагалось, что реально под ружьем было около 400-460 тыс. человек9. В дополнение к этим войскам 24 февраля 1793 г. Конвент объявил набор 300 тыс. новобранцев, и, наконец, 23 августа была провозглашена "levee en masse" - всеобщая мобилизация, которая вылилась, впрочем, в очередной большой набор.
Детайль. Пехота королевской армии (1789 г.).
Э. Детайль. Представитель народа при армии (1793 г.).
В этих условиях существование двух параллельных армий становилось невозможным, как с организационной, так и с политической точки зрения. Необходимо было немедленное решение насущной проблемы. "Единство Республики требует единства армии, у Отечества есть только одно сердце", - провозгласил Сен-Жюст с трибуны Конвента10. В результате 21 февраля 1793 г. был принят декрет об "амальгаме" - слиянии войск. По мысли авторов декрета, один батальон линейных войск сливался с двумя батальонами волонтеров в часть, которую во всех армиях принято называть полком, но которую для отличия от старых королевских войск назвали полубригадой.
Основной процесс образования полубригад происходил летом 1793 - зимой 1794 гг. и почти завершился к лету 1794 г. Разумеется, крайняя распыленность частей, сложность осуществления слияния прямо в ходе кампании привели к тому, что далеко не везде "амальгама" была произведена в точности так, как было постановлено. Однако общий результат был очевиден. К лету 1794 г. армия Великой французской революции представляла собой единое целое с общими для всех регламентами, законами, правилами чинопроизводства.
Еще до того как процесс амальгамы был завершен, Париж потрясли новые революционные события. 2 июня 1793 г. пали жирондисты и к власти пришло радикальное крыло буржуазных революционеров. Однако еще раньше правительство приняло ряд решительных мер, продиктованных военной необходимостью и имеющих самое непосредственное отношение к армии. 5 и 6 апреля 1793 г. был создан знаменитый Комитет общественного спасения из девяти членов, 9 апреля был учрежден институт представителей народа. К каждой из 11 армий Республики было направлено по три представителя, наделенных чрезвычайной властью. Они осуществляли "самый бдительный контроль за действиями агентов Исполнительного совета, за всеми поставщиками и подрядчиками армии, за поведением генералов, офицеров и солдат"11.
30 апреля Конвент принял новый текст постановления, где еще более расширялись права "представителей в миссиях при армиях". Они получили право арестовывать и отстранять от службы генералов (не говоря уже о простых офицерах). Каждый день они должны были направлять в Комитет общественного спасения дневник своих действий и каждую неделю - отчет Конвенту.
Наконец, после прихода к власти якобинцев обострение внешней и внутренней обстановки вызвало еще более радикальные меры. В офицерском корпусе начались жесточайшие чистки. Еще 27 января 1791 г. Марат заявлял, что не будет победы Революции до тех пор, пока во главе войск не будет "настоящих санкюлотов". После 2 июня эта тема стала лейтмотивом посланий, с которыми обращалась к Конвенту Коммуна Парижа. Разумеется, что основным объектом гнева крайних левых были представители высшего командования, и это вполне понятно.
1 апреля 1793 г. главнокомандующий Северной армией генерал Дюмурье арестовал комиссаров Конвента Камю, Кинетта, Ламарка и Банкаля вместе с военным министром Бернонвилем, посланных в его ставку, и вечером того же дня выдал их врагу. Затем он безуспешно пытался поднять своих солдат против Республики, но, убедившись в тщетности своих попыток, бежал к австрийцам в сопровождении принца Шартрского, герцога Монпансье и нескольких офицеров.
Эта измена послужила поводом к существенным изменениям в кадровой политике Комитета общественного спасения, ибо с радикализацией революционного процесса вследствие мероприятий, проводимых якобинцами, большинство дворян, вольно или невольно, оказались в антиреспубликанском лагере.
Поэтому, выбирая между "изменой и незнанием"12, якобинское правительство не колебалось. На все самые высшие посты решительно выдвигались люди, подчас не имеющие большого боевого опыта. Буквально за один-два года командный состав французской армии неузнаваемо изменился. Его социальный облик стал совершенно иным. Если 20 апреля 1792 г. из 135 генералов, остававшихся на службе, только 18 не являлись дворянами, то после якобинской чистки в армии, к 1 января 1794 г., на высших командных постах осталось 62 дворянина и 275 выходцев из третьего сословия13.
Отмечая резкое изменение социального состава высшего офицерства, необходимо все-таки отметить, что дворяне не только не исчезли полностью из штабов, но и продолжали играть там немаловажную роль. Несмотря на яростную кампанию, которую повели "бешеные" против пребывания дворян в армии, и на то, что 5 апреля 1793 г. Конвент декретировал, что в генералы и офицеры штаба могли производиться только те, кто не принадлежал к "бывшим"14, республиканское правительство не могло совсем отказаться от помощи специалистов старой армии.
5 июня 1793 г. Конвент принял постановление, согласно которому "будет несправедливо исключать из администрации священников, которые женились, и дворян, которые своей революционной деятельностью хорошо послужили отечеству"15.
Именно поэтому, как уже отмечалось, на службе в 1794 г. оставалось более 60 генералов из дворян. Среди них и знаменитый Келлерман (из дворянства мантии) и будущие маршалы Империи: Груши, Периньон, Макдональд и сам Бонапарт, произведенный в бригадные генералы в 1793 г. представителями Конвента Робеспьером-младшим и Саличетти и подтвержденный в своем звании 6 февраля 1794 г.
Однако республиканское правительство, сохраняя представителей "бывших" на командных постах, бдительно контролировало их действия. Поэтому Бонапарт, например, предпочел скрыть свою принадлежность к привилегированному сословию, и в ответе на анкету, предложенную ему 19 января 1794 г., в графе "происхождение" написал "не дворянин"16. Серюрье, будучи произведен сначала в полковники, был отстранен от службы как аристократ, но, обратившись с просьбой взять его в армию просто как рядового гренадера (ему было 50 лет), заслужил уважение представителей народа и вскоре в 1793 г. получил эполеты бригадного генерала17. Дворянин Этьен-Жак Макдональд, которому в этом же году было 28 лет, был внезапно произведен в бригадные генералы. "Это был удар грома, - пишет он, - хотя я уже в течение нескольких месяцев исполнял обязанности генерала, но, по крайней мере, на мне не лежала ответственность звания. Я напрасно доказывал, что я молод, неопытен - ничего не хотели слушать. Нужно было подчиниться своей , судьбе, чтобы не быть объявленным подозрительным и не попасть под арест"18.
Когда же из Парижа пришли указания о серьезной чистке штабов, молодой офицер сам попросился в отставку. Но его просьба не была удовлетворена. "Мою службу и мое поведение похвалили, - рассказывает Макдональд. - Главнокомандующий попросил оставить меня... Комиссары пригласили меня к себе и там объявили, что в силу своих полномочий они обязывают меня служить. Я согласился, но потребовал письменного подтверждения, что, если я потерплю где-нибудь поражение, они не осудят меня за измену... Они отказались... Тогда я заявил, что покидаю армию. "Если ты покинешь армию, мы арестуем тебя и будем судить". Нужно было подчиниться и оставаться, несмотря на опасность. Только успехи могли меня защитить и спасти"19.
Беспокойство молодого генерала вполне можно понять, если обратиться к цифрам. Молот республиканского правосудия бил по штабам со всей жестокостью. Немало представителей народа действовало, подобно Мильо, который гордился тем, что "без страха брался за густую золотую бахрому"20.
В результате если за 30 лет Старого Порядка (с 1759 по 1789 гг.) было только 11 случаев разжалования генералов, а отстранение же (suspension) вообще не применялось, то только за 1793 г. было разжаловано 59 генералов и отстранено 275, за 1794 г. - соответственно 54 и 7721. Всего же за время республиканского правления 1792-1799 гг. было отстранено от должности 420 генералов и разжаловано 167. Причем особенно выделяется вторая половина 1793 г. (только за эти шесть месяцев было осуществлено 230 отстранений от должности, десятки разжалований)22. Отстранение или разжалование в значительном количестве случаев означало и арест (за 1793 г. было арестовано 198, а за 1794 - 75 генералов). Затем как естественное продолжение следовал суд. В 1793 г. были преданы суду 31 генерал, а в 1794 - 63, причем из них осуждены были 61. Большая часть осужденных была приговорена к смертной казни (за период революционного террора были казнены 54 генерала) 23. Отстранения, разжалования, производства, аресты, суды, снова производства следовали с головокружительной быстротой. Из 36 генералов, командовавших соединениями знаменитой Самбро-Маасской армии, 19 подвергались аресту или были разжалованы, отстранялись от выполнения обязанностей либо увольнялись со службы (нередко то и другое вместе), а иногда и не один раз.
Э. Детайль. Дивизионный генерал и капитан штаба (1794 г.).
Внезапные падения чередовались со стремительными взлетами. В течение 1793-1794 гг. зафиксировано 43 случая производства в генералы сразу из... лейтенантов или капитанов 24.
В результате такой сильной встряски командных кадров произошел коренной переворот в социальном составе высших офицеров. Как уже отмечалось, доля дворян среди них снизилась к январю 1794 г. до 22%.
Большую роль в этих переменах сыграл военный министр, ярый якобинец Бушотт. Хотя Бушотт и отклонял требования Эбера о поголовном увольнении дворян из армии и прохладно относился к солдатским петициям, в которых требовалось, как, например, в письме канониров армии Пиренеев, чтобы были отстранены все генералы и заменены добрыми патриотами, "такими, как наш капитан"25, он был неумолим в отношении всех "подозрительных" и, мягко говоря, "смело" выдвигал людей на командные посты. Отношение старых военных, искренне вставших на сторону Революции, к этим, порой малообъяснимым, чинопроизводствам ярко отражает письмо генерала Крига, коменданта Меца, к военному министру: "До тех пор пока я буду видеть во главе войск людей, которые всю жизнь занимались лишь ремеслом или коммерцией, или мелочной торговлей, я буду оплакивать судьбу армий Республики... Ваш метод чинопроизводства, гражданин министр, не может быть таковым, если Республика должна существовать. Сердце у меня обливается кровью, когда я вижу старых пьяниц, непригодных, наделенных всеми недостатками, которые вышли из кабаков, из грязи, из всех социальных пороков и поднялись до командиров, начиная с роты и кончая армией. Как Вы надеетесь, что солдаты будут иметь доверие к командирам подобного типа, если в течение 30-40 лет им не осмеливались доверить артельную кассу четырех рядовых?"26
Опасения Крига не были безосновательными: благодаря Бушотту среди генералов оказались такие, как Сюзамик, который, пробыв 14 лет унтер-офицером, ушел в отставку, но затем вернулся в строй батальона волонтеров, был избран капитаном, а затем 4 октября 1793 г. стал командиром батальона. На следующий день Бушотт внезапно сделал его бригадным генералом, несмотря на протесты представителей народа. Как раз в этот момент Сюзамик попросил отставки, так как почти ослеп и был неграмотным. Тем не менее он все- таки был произведен в генералы... чтобы через два месяца быть разжалованным за "неспособность"27.
Ну и совсем уже комичный случай произошел с другой креатурой Бушотта, генералом Анри Латуром, который был арестован Гошем за то, что "прибыв к армии Запада, нарушил линию аванпостов, пил и пел с гренадерами, целовался с негром и заснул вместе с мясниками армии"28.
Однако не Сюзамик и Латур представляли типичный облик вождя республиканской армии. Наряду с досадными просчетами в период якобинской диктатуры выдвинулась целая плеяда талантливейших полководцев, столь многочисленная, что, пожалуй, трудно найти другую армию, где в течение нескольких лет перебывало бы столько блестящих дарований на командных постах.
Это знаменитые Гош, Марсо, Дезе, Клебер, Дюгоммье, Бонапарт, Массена, Лекурб, Моро, Жубер и многие другие. В большинстве своем эти звезды первой величины полководческого искусства были молоды. Они опирались на прочную фалангу генералов солидного возраста, имевших огромный военный опыт и вышедших из низших командных должностей, из среды тех, кто, несмотря на всю безупречную и преданную службу, едва ли мог раньше мечтать о более высоком командном посте, чем командир роты гренадер.
К началу 1793 г. 80% генералов имели в своем послужном списке не менее 25 лет службы, и только 4% служили не более 15 лет29.
Среди этих испытанных командиров, возможно, не оставивших столь яркого следа в летописи побед Республики, были Моисей, Периньон, Серюрье, Дагобер, Дюбуа, Бейран, Косе, Шарле, Фюзье, Ла Барр, Соре и сотни других.
В период якобинской диктатуры происходила и глобальная чистка "остатков" младшего и среднего звена командных кадров королевской армии. Если с 10 августа 1792 г. по 2 июня 1793 г. насчитывалось всего 150 отстранений со службы офицеров, то после установления якобинской диктатуры подобные факты стали обычным явлением. Только за период со 2 июня 1793 г. по 20 апреля 1794 г. около 600 офицеров были отстранены по причине дворянского происхождения или недостаточного "цивизма" (гражданственности)30.
Интересно, однако, отметить, что причиной отстранения офицеров от исполнения обязанностей не всегда были лишь особо рьяные комиссары Конвента.
Известно немало случаев, когда инициатива исходила и снизу. Причинами этого были и Республиканский пыл солдат, подогретый якобинскими клубами, и страх измены, и просто сведение личных счетов.
Ярким примером подобной пертурбации командных кадров является эпизод в 23-м линейном полку, произошедший зимой 1793-1794 гг. и ставший объектом разбирательства со стороны командования и комиссаров Конвента.
Документы, хранящиеся в архиве исторической службы сухопутных войск в Венсенне, позволяют восстановить обстановку этого своеобразного события, имевшего место в 1-м батальоне полка, расположившегося отдельно на зимних квартирах в небольшом селении Модан недалеко от Гренобля.
Документ на бланке административного совета 42-й линейной полубригады (VII г.).
Строгость командира батальона и ряда офицеров, бывших дворян, вероятно, возбудила недовольство солдат, чем не преминули воспользоваться то ли беспринципные карьеристы, то ли фанатичные якобинцы, а скорее всего, люди, соединившие в себе и то и другое. Обвинения, которые выставил один из них против офицеров из "бывших", смотрится, мягко говоря, как недостаточно мотивированные, да и заголовок у документа, где они сформулированы, тоже довольно "своеобразный": "Старое бельё, которое надо выкинуть на помойку". В первой графе написаны... "имена сволочей"(!), во второй - "замечания". Здесь мы читаем:
"Дютей, подполковник 23-го пехотного полка, - дворянство и старая глупость...
Удан, капитан в том же полку, - мюскаден, хороший патриот Конституции 1789 г., но не любящий ту, которая сейчас; дворянин.
Пэнтандр, капитан в том же полку, - мюскаден до крайности, аристократ, трус, который идет в бой, как собака, которую гонят хлыстом на охоту...
Дионис, капитан в 23-м пехотном полку, - аристократ, гад и сволочь как человек, дворянин.
Д'Энград, суб-лейтенант в том же полку, - дворянин, очень дворянин, бесконечно дворянин, мюскаден. Аристократ... Будучи в плену в Пьемонте, выпущен под честное слово. Занимался тем, что корчил шута перед Сардинским тираном и его сателлитами. Похвалы, которыми тот его осыпает, не оставляют сомнений в этом... и т. д."31
Эти абсурдные обвинения нашли, очевидно, своих сторонников, и, когда некто Шеврийон, агент Исполнительного совета, прибыл к батальону и заявил о том, что все, кто принадлежат к "бывшей дворянской касте, не заслуживают более того, чтобы занимать посты настоящих санкюлотов"32, было решено провести собрание батальона, о котором рассказывает другой небезынтересный документ:
"Модан, 16 нивоза II-го года Французской Республики, единой, неделимой и демократической.
Офицеры, унтер-офицеры и солдаты 1-го батальона 23-го полка генералу Пеллапра, командующему армией Альп.
Гражданин генерал, мы спешим сообщить тебе результаты обсуждения, которое мы провели в отношении офицеров нашего полка, запятнанных пороком дворянства (!). Оно было продиктовано нам самым чистым патриотизмом и санкюлотизмом, кроме того, оно основано на декрете Конвента; мы посылаем тебе копию протокола нашего собрания, и мы уверены, что, как истинный санкюлот, ты одобришь наше поведение.
Настоящие республиканцы не должны иметь ничего более важного и спешного, как исторгнуть из своей груди людей, которые принадлежат к касте, желающей обратить в пепел цветущую Республику и снова взять в руки свою тираническую власть.
Мы уверены, что, имея настоящих санкюлотов на посту командиров, мы разрушим все проекты изменников и уничтожим их всех до самых корней.
Салют и Братство. Подписано председателем собрания Сан-Шагреном*"33.
* Сан-Шагрен (фр. Sans-Chagrin) - солдатское прозвище, дословно: "без печали".
После изгнания офицеров-дворян - командира батальона дю Тея, капитанов Удана, Диониса и Окара, а также суб-лейтенанта Моранжье - были тотчас произведены выборы командиров на их вакантные места, причем командиром батальона был избран некто Анри Вампук, пятидесятитрехлетний офицер, выходец из семьи кожевенника, который прослужил 32 года солдатом и унтер-офицером и только и 1791 г. получил эполеты. О нем даже автор записки о "старом белье" пишет, что он "не может командовать, ибо, хотя он храбрец и добрый санкюлот, но без всякого образования и военных талантов..." 34
Нужно отметить, что командование весьма прохладно, если не сказать больше, отнеслось к инициативе 1-го батальона 23-го линейного. Сразу по получении известия о случившемся командующий армией Альп Пеллапра послал рапорт в Париж военному министру Бушотту... Реакция последнего была не самой восторженной, равным образом как и представителя народа при армии Альп Гастона, который указом от 13 жерминаля II года объявил незаконным собрание батальона и не имеющими юридической силы все новые назначения командиров. Тем не менее он не решился вернуть изгнанных офицеров, обещав лишь проводить их в почетную отставку35.
В данном эпизоде наиболее интересным является уверенность солдат и унтер-офицеров в том, что они действуют в соответствии с декретом Конвента об изгнании дворян из армии, который "враги народа" сокрыли от масс: "Согласно изложенному участвующие в собрании постановили, что они не сомневаются, что декрет (об изгнании дворян) был принят Конвентом, и если он еще не послан в эту армию (Альп), то возможно, что эта задержка происходит по вине чиновников... из-за их злых намерений скрыть от истинных санкюлотов основополагающие декреты Республики"36.
Наряду с чистками, отстранениями, разжалованиями, казнями и т. д., якобинцы усиленно пытались политизировать армию. В войска отправляется большое количество пропагандистской литературы. Военный министр распорядился выплатить Эберу 118 600 ливров за миллион экземпляров крайне левой газеты "Пер Дюшен", которые предназначались для солдат и офицеров37. Именно подобная пресса воспитывала солдат в духе бдительности по отношению к их командирам. До ареста Эбера, т. е. до марта 1794 г., "Пер Дюшен" была для армии одним из основных источников информации о событиях в Париже, а также средством идеологического воздействия.
Э. Детайль. Знаменосец 23-й линейной полубригады и солдаты, разглядывающие знамя.
Наряду с газетой Эбера военный министр закупил для армии и другие издания, в частности ультрареволюционное "Ле ружиф или Франк на аванпостах", исходившие от Армана Жоффруа, члена Комитета общей безопасности.
Наиболее решительные "представители в миссиях" самыми строгими мерами добивались того, чтобы в войска поступала республиканская пресса. Мильо и Субрани, представители народа в армии Восточных Пиренеев, особенно обращали внимание на командный состав. Те из офицеров, кто не зачитывал войскам "Бюллетень Конвента", газеты, прокламации и т. д., должны были быть разжалованы и как "подозрительные" отправлены в тюрьму38.
Конечно, не всегда и не всюду солдаты и офицеры получали эту прессу, не всегда она находила положительный отклик. Тем не менее отрицать ее воздействие на войска невозможно. Некоторые фразы из газеты "Пер Дюшен" настолько вошли в обиход солдат и офицеров, что десятилетие спустя, в 1805 г., под Аустерлицем пехотинцы дивизий Сент-Илера и Вандамма, наступавшие на Праценское плато, во все горло пели "Пробуждение Пера Дюшена"39.
Неслучайно поэтому якобинцы в качестве одного из методов воздействия на войска широко использовали музыку и песни как пропаганду, легко воспринимаемую и заучиваемую наизусть часто неграмотными солдатами. Поэты писали слова песен, в том числе и по заказу военного министра Бушотта. В его счетах можно найти сумму 80 тыс. ливров, выплаченную гражданину Руссо. Руссо был членом Комитета по народному образованию при Конвенте и написал для Шометта, прокурора Коммуны Парижа, сборник из 17 песен, который был отпечатан в сентябре 1793 г. Каждый волонтер, отправлявшийся на войну, получал подобный сборник40.
Разумеется, небезызвестная "Марсельеза" была одной из самых знаменитых песен и одновременно мощным средством психологического воздействия. Гувийон Сен-Сир в своих мемуарах рассказывает, какой мощный эффект производила эта песня в бою...41
Конкретные политические идеи сообщались армии во время праздников, организованных таким образом, чтобы добиться наибольшего психологического эффекта. Вот, например, как, согласно описанию Дюбуа-Крансе, выглядело одно из этих празднеств, состоявшееся 20 мессидора II-го года (8 июля 1794 г.) в честь "амальгамы": "После того как снова был произведен смотр всех войск, которые должны были составлять полубригаду, был дан сигнал барабанным боем и три знамени были составлены в пирамиду в центре площади. Оружие было также составлено в пирамиды перед фронтом каждой роты, после чего солдаты заняли свои места в строю. Тогда представитель народа обратился к войскам, он описал им блага братства и ужасы деспотизма, силу и праведность республиканского правительства. После этой речи солдаты, офицеры и унтер-офицеры смешались в единой массе, обнимаясь с представителем народа, тысячу раз повторяя: "Да здравствует союз всех французов! Да здравствует Республика!"
Когда были излиты чувства братства, была снова подана команда барабанным боем. Каждый занял место в строю, разобрав оружие. Представитель народа назначил офицеров, которые должны были составить штаб полубригады. Закончив эту операцию, он приказал поставить знамена в соответствующие батальоны. После этого раздался барабанный бой, и представитель народа произнес следующую клятву: "Клянитесь сражаться за Свободу, Равенство и Французскую Республику - единую и неделимую. Клянитесь подчиняться законам и уважать собственность, поддерживать воинскую дисциплину. Клянитесь ненавидеть тиранов и их сообщников!" Войска многократно повторили "Клянемся!" при самых бурных овациях. Затем войска прошли парадом перед своими новыми командирами" 42.
Уже упоминавшиеся Мильо и Субрани рассматривали праздник как важное средство пропаганды. Последний говорил: "Фанатичному и суеверному народу нужны процессии и праздники, ну что ж, мы будем их часто отмечать" 43.
В январе 1794 г. в Перпиньяне силами армии был дан огромный праздник в честь победителей под Тулоном, 8 февраля был организован праздник в честь местного якобинского клуба. Наконец, большим праздником для военных и для гражданского населения стал Праздник разума, который торжественно отмечали во всей Франции. В армии Восточных Пиренеев его праздновали с помпой:
"7 марта отряды гарнизона и различных частей армии... собрались на площади и двинулись, во главе с национальной жандармерией и эскадроном гусар, к резиденции Дюгоммье (командующего армией), в то время как музыка играла повсюду "Марсельезу" и "Са ira". В таком сопровождении Дюгоммье и его штаб присоединились к представителям народа и представителям местных властей. Кортеж направился к храму Разума. В голове его шли двести девушек и женщин, одетые в белые платья, перехваченные на талии трехцветным поясом; шли дети, которые держались за руки своих матерей; старики. Многие ораторы поднялись на кафедру храма. Среди них - Мильо, Дюгоммье... который говорил с пылом юности и захватил собравшихся... Церемония закончилась ужином для народа и танцами. Столы были выставлены перед каждым домом. Хорошо угостившись, республиканцы и республиканки исполнили огромную фарандолу, которую вели генералы Ла Бар и Мика..."44
Отметим, что во всех этих церемониях и празднествах подчеркивалась неразрывная связь республиканской армии с гражданским обществом. По сути дела, не было чисто гражданских или чисто военных праздников. Все гражданские торжества обязательно сопровождались отрядами войск, оркестрами и т. д., и наоборот, военные церемонии организовывались подобно гражданским, их целью было привлечь население, местные патриотические клубы и т. п.
Одним из средств идеологического воздействия якобинцев на армию стал также культ "мучеников свободы", т. е. солдат и офицеров, павших на поле боя. Этот культ, спонтанно родившийся в войсках, был поддержан якобинцами, ибо перекликался с идеей культа Высшего Существа. Правительство распорядилось выпустить сборник, где описывались героические деяния республиканцев.
Наконец, немаловажным средством идеологической пропаганды в войсках была республиканская символика. Нужно сказать, что в разработке рисунков знамен, мундиров войск, костюмов магистратов, декоративных композиций на экипировке участвовали виднейшие художники своего времени, в частности знаменитый Жак-Луи Давид.
Знамя 33-й линейной полубригады образца 1794 г.
А - знамя 1-ю (3-го) батальона, B - знамя 2-го батальона.
Праздничность, красочность и прекрасный художественный вкус, с которым были выполнены эти атрибуты, также должны были оказывать соответствующее воздействие на войска. В этих эмблемах и атрибутах отразилась, как в зеркале, не только политическая борьба, но и воззрения якобинцев на организацию войск. Так, например, батальоны волонтеров имели каждый свои собственные знамена, сильно отличающиеся по рисунку и символике; нередко можно было видеть на них девизы и символы, связанные с местностью, в которой формировались батальоны, позже на них появились также и надписи, связанные с участием батальона в боях и походах. Для якобинцев это было недопустимым партикуляризмом, подчеркиванием отличия от других, проявлением "esprit du corps" (духа части), так усиленно изгоняемого радикальными Республиканцами из армии. Поэтому в 1794г. для всех полубригад были установлены знамена одинакового образца; единственное, чем отличались полубригады, был номер и расположение национальных цветов, которое могло быть самым неожиданным. По поручению Конвента это расположение было разработано в марте 1794 г. художником Шальо де Прюс45.
Что же касается надписей на знаменах и центрального мотива, они были одинаковы для всех полубригад. Надписи были по-республикански лаконичны и строги: на одной стороне - "Дисциплина и подчинение воинским законам", на другой - "Французская Республика". Наконец, знамена вторых батальонов всех полубригад были почти полностью одинаковы, различаясь только номерами. Эти знамена были символом единства, подчеркивающим спаянность и гомогенность армии.
Меняется и вся система символики в обмундировании, амуниции и эмблемах на официальных бумагах.
На смену белому мундиру королевской пехоты приходит сине-бело-красный республиканский мундир и трехцветная кокарда. А лилии и короны на бляхах гренадерских шапок и патронных сумок, пряжках ремней и на нагрудных знаках заменяются революционными символами: фригийским колпаком, дикторскими пучками, гениями свободы и т. п. Повсюду отныне призывные надписи: "Жить свободным или умереть", "Война тиранам", "В нашем союзе - сила", "Победа или смерть"46.
Все это вместе взятое: революционная пресса и действия представителей народа в армии, военные празднества и музыка, культ "мучеников свободы" и высокохудожественная республиканская символика -все было призвано создать солдата и офицера нового типа, человека новой эпохи.
Каким видели якобинцы новый идеал воина и в первую очередь офицера? Ответ на этот вопрос можно найти в речах лидеров монтаньяров и прежде всего Сен-Жюста, а также в республиканской прессе.
Командир - это первый среди равных, и его задача - брать пример с народа. Комиссары Конвента исходили из следующего принципа: народ добродетелен, солдаты - это народ, следовательно, солдаты добродетельны. Именно в их среде можно найти воплощение таких идеалов, как мужество, бескорыстие, любовь к Отечеству. Подражая солдатам, офицер будет жить жизнью народа. Офицер должен быть скромным в одежде и отличаться строгостью нравов. Он не должен предаваться порокам, обязан избегать падших женщин и чрезмерности в употреблении вина. Офицер должен принимать солдат как своих братьев, в тоне и манере разговаривать избегать всего, что может походить на высокомерие, быть выдержанным и корректным с подчиненными. В лагере и за его пределами он должен читать патриотическую прессу, особенно интересоваться законами и информировать о них своих солдат. Каждый день офицер должен готовиться к бою, изучая для этого все необходимое. Наконец, на поле сражения он должен подавать пример отваги и хладнокровия и биться не отступая ни на шаг назад.
На того, кто не следует этому образцу поведения, его подчиненные должны были донести властям, ибо не следует забывать, что якобинцы рассматривали доносительство как гражданскую добродетель. Однако нужно заметить, что в принципе предполагалось, что за клевету солдат мог быть сурово наказан. Наконец, необходимо добавить, что в отличие от левацкого подхода парижских санкюлотов к вопросу кадров, якобинцы предполагали не только ответственность командира перед подчиненными, но и строгое подчинение солдат офицеру-патриоту.
Неизвестный художник. Луи Сен-Жюст (1767-1794). Знаменитый деятель Революции Сен-Жюст был комиссаром при Рейнской армии с 16 октября 1793 г. по 4 января 1794 г. Суровыми мерами террора ему удалось восстановить дисциплину, обеспечить снабжение войск и освободить город Ландау от вражеской блокады.
Моро-младший. Максимилиан Робеспьер (1758-1794).
Будет справедливо отметить, что якобинцам удалось в немалой степени реализовать свою задачу воспитания армии с ориентацией на новые идеалы... Последнее время в популярной исторической литературе и в средствах массовой информации очень модно описывать любую революцию (и, разумеется, Великую французскую) как продукт деятельности неполноценных личностей, маньяков, а то и просто уголовников, обращать внимание на самые темные и грязные стороны революционных событий, патологически упиваясь описанием казней или кровавых погромов. Нам никоим образом не хочется вступать в полемику относительно облика Дантона, Робеспьера или Марата, и вести дискуссию о причинах Революции, потрясшей Францию и Европу, споря о том, являлась ли она неизбежным продуктом естественного исторического процесса или была сделана кучкой заговорщиков. Все это слишком удалило бы нас от темы данного исследования. Нам важно констатировать лишь один абсолютно очевидный для нас факт: люди, ушедшие ценой своей жизни защищать Революцию в рядах новой армии, к числу политических проходимцев и маньяков с патологическими отклонениями не относились. Армия, слившаяся в единое целое благодаря "амальгаме", была охвачена волной искреннего, идущего из самой глубины сердца, энтузиазма и порыва. Этот порыв, это необычайно приподнятое состояние духа, наивной веры в то, что солдаты и офицеры, сражаясь с врагами, открывают новую эру в истории человечества, воюют за "светлое будущее", причем не только Франции, но и всего мира, надолго оставили след в сердцах и умах тех, кто в этот момент дрался под знаменами Республики.
Позже бывшие офицеры Революции, став генералами и маршалами Империи, а затем - Реставрации, познав за свою бурную жизнь смену многих режимов, будут очень обтекаемо писать в мемуарах о своем участии в революционных войнах, сосредотачивая внимание на сухих перечислениях маневров и чисто военных аспектах операций. Но даже сквозь страницы этих намеренно лишенных эмоций и политически осторожных произведений нет-нет да и будут прорываться фразы, выдающие чувства, которые некогда испытали их авторы, в молодости ушедшие сражаться во имя новой веры. "Вся страна взялась за оружие, все, кто был в состоянии выдержать тяготы войны, ушли сражаться. Молодой человек почувствовал бы себя неловко, если бы остался в такой момент дома... Война, которую я пытаюсь описать, была войной, участием в которой я горжусь, потому что она была одной из самых справедливых" 47, - вспоминал о революционных войнах военный министр Людовика XVIII и, конечно, благонамеренный "роялист", маршал Гувийон Сен- Сир. А другой маршал и по иронии судьбы королевский военный министр (при Луи-Филиппе), Жан де Дье Сульт так писал о солдатах и офицерах французской армии 1794 г.: "Офицеры подавали пример преданности: с ранцем за спиной, без жалованья... они принимали участие в раздачах, как солдаты, и получали, как рядовые, свое обмундирование со складов... Никто, однако, не жаловался на трудности и не отвлекал свое внимание от службы, которая одна была предметом соревнования. Во всех чинах - тот же порыв, то же желание идти далее того, что предписывает долг. Если один отличился, то другой старался превзойти его своей храбростью, своими талантами, своими делами. Посредственность нигде не находила поддержки. В штабах - бесконечная работа, охватившая все области службы, и тем не менее считалось, что ее недостаточно. Мы желали принять участие во всем, что происходит. Я могу сказать, что это период моей службы, когда я более всего работал и когда начальники казались мне более всего требовательными... Что касается солдат, здесь была та же самая преданность, то же самое самоотречение. Завоеватели Голландии переходили замерзшие реки и заливы при 17 градусах мороза босыми и в лохмотьях, и это в то время, когда они находились в самой богатой стране Европы. Перед ними были все соблазны, но дисциплина соблюдалась неукоснительно. Никогда армии не были столь послушными и исполненными такого пыла. Это была эпоха, когда я видел больше всего добродетелей среди воинов"48.
В этой армии сыновья пахарей и ремесленников шли в одном строю с сыновьями буржуа и художников, вчерашние студенты соседствовали с бывшими маркизами. Многие из них горячо приветствовали Революцию, и это была не только молодежь, как, например, Бонапарт, который написал в едином порыве брошюру "Ужин в Бокере", где выступил как ярый республиканец. Здесь были люди и старшего поколения, такие как Дюгоммье, афишировавший свои революционные убеждения и безжалостно приводивший в действие закон о казни эмигрантов, взятых с оружием в руках.
Тем не менее необходимо еще раз заметить, что армия всегда оставалась средой, несколько более консервативной, чем гражданское общество. К этому вынуждает особенность военного ремесла с его неизбежным командованием и подчинением, внешними различиями чинов и их иерархией. Солдаты, а особенно офицеры, нередко вставали в оппозицию, иногда открытую, чаще пассивную, к санкюлотским попыткам превратить армию в политический клуб, блокировали активное проникновение крайне левой прессы - и не столько руководствуясь какими-то конкретными политическими убеждениями, а скорее потому, что это мешало исполнению ими служебных обязанностей.
Ранее уже отмечалось, насколько высок был процент офицеров - выходцев из рядов командного состава королевской армии, обращалось внимание и на значительное количество дворян среди офицеров республиканских войск. Все это приводило к тому, что, несмотря на чистки и репрессии, армия порой предоставляла больше возможностей для самосохранения дворянам (особенно тем, чьи родственники были в эмиграции), чем гражданское общество.
Поэтому, подчеркивая высокую степень политизации армии, необходимо все же признать, что тезис авторов начала XIX в. об армии, стоявшей за пределами политических схваток внутри страны, об "облаке славы, которое словно окутывало границы, мешая врагу видеть внутреннюю борьбу", не лишен основания.
Как известно, 9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.) произошел государственный переворот, свергнувший власть якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст и ряд их сторонников были казнены. Этот переворот поставил точку в утопическом периоде Великой французской революции. На место "кровавых романтиков" к власти пришли те, ради кого, собственно, и делалась Революция, а именно представители буржуазии. Однако в бурный, полный опасностей и неожиданных поворотов фортуны момент обогатиться сумели не тихие почтенные коммерсанты и талантливые организаторы производства, а деляги и жулики всех мастей, нажившиеся на скупке и перепродаже земель Фонда национальных имуществ, на спекуляции продовольствием и поставке в армию некачественных предметов амуниции и гнилого хлеба. Именно эти "новые богачи"* стали хозяевами жизни, именно они отныне определяли вкусы, нравы, внутреннюю и внешнюю политику страны.
* Новые богачи - nouveaux riches - "нувориши". Термин появился во Франции в период термидора.
В то время как народ нищал, спекулянты сколачивали фантасмагорические состояния. Невиданная коррупция охватила весь чиновничий аппарат, стремительная инфляция ассигнатов свела на нет доходы всех зарабатывающих честным трудом людей, бандиты властвовали на дорогах. "Деньги стали богом, единственным предметом поклонения и предметом стремлений, - писал современник, - политика - базаром, где все продается". Перо свидетелей тех лет постоянно выводило слова: цинизм, пошлость, отсутствие всякой морали, развал государства, - а в отношении народных масс эпитеты: разочарованность, безразличие к политике, апатия...
Антиякобинский переворот 9 термидора, результаты которого незамедлительно сказались на гражданском обществе, далеко не сразу отразился на армии. Мощный импульс II года продолжал воздействовать на войска. Вслед за победой под Флерюсом 26 июня 1794 г. французская армия снова заняла Бельгию, 27 декабря республиканские войска форсировали Маас и 20 января вступили в Амстердам. Голландский флот, вмерзший в лед бухты Тексель, был взят стремительной атакой французских кавалеристов, поддержанных горсткой пехотинцев и артиллеристов. Самбро-Маасская армия перешла Рейн и заняла Кёльн и Кобленц, осадив Майнц. На юге войска под командованием Периньона теснили испанцев и оккупировали часть Наварры и Каталонии. Армия Альп двигалась на Турин. Повсюду войска Республики одерживали победы за победами.
Гренадер эпохи Революции (гуашь, 1795 г.).
Под этими ударами антифранцузская коалиция начала разваливаться. 9 февраля 1795 г. была пробита первая брешь в стене вражды: великий герцог Тосканский подписал мир с Республикой, 5 апреля Пруссия также вышла из борьбы, подписав мирный договор в Базеле, где она признала оккупацию левого берега Рейна французами, и, наконец, 22 июля того же года был заключен мир с Испанией...
Однако, хотя армия продолжала одерживать победы, ее внутреннее состояние стало серьезно ухудшаться. Прежде всего, начала падать численность войск. Обычно это снижение связывают с отсутствием притока свежих сил. Эго не совсем так. Хотя, разумеется, войска получали меньше пополнений, чем в период якобинской диктатуры, численность вновь прибывших оставалась существенной. С августа 1794 г. по август 1795 г. было призвано 29 210 человек, а до лета 1796 г. - еще 30 55049.
Несмотря на это пополнение, согласно рапорту министра Петиэ, из 732 474 человек, стоящих в строю (по документам) на август 1794 г., к августу 1795 г. осталось (также по спискам) 484 363 человека, а еще через год это число уменьшилось до 396 016 человек50. Разумеется, реальная численность была еще меньше.
Эти катастрофические потери были нанесены не столько ядрами и пулями неприятеля и даже не болезнями (которые, как будет видно из последующих глав, в армиях того времени являлись основной причиной смертности), а в первую очередь повальным дезертирством, которое охватило войска в период термидорианского Конвента и Директории. Только из одной армии Альп в мессидоре III года дезертировало около трех тысяч человек, что составляло почти 10% ее численности 51. Не многим лучше обстояли дела в других армиях Республики, которые буквально захлестнуло дезертирство.
Велика была также убыль среди призываемых на службу. Из 1300 набранных в департаменте Крез в VII году только 300 присоединились к своим частям. В Верхней Луаре из 1400 солдат 1-го вспомогательного батальона 1100 отсутствовали. В VII году из 1200 новобранцев, призванных в департаменте Ланды, в конце первого дня дороги осталось только 60. В следующем году из 333 юношей, покинувших Ардеш, чтобы присоединиться к своей части в Дижоне, только 6 явились на место назначения52.
Без сомнения, главной причиной этого колоссального дезертирства является ужасающее материальное положение солдат и офицеров. Дивизионный генерал Александр Бертье, будущий знаменитый начальник штаба Великой Армии, в 1795 г. писал в Париж генералу Кларку о состоянии Итальянской армии Шерера: "Я нашел все в полной дезорганизации, я еще никогда не видел столь разваленную армию"53. Капитан Бернье из той же армии писал военному министру: "Уже пятый день как армия получает только хлеб, за исключением вчерашнего дня, когда мы получили унцию мяса... Если бы это было только временным явлением, мы бы не жаловались, но это случается слишком часто, и мы заболеваем"54.
Подобное положение было и в других армиях. Мармон рассказывает в своих мемуарах о том, как жили командиры Рейнской армии в 1795 г.: "Судьба офицеров была ужасной; ассигнаций больше никто не принимал, и потому всем офицерам, от лейтенанта до генерала, выплачивали восемь франков серебром в месяц - ровно 5 су в день..."55 И снова письмо из Итальянской армии: "В течение всей кампании (1795 г.) можно было видеть офицеров, идущих во главе своих рот на мародерство; часто бывает так, что, когда выдают жалованье солдатам, офицеры занимают у них су, чтобы побриться"56.
Было бы, конечно, явным преувеличением говорить, что реальное положение солдат и офицеров во много раз осложнилось по сравнению с эпохой якобинской диктатуры. Хотя определенное ухудшение имело место, оно не было, вероятно, столь уж значительным. Но теперь оно стало куда менее терпимым. Если еще год назад солдаты и офицеры видели, что о них заботятся, что, если они не дополучают свои рационы, то и фанатичные представители народа, такие как Сен-Жюст, живут подобной жизнью, то теперь военные комиссары "роскошествуют в пище, в то время как солдатам не хватает хлеба, и ездят на шикарных лошадях, когда в кавалерии нет и плохих"57. Если недавно солдаты и офицеры знали, что, несмотря на трудности, для них стараются сделать все, что возможно, то теперь они все больше и больше ощущали себя париями нации. Одновременно и цели войны становились для многих менее и менее понятными. У солдат протест против подобного положения выливался в дезертирство, катастрофически уменьшавшее численность войск. В результате полубригады постепенно ослабли до такой степени, что на поле боя они уже не могли действовать в соответствии с регламентами. Возникла необходимость переформирования, ибо возможность заполнения вакансий в рядах за счет призыва новых рекрутов, как мы видели, стала весьма сомнительной. Это переформирование, или так называемое "второе сведение в полубригады" (Second embrigadement), было декретировано 7 января 1796 г. и осуществлено весной того же года. В результате около двухсот существовавших к этому времени полубригад пехоты, а также еще остававшиеся "не-амальгамированными" батальоны волонтеров были сведены в 110 новых полубригад линейной и 30 полубригад легкой пехоты с одинаковыми структурой и организацией58. Заметим, что кавалерийские полки претерпели лишь незначительные изменения и оставались в большинстве своем такими, какими они были при Старом Порядке, даже сохранив почти полностью свою униформу. О степени серьезности переформирования пехоты говорит тот факт, что многие новые части были созданы из 5-10 и более старых. Так, например, 70-я линейная полубригада была сформирована в 1796 г. из 50-й, 134-й, 157-й полубригад, 73-го, 74-го полков (т. е. еще "неамальгамированных" частей старой армии), батальонов волонтеров Кальвадоса, Дордони, Эро, Лота-и-Гаронны, батальона "Равенство" и депо 12-го батальона парижских волонтеров. Впрочем, рекорд здесь принадлежит 4-й линейной и 28-й легкой полубригадам, которые были сведены из 22-х батальонов каждая; 63-я линейная была образована из 19 батальонов; 70-я - из 17 и т. д.59
Э. Детайль. Солдаты Революции на походе.
Французские гусары эпохи Революции. Гуашь, акварель с натуры, немецкого художника В. фон Коббеля (исп. ок. 1800 г.)
В результате переформирования армия стала еще более гомогенной, и с этого времени уже можно говорить о ее окончательном становлении в новой форме. Необходимо также отметить, что, несмотря на резкое падение численности войск, боевые качества тех, кто оставался под знаменами, не падали, а скорее улучшались. Армия, ряды которой сильно поредели, закалилась в боях и лишениях. Остались те, кто имел достаточно доброй воли, те, кто верил еще в справедливость войны Республики против "тиранов", и те, кто надеялся отличиться и подняться по ступеням военной иерархии.
Рапорты инспекций, подробно характеризующие качества частей в эту эпоху, очень неодинаковы. Наряду с удручающими есть и такие: "Инспектор увидел с большим удовлетворением те положительные изменения, которые произошли в 24-й полубригаде по сравнению со смотром, который он провел 19 мессидора IV года... Он нашел, что униформа офицеров в общем регулярна, что униформа унтер-офицеров и солдат настолько хороша, насколько позволяют обстоятельства... Офицеры в общем проявили много старания, чтобы экипировать и обучить часть. Солдаты показали умение и точность в упражнениях. Регулярность, с которой они действуют оружием, показывает, что с ними постоянно занимались..."60 В общем степень подготовки офицеров в 1797 г. оценивалась инспекторами как "хорошая" или "достаточно хорошая"61.
Однако лучшим критерием качества войск является практика, умение солдат и офицеров действовать в боевой обстановке. В этом смысле документы показывают явные изменения по сравнению с эпохой создания республиканской армии.
Даниэль Решель в своем исследовании, посвященном маршалу Даву, приводит отчеты о действиях на поле боя различных французских воинских частей в период Директории. Особенно он обращает внимание на дошедшее до нас подробное описание боя при Ротенсоле в кампании 1796 г., где отчетливо видны тактические приемы, в совершенстве применяемые французскими войсками. Решель делает вывод: "Исполнение этих пяти фаз боя в течение нескольких часов, когда с гибкостью переходят от наступления к обороне, когда под огнем врага по желанию выказывают то спокойствие, то поспешность, когда выделяют и снова вводят в батальоны стрелков с их взводами поддержки, когда командующий с уверенностью по неуловимым признакам определяет состояние неприятеля, - все это показывает высокое боевое мастерство, которым овладела эта армия..."62
Генерал Моро в своем письме от 5 мая 1797 г. подтверждает данную мысль: "Отброшенная часть (французская) не отходит в беспорядке и двухсот шагов; она снова строится и идет на неприятеля"63.
Но если чисто боевые качества войск скорее улучшились, чем ухудшились, то связь армии с гражданским обществом была потеряна полностью. Как было уже показано выше, якобинцы стремились до предела политизировать армию и, следовательно, держать ее в курсе политической борьбы, распространять в среде солдат и офицеров свои идеи и, как необходимое условие этого, не только держать командование в узде, но и пытаться морально вознаградить воинов, воздать должное тем, кто на поле брани проливал кровь за Республику.
Новые властители Франции, быть может, менее жестокие, но в то же время более эгоистичные, были лишены того пыла и энтузиазма, которые были свойственны части якобинских "пассионариев". Они не могли воспламенить сердца, но, как уже упоминалось, не обладали и возможностью удовлетворить желудки. Оставшиеся на передовой должны были сражаться, не чувствуя за собой поддержки страны и не надеясь, как в первые годы революционных войн, на радостный прием в чужих краях.
Мысль о том, что "Отечество коррумпировано", что Республика продается с молотка, стала распространяться в войсках. На биваках говорили, что аристократы, возвратившиеся из эмиграции, готовятся уничтожить завоевания Революции, что им помогает "аристократия богатства". Солдаты и офицеры, вернувшиеся после краткого отпуска, рассказывали, что в городах властвуют "мюскадены", что золотая молодежь избивает и убивает "патриотов" и особенно тех, кто носит военную форму. Приходилось собираться группами, чтобы отбиваться от нападений. На юге страны банды роялистов, к которым присоединились дезертиры и уклоняющиеся от военной службы, нападали на дилижансы, путников, изолированные фермы и деревни; убивали не только якобинцев, но и всех, кто носил трехцветную кокарду и, разумеется, униформу. Генерал Тьебо, в эту эпоху молодой офицер, рассказывает в своих мемуарах, с какими опасностями было сопряжено его путешествие из Парижа в Итальянскую армию: "Бас-тид был притоном сотни роялистов, составлявших одну из самых страшных банд этих краев... Разумеется, эти негодяи грабили и убивали всех тех, в ком они видели надежду на добычу, но самым главным для них была беспощадная война с теми, кто служил Франции. Наша униформа была бы для нас смертным приговором"64.
Алан Форест в своем фундаментальном исследовании "Дезертиры и уклоняющиеся в эпоху Революции и Империи" показал, сколь значительным был размах действий шаек роялистов на юге Франции, а также отразил ту особо важную роль, которую играли в них дезертиры, что придавало действиям этих банд ярко выраженный антиармейский характер65.
Еще недавно рассматриваемые как "лучшие граждане", солдаты и в особенности офицеры, превратились в отверженных, которым отказывали в самом элементарном. С горечью пишет об этом суб-лейтенант французской армии в 1796 г.: "Едва вы покидаете военный лагерь, чтобы отдохнуть на квартирах, или, победив в одном месте, вы направляетесь в другой конец страны, как вместо уважения со стороны граждан вы испытываете только унижения и даже оскорбления. Можно все вытерпеть, но не публичное презрение. Нас помещают в самые плохие, самые отвратительные места. Можно ли давать право аристократам унижать нас?.."66
Директория не выполняла и материальных обещаний, данных войскам в эпоху якобинской диктатуры. Как известно, декрет от 6 июня 1793 г. предполагал выплату значительной пенсии солдатам и офицерам, покинувшим службу из-за ранений, причем даже для младших чинов ее размеры были немалые. В войсках также был широко известен декрет о так называемом "миллиарде для ветеранов". Первоначальный его вариант, изданный 21 февраля 1793 г., гласил в своей V статье: "Национальный Конвент, желая добавить еще один знак внимания к уже обещанным и дать почувствовать это, насколько возможно, семьям храбрых защитников Республики, провозглашает, что имущество эмигрантов в сумме до 400 миллионов будет передано для выплаты пенсий и наград для военных, их вдов и детей..."67 В скором времени имущество эмигрантов, которое должно было быть использовано для этой процедуры, было зафиксировано в сумме 1 миллиард франков. В действительности же закон остался на бумаге, и огромное количество ветеранов либо вообще не получили пенсий, либо получили ничтожные, нерегулярно выплачиваемые суммы.
Л. -А.-Ж Бакле д'Альб. Переход французской армией реки По неподалеку от Пьяченцы, 7 мая 1796 г. © Photo RMN
Нищета, а порой даже голод, рваные мундиры и истертые эполеты, невыполненные обещания правительства и бюрократические проволочки, угрозы "мюскаденов" и презрение нуворишей - вот судьба солдата и офицера в эпоху Директории, причем последние обстоятельства угнетали, быть может, сильнее, чем материальные лишения. Армия большей частью была готова переносить лишения и трудности, но никак не унижения. С 1796 г. солдаты и офицеры начинают воспринимать гражданское общество как противостоящую им силу. Гражданское общество - это пороки, грязь, эгоизм, трусость и лицемерие, мир же военных - это самоотречение во имя общего блага, храбрость, честность, преданность дружбе и долгу. Наряду с презрительными кличками, даваемыми гражданским, в лексикон французских солдат прочно входит слово "аристократ". Разумеется, здесь не следует понимать это слово ни в его непосредственном значении (как термин, обозначающий представителя высшего дворянства), ни даже в том смысле, в котором его употребляли в эпоху якобинской диктатуры "дворянин, контрреволюционер, пособник эмигрантов". Слово "аристократ" отныне употребляется военными для обозначения всех "плохих" - вне зависимости от их происхождения и убеждений, всех тех, кто не исповедует моральных ценностей военной среды, ибо последняя является, по их мнению, истинным воплощением идеалов Революции, единственным прибежищем настоящих республиканцев.
Войска, отрезанные от Франции, тем более если учесть, что теперь они сражались уже за ее пределами, все более морально созревали для того, чтобы повернуть оружие против "прогнившего" гражданского общества, чтобы "переделать" его в соответствии со своими идеалами. Этому способствовали три фактора: прецеденты использования военной силы внутри страны в политических целях, слабеющий контроль правительства за дисциплиной и состоянием войск и, наконец, появление ряда генералов, и прежде всего Бонапарта, умело использовавших настроения своих полков для создания клиентелы, готовой стать орудием в борьбе за власть.
Сама Директория подала пример использования войск и призванных из Италии генералов, чтобы очистить Совет пятисот от неугодных депутатов.
А в это время в армии то и дело вспыхивают бунты: в первом батальоне 183-й полубригады в Бельгии в июне 1795 г., в 24-й полубригаде в Голландии осенью того же года; в феврале 1796 г. начался мятеж в дивизии Серрюрье в Италии; в 1797 г. взбунтовались 35-я, 36-я и 86-я полубригады Рейнской армии и 52-я полубригада Западной армии. Хотя все эти выступления и были относительно быстро подавлены, тем не менее они очень показательны. Особенно важен для понимания моральной эволюции факт военных мятежей в Риме и Мантуе весной 1798 г.
В феврале 1798 г. французские войска оккупировали папские владения в Италии и установили республиканское правление в Риме. Это не помешало наложить на "Вечный город" значительную контрибуцию. В то время как чиновники военной администрации хозяйничали в церквях и дворцах римской аристократии, армия находилась в бедственном положении. Уже несколько месяцев солдаты и офицеры не получали жалованья, часто не доедали, мундиры многих полубригад были вконец истрепаны. Но, пока армией командовал Бертье, войска терпели. Когда же на пост главнокомандующего был назначен генерал Массена, храбрец в бою, но известный в армии как человек алчный и нечистый на руку, чаша терпения переполнилась. Младшие офицеры организовали мятеж, поддержанный солдатами и старшими офицерами. Мятеж удалось загасить только тогда, когда Массена покинул армию, передав командование генералу Дальманю. Правительство вынуждено было отказаться и от попытки наказания виновных, так как это грозило еще большими волнениями.
В прокламациях и петициях возмущенных солдат и офицеров, которые они направляли в адрес командования и распространяли среди жителей, обращает на себя внимание ряд особенностей. Во-первых, в этих документах постоянно встречается мысль о том, что администрация и гражданское общество Франции коррумпированы. Им противопоставляются самоотречение и жертвенность армии: "В то время как войска нуждаются во всем, расхитители на наших глазах громоздят награбленное, выставляя напоказ возмутительную роскошь; игорные дома и места разврата полны чиновниками военной администрации, скандальное расточительство которых и громкие оргии оскорбляют нужду солдат..."68
Армия и, прежде всего, офицеры рассматривают себя как единственных носителей чести и достоинства: "Армия в нашем лице требует, чтобы правосудие свершилось над грабителями, которые бесчестят имя француза; она желает, чтобы были возмещены все разорения, содеянные против правил человечности, в домах и церквях, принадлежащих государствам, состоящим в мире с Республикой"69.
Во-вторых, армия начинает рассматривать себя как силу, которая способна и должна воздействовать на общество. В обращении офицеров 21-й полубригады, находившейся за пределами Рима, к остальным частям говорится: "Молчание, которое армия хранила до сего момента в отношении бесчисленных злоупотреблений, они приняли за оцепенение; пусть же они знают, несчастные, что если мы ждали до сего дня, то по причине нашего удаления, а не из-за незнания или страха"70. В ответ на реплику Массена: "По какому праву вы разжалуете вашего генерала? Считаете ли вы, что я буду столь малодушным, чтобы признать акты незаконной ассамблеи?" - офицеры отвечают: "Мы хорошо знаем, что наша ассамблея незаконна, но 18 фрюктидора было не более законным; у нас есть все основания делать то, что мы делаем, к тому же с оружием в руках армия - сама закон..." 71
Л.-Ф. Лежен. Бой под Лоди, 10 мая 1796 г. © Photo RMN - D. Arnaudet / G. Blot
На переднем плане генерал Бонапарт и его штаб, в центре французские войска стремительным броском овладевают переправой через реку Адда.
Ж.-А, Гро. Наполеон на Аркольском мосту, 15 ноября 1796 г. (исп. в 1797 г.). Версальский музей.
Лучший из всех известных портретов молодого Бонапарта. Несмотря на определенную идеализацию образа, современники единодушно считали, что это наиболее похожее изображение юного полководца.
В-третьих, несмотря на то что военные мятежи, которые произошли в это время в Мантуе и Ферраре, имели в своей основе прозаические мотивы: невыплаченное жалование, плохое питание, отсутствие обмундирования, плохие госпитали и т. д. - они были связаны с восстанием в Риме.
В большом беспокойстве генерал Барагэ д'Илье доносил 22 вантоза VI года (12 марта 1798 г.) Бертье: "Между всеми полубригадами существует тайная переписка, распространяющая дурные советы и примеры и устанавливающая единство во всех злоумышленных предприятиях, которые они совершают или замышляют. Это единство разрушает все меры, предписываемые благоразумием "72.
Обращает на себя внимание то, что Директория была бессильна воздействовать на армию и к тому же не способна была понять (или делала вид, что не способна) истинные причины выступлений.
В римском выступлении, как в капле воды, отражаются все процессы, происходившие во французской армии в этот период. И если солдаты и офицеры готовы были выступить против коррумпированных чиновников и бесчестного генерала, то равным образом они были готовы пойти за тем полководцем, который сумел бы завоевать их любовь и доверие.
Таким генералом стал прежде всего Бонапарт. Ничто, впрочем, не наводит на мысль о том, что двадцатишестилетний генерал, прибывший к голодной и оборванной Итальянской армии, имел твердое намерение сделать ее орудием своих политических замыслов. Однако блистательные победы, одержанные юным полководцем, и зародившаяся тогда на равнинах Италии преданность солдат и офицеров своему любимому военачальнику очень быстро заставили его задуматься о своем политическом будущем. "После Вандемьера и даже после Монтенотте, - пишет на Святой Елене Наполеон, - я еще не рассматривал себя как необычного человека, только после Лоди мне пришла в голову идея, что я могу стать решающим актером на нашей политической сцене. Тогда родилась первая искра великих мечтаний..." 73
Бонапарт не только смог расположить к себе войска, получив возможность за счет контрибуций выплачивать половину жалованья в звонкой монете, но и создал своеобразный, отличный от других "дух Итальянской армии". Суть его кроется в преданности полководцу, смешанной с остатками пылких республиканских убеждений, нескрываемом
противопоставлении "чистой" армии и нечестивого мира вокруг нее. Было бы абсолютно неверно утверждать, что этот дух был творением только одного Бонапарта. Как уже ясно из сказанного, солдаты и, в особенности, офицеры сами подсознательно искали такого генерала. Они желали, чтобы явился кто-то, кто поведет их за собой, силой штыков поставит на место "аристократов" и воров - военных чиновников, "мюскаденов" и т. п. Но не вызывает сомнения также, что молодой генерал умело распалил это чувство. В качестве одного из орудий пропаганды он использовал прессу. 1 термидора V года (19 июня 1797 г.) была основана газета "Курьер Итальянской армии, или Французский патриот в Милане", редакция которой была поручена Жюльену, бывшему якобинцу и участнику "заговора равных" Бабефа. Успех этой газеты вызвал появление другой: "Франция глазами Итальянской армии" под редакцией Реньо де Сен-Жан д'Анжели, представлявшего умеренное по отношению к Жюльену крыло республиканцев. Раздаваемая бесплатно военнослужащим, газета "Курьер Итальянской армии" информировала солдат и офицеров о том, что происходит во Франции, ориентируя их в желательном для Бонапарта направлении, но еще более она привязывала их к особе главнокомандующего. Вот что можно прочитать в номере от 23 октября 1797 г. о молодом полководце: "Он летит как гром и поражает как молния. Он повсюду и видит все"74. Вторая газета прославляла республиканские нравы Бонапарта: "Если вы близко увидите его, то вы увидите простого человека, с удовольствием оставляющего свое величие со своей семьей; но его ум занят обычно какой-нибудь великой мыслью, которая часто прерывает его сон или трапезу. С благородной простотой он говорит своим близким: "Я видел королей у моих ног, я мог бы иметь 50 миллионов в моих сундуках, но я хочу другого. Я французский гражданин, я первый генерал Великой Нации и я знаю, что потомство воздаст мне справедливость" 75.
Обращения Бонапарта к Итальянской армии - поистине блистательные образцы красноречия - постоянно подчеркивают те же мысли: армия отважна и добродетельна, полководец - воплощение ее лучших черт: чистый, справедливый, суровый к негодяям:
"Солдаты! В пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли 21 знамя, 55 орудий, множество крепостей и завоевали самую богатую область Пьемонта. Вы захватили 15 тысяч пленных, уничтожили и вывели из строя 10 тысяч солдат... Вы выигрывали битвы без орудий, переходили реки без мостов, совершали форсированные марши без обуви, отдыхали без водки и часто без хлеба... Благодарное Отечество обязано вам своим процветанием. Дурные люди, которые смеялись над вашей нищетой и радовались в мыслях триумфам наших врагов, теперь в ужасе и трепещут...
Друзья! Я обещаю вам победу, но при условии, что вы не допустите грабежей, на которые вас толкают негодяи, подкупленные вашими врагами... Наделенный властью от нации, силой справедливости и закона я сумею заставить это малое число бессердечных трусов уважать законы гуманизма и чести, которые они попирают. Я не допущу, чтобы бандиты пачкали ваши лавры... Грабители будут беспощадно расстреляны"76.
Л.-А.-Ж. Пакле д’Альб. Битва при Арколе, 17 ноября 1796 г. Исп. в 1804 г. © Photo RMN.
Картина знаменитого инженера географа Бакле д’Альба изображает последний день битвы при Арколе. Французские войска переходят через реку Алиджело понтонному мосту и двигаются в сторону от зрителя но плотинам, проходящим вокруг болота. На заднем плане виден орудийный дым - это продолжается бой неподалеку от знаменитого моста через ручей Альпоне, где в сражении 15 числа Бонапарт совершил свой знаменитый подвиг.
Огромное внимание уделял Бонапарт и "духу части" (esprit du corps), который особенно сильно разжигает самолюбие солдат и офицеров. Впервые в истории республиканских войн на знаменах полков Итальянской армии появились вышитые золотыми буквами слова главнокомандующего, характеризующие ту или иную воинскую часть: "Ужасная 57-я, которую ничто не остановит", "Храбрая 18-я, я знаю, враг не устоит перед вами", "Повсюду артиллерия покрыла себя славой"77. Эти надписи стали предметом гордости и чести. И спустя многие годы после Итальянской кампании солдаты будут повторять эти характеристики бесстрашных полков, брошенные Бонапартом и тут же ставшие крылатыми. Новые знамена с изречениями полководца были розданы с большой помпой. Вручение этих эмблем сопровождалось тесным контактом Бонапарта с войсками. Возбужденные торжественной атмосферой и опьяняющим ореолом славы, командиры и солдаты клялись в верности новому Цезарю. Унтер-офицер 9-й полубригады, приблизившись к Бонапарту, * громко сказал: "Генерал, ты спас Францию. Твои сыны, счастливые принадлежать к непобедимой армии, закроют тебя, если понадобится, своими телами! Спаси Республику, и сто тысяч солдат, которые составляют эту армию, сомкнутся, чтобы защитить Свободу!"78 С подобными словами солдаты не обращались ни к Журдану, ни к Клеберу, ни к Марсо, ни к Гошу, ни к Моро, ни к другим республиканским полководцам. Чувства офицеров, одновременно и выстраданные ими самими, и подогретые Бонапартом, ярко раскрываются в тостах, произносимых на патриотических банкетах. Разгоряченные вином, радостью победы, блеском сабель и эполет, они произносят речи, в которых звучит преданность их полководцу и угрозы прогнившему обществу. Эти слова звучали и на банкете 10 августа 1797 г., где они были скрупулезно записаны начальником штаба дивизии Массена полковником Солиньяком. Командир 32-й линейной Дюпюи воскликнул: "Я обращаюсь к меньшинству в Советах, пусть они по нашему примеру станут достойными доверия республиканцев, пусть они соединятся, чтобы, подобно горе, исторгнуть молнии, которые раздавят это большинство, ведущее заговор против Конституции и Свободы". Батальонный командир 26-й высказывался еще яснее: "За славных генералов Итальянской армии, которые своими талантами и отвагой разгромили внешних врагов Республики, пусть они как можно быстрее поведут нас против внутренних!.."79
Эту задачу, как известно, успешно решил генерал Бонапарт. В мае 1798 г. правительство Директории направило его во главе 35-тысячной армии на завоевание далекого Египта. Здесь в августе 1799 г. после многих побед и неудач молодой полководец узнал о том, что кризис Директории достиг своего апогея. К внутреннему развалу и анархии добавились сплошные неудачи на фронтах. Ко второй коалиции против Франции присоединились Российская Империя и Турция. Русская армия под командованием А. В. Суворова разгромила на итальянском театре военных действий армии Шерера, Моро, а затем и знаменитого Жубера (в битве при Нови, где сам Жубер был убит). На Рейне австрийские полки под командованием эрцгерцога Карла также теснили французов, в Голландии высадился русско-английский экспедиционный корпус. На дорогах юга Франции хозяйничали банды роялистов, а на улицах Парижа - грабители без конкретной политической ориентации. Экономическая жизнь окончательно впала в маразм. Народ голодал, а спекулянты еще больше богатели... Дальше ждать было невозможно.
В ночь с 22 на 23 августа 1799 г. Бонапарт с горсткой своих ближайших соратников и небольшим отрядом эскорта на фрегатах "Мюирон" (названном так в честь молодого адъютанта, закрывшего своим телом от залпа картечи главнокомандующего у Ар Кольского моста) и "Карер" отплыл из Александрии. 9 октября после полного опасностей и тревог почти двухмесячного плавания по Средиземному морю, наполненному вражескими эскадрами, Бонапарт высадился во Франции, а утром 16 октября он уже был в Париже.
Бонапарт вернулся в столицу, овеянный славой новых побед и походов. В то время как другие полководцы Республики растеряли свою популярность в поражениях 1799 г., он лишь еще больше поднялся в глазах общественного мнения. Тогда как с европейских театров военных действий приходили известия одно хуже другого, из Египта и Сирии доносились отголоски каких-то необычайных, удивительных свершений. Обладая блистательным пропагандистским талантом, Бонапарт сумел не просто представить успехи своей армии в выгодном свете, а придать им эпический размах с ореолом легенды. Высадка в Александрии, битва при Пирамидах, победоносная армия, проходящая через древние Фивы, трехцветное знамя, развивающееся на берегах великого Нила, победы под Назаретом, Мон-Табором, Абукиром - все это заставляло вспомнить о походах Александра и Цезаря, подвигах крестоносцев Ричарда Львиное Сердце и Людовика Святого.
Ф. Бушо. Генерал Бонапарт в Совете пятисот, 10 ноября 1799 г. Версальский музей. Картина исполнена по заказу короля Луи-Филиппа в конце 30-х годов XIX века, поэтому, несмотря на точность многих деталей, в ней присутствуют неизбежные анахронизмы в прическах и костюмах. Мы поместили эту картину, т. к. живописных изображений данного события Наполеоновской эпохи нам не известно.
Молодому генералу не пришлось ломать голову над тем, стоит или нет попытать счастье в политической борьбе. Восторженный прием населения на всем пути его следования до Парижа, разговоры с офицерами, генералами, политиками и финансовыми тузами - все говорило о том, что власть сама идет к нему в руки. Именно поэтому Бонапарт решил организовать мирный, почти что конституционный переворот и получить бразды правления Республикой и широкие властные полномочия, не прибегая к силе.
Действительно, в день 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) ему удалось добиться, чтобы представители высшей исполнительной власти, три из пяти членов Директории, сами подали в отставку. Дело оставалось за малым - утвердить отставку правительства и получить подтверждение своих полномочий на заседании двух палат парламента - Совета старейшин (верхней палаты) и Совета пятисот (нижней палаты). Дабы избежать возможных помех, их собрание было намечено провести на следующий день вне Парижа, в пригородном дворце Сен-Клу.
Здесь-то и разыгралась драма, которую обычно принято называть переворотом 18 брюмера, хотя фактически его основные события произошли в день 19 брюмера VIII года (10 ноября 1799 г.).
Общеизвестно, что попытка кандидата в диктаторы выступить перед парламентариями окончилась провалом. Уже в Совете старейшин, который должен был утвердить отставку членов Директории, речь генерала не произвела должного эффекта. Привыкший говорить перед молчаливыми шеренгами боевых соратников, которых он потрясал рубленым стилем своего могучего воинского красноречия, молодой полководец осекся, когда оказался перед лицом целого сонма враждебно настроенных политиканов. Скоро его речь стала сбивчивой и путаной: "Вы живете на вулкане!.. У Отечества нет более преданного защитника, чем я... Меня оклеветали, меня облили грязью... Я не принадлежу ни к одной партии, я принадлежу лишь французскому народу... Если я вероломен, будьте все Брутами!.." -почти выкрикивал он в зал, встретивший его речь все нарастающим ропотом. "А конституция?!" - воскликнул кто-то. "Конституция?! Ведь это вы ее растоптали, изнасиловали, разорвали. Ее больше нет!.. Помните, что со мной идет бог войны и бог удачи!.." - "Генерал, Вы уже сами не понимаете, что говорите", - оборвал его речь секретарь Бурьенн и увлек вон из зала.
Потерявший спокойствие Бонапарт решил было попытать счастье в Совете пятисот. Он вошел туда решительным шагом боевого офицера, но неожиданно его просто-напросто встретил шквал криков и протестов: "Долой диктатора! Вне закона!" Часть депутатов бросилась к нему с кулаками, и только два гренадера, сопровождавшие генерала, помогли ему выбраться из зала заседаний невредимым.
Казалось, все было потеряно...
Многие историки пишут, что Бонапарт растерялся. "В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание. Его речь была бессвязна"80, - писал знаменитый советский историк Манфред. По мнению ряда исследователей, только благодаря своевременной помощи Люсьена Бонапарта, брата главнокомандующего и председателя Совета пятисот, переворот едва не завершился катастрофой...
Однако нам кажется, что в сложившейся ситуации переворот был практически "обречен на успех". Дело в том, что, сосредоточивая внимание на событиях, происходивших в залах заседания парламента, историки порой забывали об одном решающем факторе: дворец Сен-Клу был окружен почти целой дивизией - около 6 тыс. солдат, подчинявшихся генералам, поддерживавшим заговор. Более того, по иронии судьбы значительная часть пехотинцев и кавалеристов парижского гарнизона, стоявших наготове в этот холодный осенний день, были ветеранами Итальянского похода Бонапарта. В частности, поблизости от дворца находился 8-й драгунский полк, сражавшийся при Лоди, Кастильоне и Риволи, а также 9-й драгунский, солдаты которого помнили битвы при Кальдиеро, Мантуе и Тальяменто. Личный состав всех этих частей разделял, если очень мягко выразиться, антипарламентские настроения. Нет сомнения, что эти люди без особых угрызений совести выполнили бы приказ своего полководца и с большим удовольствием разогнали бы членов обоих Советов.
Впрочем, Люсьен Бонапарт сыграл действительно немалую роль. Хотя он и не спас переворот, однако, без сомнения, помог сделать его бескровным. Дело в том, что непосредственно вокруг здания, где заседали Советы, находились несколько сот солдат Гвардии Законодательного корпуса и Гвардии Директории (см. гл. XIII), призванных охранять вышеназванные учреждения. Навряд ли эти войска стали бы отчаянно защищать окончательно дискредитировавшее себя правительство, тем не менее даже их вялое сопротивление могло бы привести к жертвам, чего категорически не желал Бонапарт. Роль Люсьена заключалась в том, что он, обратившись со страстной речью к гвардейцам, повернул их штыки против охраняемых ими депутатов.
От грохота солдатских башмаков в коридоре, ведущем в зал заседания, крики депутатов, готовившихся умирать за свободу, становились все тише и тигле, пока двери с гулом не распахнулись и в воцарившейся тишине Мюрат скомандовал громовым голосом: "Вышвырните-ка всю эту публику вон!" Гренадерам, впрочем, не пришлось орудовать ни штыками, ни прикладами, ни даже кулаками. Обезумевшие от ужаса представители народа ринулись вон из зала, кто через дверь, а кто... через окна, благо оранжерея, где устроили зал заседаний, находилась на первом этаже...
Бескровный переворот, не стоивший жизни и даже малейшего ранения ни единому человеку, завершился в несколько мгновений. Окончательно дискредитировавшее себя алчностью, продажностью и бессилием правительство более не существовало. Наполеон Бонапарт под именем Первого консула стал главой исполнительной власти во Франции и очень скоро практически единоличным хозяином страны. В мае 1802 г. его консулат стал пожизненным, а спустя два года политическая эволюция режима достигла своего логического завершения: 18 мая 1804 г. Наполеон был провозглашен "Императором французов".
О последних событиях написано столько, что мы ограничились лишь их конспективным перечислением. Однако нам хотелось бы заострить внимание читателей на следующем моменте: конечно, переворот 18 брюмера по своей сути не был чисто военным. Его организатором явился ряд видных гражданских государственных деятелей, а залогом конечного успеха - полная самодискредитация режима Директории и в то же время нежелание подавляющего большинства французов реставрации Старого Порядка. Тем не менее исполнительным механизмом и движущей силой переворота явилась армия. Без поддержки штыков бескровная "Революция 18 брюмера", как окрестили это событие современники, была бы просто невозможна. Важно так же, что поддержка войск была добыта не денежным подкупом, не бесплатной раздачей водки и дешевыми обещаниями, а родилась фактически спонтанно. Униженная, оплеванная, презираемая армия, сражавшаяся за независимость своего Отечества, взбунтовалась против шайки коррумпированных политиканов, разорявших страну. Армия возненавидела их "рай" - рай для "жирных". Она мечтала о справедливости и видела ее в том, чтобы оказывалось хотя бы элементарное уважение тем, кто проливает свою кровь за родину, и потому с удовольствием пошла за молодым победоносным полководцем. Более того, его действия во многом были инициированы настроениями в самой армейской среде.
Нечего и говорить, что в своих последующих политических мероприятиях Наполеон никогда не консультировался с солдатами и очень редко - с офицерами и генералами, однако для нас несомненно также и то, что его режим, установленный, в частности, благодаря движению, спонтанно родившемуся в недрах войск, стал сознательно или бессознательно выразителем этих чаяний воинов, мечтавших о "справедливой Республике".
1 Цит по: Rousset C. Les volontaires 1791-1794. P., 1870, p. 60.
2 Цит по: Chassin Ch.-L. et Hennet L. Les volontaires nationaux pendant la Revolution. P., 1899-1906, t. 1, p. 178.
3 Цит по: Rousset C Op. cit, p. 18-19.
4 Ibid., p. 20-21.
5 Noel G. Au temps des volontaires Lettres d'un volontaire de 1792. P., 1912, p. 229.
6 Le Moniteur, t. 8, p. 107.
7 Bertaud J.-P. Valmy, la democratie en armes P., 1970, p. 298, 304, 323.
8 Noel G. Op. cit, p. 267.
9 Bertaud J.-P. La revolution armée. Les soldats citoyens et la Revolution française. P., 1979.
10 Saint-Just. Discours et rapports. P., 1977, p. 89.
11 Soboul A. La Revolution française. P., 1987, p. 290-291.
12 Leverrier J. La naissance de l'armée nationale 1789-1794. P., 1939, p. 152.
13 Six G. Les Generaux de la Revolution et de l'Empire. P., 1947, p. 231.
14 Herlaut Gl. La republication des etats-majors et des cadres de l'armée pendant la Revolution // Annales historiques de la Revolution française. 1937, 87, p. 388.
15 Цит по: Herlaut Gl. La republication... p. 394.
16 Castelot A. Bonaparte. P., 1983, p. 132.
17 Chardigny L. Les marechaux de Napoleon. P., 1977, p. 45.
18 Macdonald J.-E.-J.-A. Souvenirs du marechal Macdonald due de Tarante. P., 1892, p. 28.
19 Ibid., p. 34-35.
20 Chuquet A. Dugommier 1738-1794. P., 1904, p.152.
21 Six G. Op. cit., p. 203, 215.
22 Ibid., p. 204.
23 Ibid., p. 229.
24 Ibid., p. 115.
25 Herlaut. Op.cit, p. 389.
26 Ibid.,p.396.
27 Six G., Op.cit, p.109.
28 Ibid., p.179.
29 Scott S.-F. The response of the royal army to the French Revolution. The role and development of the Line Army (1787-1793). Oxford, 1978, p. 202.
30 L'officier français des origines a nos jours, Saint-Jean-d'Angely, 1987, p. 93, 94.
31 S.H.A.T.X-b-170.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Matiez A. Les subventions accordees a la presse // Annales historiques de la Revolution française, 1918, p. 112.
38 Chuquet A. Op. cit, p. 174.
39 CastelotA. Napoleon. P., 1968, p.81.
40 Bertaud J.-P. La revolution armée... p. 148.
41 Gouvion Saint-Cyr. Memoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin-et-Mosel le de 1792 jusqu'a paix de Campo-Formio. P., 1829, t. 2, p. 8.
42 Цит по: Bertaud J.-P. La vie quotidienne des soldats de la Revolution, 1789-1799. P., 1985, p. 204-205.
43 Цит по: Chuquet A. Dugommier... p. 108.
44 Цит по: Chuquet A. Dugommier... p. 169-170.
45 Le Diberder G. Les armées françaises a l'epoque revolutionnaire (1789-1804). P., 1989, p. 9; Rigo. Jetais a Marengo //Tradition, N° 4, p. 36.
46 Le Diberder G. Les armées françaises,.. p. 66-71.
47 Gouvion Saint-Cyr L. de. (Memoires sur les campagnes des armées du Rhin et Rhin-et-Moselle de 1792 jusqu'a paix de Campo-Formi o. P., 1829) Op. cit, t. 1, p. LVII, XIX.
48 Soult J.D. Memoires du marechal-general Soult, due de Dalmatie, publies par son fils, P., 1854, vol. 1, p. 198-199.
49 Bertaud J.-P. La Revolution armée... p. 271.
50 Ibid.
51 Woronoff D. La republique bourgeoise de Thermidor a Brumaire 1794-1799. P., 1972, p. 40.
52 Forrest A. Deserteurs et Insoumis sous la Revolution et l'Empire. P., 1988, p. 192.
53 Цит по: Zieseniss J. Bertier, frere d'armes de Napoleon. P., 1985, p. 64-65.
54 Цит по: Bertaud J.-P. La Revolution armée... p. 285.
55 Marmont A.-F.-L.-V. Memoires de 1792 a 1841. P., 1857, t. 1, p. 47.
56 Gachot E. La premiere campagne d'ltalie 1795 a 1798. P., s d., p. 49.
57 Цит. по: Bourdeau H. Les armées du Rhin au debut du Directoire. P., s d., p. 224.
58 Rigo. Jetais a Marengo... p. 36.
59 Ibid.,p.36,40.
60 S.H.A.T. X-b-245.
61 L'officier français,.. p. 131.
62 Reichel D. Le marechal Davout, due d'Auerstaedt. Neuchatel, 1975, p. 260.
63 Ibid., p. 269
64 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P.. 1893-1895, vol. 2, p. 14.
65 Forrest A. Op. cit.
66 Цит. по: Bertaud J.-P. La Revolution armée... p. 291-292.
67 Journal militaire. P., 1793, p. 366.
68 S.H.A.T. B352
69 Ibid.
70 S.H.A.T. B353
71 Massena A. Mémoires de Massena, redigees d'apres les documents qu'il a laisses,.. par le general Koch. P., 1849-1850, vol. 3, p. 39.
72 S.H.A.T. B353
73 Las Cases, Memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p. 57.
74 Цит. по: Tulard J. Napoleon ou Le mythe du saveur. P., 1977, p. 107.
75 Цит. по: Tulard J. Op. cit., p. 107-108.
76 Las Cases, Op. cit., p. 158.
77 Historique des corps de troupe de l'armée française (1569-1900). P., 1900, p. 69, 119.
78 Le courrier de L'armée d'ltalie, №1,2 thermidor an V (20 juillet 1797).
79 Gachot E. Op. cit., p. 393-395.
80 Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1986, с. 253.
Глава II. ФРАНЦИЯ ПОД РУЖЬЕМ
Отныне солдат набирали не по притонам, откуда хитрые вербовщики обманом и посулами вытаскивали их, чтобы пополнить полки. Теперь это был цвет народа, это была самая чистая кровь Франции.
Генерал Фуа
Уставшая от революции и террора, от крови и пожарищ гражданской войны, от бесконечных государственных переворотов, от дикой инфляции и обнищания огромных масс народа, Франция на первых порах восприняла приход к власти Бонапарта без особого восторга, но скорее, со вздохом облегчения и надеждой...
В последнее время в современной науке модно ниспровергать привычные понятия, и нынешние французские историки, посвятив ряд работ ранее единодушно хулимому правительству Директории, нашли в его мероприятиях немало достоинств, отдельные экономические успехи (например, некоторое развитие производства хлопчатобумажных тканей), определенные достижения в области налаживания функционирования административного аппарата, сдвиги в сельском хозяйстве и т. д. Конечно, все это не следует сбрасывать со счетов и нельзя, наверное, описывать Францию 1795-1799 гг. только в одних черных тонах... Но как бы то ни было, светлых тонов в общей реалистической картине страны в эпоху Директории, вероятно, все же было слишком мало. Франция захлебывалась в постреволюционной анархии. Неуверенность и неустойчивость, небезопасность личности и имущества - вот, пожалуй, основные характерные черты этого периода. Директория справедливо вошла в историю как эпоха правления беспринципных взяточников и демагогов, экономического маразма в большинстве отраслей хозяйства, разгула преступности и роялистского бандитизма на дорогах.
Молодому генералу (Бонапарту было всего лишь тридцать лет, когда он стал главой государства!) потребовалась гигантская энергия и вся сила его гения для того, чтобы разгрести авгиевы конюшни умершего режима. Нужно сказать, что буквально за несколько лет он блестяще справился с этой задачей. Первый консул - а впоследствии Император - не создавал утопических схем общества, не изобретал каких-то небывалых политических или экономических конструкций. Своей волей, опираясь на внушительную силу, он водворил порядок и спокойствие в стране, на основе которых естественным образом начали быстро давать всходы те разумные начала, которые в социальной и экономической областях принесла Революция. Бонапарт обеспечил уверенность в завтрашнем дне крестьянам, ставшим собственниками, промышленникам и купцам, готовым наживать свои капиталы в честной конкурентной борьбе. Всего за несколько лет он дал стране Гражданский кодекс -основу всех законодательств европейских государств, возвратил свободу исповедания религии, замирил мятежные районы страны, очистил города и дороги от бандитов, создал новую систему высшего и среднего образования, вернул на родину тысячи эмигрантов, добился введения единой метрической системы мер и весов...
Однако в тяжелом наследстве, которое молодой консул получил от Директории, самым опасным грузом была война. Для держав коалиции приход к власти Бонапарта ничего не менял в их принципиальных позициях по отношению к Франции: она все так же оставалась для них страной, где произошли глобальные социальные изменения, грозящие их внутренней стабильности, а аннексия Французской Республикой австрийских Нидерландов (Бельгии) и территорий по левому берегу Рейна, распространение ее влияния в Голландии, Италии и Швейцарии нарушили равновесие во внешней политике. Реставрация феодализма в стране, потеря всех внешних завоеваний Революции и части старых французских земель, за счет которых коалиция возместила бы свои военные расходы, наконец, вражеская оккупация и национальное унижение - вот цена, которую стране нужно было заплатить за прочный мир. Эту цену ни Бонапарт, ни девять десятых французов платить не желали. И Люневильский мирный договор, подписанный в 1801 г. с австрийцами после новых побед Республики при Маренго и Гогенлиндене, и Амьенский мир, подписанный в 1802 г. с англичанами, были лишь короткими передышками в борьбе Франции со старой Европой.
Поэтому задача укрепления армии была для Бонапарта столь же важной, как и преобразования в социальной и экономической областях.
Военный министр Дюбуа-Крансе не смог вразумительно ответить ни на один вопрос Первого консула о состоянии армии. "Вы платите жалованье войскам, вы можете, по крайней мере, представить эти ведомости?" - недоумевал Бонапарт. "Мы не платим им". - "Но вы же кормите армию, дайте тогда хотя бы отчеты по выдаче продовольствия!" - "Мы ее не кормим". - "Но вы одеваете армию, дайте тогда отчет вещевой службы". - "Мы не одеваем ее"1. Первому консулу пришлось послать своих офицеров во все крупные соединения, чтобы получить хотя бы приблизительную картину состояния войск. Эта картина, как нетрудно догадаться, была удручающей. Армию нужно было накормить, одеть, наладить административную систему, подтянуть дисциплину... Но прежде всего поредевшие ряды требовали пополнения.
Чтобы решить этот вопрос, Бонапарту не нужно было заниматься законотворчеством. Закон о воинской обязанности был принят за год с небольшим до переворота 18 брюмера и в общем по своей форме был вполне удовлетворительным. Существовало только одно "маленькое" затруднение: его нужно было применить на практике. Этого-то и не могло сделать бессильное правительство Директории. Впрочем, немного забегая вперед, необходимо отметить, что и Первому консулу, а затем Императору, также непросто будет реализовать параграфы этого закона.
Каким же образом пополнялась французская армия рядовым составом в эпоху Консульства и Империи? Из ранее сказанного видно, что в эпоху Революции многочисленные наборы войск были весьма хаотичными и диктовались внешнеполитической и военной обстановкой. 23 нивоза VI года (12 января 1798 г.) депутат в Совете пятисот, генерал Журдан, предложил проект закона о постоянной воинской обязанности. Предложения
Журдана после их доработки в комиссии, где важную роль играл некто Дельбрель, депутат от департамента Тарн, были приняты, и 19 фрюктидора VI года (5 сентября 1798 г.) новый закон был утвержден. Этот закон фактически без кардинальных изменений просуществовал во Франции почти целое столетие (до 1872 г.) и лег в основу последующего французского законодательства о воинской обязанности, как и в основу соответствующих законов большинства современных государств.
Система, зафиксированная законом Журдана-Дельбреля, получила название конскрипции (от французского "inscrits ensemble" - "записанные вместе") и заключалась в следующем: все французские граждане мужского пола в возрасте от 20 до 25 лет включительно объявлялись военнообязанными. Военнообязанные одного возраста образовывали "класс" конскрипции, и конскрипты текущего года делились на пять классов: первый класс - те, кому было от 20 лет до 21 года*, второй класс - те, кому было от 21 до 22 лет и т. д. Первый класс конскрипции и подлежал призыву в первую очередь. Однако под знамена призывался не класс целиком, а лишь часть его, определенная на данный год специальным правительственным постановлением. В этом, собственно, и заключается одно из основных отличий конскрипции от законов о воинской обязанности многих современных государств.
* Точнее, те, "кто на 1 вандемьера данного года (11 февраля) был в возрасте полных 20 лет".
Закон Журдана-Дельбреля подвергался постоянным модификациям в годы Консульства и Империи, и фактически набор каждого года происходил с теми или иными коррективами, однако основные его принципы не подвергались изменениям, и в общем его функционирование в эпоху Наполеона можно представить следующим образом. В эпоху Консульства постановлением правительства Республики, а позже специальным сенатским указом (senatus consulte), объявлялся очередной призыв военнообязанных с указанием его численности, причем часть новобранцев должна была быть призвана непосредственно в полки, а другая составляла резерв. Призывники, попавшие в число резерва, оставались у себя дома, но должны были проходить ежемесячные однодневные сборы (по воскресеньям) и ежегодные сборы по несколько дней. В случае допризыва, что часто практиковалось, они должны были отправляться на службу в первую очередь. До 1805 г. обычной нормой конскрипции было 60 тыс. человек в год, из которых половина составляла резерв. Однако, начиная с 1805 г., в связи с возобновлением активных боевых действий наборы увеличиваются.
Сенатус-консульт от 2 вандемьера XIV года (24 сентября 1805 г.) призвал 80 тыс. новых конскриптов (20 тыс. из них предназначались для резерва), 4 декабря 1806 г. был вотирован новый набор в 80 тыс. человек и т. д. (численность конскрипции по годам см. в Приложении I). Особенно крупные наборы были связаны с большими потерями в русском походе и подготовкой кампании 1813 г. В январе 1813 г. сенаторы вотировали набор в 350 тыс. человек, из которых 100 тыс. — это переданные в распоряжение армии национальные гвардейцы, 100 тыс. - резерв предыдущих годов, а 150 тыс. - конскрипты класса 1814 г.
Специальное правительственное постановление указывало, сколько конскриптов должен был выставить тот или иной департамент. По получении этих распоряжений префекты (главы администраций департаментов) и супрефекты (их помощники) должны были составить списки всех военнообязанных данного года. После их составления производился сбор призывников в мэриях окружных центров департаментов (департамент делился на 3-6 округов), где осуществлялся тираж номеров (tirage au sort), т. е. каждый военнообязанный вытягивал из урны билет с номером. Билеты имели номера, с первого до цифры, соответствующей общему количеству военнообязанных данного года. Теперь каждый призывник получал свой номер. Тот, кто имел наименьший номер, получал больше всего шансов быть призванным на службу.
После тиража осуществлялся предварительный осмотр. В результате этого осмотра отсеивались все конскрипты, имевшие низкий рост. Минимальный рост для призыва на службу был определен в эпоху Консульства в 1 метр 60 сантиметров (4 фута 11 дюймов), а декретом от 8 нивоза XIII года (29 декабря 1804 г.) он был уменьшен до 1 метра 544 миллиметров (4 фута 9 дюймов). Не следует удивляться этим скромным требованиям к росту. Население тогдашней Франции было не столь высоким, как сейчас, и цифры показывают, что большое количество призывников освобождались от службы по причине недостаточного роста. Так, в 1807 г. из 351 призывника департамента Крез:
66 человек имели рост менее 150 см;
59 человек имели рост от 150 до 153 см;
66 человек имели рост от 150 до 154,4 см2.
В результате, как видно из этого списка, 171 молодой человек был реформирован по причине малого роста. Количество отсеянных по данной причине, следовательно, составляло почти половину (!) всех призывников данного департамента.
После этой процедуры исключались также те, кто имел явные физические недостатки: утрата конечности, отсутствие нескольких пальцев на руке, зубов и т. д. Они реформировались без прохождения медицинской комиссии, под ответственность супрефекта.
Наконец, во время этого первого осмотра должны были представить документы те, кто имел право на освобождение от службы. Очевидно, немало наших современников будут удивлены, узнав, что в наполеоновской Франции достаточной причиной освобождения от службы являлся тот факт, что призывник был... женат. Более того, освобождались от службы не только женатые, но и вдовцы, также разведенные, у которых имелись дети! Вполне вероятно, что если бы в современном законодательстве о военной службе был подобный пункт, то армия осталась бы без солдат... Однако в начале XIX в. к браку относились серьезно, и приличные девушки исключали для себя то, что сейчас называется странным термином "деловой брак".
В результате молодым людям, желающим освободиться подобным образом от неприятной для многих обязанности, приходилось либо искать себе настоящую подругу жизни, что для человека, не вставшего на ноги в материальном плане, было не так уж просто, либо прибегать к услугам женщин сомнительного поведения и почтенного возраста. Бывали случаи, особенно в последние годы Империи, когда 18-19-летние юноши вступали в брак с 50-60летними женщинами... Но каково же было удивление префекта департамента Норд, когда в списках призывников, которые должны были быть освобождены от службы, он нашел юношу, супруге которого было ни много ни мало девяносто девять лет!
Впрочем, с 1809 г. закон стал несколько более жестким. Для того чтобы действительно быть уверенным в освобождении от призыва, необходимо было иметь ребенка.
Наконец, после предварительного отсева собиралась медицинская комиссия, которая освидетельствовала оставшихся призывников. Здесь будущие новобранцы подвергались более серьезному медицинскому осмотру. Освобождались от службы те, кто имел деформацию членов, плоскостопие, хромоту, грыжу, язвы, лишаи и другие кожные болезни; те, кто заикался, имел плохое зрение, плохо слышал; те, кто страдал эпилепсией; и, наконец, те, кто обладал общей физической слабостью. Последний мотив для освобождения от призыва нередко становился причиной злоупотреблений. Несмотря на все старания властей пресечь нарушения закона, многие медики относились с особым "пониманием" к призывникам, сумевшим вовремя вручить несколько сотен франков. Так что бывало, что новобранец, "сложенный, как Геракл, реформировался как чахоточный, а другой, с орлиным зрением, как близорукий"3. Кроме названных основных причин освобождения от службы, существовал ряд других, о которых также необходимо упомянуть. Освобождались молодые люди, являвшиеся служителями культа (католического или протестантского - не важно) в ранге помощника дьякона и выше; семинаристы получали отсрочку. Равным образом получали отсрочку студенты университета, а те из них, кто по завершении учебы назначался на какой-либо пост в системе высшего образования, окончательно освобождался от воинской обязанности. Не забирали в армию также сына вдовы, старшего сына в семье, где отцу было более семидесяти лет и т. д.
Сейчас, даже по меркам мирного времени, подобное отношение к призывникам нельзя квалифицировать иначе как чрезвычайно мягкое. Но дело в том, что практически все эти причины освобождения оставались неизменными и в самый разгар наполеоновских войн, и в то время, когда в 1814 г. союзные армии вторгнутся во Францию и Империя будет гибнуть под ударами численно превосходящего неприятеля!
Однако относительная мягкость наполеоновской конскрипции не исчерпывалась наличием весьма большого списка тех, кто имел право на освобождение. Актом от 28 флореаля X года и 6-16 флореаля XI года (26 апреля 1803 г.), корректировавшим основной закон о конскрипции, разрешалась до этого осуществлявшаяся полулегально система "замещений" (remplacement). Она заключалась в том, что призываемый новобранец имел право выставить вместо себя другого молодого человека, но при условии, что последний будет иметь освобождение от призыва (разумеется, не из-за лишаев или роста 150 см).
Объясним, как это осуществлялось, на примере. Предположим, из 500 возможных призывников данного округа 200 освобождены из-за невысокого роста, наличия болезней, а также из-за того, что они женаты, являются единственными кормильцами и т. п. Остается 300 человек. Но из них правительство требует только 100 человек на действительную службу и 100 для резерва. Сто человек, таким образом, освобождаются просто по причине удачно вытянутого номера. Желающий найти себе замену должен был обратиться к одному из этих ста оставшихся и предложить нечто такое, что могло заставить освобожденного юношу добровольно отправиться в депо полка, а возможно, очень скоро и под пули. Правительство самоустранялось от участия в подобных переговорах и оставляло их на волю заинтересованных лиц. Как совершенно ясно, "заменяющий" уходил в полк не из бескорыстного желания спасти от тягот службы, лишений и опасностей сына местного богатея. Количество звонких монет, которое нужно было выложить "заместителю", составляло весьма солидную сумму. Если в первые годы Консульства можно было найти такого человека за относительно умеренную плату в 500-800 франков, то когда картечь и болезни проделали бреши в рядах наполеоновских полков, цены в соответствии с законами рынка резко возросли. В 1813 г. некоторые молодые люди из богатых семей должны будут выплатить заместителю до 10-12 тыс. франков! Нужно отметить, что наполеоновский франк не имел ничего общего с современным. Чтобы оценить его покупательную способность, приведем ряд цен на товары в начале XIX в.:
| Корова | 80 франков |
| Свинья | 60 франков |
| Баран | 10 франков |
| Мясо, 1 кг | 0,6 франка |
| Свежая рыба, 1 кг | 0,4 франка |
| Табак, 1 кг | 3-14 франков |
| Водка, 1 л | 2 франка |
| Ликер, 1 л | 2 франка |
| Красное вино, 1 л | 0,2-0,5 франка |
| Белое вино, 1 л | 0,4 франка |
| Пиво, 1 л | 0,5 франка |
| Фрак | 25-40 франков |
| Жилет | 5-10 франков |
| Чулки | 1-1,5 франка |
| Шляпа | 5-10 франков |
| Рубашка | 3-4 франка |
| Башмаки | 4 франка |
| Ружье | 20-30 франков |
| Шпага с инкрустацией | 120 франков |
| 1000 кирпичей | 10 франков |
Растущие трудности в поиске заменяющего привели к тому, что власти стали менее строги в требованиях, предъявляемых к кандидату. Если вначале было необходимо, чтобы заместитель был из той же местности, что и новобранец, и даже принадлежал к тому же классу конскрипции, то впоследствии им фактически мог стать любой подданный Империи, освобожденный от воинской обязанности, при условии хороших физических данных и не слишком солидного возраста (до 40 лет). Иногда в роли заместителя выступали уже отслужившие в армии солдаты.
Потребность в заместителях в последние годы Империи была столь велика, что появились даже подпольные агентства по их найму, бравшие высокий процент от сделки. Однако подобная практика рассматривалась как нарушение закона. Легальной была лишь прямая договоренность призывника с его заместителем, и потому создатели "бюро" по продаже человеческого товара рисковали угодить за решетку.
Богатый буржуа оплачивает "заместителя" для своего сына. (Сатирическая гравюра).
Призывник, выставивший заместителя, нес ответственность за "своего" солдата, ибо можно легко вообразить, что замещающий мог оказаться мошенником, который по получении крупной суммы постарался бы скрыться, что было не очень трудно в эпоху, когда не существовало такого контроля государства над личностью, как в наше время. Поэтому заместителя придирчиво осматривали в полку, куда он прибывал, и отправляли обратно, если он не удовлетворял необходимым физическим и нравственным требованиям. В течение двух лет после его зачисления заменившийся призывник продолжал нести за него ответственность и в случае дезертирства заместителя должен был в пятнадцатидневный срок либо выставить нового, либо собрать котомку с вещами и отправиться на службу сам.
Но самым опасным для призывника, выставившего заместителя, было то, что во время очередного набора он рисковал быть снова призванным на службу. Вернемся к нашему примеру с 500 конскриптами. Предположим, что сын зажиточного негоцианта вытянул № 5 и, разумеется, подлежал призыву в первую очередь. Богатый папа решил спасти своего сына от солдатской лямки, а сын башмачника, вытянувший № 362, здоровый парень, но без су в кармане, предложил свои услуги в качестве заместителя. Согласно закону, все совершенно легально, так как 200 человек из призванных на службу и в резерв имели, например, номера от 1 до 350, (не следует забывать, что реформированные по росту, здоровью и иным причинам входят в общую нумерацию, положим; что их было 150 среди первых 350 номеров). Сделка состоялась, но прошел год, и государство объявило новый призыв, причем, так как класс, к которому принадлежали наши призывники, был далек от истощения, на действительную службу призвали резерв (100 человек) и еще, положим, 20 человек. Значит, теперь в любом случае № 362 должен был отправляться в полк! Сделка же между сыном негоцианта и сыном башмачника с точки зрения закона представляла лишь их взаимный "полюбовный" обмен номерами. Поэтому либо богатый папаша должен был снова выложить несколько тысяч франков, либо его сын отправлялся, возможно, в тот же полк, где уже служил здоровяк, получивший в прошлом году кучу денег. Увы, выставлять заместителя было немалым риском.
Система заместительства вызывает у многих историков резкую критику за то, что она нарушала принцип равенства, за то, что бедняки должны были служить, в то время как буржуазия освобождалась от "налога кровью" и т. п. Не так, вероятно, думал сын бедного башмачника, который, не найдя работы, влачил жалкое существование и для которого пять тысяч франков, полученные за заместительство, были надеждой начать нормальную жизнь по возвращении со службы, быть может, открыть свою мастерскую. Не так, конечно, думали и командиры частей, которые вместо не желавшего ни за что служить юноши получали здорового добровольца, а то и вообще сверхсрочника. Что же касается тех, кто хотел откупиться от службы, -как видно из вышесказанного, они шли для этого на огромные издержки, и им было над чем серьезно призадуматься, прежде чем искать себе замену. Наконец, для наполеоновского государства это было, быть может, единственной возможностью иметь многочисленную армию, не слишком раздражая элиту общества, еще столь мало приученную к современному понятию обязательной военной службы.
Действительно, несмотря на то, что правила конскрипции, как мы видим, были весьма мягкими по современным понятиям, она вызывала недовольство, особенно усилившееся в последние годы Империи. Аппарат принуждения французского государства начала XIX в. был куда слабее современного, и поэтому те призывники, которые ни за что не хотели служить, но не имели финансовой возможности оплатить заместителя, могли просто-напросто не явиться на место сбора. За неявку власти устанавливали жесткие санкции. Уклонение от воинской обязанности каралось штрафом, размер которого был установлен 17 вантоза VIII года (7 марта 1800 г.) в 1500 франков. В случае отсутствия призывника штраф должны были выплатить его родители. Наконец, в случае упорства беглеца, на его поимку отправлялись жандармы или так называемые "подвижные колонны", сформированные из отслуживших ветеранов и Национальной гвардии. Сверх того, эти колонны располагались на постой у родителей уклоняющегося или в местном трактире, но тогда родители обязаны были оплачивать все счета за постой. С виду это устрашает, и, казалось бы, беглых призывников должно было быстро урезонить. Действительно, в благополучных районах, где жили зажиточные земледельцы, особенно там, где выращивался виноград и процветало виноделие (например, в Бургундии), эти меры давали полный успех. В подобных районах крестьянам было что терять и что защищать. Получившие в эпоху Революции земли эмигрировавших сеньоров, крестьяне впервые зажили в достатке. Типичен в этом смысле департамент Шарант, изучению конскрипции в котором посвятил всестороннее исследование Гюстав Балле4. Четыре пятых департамента - округа Рюффек, Ангулем, Барбезье и Коньяк - находились на плодородных равнинах (чего стоит только последнее из этих названий!). "Люди Ангулема исполнительны в отношении законов. Нигде они не исполняются с большей легкостью и без задержек"5, - писали представители администрации этого района.
В перечисленных округах количество уклоняющихся было крайне незначительно. Совсем иначе дело обстояло с пятым округом Шаранта, а именно Конфоланом. Горный район, где редкие деревни в зимнее время были фактически отрезаны от внешнего мира, где повсюду были непроходимые заросли, где почти полностью отсутствовали хорошие дороги и, наконец, где большинство жителей составляли бедные скотоводы - вот что такое Конфолан. Этот район фактически не поддавался контролю администрации департамента. Что могла сделать бригада жандармерии в несколько человек, вооруженная саблями и кремневыми пистолетами, в отношении живущего бедно и замкнуто, разбросанного на многие сотни квадратных километров населению? Конфоланцы, бывшие враждебными королевской власти при Старом порядке, стали "роялистами" в эпоху Революции и Империи. Иначе говоря, они просто были враждебны всякой власти. Нищие жители гор не боялись штрафов, они даже при желании не могли бы их выплатить, так как весь их нехитрый скарб и бедное жилище не стоили и части упомянутых полутора тысяч франков; не особо пугал их и постой войск: кому охота была сидеть в их полупустых ветхих домах, затерянных в негостеприимных горах, где самим хозяевам едва хватало чем пропитаться; не боялись они даже тюрьмы и каторги. Впрочем, чтобы отправить туда непокорных, до них нужно было сначала добраться. Революция и Империя ничего им не дали, как ничего и не отняли, им нечего было опасаться, нечего защищать. Наконец, жившие замкнутой жизнью, эти угрюмые горцы настолько свыклись со своими неприветливыми, но родными скалами, что не мыслили себе жизнь в другом месте. Следствие этого нетрудно предугадать. В таких районах, как Конфолан (кое-где это были целые департаменты: Канталь, Авейрон, Озер), процент уклоняющихся от службы, сбежавших по дороге и дезертировавших по прибытии в часть доходил до 50%, а иногда и более! Если в среднем по департаменту Шарант в эпоху Империи количество уклоняющихся составило 7%, то почти все они приходились на район Конфолана. Наоборот, плодородные равнины востока Франции, департаменты, прилегающие к Парижу, и т. д. точно повторяют отношение к воинской службе, которое в миниатюре отражают четыре ранее упоминавшихся района Шаранта. Документы той эпохи отмечают, что в департаменте Дуб (Франш-Конте) "дезертирство - редкое явление"6, в Кот д'Ор (Бургундия) оно "почти начисто отсутствует"7, департамент Об (Шампань) "почти свободен от болезни дезертирства"8, в Арденнах (Шампань) его размеры "никогда не были значительными"9, в Верхней Саоне (Франш-Конте) "конскрипция проходит легко" ...10
Герб Французской Империи
Конечно, и в этих департаментах были свои сложности, однако их население в общем привыкало к идее воинской обязанности.
Хотя иногда значительное количество уклоняющихся и дезертиров было связано с политическими мотивами, например в департаменте Жиронда, где сильно было влияние роялистов, в подавляющем большинстве случаев противодействие конскрипции - фактор, обусловленный социальными мотивами и природными условиями. Алан Форрест, крупный специалист в данном вопросе, считает, что в эпоху Революции и Империи "дезертирство было... феноменом скорее региональным... чем национальным, и объясняется только с учетом характеристик данной местности"11.
С каждым годом (до 1811 г. включительно) аппарат конскрипции работал все лучше и лучше. Данные администрации показывают, что за пять лет (1807-1811 гг.) было набрано 790 тыс. человек, причем количество уклоняющихся упало с 68 тыс. до 9 тыс. В уже упоминавшемся среди самых неблагополучных департаменте Авейрон, где было около 4500 уклоняющихся, за счет активизации деятельности властей их число удалось уменьшить до нескольких десятков. В департаменте Ар-деш в 1810 г. было 143 уклоняющихся, а в 1811 г. их осталось только двое; в департаменте Коррез их количество упало с 4000 до 400, а потом до 14! В департаменте Норд с 1806 по 1810 гг. было 4580 уклоняющихся, но к 1812 г. их осталось только шестеро12.
Большие потери, понесенные в 1812 г. в России и в Испании, привели к тому, что машина дала сбои, и количество уклоняющихся и дезертиров резко возросло. Статистика в этом случае по многим причинам не может быть точной, однако, согласно официальному рапорту от января 1813 г., насчитывалось около 50 тыс. лиц подобной категории13. В реальности их было, видимо, еще больше, хотя, конечно, цифры, приводимые некоторыми старыми историками, основывающимися на слухах и непроверенной информации, явно не выдерживают критики. Морван, например, говорит о 160 тыс. уклоняющихся - число, едва ли отражающее реальное положение вещей.14
В этот период уклоняющиеся и дезертиры иногда объединялись в крупные банды, сопротивлявшиеся посланным против них жандармам и войскам. Немало появилось и тех, кто, чтобы уклониться от набора, прибегал к членовредительству. "Я видел молодых людей, которые вырывали себе все передние зубы, чтобы не служить, - писал префект департамента Нижняя Сена Станислас де Жирарден, - другие сделали так, что их зубы стали кариозными, используя для этого кислоты или жевание ладана, некоторые нанесли себе раны на руках или ногах и, чтобы сделать их незаживающими, смазывали их водой с мышьяком..."15
Тем не менее даже в это непростое время, несмотря на апатию, а порой и враждебность зажиточных слоев населения, в среде городских рабочих и ремесленников отмечается патриотический подъем. Особенно это ощущалось в Париже.
В целом же можно отметить, что, несмотря на трудности наборов в последние годы Империи, конскрипция, как писал Наполеон на Святой Елене, стала "учреждением подлинно национальным", она позволила поставить под ружье такое количество солдат, что Франция смогла сражаться один на один с половиной Европы.
С другой стороны, нельзя, рассматривая ситуацию начала XIX в., проводить параллель между конскрипцией и тотальными наборами в армию в эпоху мировых побоищ XX в. С момента прихода к власти Бонапарта до последних наборов 1813-1814 гг. в строй было поставлено около 2 млн. человек16, из которых только приблизительно 1 млн. 600 тыс. были французами (т. е. лицами, родившимися на территории "старых департаментов" - Франции в пределах границ 1792 г., а еще точнее, в границах 1815 г., так как, несмотря на все территориальные потери по Венскому трактату, за Францией остались Авиньон и бывшие владения немецких князей в Эльзасе). Если учесть, что Бонапарт получил в наследство от Директории армию численностью около в 350 тыс. человек, примерно половина которой была почти тотчас распущена по домам, можно сказать, что приблизительно 1 млн. 800 тыс. французов служили в армии в эпоху Консульства и Империи. Даже если считать в процентном отношении, принимая за численность населения цифру 30 млн. человек, можно заключить, что было мобилизовано около 6% населения, или менее 31% военнообязанных. В Первую мировую войну Франция отправила в окопы 8 млн. человек, т. е. 20% населения (около 40 млн. человек), или практически всех военнообязанных! Однако действительно строгий подсчет даст еще более значительное расхождение с военным усилием страны в XX в. Дело в том, что 1 млн. 800 тыс. солдат Наполеоновской эпохи Франция выставила за 15 лет, причем в это время рождаемость составляла около 1 млн. человек в год (936 тыс.). Таким образом, за исследуемый период во Франции появилось 14-15 млн. новых граждан. Одновременно, разумеется, имелась и естественная смертность, однако корректным будет, очевидно, подсчет, учитывающий тот факт, что за период Консульства и Империи через страну "прошло", хотя и не одновременно, не 30, а 44-45 млн. человек. В принципе, подобное рассуждение применимо и к периоду Первой мировой войны, но там продолжительность исследуемого отрезка времени гораздо меньше, и поэтому подобная корректива менее значима, так что фактически в последнем случае можно условно принять численность населения за константу. Таким образом, демократическая Республика бросила в огонь (в процентном отношении к числу населения) в три раза больше солдат, чем самодержавная Империя (а с учетом фактора рождаемости, о чем мы только что упоминали, - в четыре- пять раз). Поэтому когда знаменитый советский историк Тарле пишет об "опустошенных наборами деревнях..." наполеоновской Франции, он, видимо, что-то путает.17
Тем не менее совершенно неоспоримо, что конскрипция вызывала, мягко говоря, недовольство современников. Очевидны многочисленные факты не только уклонения от призыва, но и попросту вооруженного сопротивления конскрипции. Объяснить этот кажущийся парадокс просто. То, что человеку XX в., привыкшему к всепроникающему государству (пусть оно и называется теперь демократическим), кажется обыденным, было совершенно в новинку французу, жившему в 1800 г. Отрезвевшая после революционного порыва нация стала с ужасом взирать на новомодную потребность в солдатах. Ведь в XVIII в., при "королях-деспотах", армия комплектовалась почти полностью на добровольной основе. Мы говорим "почти", потому что, кроме регулярных войск, существовала так называемая "милиция", т. е. ополчение, которое удавалось иногда собирать с горем пополам. Даже в период серьезной военной опасности для королевства, в период Семилетней войны, в ополчение было набрано не более 200 тыс. человек18(население Франции тогда составляло 25 млн. человек, а пригодных к воинской службе было около 3 млн.). Всего же с 1700 по 1765 гг. через французскую армию прошло только около 2 млн. человек, т. е. лишь немногим больше, чем Наполеон поставил под ружье за 15 лет! Понятно, что людям, чьи отцы и деды воспитывались в подобной стране, не просто было принять обязательную военную службу, пусть даже в самой мягкой форме.
Но от глобальных вопросов вернемся к маленьким конскриптам эпохи Империи. Неимоверными усилиями префектов, мэров и жандармов сотня крестьянских и городских парней собралась, чтобы отправиться в предназначенные им полки. Кто-то одет в грубые крестьянские блузы и сабо, но есть и такие, кто щеголяет в модных фраках и английских сапогах с отворотами. Что они испытывают - энтузиазм или горе расставания? Вероятно, картина блистательного бытописателя Луи-Леопольда Буальи "Отправление новобранцев в 1807 г." неплохо иллюстрирует этот драматический для собравшихся юношей момент. Дело происходит в Париже у ворот Сен-Дени, откуда начиналась дорога на север - в далекую Пруссию и Польшу, где сражалась Великая Армия. Наряду с плачущими матерями и сосредоточенными отцами мы видим и напускающих на себя веселье, поющих парней, идущих под руки с провожающими их девушками. Быть может, это фантазия Буальи или желание художника "прогнуться" перед властями? Навряд ли. Не следует забывать, что мы в Париже, а здесь на протяжении всей Наполеоновской эпохи было немало горячих сторонников Империи. 17 октября 1807 г. конскрипты департамента Сены (т. е. парижане) "по большей части" покинули город "с веселым настроением", 19го они все отправились в поход "в самом лучшем расположении духа", как докладывал префект19. Нередки были факты добровольной записи в полки, о чем также доносят рапорты префектов. В Версале, городе со старыми воинскими традициями, из конскрипции класса VIII года (т. е. те, кому исполнилось 20 лет в 1799-1800 гг.) более сотни человек записались добровольцами "в полки гусар или конных егерей" 20.
Однако не будем все-таки переносить эти факты на всю страну. В сельской местности отправление юношей на войну воспринималось в подавляющем большинстве случаев как трагедия. Подлинные данные о потерях, о которых мы будем говорить ниже, были, конечно же, неизвестны жителям французских деревень. Зато было хорошо известно, что те, кто ушли на войну, с нее не возвращались. Ведь согласно закону Журдана-Дельбреля, призванные в армию в военное время не подлежали демобилизации (разве что по причине ранения). Кроме того, те, кто попали в плен и вернулись впоследствии целыми и невредимыми, теряли всякую связь с родным очагом; наконец, почта далеко не всегда функционировала идеально (взять хотя бы кампанию в Испании и Португалии, откуда подчас и курьеры маршалов не могли добраться до Франции), и поэтому солдаты, бывшие живыми и здоровыми, иногда оплакивались в родной деревне как мертвые. В результате расставание с новобранцами в сельской местности выглядело весьма отличным от картины Буальи. В Бретани, где были сильны клерикальные и антибонапартистские настроения, где глубокая религиозность причудливо переплеталась с остатками темных языческих верований, прощание с уходящими в армию юношами приобретало иногда окраску похоронного обряда. В Плормеле по уходящим призывникам читали заупокойную молитву, а родители, одетые в черное, с плачем и причитаниями провожали юношей до последней деревенской изгороди...
Л.-Л. Буальи, Отправление новобранцев в 1807 г. Исп. в 1808 г. Париж, музей Карнавале.
На картине изображены новобранцы-парижане, уходящие в назначенные им полки через ворота Сен-Дени.
Но вот конскрипты простились со своей деревней. Куда лежит теперь их путь? Прежде всего, в главный город департамента или округа, откуда они должны быть направлены в назначенные им части. Обычно департамент поставлял призывников для одного-двух, изредка трех пехотных полков. Несколько лучших конскриптов предназначались для элитных частей. Например, в 1806 г. каждый департамент должен был выделить по два самых высоких и сильных новобранца для полков карабинеров, от 4 до 14 - для полков кирасир, а также 18-20 - для конной и пешей артиллерии. Новобранцы из числа хороших мастеровых предназначались для рот рабочих и понтонеров. Для батальонов обоза брали тех, кто уже до армии работал с упряжными лошадьми21. Иногда выделяли еще несколько десятков новобранцев получше для других кавалерийских полков: драгун, гусар, конных егерей. И наконец, все прочие, а их было обычно несколько сотен, пополняли ряды пехоты. Именно полк пехоты выделял для назначенного ему департамента небольшой отряд под командой капитана, в задачу которого и входило сопровождение конскриптов до места назначения. Этот отряд состоял только из офицеров, унтер-офицеров и капралов, а общая его численность была несколько десятков человек. Часто путь, который должны были пройти новобранцы, был очень и очень неблизким. Хорошо, конечно, было конскриптам из департамента Эн (Пикардия): депо их 32-го линейного полка находилось в полутора сотнях километров от департаментского центра (город Лаон), и место это - Париж. Совсем иначе чувствовали себя молодые парижане, которые пополняли 9-й линейный полк. Его депо было в Милане.
Но так или иначе новобранцы окончательно собраны. Веселое или трагическое прощание с родными и близкими позади. Бьет барабан, и они отправляются в дальнюю дорогу... Очевидцы говорят, что самым трудным был момент, когда юноши только расстались со своими очагами, когда все прошлое оставалось позади. Многие на первом этапе подумывали о том, чтобы убежать, дезертировать, но, по мере того как конскрипты удалялись от родных мест, их печаль рассеивалась. Сопровождающие юношей сержанты и капралы рассказывали им, хвастаясь, байки о своих военных похождениях и любовных успехах, не забывая в придорожной таверне угоститься стаканчиком вина, конечно, за счет доверчивых слушателей. Грусть будущих солдат прошла, они уже думают об ожидающей их впереди славе и приключениях -впереди Великая Армия!..
Мы еще встретимся с нашими конскриптами, ставшими солдатами, в бою и на походе, увидим, как они жили, чем питались, как двигались на марше и как заряжали свои ружья, узнаем, во имя чего они дрались и во что верили... В этой же главе мы хотели бы рассмотреть лишь некоторые основные характеристики той огромной массы людей, которые носили на своих плечах солдатские мундиры в эпоху Наполеона. И для этого мы обратились к основополагающим архивным документам, еще мало изученным исследователями, а именно к солдатским послужным спискам.
Идея обращения к документам этого рода не нова. Как уже отмечалось, Ален Корвизье проделал подобную работу в отношении солдат королевской армии конца XVII - середины XVIII вв., а специалист в области демографии Жак Удайль рассмотрел около пяти тысяч послужных списков солдат эпохи Консульства и Империи 22. Впрочем, Удайль исследовал эти документы только с точки зрения количества безвозвратных потерь французской армии. Работа, проведенная нами, позволила извлечь из послужных списков и другую информацию, которая, с одной стороны, расширяет результаты исследований Удайля, а с другой, в основном подтверждает выводы, сделанные этим автором в отношении потерь. Последнее немаловажно, учитывая неизбежную погрешность при оперировании не со всем массивом документов, а лишь с определенной выборкой.
Общее количество военнослужащих, занесенных в послужные списки эпохи Консульства и Империи, приближается почти к трем миллионам. Не следует удивляться этой цифре, считая ее противоречащей приведенному нами количеству мобилизованных французов - 1 млн. 800 тыс. человек. Дело в том, что немалая часть солдатских списков относится к иностранцам — о них мы будем говорить в отдельной главе. Многие военнослужащие фигурируют в списках по два и более раз. Это получалось, когда человек переводился из одного полка в другой или при формировании частей. В этом случае составлялись новые послужные списки, а старые сдавались в архив.
Ясно, что для обработки подобной массы документов целиком понадобилось бы время, превосходящее возможности одного исследователя. Поэтому, подобно Ж. Удайлю, мы сделали выборку, достаточно представительную, чтобы сделать обоснованные выводы. Нами были изучены послужные списки почти десяти тысяч человек, служивших в различных полках пехоты, кавалерии, артиллерии, а также солдат Императорской Гвардии (для главы XIII) и швейцарских войск (для главы XII). Здесь мы рассмотрим результаты исследований послужных списков только военнослужащих частей, представлявших собой основную часть наполеоновской армии, т. е. не гвардейских и не иностранных. В общей сложности это 8431 человек23.
Подобная выборка очень представительна, особенно если учесть, что указанные люди состояли в 13 различных пехотных, 11 кавалерийских и 3 артиллерийских полках. Среди пехоты представлены полки линейные и легкие, в кавалерии - кирасиры, гусары, драгуны, конные егеря, артиллерия рассмотрена пешая и конная. Наконец, мы брали части, сражавшиеся на всех возможных театрах военных действий, что также очень важно, ибо ясно, что судьба тех, кто в течение нескольких лет находился в гарнизоне Севильи, отличается от судьбы тех, кому пришлось вынести все тяготы отступления из России.
Кажется, что, изучив такое огромное количество биографий, мы могли бы составить очень точный и убедительный портрет солдата наполеоновской армии. Увы, это не совсем так. Дело в том, что сведения из послужных списков довольно скупы, а кроме того, составлены эти документы подчас весьма небрежно. В послужном списке указывались фамилия и имя военнослужащего, дата и место его рождения, его рост, имена родителей, профессия до зачисления в ряды войск; отмечалось, каким образом новобранец прибыл в часть: был ли он призывником, добровольцем или уклоняющимся, которого силой привели жандармы. Кроме вышеперечисленных сведений, в послужном списке отмечалось прохождение службы: повышения, ранения, награды, участие в кампаниях и, наконец, дата и причина выбытия из части (увольнение в отставку, демобилизация по состоянию здоровья, смерть на поле боя или в госпитале, пленение и т. д.). Однако, даже если отбросить те случаи, когда налицо было явное отсутствие данных по небрежности писаря - такие послужные списки мы просто не принимали к рассмотрению - имеются и более серьезные "подводные камни". Так, например, на основании этих документов мы не можем вывести процент раненых военнослужащих и характер их ранений, хотя, кажется, это можно было бы легко сделать. Дело в том, что факт наличия ранений иногда отмечался, а иногда нет. То же самое можно сказать и об отличиях. Наконец, ряд записей сделан таким образом, что допускает самое разное толкование.
И все же эти огромные тома с пожелтевшими страницами, с записями, сделанными то красивым округлым почерком, то неровными каракулями, с пропусками и несуразицами - огромная масса информации, позволяющая ответить на ряд важных вопросов. Ведь перед нами десять тысяч солдатских судеб. Не выдуманных "киношных" героев, а реальных людей из плоти и крови, прошедших тяжкий путь солдата в полную превратностей, лишений и необычайных событий эпоху. Герои и трусы, пришедшие добровольно и те, кого привели жандармы, те, кто сумел через все испытания пронести незапятнанной честь солдата, и те, кто сбежал, бросив оружие через несколько дней службы.
Вот крестьянский парень, мастер по сабо, Клод Жоффруа, родившийся 21 февраля 1787 г. в бургундской деревушке. Его призвали на службу в мае 1807 г., и он стал фузилером 18-го линейного полка. Молодому солдату пришлось изведать немало лиха - он сражался в Пруссии и Польше, в 1809 г. воевал в Австрии, служил в обсервационной армии в Голландии. Под Эслингом его рубанули саблей австрийские кавалеристы, а вражеская пуля задела голову, под Голлабрунном в самом конце кампании 1809 г. он снова был ранен, зато 23 февраля 1810 г. Клод получил капральские нашивки. Ему пришлось отправиться в русский поход, он дрался под Смоленском, где был ранен в правый бок. В начале 1813 г. его произвели в сержанты, а 19 ноября 1813 г., после 6 лет бесконечной усталости, лишений и ран, Императорским указом бывший деревенский подмастерье получил золотые офицерские эполеты24.
А вот другой крестьянский парень, Жан Босе, родившийся 8 января 1790 г. Его призвали на военную службу в апреле 1809 г., и он стал фузилером 57-го линейного полка. Боевой путь фузилера Босе не был долгим: он заболел в первом же походе и умер в госпитале в Вене 19 ноября 1809 г.25 Впрочем, военная "карьера" фузилера Дюкасса из 32-го линейного была еще короче: он поступил в депо полка в Париже 17 сентября 1807 г., а через неделю - 24 сентября - дезертировал... Больше о нем в полку никто не слышал26. Зато Андре Штройбан, родившийся 21 сентября 1788 г. в департаменте Шельда (территория современной Бельгии), призванный на службу в июне 1807 г., прошел свой путь солдата совсем иначе. Его зачислили фузилером в 14-й линейный полк, сражавшийся в Испании. Он дрался под Сарагосой, Марией, Бельчите, Леридой... А 21 мая 1811 г. он, "находясь в цепи стрелков, у подножия горы Альковер, устремился вперед, к стене, за которой засел враг. Он пронзил испанского солдата ударом штыка и тотчас же получил две пулевые раны, но, превозмогая боль, с криком "Вперед!", он бросился на штурм во главе своих товарищей, и они выбили врага из укреплений". Андре Штройбан так и не стал ни офицером, ни даже капралом, он честно продолжал исполнять долг солдата, пока новое правительство - Бурбонов - не уволило его в отставку 13 июня 1814 г. как... иностранца27.
Легко понять, что всякие обобщения весьма относительны, - настолько разные эти люди и их судьбы. И все же определенная закономерность в бесконечном множестве биографий просматривается. Именно этой закономерности мы и посвятим следующую часть нашего повествования.
Для начала попытаемся оценить возраст наполеоновских солдат. Уже было отмечено, что существует мнение, согласно которому система конскрипции поставила под ружье чуть ли не детей. Однако из приведенных выше фактов следует, что это положение не слишком согласуется с истиной. Реалии послужных списков также подтверждают нашу точку зрения: средний возраст призывника 1805-1812 гг. по армии в целом оказался равным 20,5 годам, т. е. строго соответствовал закону. Причем различия по родам войск получились столь незначительными (в пределах нескольких месяцев), что, скорее всего, их можно отнести к случайным. Так что можно сказать, что в пехоту, кавалерию и артиллерию попадали молодые люди, возраст которых нельзя назвать детским. Более того, те немногие, кто начал службу в армии в 18 лет и младше, зачастую являлись добровольцами, так что нужно отметить, что в общем основная масса призывников приходила в войска уже физически окрепшими людьми.
Планшет 6. Линейная пехота 1805-1806 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин
Однако эта молодежь не отличалась исполинским ростом. Мы уже отмечали, что средний рост населения Франции начала XIX в. был значительно меньше, чем в настоящее время. Понятно, что и солдаты также не были великанами. В Приложении XI читатель может ознакомиться с таблицей распределения по росту рядового и унтер-офицерского состава французской армии 1805-1812 гг. Из этой таблицы следует, что подавляющее большинство французских пехотинцев и кавалеристов были ростом менее 1 м 75 см. В линейной пехоте средним (и наиболее часто встречающимся) ростом был 1 м 65 см, а в легкой пехоте он был и того меньше - 1 м 62 см. В пехоте и легкой кавалерии люди выше 1 м 80 см встречались лишь в виде редчайшего исключения, зато солдаты ростом от 1 м 55 см до 1 м 60 см попадались очень часто. Особняком стояла тяжелая кавалерия и артиллерия. У кирасир средний рост был около 1 м 76 см, а в артиллерии - 1 м 74 см.
В качестве курьеза отметим, что Наполеон, параметры которого после смерти были тщательно измерены доктором Антомарки, имел рост 1 м 68,6 см. Таким образом, можно считать неопровержимо доказанным, что легенда о Бонапарте - маленьком человечке, обуреваемом по этому поводу всевозможными комплексами, — является ничем иным как вымыслом. Император, как видно из наших изысканий, был не только не ниже, а напротив, выше двух третей своих солдат. Тем более по отношению ко всей массе населения тогдашней Франции он был просто-напросто высоким человеком. Впрочем, легенда о его маленьком росте появилась, возможно, не только благодаря вымыслу врагов. Среди приближенных Наполеона было немало высоких даже по современным меркам людей: например, знаменитый Иоахим Мюрат был ростом 1 м 90 см, а он ведь почти всегда находился поблизости от своего кумира. Наконец, в Гвардию, постоянно окружавшую Императора, отбирали только людей высокого роста (см. главу XIII). Учитывая же, что элитные гвардейские части носили высокие меховые шапки, увенчанные пышными султанами, Наполеон на их фоне мог выглядеть далеким от исполинского телосложения.
Но вернемся к нашим новобранцам. Это были люди, представлявшие самые разные слои населения страны, имеющие до поступления на службу самые различные профессии и социальный статус. Тем не менее можно предположить, что целый ряд мер, призванных облегчить "налог кровью" для имущих классов, о чем мы уже упоминали, способствовал тому, что чаще всего "низкая" социально-профессиональная принадлежность новобранцев отражала эту тенденцию.
Действительно, из 3540 солдат, профессии которых были отмечены в послужном списке, практически нет представителей зажиточных слоев населения. Исключение составляют три негоцианта, один рантье и 18 "собственников", последние могли принадлежать либо к состоятельной буржуазии, либо к старому дворянству, сохранившему остатки своих владений. Добавим, что две трети "собственников" служили в кавалерии и многие из них поступили в армию добровольно.
В основном же призывники наполеоновской армии были не богачами, а людьми из народа. Их социально-профессиональный статус отражен в следующей таблице.
Профессии новобранцев 1805-1812 гг.
| Количество лиц данной профессии | Из них стали капралами и сержантами | Из них стали офицерами | |
| Крестьяне (cultivateurs) | 940 | 58 | 2 |
| Крестьяне (laboureurs)* | 483 | 39 | - |
| Сельхоз. поденщики | 260 | 16 | - |
| Слуги | 234 | 8 | - |
| Ткачи | 160 | 7 | - |
| Подсобные рабочие (городские) | 135 | 6 | - |
| Виноградари | 120 | 7 | - |
| Башмачники | 95 | 4 | 1 |
| Портные | 68 | 3 | 1 |
| Столяры | 60 | 2 | - |
| Кузнецы | 54 | 2 | - |
| Каменщики | 45 | 1 | - |
| Плотники | 41 | 3 | - |
| Булочники | 37 | 6 | - |
| Студенты | 23 | 9 | - |
| Прочие (в том числе собственники) | 785 | 109 | 4 |
| Итого: | 3540 | 280 | 8 |
* Во французском языке начала XIX века для обозначения понятия "крестьянин" обычно употреблялись два слова: cultivateur (дословно - земледелец) и laboureur (дословно - пахарь). Последнее, как ни странно, применялось к более зажиточным крестьянам. По-русски laboureur - нечто близкое понятию "кулак", cultivateur - "середняк", реже "бедняк", т. к. к последним относились в основном поденщики.
В данной таблице к "прочим" мы отнесли тех, кто занимался редкими профессиями, представители которых нам встретились всего лишь по несколько человек: один скорняк, трое басонщиков, один точильщик и т. д. Однако практически все они относятся к демократическим слоям населения - это ремесленники и рабочие. Только небольшое количество "прочих" (20 человек) представляют мелкобуржуазные слои населения: шестеро лавочников, пять трактирщиков, пять торговцев и четверо приказчиков. Двадцать два относятся к числу служащих и людей свободных профессий: шестеро учителей, семеро писарей, четверо служащих таможни, один землемер, один нотариус и двое музыкантов.
Таким образом, представители имущих классов составляли не более 0,6% от общего числа призывников, или 1,2%, если считать мелкую буржуазию. В это же время имущие классы составляли не менее 10% населения страны. Следовательно, нет сомнения, что возможность выставления заместителя широко использовалась состоятельными семьями, которые предпочитали, чтобы их сыновья либо поступали на службу в армию офицерами (например, закончив военное училище), либо не служили вообще.
Среди рассмотренных 3540 солдат всего восемь получили офицерские эполеты. Это составляет всего лишь 0,23% от общего количества поступивших на службу и значительно меньше, чем общий процент по армии. Данное отклонение связано, в частности, с тем, что у многих, ставших унтер-офицерами, при перенесении их данных в новый регистр не записывалась больше гражданская профессия. Процент же получивших капральские и сержантские нашивки вполне соответствует общему по армии -7,9% (280 человек).
Как и следует ожидать, офицерами прежде всего стали те, кто до поступления на службу имел хотя бы начальное образование. Так, эполеты получил один из шестерых учителей, один-единственный землемер и один из четверых приказчиков. Тем не менее пятеро оставшихся принадлежат к простонародью: двое крестьян, один портной, один башмачник и один мастер по сабо. Интересно, что никто из представителей буржуазии, попавших в поле нашего анализа, не дослужился до офицерского звания. Здесь, как видно, особого доминирования состоятельных слоев населения не наблюдалось. Впрочем, малое число тех, кто стал офицерами из рассмотренных нами 3540 солдат, не позволяет делать каких-либо далеко идущих обобщений.
Зато в отношении капральских и унтер-офицерских званий выборка достаточно представительна и позволяет сделать следующий вывод: младшими командирами становились прежде всего те, у кого было образование. В то время как средний процент получивших капральские и сержантские нашивки равнялся 7,9%, среди студентов он был 39,9%, среди "собственников" - 44,4%, среди учителей - 50%. Очень низкий процент получивших капральские и сержантские нашивки был среди слуг, он равнялся всего лишь 3,4%. Это вполне понятно: сказывалось отсутствие честолюбия у лиц, занимавшихся подобным ремеслом.
Хотя трудно произвести точный количественный анализ того, как в зависимости от происхождения солдаты переносили тяготы службы, можно установить явную закономерность. Как ни парадоксально, вовсе не крестьяне и не лица, занимавшиеся до своего поступления в армию тяжелым физическим трудом, лучше выносили опасности и лишения. Гораздо более важным оказывалось наличие образования и честолюбия. Те, у кого они отсутствовали, не только реже становились младшими командирами, но и чаще дезертировали и умирали на больничной койке. Желание отличиться перед товарищами, соответствовать существующему понятию о солдатской чести, увлечение борьбой ради борьбы, желание посмотреть далекие края больше помогали воинам на походе, чем руки, загрубевшие от плуга. Во многих мемуарах отмечается, что новобранцев из глухих деревень охватывала по поступлению на службу "mal du pays" - тоска по "родине" (с маленькой буквы, разумеется, ведь речь здесь идет не о стране, а о деревне). От этой тоски солдат становился апатичным и на глазах увядал, иногда даже убегал из полка, а то и просто умирал. Не таким ли был некто Дебри, крестьянин из департамента Эн, пришедший в 32-й линейный полк 5 ноября 1808 г., а 12 декабря 1808 г. умерший в госпитале Валь де Грае от болезни. Вместе с ним пришел в полк и сын мельника Манье из того же департамента. Он умер в том же госпитале 18 января 1809 г.28 Зато молодой учитель Пьер Марье, зачисленный в тот же полк в тот же день (5 ноября 1808 г.), уже в апреле 1809 г. стал капралом, а в августе - сержантом. Он прошел четыре года испанской войны и в мае 1813 г. был произведен в старшие сержанты гренадер. Пьер, по всей видимости, достойно сражался в рядах Великой Армии в 1813 г., за что и получил суб-лейтенантские эполеты 27 сентября того же года29. Хотя это и отдельные примеры, но в общем они отражают реальную картину.
Один из самых важных вопросов, на который позволяют ответить послужные списки, - сколько реально служили в войсках призванные под знамена в эпоху Империи. И наконец, еще более важный: что же в конечном итоге стало с этими людьми?
Наши исследования позволяют дать наиболее точный ответ на первый вопрос. Среднее время пребывания под знаменами оказалось равным примерно 2,4 года в пехоте, 3,2-3,4 - в кавалерии (в зависимости от рода оружия) и, наконец, 3,6 - в артиллерии. Трудно сказать, таким образом, что попавшие в ряды императорской армии тянули солдатскую лямку долгие годы. Несколько дольше служили в артиллерии — сюда попадали лучшие из призывников, да и боевые потери здесь были меньше, чем в других родах войск; несколько меньше в кавалерии - здесь были не такие "качественные" новобранцы, а боевые потери больше; ну и самым коротким был боевой путь солдата в пехоте. Что же стало с этими людьми через два-три года, проведенных под знаменами? Ведь закон гласил, что в военное время служба призванных в армию должна быть бессрочной. Неужели правы "классические" труды типа знаменитой в свое время "Истории XIX века" под редакцией Лависса и Рамбо, где говорилось: "Раз вступив на военную службу, человек живым не выходил из нее. Со времени 1808 г. каждый из этих угрюмых и ворчливых ветеранов твердо знает, что ему суждено умереть от ядра, пули или на госпитальной койке" 30.
Уже из самого построения приведенной цитаты, ставшей основой для далеко идущих выводов многих популярных исторических книг, можно предположить, что ее авторы были не слишком хорошо знакомы с реальностью. Ведь если средний срок службы равнялся 2,5-3,5 годам, то, учитывая, что призывной возраст был 20,5 лет, наполеоновский солдат - это в подавляющем большинстве случаев очень молодой человек, ему в среднем 22-23 года (!), и на "угрюмого ворчливого ветерана" он, вероятно, мало походил.
Для выяснения подлинной судьбы солдат мы обратились к последней и самой интересной графе в послужном списке, но, к сожалению, именно она и содержит наибольшее количество неточностей. Очень часто записи носят расплывчатый, двусмысленный характер. Чего только стоит весьма распространенная формулировка "вычеркнут по причине долгого отсутствия в госпитале". В принципе, за ней может скрываться что угодно: судьба солдата, умершего на больничной койке, и того, кто по выздоровлении был отправлен в другую часть и преспокойно продолжал служить, и того, кто демобилизовался после выздоровления по состоянию здоровья, и того, кто просто-напросто дезертировал по дороге из госпиталя. Не меньше вопросов вызывает и формулировка "остался позади" (с такого-то числа). Кто это? Отставший по причине изнеможения солдат, умерший на обочине тракта, или дезертир, убежавший на марше, или солдат, задержавшийся в конце колонны, чтобы отправить естественную надобность за ближайшей елкой, и взятый в плен вражеским разъездом?
Ясно, что из подобных документов невозможно получить точные количественные данные, даже если бы было обработано все три миллиона послужных списков. Понимая, что речь идет об очень приблизительных цифрах, мы не ставили перед собой задачу точного математического анализа всех деталей, нас интересовал лишь качественный результат, который, как нам представляется, вполне вырисовывается на основании исследования данной выборки.
Как мы и предполагали априорно, реальность, несмотря на всю ее суровость, не имеет все же ничего общего с "замогильной" картиной, созданной "классиками исторической мысли". В таблице приведены результаты наших подсчетов, которые мы в дальнейшем будем анализировать.
Судьба солдат армии Наполеона (не гвардейцев), призванных на военную службу в 1805-1812 гг.
| Пехота, 4890 человек, % | Кавалерия, 2645 человек, % | Артиллерия, 896 человек, % | Результирующая цифра по армии, % | |
| Уволено в отставку | 8,5 | 5,7 | 5,4 | 7,9 |
| Реформировано (т. е. уволено по состоянию здоровья) | 6,0 | 9,8 | 7,5 | 6,7 |
| Зачислено в ряды ветеранов | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Вычеркнуто по причине долгого отсутствия | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| Вычеркнуто по причине долгого отсутствия в госпитале | 11,3 | 2,0 | 2,6 | 9,4 |
| Убито | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,0 |
| Умерло от ран | 4,2 | 5,6 | 2,0 | 4,3 |
| Умерло в госпитале (от болезней) | 17,0 | 7,9 | 17,2 | 15,5 |
| Попало в плен | 12,2 | 19,8 | 11,7 | 13,4 |
| Осталось позади | 1,0 | 7,6 | 7,0 | 2,3 |
| Дезертировало | 8,5 | 9,3 | 8,0 | 8,6 |
| Пропали без вести в 1812 г. | 6,4 | 0 | 0 | 5,0 |
| Стали офицерами | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,6 |
| Переведены в другие части | 11,5 | 10,9 | 14,0 | 11,5 |
| Продолжали служить в 1814 г. | 5,5 | 13,3 | 17,0 | 7,3 |
| ИТОГО: | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,8 |
Уже с первого взгляда на эти цифры ясно, что их можно использовать только очень осторожно. Например, сразу бросается в глаза и наводит на подозрения то, что 6,4% (311 человек) пехотинцев пропали без вести в России, в то время как ни один кавалерист и ни один артиллерист не разделили эту участь. Объяснение этому парадоксу очень простое: писари кавалерийских и артиллерийских полков использовали в этом случае другую формулировку, чаще всего - "попал в плен". В результате в процентном отношении эта статья потерь более значима у кавалеристов и артиллеристов, чем у пехоты. Не следует также забывать, что 11,5% переведенных в другой полк представляет собой мало что значащую цифру. Ведь нас интересует не факт перемещения солдата из одной части в другую, а его конечная судьба, следовательно, указанные 11,5% должны быть пропорционально распределены по другим графам. Количество "вычеркнутых по причине долгого отсутствия", как в госпитале, так и без этого уточнения, также является цифрой, которая должна быть "раскрыта", ведь она включает в себя и раненых, и больных, умерших в госпиталях, и дезертиров. Равным образом должно быть распределено по другим графам и количество "оставшихся позади". С другой стороны, процент убитых в бою и умерших от ран заслуживает лишь небольшой корректировки, так как смерть на поле сражения большей частью фиксировалась в документах.
Планшет 7. Линейная пехота 1808-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
В результате судьба солдат, призванных на службу в первые годы Империи, выглядит, по нашему мнению, следующим образом:
| ушли в отставку или уволены по состоянию здоровья | 15-16%; |
| погибли в бою или умерли от ран | 8-10%; |
| умерли в госпиталях от болезней или на походе от лишений | 30-35%; |
| попали в плен | около 15%; |
| стали офицерами | приблизительно 1%; |
| самовольно покинули службу (дезертировали) | 10-12%; |
| дослужились до конца Империи | более 10%. |
Нет сомнения, что если бы мы брали новобранцев более поздних годов, призыва, последние две графы были бы более значимыми, так как у солдат, призванных в 1813-1814 гг., естественно, было больше шансов дослужиться до конца Империи; с другой стороны, среди них был выше процент тех, кто по выходу из госпиталя не возвращался в строй.
Если учитывать, что часть пленных умерли в плену, можно очень грубо оценить безвозвратные потери. Они составляли несколько менее половины всех призванных на службу, вероятно, порядка 45%. В конечном итоге больше половины солдат вернулись домой. Примерно половина из возвратившихся состояла из тех, кто пришел к своему очагу целыми и невредимыми и в законном порядке. Другая половина (четверть общего количества призванных) состояла из тех, кто либо спас себя незаконным порядком - дезертировал, либо вернулся из плена уже после войны.
Подобный подсчет может показаться слишком уж приблизительным. Тем не менее мы уверены, что всякая попытка выйти за пределы этой качественной оценки будет не корректна, ведь, еще раз подчеркнем, нам приходится оперировать с туманными формулировками и, как следствие этого, - с грубо приблизительными цифрами.
К чему может привести оперирование числами, не подкрепленными "физическим" анализом, демонстрирует следующий пример. Желая установить потери гвардейской пехоты под Ватерлоо, мы просмотрели все без исключения послужные списки ее рядового и унтер-офицерского состава. В результате получилось, что пехота Гвардии потеряла "оставшимися позади" и "считающимися пленными" 4328 солдат и унтер-офицеров и лишь 267 человек убитыми, ранеными и умершими от ран31. И это в то время, когда все без исключения источники отмечают огромное количество погибших и раненых гвардейцев и относительно малое количество попавших в плен. Парадокс объясняется весьма просто: потери ряда полков пешей гвардии при Ватерлоо были столь велики, что не представлялось возможным, как это было после обычных сражений, восстановить, что случилось с тем или иным солдатом. Поэтому ответственные за регистры, чтобы не ошибиться, выбрали абсолютно округлую формулировку "остался позади", чаще всего с добавкой "считается пленным".
По той же причине в статье Ж. Удайля, посвященной потерям и основанной лишь на послужных списках, получается, что в русской кампании 1812 г. Великая Армия потеряла лишь 5000 человек убитыми32, что, конечно, абсолютно не согласуется с другими источниками (мы имеем в виду, конечно, не бравые рапорты русских генералов о бессчетно "побитых басурманах", а внутреннюю, не предназначенную для публикации документацию командования Великой Армии). Регистры лежали в полковом депо где-нибудь в Париже, Милане или Гамбурге, и когда спустя несколько месяцев после кампании необходимо было отметить, что случилось с тем или иным солдатом, далеко не всегда это можно было установить: полковая канцелярия была утеряна во время отступления, а товарищи разыскиваемого погибли. В результате, как и в первом примере, писари использовали округлую формулировку - "остался позади" и т. п.
В подавляющем же большинстве походов сохранялись полковые документы, где скрупулезно фиксировались все павшие на поле брани, и поэтому установить количество убитых в бою было бы достаточно легко, например, для кампании 1805 г.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что общая цифра безвозвратных потерь французских полков в эпоху Консульства и Империи составила, вероятно, около 900 тыс. человек*. Эти результаты, основанные на достаточно приблизительной оценке анализа послужных списков, вполне совпадают с теми подсчетами, которые произвел Ж. Удайль. Согласно ему общие безвозвратные потери французской армии в эту эпоху составили 870-900 тыс. человек33. Интересно, что цифра 900 тыс. убитых и умерших от ран в эпоху Империи впервые была названа Малартиком и Пасторе в их рапорте палате Пэров Франции в 1817 г. Однако их информация не была услышана не только широкой публикой, но и историками. Один из ярых роялистов доказывал в это же время, что в эпоху Империи Франция потеряла 5 млн. 256 тыс. человек. Впрочем, наибольшую популярность получила цифра, которую некто Пас-си привел в своем докладе на заседании в Академии наук в 1859 г., - 1 млн. 700 тыс. человек. Именно это количество безвозвратных потерь французской армии в эпоху Империи указывается во многих классических работах по истории наполеоновского периода от Тэна до Лависса и Рамбо.
Сейчас, опираясь на результаты последних исследований и наш собственный анализ, можно с большой долей уверенности назвать цифру безвозвратных потерь французской армии в эпоху Империи - около 900 тыс. человек, из которых не более 150-200 тыс. человек пали на поле брани или умерли от ран, остальные умерли из-за болезни или лишений. Соотношение убитых в бою и умерших в госпиталях и на дорогах не должно удивлять читателя. Лишения, сопровождающие походы, голод и эпидемии в начале XIX в. убивали гораздо больше солдат, чем пули неприятеля. Причиной этого были, с одной стороны, скромные, по сравнению с современными, возможности средств уничтожения и отсутствие жестоких идеологических конфликтов XX в., что ограничивало размеры боевых потерь, с другой стороны, - это невысокий уровень медицинской помощи, хроническая нехватка медикаментов и антисанитария госпиталей (см. гл. XIV). Отметим, что соотношение между количеством убитых в боях и умерших по иным причинам было в наполеоновской армии далеко не самое шокирующее. Благодаря определенной педантичности администрации николаевской России у нас имеются точные данные по потерям русской армии, правда, за несколько более поздний период (1825-1850 гг.), но который по своей специфике еще полностью сохраняет черты исследуемого нами времени. Согласно официальному отчету Военного министерства, российская армия с 1825 по 1850 гг. потеряла в боях У. 233 человека. Как известно, на этот период притупится русско-иранская война 1826-1828 гг., русско-турецкая война 1828-1829 гг., кавказские войны, польский поход 1831 г., подавление венгерского восстания в 1849 г. Как мы видим, боевые потери для столь наполненного войнами промежутка времени были весьма невелики. За этот же период, согласно отчету, умерло от болезней и ран (в основном от болезней) 1 062 839 русских солдат!34
Возвращаясь к наполеоновским войскам, мы видим что, несмотря на весьма ощутимое кровопускание, которое пришлось пережить Франции, оно было не столь значительно, как это часто пишется в популярной литературе. Более того, если мы вспомним, что эти потери приходятся на почти пятнадцатилетний период, то их цифра покажется еще менее впечатляющей. Как можно заключить из несложного арифметического действия, "среднегодовые" потери в наполеоновской Франции составляли несколько менее 50 тыс. человек * или 0,16% от населения страны. Напомним, что в годы Первой мировой войны Франция потеряла 10,5% (!) своего населения убитыми и пропавшими без вести, что в пересчете на год составляет около 2,5% от населения, т. е. в 15 раз больше, чем в наполеоновских войнах.
* Без учета иностранцев.
Однако подобно тому, как люди конца XVIII - начала XIX вв. были непривычны ко всеобщей воинской обязанности, до эпохи Революции и Империи они равным образом не сталкивались и с подобным числом погибших.
По личным делам солдат королевской армии, хранящимся в архивах Венсеннского замка, можно установить, что в период с 1716 по 1748 гг. французская пехота (составлявшая подавляющее большинство армии) потеряла 81 577 человек убитыми и умершими от ран и болезней. Правда, личные дела сохранились примерно только на 47,6% солдат королевской пехоты35. Если мы учтем этот момент, а также условно примем, что артиллерия и кавалерия имели тот же процент потерь, что и пехота (тем самым взяв максимум, так как и кавалерия, и артиллерия несли, без сомнения, меньшие в процентном отношении потери), мы получим около 170-180 тыс. солдат, павших в боях и умерших от болезней за 32 года Старого Порядка, на которые приходятся три значительных военных конфликта: война с Испанией (1718-1720 гг.), война за Польское наследство (1733-1735 гг.) и война за Австрийское наследство (1740-1748 гг.). Среднегодовые потери Франции, таким образом, можно определить в 5-6 тыс. человек, или 0,02-0,025% от населения страны, следовательно, по кровопролитности наполеоновские войны почти на порядок превосходят войны королевской Франции.
Более того, не следует забывать, что в XVIII в. условия жизни многих слоев населения были несколько худшими, чем в эпоху Империи. Получение крестьянами земельных наделов в период Революции, распространение такой важной культуры, как картофель, спасшей сотни тысяч людей от голодной смерти в неурожайные годы, определенный прогресс медицины и гигиены привели к тому, что смертность во Франции значительно понизилась, а средняя продолжительность жизни возросла по сравнению с началом XVIII в. почти на 10 лет! Смерть на поле боя отныне вторгается в относительно обеспеченную и имевшую шанс быть достаточно долгой жизнь, в то время как в начале XVIII в. смерть нередко настигает относительно молодых людей и в мирное время. Цифры, полученные современными исследователями, ярко иллюстрируют это положение. За указанный период (1716-1748 гг.) смертность среди солдат составила в среднем 2,554% в год (1,913% в мирное время и 3,179% в военное)36, в то время как смертность среди гражданского населения колебалась в пределах 2,5-3,0%37, т. е. смертность в войсках от пуль и болезней равнялась таковой среди тех, кто никогда не подставлял себя под выстрелы неприятеля!
Нам кажется, что без этих цифр, непосредственно не относящихся к описываемой нами эпохе, понять ее просто невозможно. Наполеоновские войны, как видно, представляли собой гигантский скачок по сравнению с предыдущей эпохой, как в смысле количества задействованных контингентов, так и в смысле понесенных потерь. Именно поэтому современники, воспитанные на традициях "войн в кружевах", ужасались результатам императорских походов и оценивали их как огромные бойни, а в конскрипции видели напасть, которой необходимо изо всех сил противиться. Однако когда современный историк описывает войны эпохи Наполеона в подобных выражениях, это смотрится, по меньшей мере, некорректно. По сравнению с тем, что принес с собой XX в., войны Империи уже не выглядят устрашающе, и мы здесь говорим не только о сопоставлении их с фантасмагорическими мясорубками обеих мировых войн. Достаточно вспомнить совсем недавнее прошлое: "ограниченную" войну во Вьетнаме, где американские войска, конечно, для "защиты демократии и прогресса", уничтожили около 2 млн. (!) вьетнамцев (общие военные и гражданские потери северного и южного Вьетнама), да и сами потеряли немало - 50 тыс. убитых и 150 тыс. раненых и искалеченных...
Подводя итог главы, можно отметить, что наполеоновское государство сумело наладить достаточно эффективную систему комплектования войск, систему, которая, несмотря на все ее недостатки, дала Франции мощную армию, поначалу значительно превосходящую по численности и по качеству силы ее врагов.
Эта армия отличалась как от вооруженных сил феодальных держав, пополнявшихся за счет рекрутских наборов среди зависимого населения, так и от армии буржуазной Англии, состоящей из наемников, силой или обманом набранных по портовым кабакам, притонам бродяг и тюрьмам. Армия французской Империи была армией всего народа. Хотя мы уже отмечали, что при этом были созданы условия для освобождения от службы представителей имущих слоев населения, тем не менее не стоит забывать о том, что среди солдат встречались не только выходцы из бедных крестьянских семей, но и "собственники", негоцианты, рантье, учителя, приказчики, студенты... Император хотел создать условия, при которых служба в армии даже рядовым считалась бы почетным долгом гражданина. Хотя полностью это и не было достигнуто, да и вообще навряд ли где- нибудь и когда-нибудь было осуществлено - уж очень тяжела доля солдата - тем не менее армия Наполеона была исполнена гордостью за свою миссию: "Это был цвет народа, это была самая чистая кровь Франции, - вспоминал генерал Фуа. - Нация стала армией, а армия - нацией" 38.
Планшет 8. Линейная пехота 1813 г. Пояснения см. Приложение П.© С. Летин
1 Gourgaud G. Memoires pour servir a l'histoire de France, sous Napoleon... P., 1823, t. 1, p. 104.
2 Chaulanges Textes historiques, P., 1976, p. 98.
3 Цит по: Morvan J. Le soldat imperial. P., 1904, t. 1, p. 98.
4 Vallee G. La conscription dans le departement de la Charente, 1798-1807. P., 1936, t. l,p. 34.
5 Цит по: Vallee G. Op. cit., p. 689.
6 Цит по: Forrest A. Deserteurs et Insoumis sous la Revolution et l'Empire. P., 1988, p. 89.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Dictionnaire Napoleon. Sous la direction de J. Tulard. P., 1987, p. 930.
13 Forrest A. Op. cit., p. 87.
14 Morvan J. Op. cit., p. 87.
15 Цит по: Dictionnaire Napoleon... p. 929.
16 Histoire militaire de la France. Sous la direction de J. Delmas, P., 1992, t. 2, p. 307-308.
17 ТарлеЕ. В. Наполеон. Москва, 1991, с. 341.
18 Forrest A. Op. cit., p. 19.
19 Morvan J. Op. cit., p. 40.
20 Forrest A. Op. cit., p. 98.
21 Bulletin des Lois. An XII. t. 2, p. 444-548.
22 Houdaille J. Pertes de l'armée de terre sous le Premier Empire, d'apres les registres matricules // Population. Revue bimestrielle de l'institut national d'etudes demographiques. Janv., Fevr. 1972 N° l: pp. 27-50. Houdaille J. Le probleme des pertes de guerre // Revue d'Histoire Moderneet Contemporaine, juillet 1970, 17, p. 411-423.
23 S.H.A.T. 21YC 75, 124, 161, 275, 276, 283, 284, 285, 394, 473, 474, 506, 720, 721, 814; 22YC 60, 66,145; 24yc 12, 13, 34, 161,163,167,199, 200, 251, 274, 358, 399, 407, 411, 412; 25YC 4, 46, 66.
24 S.H.A.T. 21YC161.
25 S.H.A.T. 21YC 474.
26 S.H.A.T. 21YC 284.
27 S.H.A.T. 21YC 124.
28 S.H.A.T. 21 YC 285.
29 S.H.A.T. 21YC285.
30 История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938, т. 1, с. 103.
31 S.H.A.T. 20YC 13, 14, 18, 44, 45, 55.
32 Houdaille J. Pertes de l'armée..., p. 45.
33 Ibid., p. 42.
34 Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978, с. 114.
35 Lucenet M. La mortalite dans l'infanterie française de 1716 a 1748 selon les controles de troupes // In: Melanges Andre Corvisier. Le Soldat, La Strategie, La Mort. P., 1989, p. 404-405.
36 Ibid., p. 399.
37 Ibid.
38 Fov M.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Bruxelles, 1827, t. I, p. 44.
Глава III. ОФИЦЕРЫ ИМПЕРИИ
Это непреложный факт, что воины в большинстве убеждены (даже если говорят об этом очень редко), что они принадлежат к избранным, к элите, которая взимает очень высокую плату за то, чтобы быть ее членом: нужно испить горькую чашу до дна, нужно пройти через ужас войн, убивать врагов, но прежде всего нужно брать на себя ответственность посылать людей на смерть, оставаясь при этом незапятнанным и отважным, стараясь не склонять голову в самых тяжких испытаниях.
Клод Барруа
Как видно из предыдущей главы, наполеоновская Империя поставила под ружье невиданное доселе число солдат. Однако сотни тысяч призывников остались бы лишь инертной массой без командных кадров, способных превратить их в организованные, спаянные дисциплиной и воинской выучкой боевые единицы. Людям, которые обучали, готовили и вели за собой наполеоновские полки по дорогам Европы от Маренго к Аустерлицу, от Фридланда к Ваграму, и посвящена эта глава.
Достаточно очевидно, что командные кадры республиканской армии с энтузиазмом или, как минимум, с удовлетворением встретили переворот 18 брюмера и приход к власти Бонапарта. Однако будет неправомерным обобщением описывать реакцию французских офицеров на эти события как единодушную. Не следует забывать, например, что в рядах Рейнской армии было немало командиров, искренне разделявших республиканские убеждения. Наконец, значительное количество офицеров составляли клиентелы других генералов, также подумывавших о захвате власти, например Моро и Бернадотта. Нетрудно догадаться, что в этой среде Первый консул встретил оппозицию своим политическим планам. Ряд офицеров проголосовали против пожизненного консульства, а некоторые даже приняли участие в заговорах с целью свержения Бонапарта... Однако, несмотря на все оговорки, необходимо отметить, что Первый консул завоевал сердца офицеров республиканской армии, быстро справившись с оппозицией в войсках, причем эта оппозиция была подавлена не силой полицейских мероприятий, а блеском побед, внутриполитическими успехами, наведением порядка в стране вообще и в армии в частности. Офицеры приобрели материальное благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. И если консул Бонапарт был воспринят неоднозначно всеми представителями командных кадров, то Император Наполеон мог быть уверенным в искренней преданности подавляющего большинства своих офицеров. "В момент провозглашения Империи, - пишет в своих мемуарах Мармон, - во всех умах было искреннее восхищение гением, который подготовил и создал порядок вещей, который ставил в согласие новые идеи, новые интересы и права разума с принципами, которые были освещены временем и привычками Европы..."1
Офицеры, кроме нескольких маршалов и генералов, остались верны Императору не только во времена триумфов, но и в моменты самых тяжелых испытаний. Вспоминая о том, как во время сражений в Испании войска узнали о поражениях кампании 1813 г. и вторжении союзников на территорию Франции, один из офицеров писал: "Эти новости не только не обескуражили нас, но и наоборот, еще сильнее подогрели боевой дух. Каждый готов был лучше умереть, чем видеть, как страну захватят вражеские короли, которых мы столько раз побеждали в боях"2. Другой офицер, также сражавшийся на Пиренеях, рассказывал, что даже вступление союзников в Париж, о котором в его полку узнали 8 апреля 1814 г., не показалось им чем-то непоправимо катастрофическим: "Император был жив, и этого было достаточно, чтобы мы верили в победу"3.
В приведенных цитатах звучит не только выражение верности своему кумиру, но и отголоски революционных войн. Это вполне понятно, ведь в еще большей степени, чем рядовой состав, командные кадры армии Империи вышли из бурной эпохи Революции. Достаточно отметить, что в 1812 г. средний срок выслуги французских офицеров в званиях от капитана до полковника включительно варьировал от 18 до 22 лет (см. ниже). Следовательно, большинство начали службу в 1790-1794 гг. Учитывая же, что 77% из них получили эполеты, пройдя все ступени воинской иерархии, начиная с рядового, можно с уверенностью сказать, что подавляющая часть наполеоновских командиров закалилась в революционной армии, поступив в ее ряды кто волонтером 1791-1792 гг., кто рекрутом, призванным в обязательном порядке в эпоху якобинского Конвента или несколько позднее.
Следы революционной бури не могли не сказаться на менталитете этих людей, однако не менее обоснована была и их верность Императору, в котором они видели человека, положившего конец анархии и прогнившему режиму Директории.
Что же касается материальной стороны результатов воздействия революционного процесса, нельзя не отметить, что он произвел глобальные изменения в социальном составе офицерского корпуса. Эти изменения, несмотря на отдельные коррективы, внесенные императорским режимом, полностью сохранили свою значимость в течение всей эпохи Наполеона. К сожалению, подобно тому, как это было с характеристиками солдат, мы не можем привести точных цифр, характеризующих динамику изменения социального состава офицерского корпуса. На основе сохранившихся послужных списков далеко не всегда можно достоверно установить, из какой социальной группы происходит тот или иной офицер, а в тех случаях, когда это указано, формулировки большей частью весьма расплывчаты. Например, что значит "происходит из семьи землевладельцев"? Это может быть и сын богатых буржуа, владеющих крупной земельной собственностью, и выходец из старой знатной дворянской семьи, и просто сын мелкого фермера, едва сводящего концы с концами. Однако в общем качественная характеристика вполне определенная и хорошо видна из приведенной ниже таблицы.
Происхождение младших офицеров (до капитана включительно) французской армии (1814 г.)4
Из дворян (причем 0,5 % из дворян Империи) более 5%
Из семей землевладельцев около 20%
Из буржуазных семей (коммерсанты, негоцианты, рантье, фабриканты) около 25%
Из семей чиновников и представителей свободных профессий около 10%
Из семей военных около 7%
Из семей ремесленников около 10%
Из семей крестьян около 14%
Из семей рабочих и поденщиков менее 1 %
Конечно, эти данные могут рассматриваться лишь как ориентировочные, кроме того, необходимо сделать следующее замечание: приведенные характеристики относятся к периоду конца Империи и записывались со слов самих офицеров, поэтому по отношению к истинному положению мы имеем некоторое общее смещение в сторону респектабельности. Очевидно, немало выходцев из крестьянских семей записали себя происходящими из уже упомянутых "землевладельцев", а сыновья рабочих и ремесленников нашли иную округлую формулировку, чтобы избежать указания на свое скромное происхождение. С другой стороны, хотя, конечно, принадлежность к старому дворянству и не рассматривалась как недостаток, скорее наоборот, тем не менее определенное чувство такта, а может, просто осторожность, заставляли многих заменить фразу "из дворян" на нечто более подходящее духу дня, например, "сын военного", "из семьи государственного чиновника", "землевладелец" и т. д. Не следует забывать, что рапорт командира части о повышении того или иного офицера мог оказаться на столе генерала... сына конюха или бочара.
Э. Детайль. Полковник пехоты (1813 г.).
Итак, указанные данные нужно рассматривать как опорные, но иметь в виду, что они были, по всей видимости, менее "буржуазными": с одной стороны, процент дворян был, как считает ряд специалистов, почти вдвое больше, а с другой — еще более значительным, чем в приведенной таблице, был процент офицеров - выходцев из среды ремесленников, рабочих и крестьян.
Однако в общем качественная оценка очевидна: офицерский корпус, где основную массу составляют представители средних классов и более четверти состава - выходцы из семей ремесленников, крестьян и даже рабочих, - без сомнений, следствие огромных преобразований во французском обществе, произошедших в эпоху Революции. Его облик резко контрастирует как с офицерским корпусом французской армии Старого порядка, так и с командными кадрами других армий подобного типа. Хотя представление о войсках монархических стран Европы с офицерами сплошь из столбового дворянства, конечно, не соответствует истине, тем не менее нельзя не отметить, что шансы для продвижения по иерархической лестнице для лиц недворянского происхождения были там невелики. Интересно, что процент "благородных" в офицерском корпусе французской королевской армии и русской армии 1812 г. совпадает с поразительной точностью. Накануне Революции во французских войсках 78,8% офицеров были дворянами5. Равным образом современные исследования показывают, что в русской армии начала XIX в. дворяне по происхождению составляли от 73,8 до 87,6% от численности офицерского корпуса6.
Революционные преобразования Наполеона окончательно поставили крест на делении вооруженных сил по кастовому принципу. Отныне армия слилась в "массу гомогенную и неделимую. Путь от новобранца, призванного шесть месяцев назад, до маршала Империи проходили, не встречая барьера в образе мыслей и чувств"7.
Однако обращает на себя внимание и другая особенность: наличие относительно высокого процента старого дворянства в офицерском корпусе наполеоновской армии. Мы уже отмечали выше, что в эпоху Революции, несмотря на все чистки и репрессии, на командных постах сохранилось немалое количество офицеров "из бывших", в числе которых был и сам Бонапарт. Став Императором, он сделал все, чтобы привлечь дворян в армию, но отныне не как привилегированную касту, а как носителей высоких традиций, накопленных десятками поколений дворян шпаги, чьи предки героически погибали на полях Бувина и Кресси, Мариньяно и Рокруа, Стейнкерка и Фонтенуа, тех, кто с молоком матери впитывал любовь к военной профессии, понятия о рыцарской чести и верности долгу.
И Наполеон открыл широкую дорогу для дворян в армию. Он создал такие условия, которые облегчали для многих из них ассимиляцию в порой чуждой для бывших эмигрантов армейской среде, еще дышащей республиканскими традициями.
Во-первых, это добровольческие кавалерийские части, такие как "гусары Бонапарта", созданные перед походом в Италию в 1800 г., "ордонансовые жандармы", учрежденные в 1806 г. (см. гл. XIII), и другие части, куда всеми способами привлекалась дворянская молодежь. Эти эскадроны были настоящими "рассадниками" кавалерийских командиров, ибо, просуществовав едва год, они были расформированы с дальнейшим производством рядового состава в офицеры. Среди военнослужащих этих частей можно было найти самые блестящие фамилии старой Франции: де Монморанси, де Шуазель, де Сальм, д'Аренберг, де Монако, де Савуа, де Жюинье, де Но- каз де Монтравель, де Сервье...8
Во-вторых, это создание четырех так называемых "иностранных полков" (см. гл. XII). Здесь не действовали обычные правила чинопроизводства, которые были установлены для других воинских формирований. Здесь, не боясь обидеть французских солдат и офицеров, Император смело давал довольно высокие чины возвратившимся из эмиграции офицерам, даже тем, кто служил в свое время против Франции. Он не сомневался, что мощный жернов - Великая Армия — перемелет их фрондерство, и порыв общей массы увлечет своим энтузиазмом этих бывших роялистов. И надо сказать, что в отношении подавляющего большинства из них он был прав. "Этот человек устремлялся, как поток, увлекая все за собой... Цвет дворянства отправлялся на войну, как отчаявшиеся кон- скрипты, а возвращался через шесть месяцев опьяненный славой, жадный до боя и энтузиастом Империи"9, - писал один из них. Понятно, что, благодаря подобным мерам, количество старых дворян в армии увеличивалось, особенно значительный процент составляли они среди адъютантов маршалов и офицеров-ординарцев Наполеона.
Характерна в этом отношении судьба графа де Сегюра. Вернувшись с родителями из эмиграции в 1799 г., молодой человек (ему было тогда 19 лет) не знал, чему себя посвятить. Не желая работать на гражданской службе, где все для него было запятнано следами революционной бури, не чувствуя призвания к искусствам, но обладая энергичным и волевым характером, он скучал от безделья, бесцельно слоняясь по улицам Парижа... Но однажды, проходя мимо Тюильри, он услышал торжественно-воинственный звук трубы и увидел отряд драгун в полной форме, вылетевший в галоп из распахнувшихся ворот. Блеск касок, оружие, развевающиеся плюмажи, призывные сигналы труб и топот копыт по мостовой произвели на молодого человека впечатление разорвавшейся бомбы. "При этом воинственном виде рыцарственная кровь предков вскипела в моих жилах. Мое призвание отныне определилось: с этого мига я был солдатом, я мечтал только о битвах и презирал иной удел..."10 Через несколько дней граф Филипп де Сегюр - "гусар Бонапарта", через год - офицер, а еще через несколько лет - генерал-адъютант Императора, за которым он проскакал в галоп по всем полям грандиозных битв эпопеи...
Впрочем, несмотря на значительную массу старых дворян, влившихся в ряды командных кадров наполеоновской армии, не следует переоценивать их значение. Наполеон никоим образом не собирался реставрировать ушедший в прошлое офицерский корпус Старого Порядка. Здесь, как и в гражданском обществе, Император видел перед собой задачу слияния (fusion) старых и новых элит, причем в армии это было, очевидно, еще более важно, чем в государственном аппарате, ибо плебейский напор офицеров и генералов из простолюдинов Наполеон желал соединить с традиционными ценностями древних родов, с тысячелетней воинской культурой монархической Франции.
Однако еще раз подчеркнем: Император был очень осторожен в этом вопросе. Зная о том, что многие представители знатных фамилий имеют солидную протекцию, Наполеон был вынужден принимать меры, чтобы сдержать неоправданно быстрые продвижения по служебной лестнице. "Не берите слишком молодых людей, есть много старых капитанов, старых лейтенантов, старых суб-лейтенантов, которые воевали и которых нужно повышать в первую очередь"11, - наставлял в 1809 г. Император принца Евгения, который щедро раздавал высокие чины молодежи из "хороших" семей. "Я не хочу употреблять на внутренней территории тех, кто не провел все время Революции во Франции" 12, - пишет он военному министру Кларку в 1809 г. А затем снова повторяет тому же адресату: "Я не хочу в штабах никого, кроме тех, кто не покидал с 1789 г. французские знамена" 13. И еще на ту же тему: "Не предлагайте мне больше офицеров из полков Изембургского и Ла Тур д'Овернь (иностранные полки с офицерами из бывших эмигрантов) для перехода в штаб или другие полки. Я хочу доверять только тем офицерам, которые всегда воевали за Францию"14.
Касаясь вопроса социального состава командных кадров, нельзя обойти вниманием вопрос материального положения офицеров и, в частности, соотношения служебных и внеслужебных доходов. Ниже мы приводим таблицу жалованья различных чинов (в год) и таблицу распределения офицеров по количеству внеслужебных доходов*.
* Таблицу иерархии воинских чинов во Франции в период Первой Империи и их соответствия современным российским званиям см. в Приложении I.
Жалованье офицеров линейных полков (во франках в год)15
| Полковники | 5000 |
| Командиры батальона | 3600 |
| Капитаны (в зависимости от выслуги) | 1600 - 2400 |
| Лейтенанты | 1200 |
| Суб-лейтенанты | 1000 |
Необходимо отметить, что в военное время эти доходы существенно увеличивались, выплачивались также специальные деньги на квартиру, лошадей, обмундирование и т. д. В результате фактический доход был примерно в 1,5 раза выше приведенного в таблице. В Гвардии жалованье было еще выше, например, в полку пеших гренадер офицеры имели следующее денежное содержание:
Денежное содержание гвардейских офицеров (полк пеших гренадер)
| Жалованье | Выплата за квартиру и обмундирование | Итого в год | |
| Полковник | 9000 | 2838 | 11838 |
| Командир батальона | 5000 | 1520 | 6520 |
| Капитан | 3600 | 892 | 4492 |
| 1-й лейтенант | 2400 | 770 | 3170 |
| 2-й лейтенант | 2100 | 770 | 2870 |
Наличие неслужебных доходов офицеров
| Без неслужебных доходов | 41% |
| Малозначимый, нерегулярный доход | 19% |
| Рента Почетного Легиона | 6,9% |
| Без дохода, но потенциальный наследник состояния | 8,8% |
| Доход до 500 франков в год | 10,9% |
| от 500 до 1000 | 5,1% |
| от 1000 до 2000 | 2,8% |
| от 2000 до 3000 | 1,1% |
| от 3000 до 5000 | 0,6% |
| от 5000 до 10 000 | 2,2% |
| более 10 000 | 1,9% |
Из этих таблиц видно, что, во-первых, учитывая покупательную способность наполеоновского франка, жалованье командных кадров (не считая младших) было очень высоким и позволяло офицерам в звании, начиная с капитанского, вести весьма безбедное существование. Особенно велико было денежное содержание гвардейских офицеров: уже капитан Гвардии по своим доходам мог быть смело отнесен к весьма состоятельным людям.
С другой стороны, обращает на себя внимание то, что подавляющее большинство офицеров не имели значительного внеслужебного дохода. 86,3% командных кадров фактически не имеют иных источников существования, кроме службы (доход не более 500 франков в год), либо имеют ренту Почетного Легиона - плату, также полученную за службу. Подобная ситуация характерна для наполеоновской армии: ее офицерский корпус, в отличие от полу факультатив но состоящих при армии командных кадров Старого Порядка, должен в полной мере тянуть лямку службы и только с ней связывать свои надежды на продвижение в общественной иерархии. Нельзя не отметить, что Наполеон достойно вознаграждал своих офицеров и имел возможность требовать от них куда более серьезного исполнения своих обязанностей, чем это имело место в королевской армии.
Что же касается продвижения по иерархической лестнице, оно, разумеется, не могло быть в эпоху Империи ни столь быстрым, ни столь маломотивированным, как это нередко наблюдалось в эпоху Революции. Прежде всего, выборность части офицерского состава, которая существовала вплоть до начала Империи, была постепенно упразднена. До этого правительство назначало только треть офицеров в каждом звании, другая треть получала эполеты по старшинству выслуги, и последняя треть избиралась. Выборы в этот период времени уже не были митингами в волонтерских батальонах 1792 г. Например, при образовании лейтенантской вакансии, подлежащей замещению по выбору, лейтенанты данного полка, собравшись, избирали трех лучших, по их мнению, суб-лейтенантов, кандидатов на получение повышения, а из этих троих капитаны выбирали того, кто и производился в лейтенантское звание. Несмотря на то, что формально закон о выборности трети офицеров продолжал существовать в течение всей эпохи Империи, "вынужденная быстрота замещений свела три разных способа повышения к одному: назначение Императором по тройному списку, представленному полковником" 16. Строгий контроль за чинопроизводством позволил очистить командные кадры от случайных людей, которых занесло революционной волной на высокие должности. Начиная с периода Консульства, Бонапарт придирчиво следил за качеством офицерского состава. После Маренго и заключения Амьенского мира по каждому роду оружия учреждаются комиссии, предназначенные для проверки и удаления офицеров, качественно не соответствующих своему рангу. Мощная чистка с одновременным удалением неспособных командиров, лентяев и выпивох позволила продвинуть способных младших офицеров. Свидетельства того времени единодушно говорят об улучшении качества офицерского состава. "С прошлого года в целом произошли выгодные изменения в образе службы офицеров, - констатировал в 1802 г. Кольбер, тогда полковник 10-го конно-егерского полка. - Я нахожу в них меньше упрямства, больше выправки, рвения и любви к их профессии"17. Способствуя быстрому продвижению по службе талантливых людей, Наполеон одновременно желал сделать все, чтобы случайность или связи не могли занести на высокий пост человека, не понюхавшего пороха и не послужившего в младших чинах. Поэтому министерским циркуляром от 15 флореаля XIII года (5 мая 1805 г.) устанавливался следующий порядок чинопроизводства. Суб-лейтенантом могли стать только унтер- офицеры, имевшие не менее шести лет службы; лейтенантом - только суб-лейтенанты, имеющие не менее четырех лет службы; капитаном - только офицеры, имеющие как минимум восемь лет службы, из них четыре года в звании лейтенанта; командиром батальона- только офицеры, имеющие не менее восьми лет службы и капитаны с VIII года (т. е. имеющие не менее восьми лет выслуги в звании капитана); офицеры штаба могли получить повышение только прослужив не менее двух лет в каком-либо полку (не при штабе)18.
Капитан Огюст-Дени-Ипполит Бретон, офицер штаба маршала Нея. Миниатюра. Родился в Париже 15 апреля 1769 г.
Записался добровольцем в армию в 1793 г. Стал офицером в 1794 г. В 1797 г. получил звание капитана. Прошел все основные кампании Революции, во время Египетской кампании участвовал в высадке на о. Мальта и остался на острове в составе французского гарнизона. В войнах Империи Бретон служил в штабах, а также был адъютантом различных генералов. Ранен в битве под Фридландом, тяжело ранен под Талаверой, первым ворвался на вражеские укрепления в бою на перевале Сьерра-Морена 20 января 1810 г., за что был произведен в офицеры Ордена Почетного Легиона. В 1812 г. Бретон покинул Испанию и получил назначение в штаб 3-го корпуса Великой Армии. Миниатюра выполнена по всей видимости в это время, перед отправлением в Русскую кампанию. Бретон отличился в ходе боевых действий и был произведен в командиры батальона 18 октября 1812 г. Раненый многими ударами сабель в голову, плечи и руки, в бою под Красным 18 ноября 1812 г. он был взят в плен.
Находился в плену до 1814 г. Умер в 1845 г.
Планшет 25. Офицер и трубач конной артиллерии 1809-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Предполагалось, что, с одной стороны, те, кто не имел соответствующего военного образования, не могли отныне получить офицерский чин благодаря связям или протекции, с другой - должен был быть перекрыт слишком легкий путь к высоким званиям для штабных, ибо ни полковничье, ни майорское звание в принципе нельзя было получить, не пройдя командный стаж в войсках.
Разумеется, это распоряжение имело силу только в мирное время... а так как такового практически не было, то и его действие было весьма ограниченным. Равным образом адъютанты маршалов и генералов заметно быстрее проходили путь от звания к званию, чем обычные офицеры. "Наполеон хотел задержать их быстрое продвижение, - писал генерал Фуа, - он решил, что, для того чтобы получить следующий чин, адъютанты должны прослужить в частях пехоты или кавалерии, где учатся управлять солдатами, живя с ними одной жизнью. Однако влияние окружения изменяло подчас здоровые идеи главнокомандующего"19.
Нужно, впрочем, тут же добавить, что вплоть до падения Империи скромное происхождение не являлось недостатком при получении очередного повышения... и далеко не всем это нравилось. Вот как описывает в своих воспоминаниях полковник де Сен-Шаман (офицер из старого дворянства и в эпоху Реставрации ярый роялист) смотр его полка, где он представил Императору для очередного производства юношей из "хороших семей": "Нет, это не то, что я хочу, эти слишком юны, дайте-ка нам лучше наших добрых "террористов"*, - возразил Наполеон. Полковник непонимающе посмотрел на Императора. Тот пояснил: "Да, да, наших храбрецов 93 года!" Я вывел тогда несколько наших старых вахмистров, столь же глупых и неспособных, сколь и старых; он был очарован и тут же их произвел"20. Сейчас, конечно, уже невозможно проверить, были ли старые вахмистры так уж "глупы и неспособны", зато несомненна политическая ориентация Сен-Шамана: предпочтение, которое Император отдал простолюдинам, явно покоробило графа.
* Император имел в виду унтер-офицеров, начавших службу еще в период революционного террора.
Впрочем, несмотря на те или иные неизбежные недостатки чинопроизводства, невозможно отрицать, что Наполеону удалось сформировать редкий по своим способностям и энергии офицерский корпус. Одним из показателей его качеств являются возрастные характеристики в соотношении с параметрами, показывающими степень служебного и боевого опыта.
А. Григориус. Максимильен-Себастьян Фуа (1775-1825). © Photo RMN: J. Schormans. Знаменитый генерал, автор неоконченной книги "История войны на Пиренеях" и известный политический деятель эпохи Реставрации, Фуа начинал свою.службу в рядах артиллерии. На этом портрете он изображен в мундире офицера пешей артиллерии.
Средний возраст офицеров армии Наполеона21
| Офицеры пехоты 1805 г. | Офицеры кавалерии 1805 г. | Офицеры обоих родов войск 1814 г. | |
| Суб-лейтенанты | 33 | 34 | 29 |
| Лейтенанты | 36 | 40 | 32 |
| Капитаны | 37 | 43 | 35,5 |
| Командиры батальона | 40 | 40 | 42,5 |
| Полковники | 36 | ? | 42,5 |
Из приведенной таблицы видно, что в офицерском корпусе ранней Империи явно просматриваются следы недавней революционной бури: почти все младшие офицеры, особенно в кавалерии, - выходцы из рядовых, отсюда их относительно зрелый возраст. С другой стороны, полковники очень молоды: это те талантливые офицеры, которые сумели быстро пройти все ступени военной иерархии. В 1814 г. ситуация меняется. Значительно моложе стали младшие офицеры: сказалось пополнение из военных училищ, а также быстрое формирование унтер-офицерских кадров из образованных молодых солдат. С другой стороны, старшие офицеры, особенно полковники, стали старее: результат более последовательного чинопроизводства.
Видно также, что наполеоновские офицеры - это мужчины в полном расцвете сил. Среди них практически не было неоперившихся юнцов и пожилых людей. С отнюдь не старческим возрастом сочетался огромный боевой опыт. Маргерон в своей солидной публикации документов, посвященных подготовке русской кампании, приводит сведения о выслуге лет офицеров корпуса Даву (на 1811 г.). Эти данные мы свели в следующую таблицу:
Выслуга лет офицеров корпуса Даву (1811 г.)22
| Выслуга лет | Полковники | Командиры батальонов | Капитаны | |||
| Число | % | Число | % | Число | % | |
| 1-3 | - | - | - | - | - | - |
| 4-6 | - | - | - | - | 13 | 4,2 |
| 7-9 | - | - | 2 | 2,9 | 16 | 5,2 |
| 10-12 | - | - | - | 4,4 | 17 | 5,5 |
| 16-18 | 3 | 11,5 | 14 | 20,6 | 81 | 24,0 |
| 19-21 | 11 | 42,3 | 26 | 38,2 | 96 | 37,5 |
| 22-24 | 5 | 14,2 | 7 | 10,3 | 25 | 7,7 |
| 25-27 | 4 | 15,5 | 8 | 11,8 | 23 | 7,0 |
| 28-30 | 3 | 11,5 | 7 | 10,3 | 8 | 2,5 |
| 31-33 | - | - | - | - | 2 | 0,6 |
| Итого: | 26 | 100 | 68 | 100 | 299 | 100 |
"Эти цифры, - пишет Маргерон, - говорят сами за себя, и мы можем увидеть, какую закалку и какой опыт войны должны были получить офицеры различных родов оружия, достаточно только сказать, что любой военный, имеющий в это время 6-7 лет службы, принял уже участие в многочисленных и славных кампаниях, пройдя поля битв с большинством армий Европы"23.
На основе этих данных можно также легко подсчитать и средний срок выслуги лет. Он распределяется следующим образом:
| Пехота | Кавалерия | |
| Суб-лейтенанты | 11,4 | 10,7 |
| Лейтенанты | 13,0 | 13,2 |
| Капитаны | 18,0 | 18,5 |
| Командиры батальонов | 19,7 | 19,7 |
| Полковники | 21,9 | 20,9 |
Таким образом, в 1812-1814 гг. тридцатипятилетний капитан имел в среднем 18 лет выслуги. И какой выслуги! Чтобы проиллюстрировать наглядно эти цифры, обратимся к конкретным офицерам одного из линейных полков.
В 32-м линейном в 1814 г. в строю было 20 капитанов. Их средний возраст и средняя выслуга лет практически совпадают с таковыми для всей армейской пехоты: 36,1 и 15,924. Потрясает тот факт, что на эти примерно 16 лет, проведенные в строю, приходится... 15 кампаний!!! В результате каждый офицер этого, ничем особенно не выделяющегося, полка провел свою службу, начавшуюся в среднем в 1798 г., почти постоянно участвуя в военных операциях.
Юный виконт де Сен-Клер (ему было 12 лет) записался волонтером на флот, 4 июня 1799 г. попал в египетский поход, в 1801 г., в возрасте неполных 14 лет, по приказу главнокомандующего зачислен солдатом 32-й линейной полубригады, сражавшейся в это время на африканской земле. Отличился в боях. Произведен в капралы по возвращении во Францию (в 15 лет!), в следующем году стал сержантом и обучал молодых солдат. Уже в звании старшего сержанта принял участие в походе 1805 г. Прошел прусскую кампанию 1806 г., отличился в польском походе 1807 г., произведен накануне Фридланда в суб-лейтенанты. Вместе с полком отправился на Пиренейский полуостров и шесть долгих лет непрерывно дрался на испанской земле. Получил последовательно лейтенантские и капитанские эполеты, в 1813 г., успев повоевать в Испании, был переброшен в Великую Армию и сражался в Германии, а в 1814 г. оборонял Майнц. В 27 лет у этого молодого человека было за плечами 15 лет службы, 18 кампаний (!)*, три раны и орден Почетного Легиона, полученный в ноябре 1813 г.25
Капитан Эстрад, 44 года. За плечами походы 1792, 1793 гг., кампании 1794, 1795, 1796, 1797 гг. в Италии, 1798 г. в Швейцарии, 1798, 1799, 1800, 1801 гг. в Египте. В 1804-1805 гг. - в армии Берегов Океана (в Булонском лагере), потом Ульмский поход, кампания 1805 г., прусская кампания 1806 г., польский поход 1807 г., война в Испании 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 гг.! Итого двадцать с лишним кампаний! Ранен пулей в плечо под Вадо в 1795 г., пулей в голову под Александрией в 1798 г., пулей в подбородок в прусском походе 1806 г. Кавалер ордена Почетного Легиона в 1807 г.26
И это просто две взятые почти наугад биографии!
Этот боевой опыт был лучшей практической школой военного искусства. Что же касается теории, то здесь необходимо отметить, что большинство наполеоновских офицеров не успели посидеть за партами военных училищ. Согласно подсчетам Ж. Удайля, во Франции к концу периода Первой Империи не более 15% офицеров были выпускниками военных учебных заведений**. Отметим, что в приведенном нами в качестве примера 32-м линейном только один капитан, два лейтенанта и четыре суб-лейтенанта окончили военную школу (7 из 95 офицеров!), остальные выслужились из солдат. Причем в среднем время службы до получения офицерских эполет составляет около 9 лет!27 Данная ситуация объясняется, конечно, непрерывными войнами и огромной потребностью армии в офицерах, которую не могли удовлетворить военные школы, несмотря на то что Император уделял огромное внимание их созданию и развитию.
* Не следует удивляться, что число кампаний превосходит срок выслуги лет. Например, в войну 1805 г., согласно приказу Императора, участникам тяжелой Ульмской операции зачислили ее как целую кампанию. Равным образом участие в течение одного года в войнах на разных театрах военных действий могло засчитываться как две разных кампании, что мы и имеем в случае с Сен-Клером в 1813 г.
** Данная цифра не противоречит сказанному в начале главы о количестве офицеров, выслужившихся из рядовых. Дело в том, что не все, кто сразу стал офицером, были выпускниками военных училищ.
Дело в том, что начинать пришлось фактически с нуля. В период Революции почти все существовавшие к тому времени военные учебные заведения были закрыты, школы подготовки артиллерийских офицеров при артполках сведены в одну, размещенную в Шалон-сюр-Марн, некоторые бывшие подготовительные военные школы превратились в обычные платные пансионы для юношей. К началу эпохи Консульства Франция фактически не располагала военными учебными заведениями (Шалонская школа находилась в состоянии развала и запустения, а число ее воспитанников едва превосходило 40 человек).
Декретом от 11 флореаля X года (1 мая 1802 г.) Первый консул образовал систему среднего и специального образования во Франции, которая сохраняет ряд черт, намеченных ее создателем, вплоть до сего времени. Статья № 6 этого декрета провозглашала создание Специальной военной школы - в будущем знаменитого Сен-Сира. Еще ранее для детей военнослужащих, "павших на поле чести", был создан так называемый "Пританей" - учебное заведение типа интерната, которое позже превратится в среднее военное училище в Ла Флеше (до 1808 г. Пританей размещался в Сен-Сире, а Специальная военная школа - в Фонтенбло).
Военная школа, созданная Наполеоном, была поистине образцовым военным учебным заведением, рассчитанным сначала на 500, а потом на 1000 курсантов. Сюда принимали выпускников лицеев и частных пансионов. Для тех, кто блестяще окончил среднее учебное заведение, обучение в Военной школе было бесплатным, для остальных - весьма дорогим удовольствием - 1200 франков в год. Если в королевской военной школе, где в свое время учился сам будущий Император, как он вспоминал, "воспитанников кормили и обслуживали с великолепием, во всем обходясь с нами, как если бы мы были офицерами, имевшими большой доход..."28, то в Сен-Сире курсантов не баловали. С момента поступления в школу для курсантов начиналась настоящая военная жизнь, ибо Наполеон хотел, "чтобы молодые офицеры, которые должны будут командовать солдатами, начали с того, что сами стали бы подлинными солдатами"29. Строгая дисциплина, точное соблюдение уставов, придирчивые проверки амуниции и вооружения, напряженные военные занятия - вот повседневная жизнь будущих офицеров Великой Армии. Жиро де л'Эн, бывший курсант Сен-Сира, вспоминал: "Мы были подчинены тем же правилам, что и солдаты в казарме. Ели из общего котла такой же суп, как они. Единственным отличием было то, что мы получали его уже готовым на кухне, откуда мы приносили также хлеб в мешках, вино в канистрах, мясо и овощи в отдельных котелках" 30. Не всем подобный распорядок нравился. Будущий генерал Рикар, тогда один из курсантов, вспоминал, что необходимость есть из одного котла со своими товарищами вызывала у него "непобедимое отвращение".
Ж.-А. Гро. Дивизионный генерал Ларибуазьер, главнокомандующий артиллерией Великой Армии (1812 г.) прощается со своим сыном, лейтенантом карабинеров, накануне Бородинского сражения. Полотно работы Гро посвящено трагическому событию: юный лейтенант Ларибуазьер геройски погиб в Бородинском сражении. Его отец умер лишь немногим позже, 25 декабря 1812 г. вследствие лишений, которые ему пришлось испытать во время отступления. Картина была исполнена художником в эпоху реставрации. Хотя прошло всего лишь несколько лет после указанных событий, но этого оказалось достаточно, чтобы мундиры были представлены с рядом искажений: так, эполеты персонажей, особенно лейтенанта, в соответствии с новой модой художник увеличил и т. д.
В школе обучали не только военным дисциплинам. От курсанта требовался необычайно высокий уровень общего образования и особенно знание математики и физики, так как многие выпускники зачислялись не только в пехоту, но и в артиллерию и инженерные войска. Вот какова была "недельная норма" обучения в Сен-Сирской школе в 1812 г.:
9 часов математики
6 часов физики
9 часов рисунка
18 часов теоретических знаний по различным военным специальностям
18 часов практических артиллерийских занятий
6 часов конный манеж
3 часа взводная школа
Итого: 69 часов31
Следовательно, в среднем по 11-12 часов занятий в день (в воскресенье, разумеется, не учились), не считая общих построений, поверок, инспекций и т. д.
Планшет 16. Офицер и рядовой 12-го конно-егерского полка 1805 г. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Не сразу все наладилось в Сен-Сире, и еще в 1803 г. отмечались низкий образовательный уровень абитуриентов и недостатки в организации занятий. Однако постепенно удалось хорошо организовать учебный процесс, и в первые дни 1804 г. начальник школы генерал Беллавен писал Первому консулу, что "школа прочно сидит в седле" 32. Действительно, с этого времени школа уверенно крепла как в количественном, так и в качественном отношении. Не последнюю роль сыграл в этом уже упомянутый нами генерал Беллавен. Строгий и пунктуальный, придирчивый к малейшим неточностям в соблюдении правильности ношения униформы и чистоты оружия, Беллавен был в то же время по-отечески добр со своими подопечными, и все они сохранили о своем наставнике добрую память. Вступив в 1791 г. в возрасте 20 лет в Королевский кавалерийский полк, Беллавен, благодаря своей отчаянной храбрости и таланту, за пять лет дослужился до генерала, но 5 июля 1796 г. в битве при Раштадте вражеское ядро оторвало ему ногу. Бонапарт нашел дело по душе рано вышедшему из активной военной жизни генералу, и Беллавен полностью оправдал его доверие, заслужив признательность Первого консула и Императора.
Наполеон с пристальным вниманием следил за постановкой дела в Сен-Сире и не всегда был доволен тем, что там происходит. В частности Император постоянно стремился к тому, чтобы не дать военной школе свернуть на путь слишком теоретического, оторванного от реалий обучения, к чему, естественно, тяготеет всякое образовательное учреждение, предоставленное само себе. В марте 1809 г. он в очередной раз неожиданно посетил училище и разразился длинным раздраженным посланием военному министру, в котором лучше всего видна его концепция подготовки офицерских кадров: "В Сен-Сире всего не хватает. Артиллерийским делом не занимаются. У пушек нет отвозов (см. гл. VI), нет мишеней. Воспитанники не знают номенклатуру артиллерийских орудий... Можно всему обучить этих молодых людей, пока они в школе, когда они выйдут оттуда, они будут узнавать лишь то, что лежит непосредственно в плоскости их каждодневных занятий. А было бы хорошо для старших офицеров артиллерии, чтобы в армии у них под рукой были пехотные командиры, которые при необходимости смогут изготовлять артиллерийские заряды, умеют работать топором и лопатой (имеются в виду инженерные работы) и которые могут участвовать в работе по ремонту пушек, умеют изготавливать картузы, пальники и отливать пули... Я хочу, чтобы готовили не кабинетных ученых, а молодых офицеров, которые сразу по приходу в полк будут знать все, что знают старые офицеры. Пусть г-н министр займется внимательно всеми этими деталями. Скоро я снова навещу Сен-Сир и, ей-богу, буду весьма рассержен, если не увижу изменений..."33
Марселен Марбо, полковник 23-го конно-егерского полка. Миниатюра. На миниатюре, написанной, очевидно, в 1812-1813 гг., изображен автор знаменитых мемуаров.
Специальная военная школа подготовила за время своего существования в эпоху Консульства и Империи целую плеяду блестящих пехотных и артиллерийских офицеров. С 1804 по 1807 гг. было выпущено 1348 суб-лейтенантов для этих родов оружия.
1809 г. - 458
1810 г. - 299
1811г. - 145
1812 г. - 603
1813 г. - 751
1814 г. (3 месяца) - 252
Итого: 3865 офицеров34
Всего же с учетом выпуска 1815 г. в эпоху Империи Сен-Сирскую школу закончили 4101 человек, из которых 3338 стали пехотными офицерами, 317 - кавалерийскими и 416 - артиллерийскими35. Это был поистине цвет французского офицерского корпуса. Пройдя две-три кампании, юные суб лейтенанты, получившие в школе прекрасное теоретическое и практическое образование, приобретали огромный боевой опыт и становились действительно мастерами военного дела. Что же касается отваги на поле боя, лучшее свидетельство этого - цифры потерь, понесенных выпускниками Специальной военной школы: 2/3 суб-лейтенантов выпуска 1804-1807 гг. пали на поле брани в эпоху Империи 36.
Неизвестный художник. Генерал барон Клеман де ла Ронсьер (1773-1854). Париж, Музей армии.
Генерал Клеман де ла Ронсьер изображен в то время, когда он был начальником Сен-Жерменской военной школы (1809-1813 гг.). Рядом с генералом в гусарском мундире стоит его адъютант, правее, в каске с красным султаном - курсант в парадной форме. На заднем плане Сен-Жерменский замок, где располагалась школа.
Но это не останавливало молодого энтузиазма курсантов Сен-Сира, их пылкого желания броситься в головокружительные походы Великой Армии. "Школа сотряслась от тысячекратно повторяемого крика "Vive l'Empereur!". Офицеры!!! Мы французские офицеры!" - пишет Гаспар-Ришар Сультрэ отцу, рассказывая о том, как его друзья со старшего курса встретили свое неожиданное производство в чин суб-лейтенанта. А на следующий день он снова пишет: "Со вчерашнего приказа радость воспитанников не знает предела и проявляется во всю силу. Ведь они проделают такую блестящую кампанию! Как я хочу, чтобы она не кончилась до тех пор, пока я не стану офицером!.."37 Это было в мае 1812 г., и большинство этих радостных веселых юношей никогда уже не увидели Франции... И все-таки с таким же энтузиазмом и пылом уйдут весной 1813 г. сотни новых выпускников, чтобы устремиться в кровавый водоворот безнадежной войны.
Юношеский порыв не мешал им быть отличными офицерами пехоты и артиллерии. Иная картина наблюдалась долгое время в кавалерии, и те выпускники Сен-Сира, которые попадали туда, оказывались не в лучшем положении. "Наше изучение военного искусства готовило из нас пехотинцев, и мы начинали как жалкие кавалеристы. Наше обучение происходило под ударами сабель, от которых редели необученные и неловкие ряды. Нашей доброй воли, нашего энтузиазма не хватало..."38 - пишет выпускник Сен-Сира де Брак, попавший в легко-конные части и позже ставший знаменитым генералом. Действительно, с подготовкой офицеров для этого рода войск дело обстояло очень плохо, и фактически кавалерийские командиры воспитывались чисто эмпирическим методом. Правда, еще в эпоху Консульства существовала аппликационная кавалерийская школа в Версале, но это были скорее "курсы повышения квалификации" для офицеров и унтер-офицеров кавалерийских полков, к тому же из рук вон плохо организованные. "Три раза в неделю мы собирались на гражданском манеже под руководством знаменитых наездников Жардена и Купе; мы приходили туда тогда, когда нам заблагорассудится... Три остальных дня были посвящены военным занятиям... Как только занятия кончались, капитаны исчезали, и каждый воспитанник делал то, что ему хотелось.
Согласитесь, нужно весьма большое желание учиться, чтобы преуспеть в столь плохо организованной школе..."39
Подобное состояние подготовки командных кадров для кавалерии, разумеется, не могло удовлетворить Императора, и поэтому в 1809 г. был издан декрет о ак здании кавалерийской школы в замке Сен-Жермен по образцу Сен-Сирской, но, разумеется, с учетом специфики своего рода войск. По мысли Наполеона, Сен-Жермен должен был стать привилегированным учебным заведением для сыновей дворян и буржуазии, ибо здесь за обучение необходимо было вносить очень высокую плату (кроме нескольких курсантов, которых государство брало на содержание). Униформа воспитанников, так же как и внешний вид школы, должны были производить впечатление своим блеском. Однако, так как Сен-Жермен создавался поспешно, добиться этого полностью не удалось, и Император остался крайне недоволен своим внезапным визитом в школу 14 апреля 1812 г. "Несмотря на тщательный присмотр, форма воспитанников, их личная жизнь, их занятия - все организованно небрежно. Что же касается материальных условий, которые предлагаются сыновьям лучших семей, оно остается объектом жалоб со стороны заинтересованных лиц"40. Наполеон сместил со своего поста начальника школы генерала Клемана де ла Ронсьера и на его место поставил уже известного нам Беллавена в надежде, что он сможет организовать школу надлежащим образом. Однако времени оставалось уже совсем немного. Крах Империи увлек за собой и Сен-Жермен- скую школу. Она закрылась в 1814 г., так и не успев развернуть свою работу с той эффективностью, которой ожидал от нее Император. За все время своего существования школа выпустила из своих стен лишь 311 суб-лейтенантов кавалерии 41.
Совсем иную роль сыграло в подготовке офицерского корпуса высшее учебное заведение, которое в общем не считалось военным. Это была знаменитая Политехническая школа. Созданная в 1794 г. как институт, призванный готовить специалистов для всех областей промышленности и техники, Политехническая школа превратилась в эпоху Империи фактически в военное учебное заведение. Здесь все напоминало о войне: ношение униформы, подъемы в пять часов утра по звуку барабана. "Наши учителя походили на герольдов, наши классы - на казармы, наши перемены - на маневры, а наши экзамены - на военные смотры", - вспоминал Альфред де Виньи о лицеях эпохи Наполеона, однако это в равной степени могло быть отнесено и к Политехнической школе... Впрочем, ее выпускники формально не обязаны были идти в армию. Но едва редели ряды офицерского корпуса в армии, как Император снова писал военному министру: "Нужно посмотреть, не может ли Политехническая школа дать еще пятьдесят офицеров", и так каждый раз, когда не хватало офицеров артиллерии и инженерных войск. В результате сами воспитанники школы рассматривали ее скорее как военную. "Парижская политехническая школа была в это время лучшим военным училищем, и военные науки изучались здесь на чрезвычайно высоком уровне" 42, - писал окончивший ее в 1808 г. Хлаповский, офицер, ординарец Императора. Действительно, естественные и военные дисциплины здесь преподавались виднейшими учеными и прекрасными офицерами. Среди профессоров были такие научные деятели с мировыми именами, как Монж, Фуркруа, Карно, Тенар, Жюссье и многие другие. С 1804 по 1813 гг. это высшее учебное заведение закончили 1380 студентов, из которых около тысячи (!) стали офицерами, прежде всего артиллерии и инженерных войск.
Э. Детайль. Воспитанники политехнической школы в бою за Париж (1814 г.).
Немалую роль в подготовке офицеров для инженерных войск и рабочих рот артиллерии в эпоху Наполеона сыграла и Компьенская школа искусств и ремесел, основанная в эпоху Консульства.
Наконец, для подготовки унтер-офицеров была учреждена соответствующая школа в Фонтенбло.
Все эти меры способствовали значительному повышению военного и общего уровня образования командиров французской армии. Однако, как уже отмечалось, процент офицеров, получивших регулярное военное образование, оставался весьма скромным и процесс складывания армии современного типа с командными кадрами, прошедшими обязательную профессиональною подготовку в высшем или среднем учебном заведении, только начался в эпоху Наполеона и был далек от Совершения в момент падения Империи.
Выпускников лучших военных школ и простых крестьянских парней, ставших командирами, юных аристократов из Сен-Жерменского предместья и сыновей парижских ремесленников - офицеров Империи - объединяло одно: беззаветная отвага и культ нести. "Мы говорили только о будущих победах, - запоминает лейтенант Мартен о начале трагической компании 1815 г., - о славе, которую мы добудем, о повышениях, которые мы получим. Прочь, удовольствия мирной жизни, - жалкий отдых не для истинных воинов! Покинуть все: любовь, возлюбленную, - все. чтобы сражаться!"43 Молодому офицеру, для того чтобы доказать, что он достоин эполет, приходилось нелегко: "Когда нужно было выбирать позиции для орудий - рассказывает один из них, - я старался ставить их нарочито близко от неприятеля и в самом гласном месте. Должен сказать, что чувство, которое мной руководило, было не желание бить врага, а заработать репутацию. Я добился этим способом того, кто заслужил доверие"44. Иногда желание показать свою отвагу приводило к бесполезным потерям: "Это ложное понимание храбрости отняло у Франции немало доблестных воинов, которые погибли без иной пользы для отечества, кроме той, что они приучали своих подчиненных презирать смерть и быть в состоянии преодолевать все опасности"45. Но "благо той армии, - говорит Клаузевиц, - в которой проявляется несвоевременная отвага, - эта буйная растительность, : на признак могучей почвы. Даже безрассудную смелость, т. е. смелость бесцельную, нельзя ценить низко: в основе своей она является той же самой душевной силой, только проявляющейся в виде особого вида страсти..."46 (см. также гл. XI)
Лучшим свидетельством отваги наполеоновских офицеров на поле чести являются цифры потерь, понесенных командными кадрами в боях. Согласно подсчетам крупнейших французских современных историков Лемоншуа, Удайля, Бодинье, от 11,5% до 12,8%, т. е. около 10 тыс. человек, офицеров наполеоновской армии погибли в боях47. В процентном отношении это значительно выше, чем потери рядового состава убитыми и умершими от ран (см. гл. II). С другой стороны, нужно отметить, что потери офицерского состава от болезней были гораздо ниже, чем у рядовых. Командные кадры, по различным данным, потеряли лишь от 4 до 8% своей численности умершими от болезней, у рядовых же это число, как уже отмечалось, составляло не менее 30%. Разумеется, сказывались лучшие условия содержания и лучшие материальные возможности офицеров, но не только это. Вне всякого сомнения, немалую роль играл и психологический фактор. Офицеры с большей стойкостью переносили лишения, а самое главное, до конца сохраняли товарищескую взаимопомощь. В тяжелейших условиях отступления из России, когда солдаты и офицеры находились практически в равных условиях перед лицом лишений и когда офицерам приходилось еще чаще, чем обычно, рисковать собой под пулями, потери рядового и командного состава оказались, тем не менее, в процентном отношении совершенно различными. В некоторых полках вокруг изодранных знамен оставались лишь уцелевшие офицеры с горстью унтер-офицеров и солдат. 4-й линейный полк под командованием полковника Фезенсака является характерным примером. Из трех тысяч солдат и унтер-офицеров этой части, перешедших Неман (с основной массой войск или позже в числе подкреплений), вернулись не более 300, а из 109 офицеров -49, т. е. в строю осталось только 10% рядовых и 45% офицеров (в 4,5 раза больше!). И это несмотря на то, что среди 49 вернувшихся офицеров 35 были ранены, причем многие неоднократно!48 Ужасные потери этого трагического похода, не помешали офицерам сохранять свою преданность Императору и желание сражаться до конца: "Для первой кампании мне досталась слишком жестокая, но от этого мое удовольствие начать новую будет не меньшим", - писал домой молодой офицер после войны 1812 г.49
Планшет 19. Полковник 4-го гусарского полка 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Наполеон делал все, чтобы поощрить эти качества своих командиров. Впрочем, для того чтобы заслужить награду, простой отваги было мало: она в наполеоновской армии была разменной монетой. Император "мало обращал внимания на обычную храбрость, - писал генерал Рапп, - он рассматривал ее как нечто само собой разумеющееся, однако он ценил истинное бесстрашие и к тому, кто обладал этим качеством, он подходил с совсем иными мерками, чем к обычным людям"50. А когда кто-то из высокопоставленных чиновников заметил ему, что Император, повышая в чине отважных солдат, забывает хороших офицеров тыла, Наполеон ответил: "Я плачу за кровь, а не за чернила!" Порой свои повышения и отличия офицеры получали прямо на поле боя. "Солдаты Нея и дивизии Гюдена, генерал которых пал в бою, построились среди трупов своих товарищей по оружию и тел русских солдат, среди разбитых деревьев, на земле, перепаханной ядрами и утоптанной ногами сражавшихся, на клочках изодранного обмундирования, среди перевернутых повозок и оторванных членов... Но все эти ужасы он заставил померкнуть перед славой. Поле смерти он превратил в поле чести... Его видели последовательно окружавшим себя каждым полком, как семьей. Он спрашивал громким голосом офицеров, унтер-офицеров и солдат, узнавал, кто самый храбрейший из храбрых, и награждал его тотчас же. Офицеры указывали, солдаты одобряли, Император утверждал"51. Так, без справок, аттестаций и характеристик на залитом кровью, еще дымившемся поле битвы солдаты становились офицерами, офицеры - генералами.
Э. Детайль. Офицеры гусарских полков.
В храбрости и самопожертвовании, неразрывно связанных с высоким чувством чести, Наполеон, однако, видел нечто большее, чем необходимое качество отряда воинов-профессионалов. Здесь мы вплотную подходим к одной из важнейших тем истории Империи: социальной значимости армии и прежде всего офицерского корпуса в наполеоновской схеме общества. В воинском, рыцарском духе Император искал моральный стержень общества. "Нельзя, чтобы знатность происходила из богатства, - говорил он Редереру, видному политическому деятелю эпохи Республики и Империи. - Кто такой богач? Скупщик национальных имуществ, поставщик, спекулянт, короче, - вор. Как же основывать на богатстве знатность?" Но если знатность не базировалась отныне на происхождении из благородного рода, как при Старом порядке, и не на миллионном счету в банке, как в буржуазном мире, то на чем же? Кровь, пролитая на поле сражения, самопожертвование во имя общего блага, воинская честь отныне должны были стать, по мысли Императора, основой для новой элиты. "Быть офицером - это значило тогда быть знатным, перед воинским мундиром все склонялось, и перед воинской славой меркло все остальное..." 52- справедливо отмечает мемуарист. Концепция Наполеона раскрывается в полной мере в наставлениях, предназначенных для военных школ Императорской Франции. В регламентах парижских коллежей, Сен-Сира и Пританея, преподавателям указывалось, что "во время занятий они должны делать все необходимое, чтобы направлять воспитанников к любви к добродетели, справедливости и Отечеству". Те же самые мысли мы находим не только в занятиях с будущими офицерами, но и во всех речах, которые руководство военных школ произносило по разным поводам. Во всех этих речах постоянно обыгрывается тема "чести": она представляется одним из самых главных качеств, свойственных воину, который является более, чем любой другой француз, благородным и знатным человеком (homme de qualite), социальным образцом. Добродетель состоит прежде всего в отваге, которая со спокойствием встречает опасность. Однако отвага - не врожденное качество. Если она встречается в определенных слоях общества, то это потому, что она является продуктом всего комплекса обучения в этих слоях общества, призванного создать существо высшего порядка. "Чтобы добиться этой твердости души, которую ничто не смущает", молодой человек должен постоянно бороться со своими страстями. Он должен избегать лжи, скрытности, пристрастия к деньгам и чрезмерного честолюбия. Для истинного храбреца не представляет сложности "пожертвовать во имя предмета своей веры добро и богатство, но он готов принести в жертву и самое ценное, что дала ему природа". "Настоящая честь - это не только величие отваги, которая заставляет нас идти навстречу всем опасностям, но это и строгость нравов, которая удерживает нас в нашем долге. Ее храм - твердая душа, ее святилище - чистая совесть, ее вера - следование добродетели"... "Настоящие честь и отвага - это не кровавая ярость, истинный гражданин погибает в бою во имя пользы Отечества, и его храбрость страшна только для врагов государства и монарха"53.
Во всех этих речах понятие чести раскрывается таким, каким его видели певцы средневекового рыцарства - Шателлен, Филипп де Мезьер, де ла Марш - и таким, каким его описывали военные деятели XVI в. - Монлюк и Гез де Бальзак. Знаменитый голландский историк-медиевист начала XIX в. Иоган Хейзинга в своем шедевре исторической мысли "Осень Средневековья" так характеризует понимание средневекового рыцарского идеала: "...рыцарскому идеалу было присуще - и теоретически, и как некий стереотип - сознание того, что истинная аристократичность основывается только на добродетели и что по природе своей все люди равны"54. Однако в обществе Старого Порядка воинская элита сформировалась еще в незапамятные времена. Она стала чисто наследственным институтом, и, признавая равенство всех людей перед Богом, средневековая знать и вельможи XVI-XVII вв. образуют замкнутую касту, почти непроницаемую для простолюдинов. Наполеон дает шанс вернуться к истокам и открывает возможность для всех без исключения тяжелыми ударами меча выковать свой дворянский герб. "Когда кто-нибудь испрашивал у Императора милость, будь то на приеме или на воинском смотру, он обязательно задавал вопрос просителю, был ли тот ранен? Он считал, что каждая рана - это часть дворянского герба. Он почитал и вознаграждал подобную знатность" 55, - говорит Рапп. "Действительно благородным является тот, кто идет под огонь, - совершенно однозначно высказался Император в разговоре со своим адъютантом Гурго. - Я отдал бы мою дочь за солдата, но никогда - за администратора... Я могу любить только воинов"56.
Нужно сказать, что деятельность Наполеона в этом направлении увенчалась успехом. Построенное им общество не было военной диктатурой в вульгарном смысле этого слова, когда у власти находится клика генералов или полковничья хунта. Изучение нотаблей Империи, осуществленное Бержероном и Шоссина-Ногаре57, представленное в их солидных монографиях, показывает, что военные занимали относительно скромное место в ряду высших государственных чиновников, аппаратах министерств и префектур. Император никоим образом не стремился заполонить все высшие посты людьми в ботфортах. Однако несмотря на то, что гражданское управление оставалось в руках специалистов своего дела из штатских, общество все было насквозь пронизано воинскими идеалами. Из рапортов префектов следует, что "военные пользуются уважением публики", что "офицеры, выполняя свои функции с умом и высокими моральными качествами, вызывают всеобщее почтение"58 и т. д. Равным образом, анализируя списки парижан, добровольно записавшихся на службу в эпоху Империи, Бержерон показал, какой притягательной была армия для населения и сколь сильно молодежь из буржуазных семей мечтала стать офицерами. Во всех гражданских церемониях военные занимали почетные места, и генерал, командующий округом, пользовался теми же почестями, что и префект департамента. Конечно, не всем гражданским чиновникам это нравилось. Префект Меца пишет в 1807 г.: "Нужно находиться в городе, таком как этот, чтобы составить себе истинную картину того, насколько трудно гражданским бороться с многочисленными претензиями военных, которые возникают по любому поводу"59.
Миниатюра. Офицер 4-го гусарского полка (ок. 1810 г.).
Наполеону во многом удалось реализовать чаяния солдат и офицеров эпохи кризиса Революции. По мысли Ж. П. Берто, крупнейшего специалиста в области истории армии эпохи Революции и Империи:
"Новое общество... должно было строиться не только на денежном богатстве и земельной собственности, не на количестве клиентелы и слуг. Оно должно было быть движимо самопожертвованием во имя общего дела, которое никогда не является суммой эгоизма отдельных личностей... Честь - понятие, в котором сублимировалась жертвенность во имя нации, олицетворяемой Наполеоном, - должна была стать отныне не только стержнем для элиты... Офицеры должны были с помощью унтер-офицеров донести ее до рядовых"60.
Планшет 21. Офицер, рядовой и трубач 1-го полка шеволежеров-улан 1812-1814 гг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
Эти принципы построения государства нигде не были теоретически сформулированы Наполеоном. Он был практик и делал то, что было необходимо, по его мысли, в данный момент сначала для Франции, а потом для многонациональной Империи. Но, сознательно или бессознательно, Император стремился возвысить элиту духа и самопожертвования - новое рыцарство в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что не все, к чему он стремился, было достигнуто, результат был, без сомнения, очевиден. Империя Наполеона, несмотря на свою относительно свободную "рыночную" экономику и оформленную правом частную собственность, в значительной степени не являлась государством буржуазным.
В современной Франции, особенно в среде денежной и интеллектуальной элиты, Наполеон не слишком популярен, и это несмотря на то что он создал кодекс, лежащий в основе современного французского законодательства, административную структуру, систему высшего и среднего образования и т. д. Неприятие Императора буржуазными элитами вполне понятно. Хотя обычно это мотивируется тем, что Наполеон - "диктатор", что он "душил свободу самовыражения независимого индивидуума", проблема здесь гораздо глубже. Сознательно или бессознательно, эти люди чувствуют, что государство Наполеона - это не страна, где господствуют биржевые дельцы и спекулянты, это мир, где доминировала элита меча. Именно она определяла вкусы, нравы и ценности общества. В этом смысле государство Наполеона, несмотря на его развитую экономику и передовую науку, как это ни парадоксально звучит, - государство еще более "старого порядка", чем дореволюционная Франция. По своим моральным ценностям оно было ближе к суровым рыцарям времен Филиппа Августа, чем к придворным кавалерам Людовика XVI.
Необходимо отметить, что эта знать воителей никоим образом не исключала высокий интеллект, а наоборот, культивировала его. Покрытый ранами полуграмотный рубака, конечно, пользовался уважением, но имел мало шансов подняться к вершинам иерархии. Император всеми способами стремился пополнить ряды высших чинов не просто отважными людьми, но и людьми высокообразованными. "За отечество, науки и славу", - было начертано на знамени Политехнической школы, и этому девизу следовали лучшие представители французского офицерского корпуса. "Сейчас мы начинаем дифференциальные и интегральные исчисления, мы погрузимся в физико-математические науки. Я хочу работать как одержимый61", - с юношеской восторженностью пишет молодой курсант Сен-Сира; а офицер-ординарец (officier d'ordonance) Наполеона поляк Хлаповский, с благоговением вспоминал о времени, проведенном в Политехнической школе и о уровне образованности ее воспитанников: "Легко понять, что молодые люди, столь занятые науками, не очень много думали о светских развлечениях и, как я уже отмечал, на переменах говорили только на военные темы, развиваясь таким образом и увеличивая свои знания"62. Впрочем, в этом глубоком уважении к наукам тоже нет ничего принципиально нового по сравнению с упомянутыми выше идеалами средневекового рыцарства. "Согласно житию маршала Бусико, одного из наиболее характерных выразителей рыцарских идеалов позднего Средневековья, две вещи были внедрены в мир по Божьей воле, дабы подобно двум столпам поддерживать устроение законов Божеских и человеческих; без них мир превратился бы в хаос. Эти два столпа суть "рыцарство и ученость, сочетающиеся во благо друг с другом""63.
Итак, офицер Наполеона - это опытный, закаленный в боях командир, мужчина зрелого возраста, прошедший суровую школу войн и походов, профессионал своего дела, учитель и старший товарищ для своих солдат, он еще и представитель нового рыцарства, опора общества, его моральный стержень и элита. Конечно, не все были такими, но к этому стремились, и как не вспомнить в заключение этой главы характеристику, которую дал генерал Фуа этим людям: "Наши армейские офицеры, и особенно пехотные, сверкали чистотой и славой. Доблестные, как Дюнуа и Лагир, привыкшие к лишениям и не поддающиеся усталости, потому что они были сыновьями пахарей и ремесленников, они шли во главе своих рот и первыми бросались в битву или на штурм. Их существование было соткано из непрерывных лишений, но, далекие от тщеславия генералов и опьянения солдат, эти мученики патриотизма жили той духовной жизнью, которая сгорала в служении долгу" 64.
1 MarmontA.-F.-L.-V. Memoires de 1792 a 1841. P., 1857, t. 2, p. 146.
2 Girard E.-F. Cahiers du colonel Girard (1766-1846). P., 1951, p. 234.
3 Desbceufs Ch. Souvenirs du capitaine Desboeufs P., 1901, p. 211.
4 L Officier rrancais des ongines a nos jours, Sous la direction de C Croubois Saint-Jean-d'Angely, 1987, p. 147.
5 Bodinier G. Les officiers de l'armée royale combattants de la guerre ilndependance des Etats-Unis. De Yorktown a l'an II. Chateau de Vincennes 1983, p. 53-113.
6 Волков С. Русский офицерский корпус. М, 1993, с. 269.
7 Целорунго Д. Офицерский корпус русской армии эпохи 1812 г. по формулярным спискам. Источниковедческое исследование. Автореферат на соискание кандидатской диссертации. М, с. 13.
8 Foy M.-S Histoire de la guerre de la Peninsule Bruxelles 1827,1.1, p. 71 —72.
8 FaIlou L-LaGarde Imperiale. P., 1901, p. 362-363.
9 Frenilly F.-A.-F Souvenirs du baron de Frenilly, pair de France, publies avec introduction et notes par Arthur Chuquet. P., 1909, p. 332.
10 Segur L. Un Aide de Camp de Napoleon. P., 1894, p. 2.
11 Correspondance de Napoleon Ie'. P., 1858-1870, t. 18, p. 438.
12 Ibid., t. 18, p. 465.
13 Margueron. Campagne de Russie (1810-1812). P., 1912, t. 3, p. 355.
14 Ibid., t. 3, p. 313.
15 Bertaud J. P. Napoleon's officers Past and Present. A Journal of historical studies Oxford. N° 112. August 1986, p. 104.
16 Foy M.-S. Op. cit., t. 1, p. 63.
17 Цит по: Morvan J. Le soldat imperial. P., 1904, t. 1, p.285.
18 Journal Militaire. An XIII. t. 2, p. 82-83.
19 Foy M.-S. Op. cit., t. 1, p. 106.
20 Saint-Chamans A.-A.-R. de. Memoires du general comte de Saint- Chamans, ancien aide de camp du marechal Soult (1802-1823). P., 1896, p. 236.
21 L'Officier français des origines a nos jours... p. 122.
22 Margueron... Op. cit., t. 3, p. 37-48.
23 Ibid., p. 37.
24 S. H. A.T. Xb412.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Las Cases, Memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p. 307.
29 Ibid.
30 Girodde r Ain J.-M .-F. Dixansde souvenirs militaires de 1805a 1815. P., 1873.
31 Soultrait G. R. de. Lettres d'un Saint-Cyrien de 1812. // Carnet de la Sabretache, 1920, N° 263, p. 36.
32 Ganniers A. de. Les ecoles militaires en France sous la Revolution et l'Empire. // Revue des Questions Historiques, P., 1902, t. 18, p. 185.
33 Lecestre L. Correspondence inedite de Napoleon. P., 1897, t. 2, p. 780.
34 Ganniers A. de. Op. cit., p. 220-221.
35 L'Officier franfais des origines a nos jours... p. 128.
36 Ganniers A. de. Op. cit., p. 259.
37 Soultrait G. R. de. Op. cit., p. 21.
38 Brack F. de. Avant-postes de cavalerie legere, p. 13.
39 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 1891, p. 169-170.
40 Ganniers A. de. Op. cit., p. 209.
41 Ibid., p. 221.
42 Chlapowski D. Memoires sur les guerres de Napoleon (1806-1813), publie par ses fi b. P., 1908, p. 59.
43 Martin J. Lettre du raout 1815 // Carnet de la Sabretache, 1895, p. 493.
44 Levavasseur O. Souvenirs militaires d'Octave Levavasssur, officier d'artillerie, aide de camp du marechal Ney, publie par le commandant Beslay. P., 1914, p. 35.
45 Lejeune L.-F. Memoires du general Lejeune. P., 1895, p. 70.
46 Клаузевиц К. О войне. М., 1936, т. 1, с. 205.
47 L'Officier français des origines a nosjours... p. 137.
48 Fezensac. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 352.
49 Delaval. Lettre d'un Saint-Cyrien officier d'artillerie // Feuilles d'Histoire, 1911, p. 248.
50 Rapp J. Memoires ecrit par lui-meme et publie par sa famille. P., 1823, p. 4
51 Segur de. La Campagne de Russie. P., s d., p. 78.
52 Цит по: Bertaud J.-P. La place de l'officier dans le regime napoleonien // La bataille, l'armée, la gloire. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 1983. Association des Publications de Clermont II, 1985, p. 222.
53 Ibid., p. 226-227.
54 Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988, с. 67.
55 Rapp J. Op. cit., p. 4.
56 Gourgaud G. Journal de Sainte-Helene (1815-1818). P., 1947, t. 1, p. 213-214.
57 Bergeron L., Chaussinand-Nogaret G. Les Masses de granit. P., 1979. Chaussinand-Nogaret G., Bergeron L., Forster R. Les notables du grand Empire de 1810. Annales, 1971, p. 1052-1075.
58 D'apres Bertaud J.-P. La place de l'officier..., p. 222.
59 Ibid., p. 224.
60 Bertaud J.-P. Les travaux recents sur l'armée de la Revolution et l'Empire. // Revue internationale d'histoire militaire N° 61, P., 1985, p. 112.
61 Soultrait G. R. de. Op. cit., p. 29.
62 Chlapowski D. Op. cit., p. 61.
63 Хейзинга Й. Op. cit., p. 70.
64 Foy M.-S. Op. cit., t. 1, p. 55-56.
Глава IV. ВЫСШИЕ ОФИЦЕРЫ
Наполеон не интересовался их прежними убеждениями, и мало - тем, что они думали в настоящий момент, его интересовало только одно - что человек умел делать.
Генерал Фуа
Если имена героев предыдущей главы большей частью стерло неумолимое время, то людей, о которых пойдет речь в этой части нашей книги, трудно назвать безызвестными. Даже тот, кто специально не занимался историей, наверняка слышал имя блистательного Мюрата, непреклонного Даву, неукротимого Нея... О них написаны книги, статьи, очерки, романы, пьесы, их именами названы бульвары, окружающие Париж, эти же имена выбиты на Триумфальной арке, гордо возвышающейся на площади Звезды.
Они - это маршалы и генералы Великой Армии, те, кто в раззолоченных мундирах под градом ядер и картечи скакал бешеным галопом, ведя за собой в атаку блистательные эскадроны кирасир, гусар, конных егерей ... те, кто гордым жестом бросал в огонь войны тысячи пехотинцев и кто, не колеблясь, устремлялся вместе с ними в самое пекло, те, кто в сверкании золота полет, со звоном сабель, с пушечным громом и визгом пуль ворвался в историю...
Разумеется, каждый из этих людей неповторим, как неповторима каждая человеческая судьба, и, наверное, лучшей характеристикой героев нашего повествования будут биографии, помещенные в Приложениях VII и III. Читатель найдет здесь сведения обо всех двадцати шести маршалах и сорока генералах наполеоновской армии. Последние представлены таким образом, чтобы проиллюстрировать все основные типажи вождей императорских войск. Впрочем, уже из самих биографий следует, что при всем их разнообразии можно выделить ряд типических черт, присущих высшим офицерам Наполеона. Именно на этих чертах мы и остановимся в главе, где мы попытаемся дать обобщенный Зраз полководца эпохи Империи. Однако, прежде чем рассмотреть с разных сторон леший командный состав Великой Армии, определим, кого мы включаем в эту категорию. Прежде всего, это, конечно, маршалы Империи (именно "маршал Империи", а не "маршал Франции" - звание, введенное при Старом Порядке и существующее в настоящее время. Впрочем, даже сам Император оговаривался. Так, например, производя в высший военный чин Макдональда на поле боя под Ваграмом, он произнес: "...на поле Вашей славы, где Вы столь способствовали вчерашней победе, я произвожу Вас в маршалы Франции..."1). Всего за время существования Империи Наполеона 26 генералов удостоились этого высшего воинского отличия: 18 стали маршалами (четверо из них почетными) в 1804 г. вместе с провозглашением Империи, семеро - в ходе кампаний 1807-1813 гг., и, наконец, последний, двадцать шестой, маршал Груши получил свой чин в период Ста дней.
Сложнее обстоит вопрос с понятием "генерал Империи". Прежде всего, обозначим временные рамки. В фундаментальном труде Жоржа Сиса по генералитету Революции и Империи2 в число генералов Империи включаются те военнослужащие, которые получили генеральские эполеты с 1802 по 1814 гг. Ж. Сие без особых на то оснований за "фактическое", как ему представляется, начало Империи берет момент заключения Амьенского мира. Конечно, Амьенский мир - это важный этап в становлении наполеоновского государства, но можно выделить и ряд других, не менее существенных событий. С другой стороны, при таком определении звания "генерал Империи" выпадает большое число маршалов и генералов, прошедших все войны Наполеона, но получивших свои генеральские звезды в эпоху Конвента, Директории или начала Консульства, а они, по Ж. Сису, относятся к генералам Революции. Если принять это положение, то известнейшие военачальники Империи - Фриан, Делаборд, Сент-Илер, Дюэм, Легран, Ларибуазьер, Моран и другие - оказываются "генералами Революции". Мы приняли за основу иной принцип. Мы относим в разряд генералов Империи всех, кто служил, пусть даже непродолжительное время, в генеральских чинах во французской армии с 1804 (даты провозглашения Империи) до 4 апреля 1814 гг. (отречения Наполеона), а также в период Ста дней.
Планшет № 2. Маршал Ланн и его адъютант, 1807-1809 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Исходя из "национального" принципа, Ж.Сис включает в число высших офицеров Империи французов, служивших в качестве генералов союзных армий (неаполитанской, польской, вестфальской и др.). Мы не согласны с подобным подходом, отдающим, на наш взгляд, мелким буржуазным национализмом и квасным патриотизмом, далеким от стиля наполеоновской Империи (подробнее см. гл. XII). Мы вполне допускаем, что отважные генералы союзных армий, пролившие кровь в боях, сражаясь бок о бок с французскими полками, генералами Империи не являются, так как они служили все-таки в других армиях. Но почему тогда являются генералами Империи французы, служившие в тех же самых союзных армиях, порой вообще не принимавшие участия в наполеоновских войнах - никак не понятно. Следуя "кровнородственному" принципу Сиса, можно просто дойти до абсурда. Так, в 1809 г. русская армия сражалась в качестве союзника Наполеона против австрийцев. Следовательно, знаменитый начальник штаба Багратиона в войне 1812 г., генерал де Сен-При, или генерал Ланжерон, участник штурма Измаила, герой русско-турецких войн, впоследствии генерал-губернатор Херсона, и многие другие французские эмигранты на русской службе, посвятившие свою жизнь борьбе с Революционной, а затем с Наполеоновской Францией, являются генералами Империи!
Единственным ясным и абсолютно недвусмысленным критерием может быть только следующий: считать за генералов Империи только тех, кто хотя бы непродолжительное время состоял на службе наполеоновской Франции.
В результате получилось, что за период с 1804 по 1814 гг. на службе Императора Наполеона состояли 1180 бригадных и дивизионных генералов и, сверх того, указанные выше 25 маршалов. Необходимо также добавить, что в период Ста дней Император подтвердил производство 19 старших офицеров в генеральские звания, осуществленные в период 1-й Реставрации, и дополнительно произвел в генералы 27 военнослужащих; наконец, появился и 26-й маршал. Всего, таким образом, в период Империи было 1252 высших офицера сухопутных сил, характеристики которых мы и рассматриваем в данной главе.
Обратимся сначала к происхождению генералов и маршалов Наполеона. Можно констатировать тот факт, что высшие офицеры Великой Армии вышли примерно из тех же слоев, что и простые офицеры. В основном это представители семей среднего достатка: небогатой буржуазии и дворянства, интеллигенции, зажиточных ремесленников. Сын крестьянина маршал
Ланн и сын бочара маршал Ней, хотя и не представляют собой нечто исключительное в ряду высших офицеров Империи, но не являются и типичными. Из двадцати шести маршалов Империи, кроме упомянутых Ланна и Нея, только трое вышли действительно из низов общества:
■ один - сын слуги и рыночной торговки (Ожеро);
■ десять принадлежат к мелкой буржуазии, коммерсантам, интеллигенции;
■ двое - к зажиточной буржуазии (Мортье и Сюше);
■ двое - к дворянству мантии (Брюн и Келлерман);
■ один - к служилому дворянству (Бертье, его отец был анноблирован в эпоху Людовика XV);
■ двое - к захудалому провинциальному дворянству (Монсей и Серрюрье);
■ пятеро происходили из весьма почтенных дворянских родов (Даву, Макдональд, Мармон, Периньон, Груши);
■ один - из княжеского рода (Понятовский). Среди генералитета процент выходцев из простолюдинов был несколько выше, но в общем социальные характеристики были весьма схожи. Из более чем двух тысяч генералов Революции и Империи известно происхождение 1139 высших офицеров недворян.
Происхождение генералов Революции и Империи (недворян)3
| Из семей коммерсантов, фабрикантов, буржуа | 371 |
| Из семей чиновников | 230 |
| Из семей военных | 167 |
| Из семей адвокатов, стряпчих | 115 |
| Из семей крестьян | 90 |
| Из семей ремесленников и рабочих | 87 |
| Из семей лиц свободных профессий | 79 |
| Итого: | 1139 |
При этом среди высших офицеров Империи обращает на себя внимание очень высокий процент дворян. Из 26 маршалов, как мы уже отметили, восемь были дворянами шпаги; из 611 генералов, состоящих на службе на 1 апреля 1811 г., 137 (т. е. 22,4%) происходят из дворянских семей. Это связано, с одной стороны, с политикой "слияния" старых и новых элит, а с другой стороны, с чисто возрастными параметрами. Чтобы к моменту установления Империи военнослужащий мог дослужиться до высокого звания, ему надо было начать свою карьеру в армии эпохи Революции, причем особенно быстро в это время выдвигались те, кто был при короле унтер-офицером или младшим офицером (конечно, при условии их политической лояльности). Следовательно, немало будущих генералов Империи были до Революции младшими офицерами, т. е. с вероятностью 80% - дворянами. Девять из двадцати шести будущих маршалов были до Революции офицерами королевской армии, они же и являются упомянутыми выше восемью дворянами шпаги, плюс Келлерман - выходец из семьи дворянства мантии. Среди генералов Империи, по нашим исследованиям, насчитывается 52% тех, кто начал свою службу в армии до Революции, причем 24% от общего числа были офицерами короля.
Высокий процент дворянства среди высшего офицерства еще менее, чем среди средних слоев офицерского корпуса, является результатом целенаправленной деятельности Наполеона. Скорее наоборот, это результат самоотверженности многих представителей "семей шпаги", пронесших свои эполеты через все опасности Революционной бури.
Что касается возраста наполеоновских генералов, то, как и в предыдущей главе, мы можем констатировать молодость командного состава Великой Армии. Средний возраст производства в чин бригадного генерала, по нашим подсчетам, составлял 41 год, а в чин дивизионного - 39 лет. Не стоит удивляться этим, на первый взгляд, парадоксальным цифрам: получается, что в младший чин производятся позже, чем в старший. На самом деле это означает, что те, кто становились дивизионными генералами, обычно проходили свой путь к высшему чину быстрее и часто рано становились бригадными генералами (в 30-35 лет), те же, чья карьера заканчивалась на звании бригадного генерала, получали эполеты высшего офицера в солидном возрасте. Отсюда кажущееся несоответствие.
Нужно отметить, что при общей молодости высших офицеров производств в генеральские звания юношей, как это нередко имело место в эпоху Революции, фактически больше не наблюдалось. Талантливые и отважные люди быстро поднимались по ступеням военной иерархии, но достигали ее вершин только пройдя достаточный испытательный срок, что исключало подчас нелепые производства Революционного правительства. Тем не менее в редких случаях Наполеон производил в генералы совсем молодых людей. Яркий пример - Жан-Поль-Адам Шрамм (см. биографию в Приложении VIII), ставший генералом в 23 года! Впрочем, нужно отметить, что этот юноша получил эполеты с серебряными звездами не по прихоти взбалмошного комиссара Конвента и не из-за бюрократической ошибки. Он был солдатом уже в 10 лет! В неполные шестнадцать он отметил участие в кампании 1805 г. рядом блестящих подвигов, заслужив крест Почетного Легиона и эполеты лейтенанта. Сражался в 1806-1807 гг. в Германии и Польше, в 1808-1809 - в Испании и Австрии, в 1810-1811 гг. - снова в Испании, в 1812 г. -в России, в 1813 - в Германии, везде показывая примеры мужества и умелого командования. В результате, последовательно пройдя все ступени военной иерархии, молодой офицер стал в 1813 г. бригадным генералом. Несмотря на свои 23 года, Шрамм к этому времени был уже настоящим ветераном. Почти в этом же возрасте стали генералами сын маршала Лефевра - Мари-Ксавье-Жозеф Лефевр (26 лет), Орнано и Флао (27 лет). Во всех этих случаях не обошлось без солидной протекции. Достаточно сказать, что Орнано был родственником семьи Бонапарт, а Флао... любовником королевы Гортензии, приемной дочери Императора. Однако нужно отметить, что знатность и связи лишь помогли этим людям в их блестящей карьере, но не были единственной причиной успеха. Все эти молодые офицеры получали чины на полях сражений и, если и не оказались в ряду самых блистательных полководцев наполеоновской армии, то совершенно однозначно не были и в ряду худших.
Говоря об относительной молодости высших командных кадров Империи, нельзя не задаться вопросом: что же делали те, кто достигал преклонного возраста? Существует точка зрения, которую высказал Э. Блаз в своей книге "Военная жизнь во времена Первой Империи", согласно которой во времена Первой Империи сложилось нечто вроде непроницаемой высшей военной касты, которая надежно оберегала свои "теплые места" от посторонних, а все повышения в чине если и происходили, то за счет смерти на поле боя кого-нибудь из представителей этой генеральской элиты. Так ли это? Обратимся к цифрам. Согласно официальному "Военному журналу" в IX году (1801-1802 гг.) в строю было 227 бригадных и 131 дивизионный генерал (всего 358)4. Из них в 1813 г., т. е. через 12 лет, на действительной службе остались только 141 человек, причем общая численность высших офицеров в это время достигла 625 человек. Таким образом, более трех четвертей генеральского состава 1813 г. были вновь произведенными, а из тех, кто остался на службе, большая часть получила повышения: 46 бригадных генералов IX года стали дивизионными генералами, а из оставшихся 49 дивизионных 14 стали маршалами Империи. Как видно, обновление происходило, и весьма активно. Что же касается погибших, то из 358 генералов IX года на поле сражения пали к 1813 г. лишь 32 человека, т. е. 8,9% от общей численности. Эти цифры наглядно демонстрируют, что постоянно происходило значительное обновление высшего офицерства и что главной причиной этого процесса была вовсе не гибель отдельных его представителей. Однако справедливым будет спросить: куда же делись те, кто не погиб и не остался в строю? В ответе на этот вопрос и кроется сущность наполеоновского способа формирования высших командных кадров. Значительная часть генералов IX года в 1813 г. была либо уволена в отставку, либо задействована для более спокойных административных, дипломатических и иных должностей. Наполеон старался сделать все, чтобы высшие офицеры прекращали активную военную деятельность, как только достигали 45-50 лет; особенно строги в этом смысле были критерии для кавалерийских командиров, чуть менее жесткими - для артиллеристов. Император "выжимал" из военачальника все его силы - как физические, так и моральные, чтобы проводить еще не старого человека на почетный отдых, осыпав наградами, почестями и деньгами, предоставляя возможность блеснуть на поле сражений новым молодым генералам, которые также должны были работать на износ, не задумываясь, рискуя и жертвуя собой. Эта система обеспечивала Наполеону молодую, энергичную армию, дерзающую, рискующую, рвущуюся вперед.
Отмечая значительное обновление людей на командных постах в наполеоновской армии, нельзя не обратить внимание на следующие факты. Из 1180 генералов Империи (без Реставрации и Ста дней) 780 человек, т. е. 66%, получили эполеты высшего офицера в 1804-1814 гг. Это значит, что при всей преемственности с эпохой Революции наполеоновский генералитет был все же созданием самого Императора. Больше всего производств в генеральский чин отмечено в 1813 г. (178 бригадных и 56 дивизионных генералов). Этот факт объясняется огромными потерями среди генералитета в 1812 г. (в Испании и России). Однако и до этого имелись случаи массовых производств. Так 27-29 августа 1803 г. генералами стали сразу почти 50 человек. 1 февраля 1805 г. генеральские эполеты получили еще 31 человек (в том числе Савари и Лассаль), 24 декабря того же года, отмечая своих соратников за Аустерлицкий триумф, Император присвоил звания дивизионных и бригадных генералов 27 военачальникам (среди них были Моран, Монбрен, Рапп и др.), а после Ваграмской победы маршальские жезлы были вручены сразу трем генералам: Макдональду, Мармону и Удино.
Массовый характер, который носили производства в генералы, никоим образом не говорит об их немотивированности. Несмотря на стремительные взлеты, которые совершали в эпоху Империи талантливые и храбрые воины, нельзя не отметить, что, как мы уже говорили, эти блистательные карьеры сопровождались последовательным, хотя и весьма быстрым, прохождением ступеней военной иерархии. Красивая фраза о том, что во времена Наполеона каждый французский солдат носил в своем ранце маршальский жезл, справедлива лишь отчасти. Если бы Империя просуществовала хотя бы еще одно десятилетие, то, возможно, кто-то из солдат, призванных под знамена в правление Наполеона, и стал бы маршалом. Однако государство, о котором мы ведем речь, просуществовало лишь 10 лет (если считать вместе с консульским периодом, то 15), поэтому имеется лишь один пример солдата, сумевшего за этот короткий промежуток времени (1804-1814 гг.) стать генералом. Этим солдатом, а точнее сержантом, был Жан Шартран (см. биографию в Приложении VIII). Он родился в 1779 г., и в момент провозглашения Империи ему было 25 лет, впрочем, за плечами у этого молодого человека было уже 11 лет службы, из которых большая часть проведена в боях и походах. То, что в 1807 г. Шартран стал офицером, а затем под пулями и ядрами добыл себе генеральские звезды, трудно назвать образцом фаворитизма или незаслуженно полученных почестей. Молодому генералу было 34 года, из которых 20 он отдал службе - и какой! Походы в Австрию, Германию, Россию - и повсюду Шартран постоянно жертвовал собой.
Ж.-А. Гро. Генерал Шарль-Жюст-Александр-Луи Легран (1762-1815). © Photo PMN.
Впрочем, последняя характеристика была для всех наполеоновских генералов необходимым качеством. Среди них, как и среди любых других людей, встречались, хотя и редко, обманщики, пьяницы, льстецы, казнокрады... но не встречались трусы. Чтобы перечислить подвиги и примеры безумной отваги высших офицеров Великой Армии, не хватит и десятка таких томов, зато примеров трусости практически нет вообще. За все время Империи из описаний тысяч сражений и боев, в которых принимали участие упомянутые более чем тысяча двести генералов, можно отметить лишь шесть официальных документов, а конкретно -судебных дел, где указывается на трусость или на подозрение в таковой. Это дела генералов Дюпона, Лежандра, Моро (Жана-Клода), Монне де Лорбо, Дюмулена и Грэндоржа. В первых четырех случаях речь идет о капитуляции без достаточных оснований. Все указанные лица, вероятно, проявили слабость, безответственность, непонимание стратегического значения вверенной им группировки... Но, пожалуй, это не трусость в прямом смысле этого слова. Что касается, например, Дюпона, об этом вообще не может идти речи. Этот генерал покрыл себя неувядаемой славой в бою под Хаслахом 11 октября 1805 г., когда он с шестью тысячами солдат остановил двадцатипятитысячную австрийскую армию. Особенно он отличился в боях под Галле, Грабау, Браунсбергом и в сражении при Фридланде в 1807 г. Байленская катастрофа* произошла, конечно, не потому, что он устрашился физической опасности, а по многим другим причинам, среди которых была надежда на то, что испанцы исполнят условия капитуляции, согласно которым они должны были на английских кораблях репатриировать всех французских солдат, а также сребролюбие генерала: Дюпон надеялся сохранить обозы с награбленным в Кордове. Последнее вряд ли является характеристикой высоких моральных качеств этого военачальника и заслуживает, конечно, самого сурового наказания, но все же это не трусость. Сам Наполеон вспоминал на Святой Елене: "Мы потеряли Пиренейский полуостров из-за того, что Дюпон хотел спасти свои фургоны"5. Что касается пятого в этом списке - Дюмулена, то его провинность состояла в том, что он слишком активно добивался отпуска, видимо, спеша вернуться из Испании к своей супруге - баварской графине, которую он похитил из родительского дома. В результате начальник Дюмулена, генерал Декан, написал докладную, где он обвинил своего подчиненного в трусости (точнее, в pusillanimite - нечто среднее между трусостью и малодушием). Дюмулен был уволен, но в 1813 г. он снова был на службе, где достойно прошел через все испытания тяжелой кампании в Германии. Сражался под Люценом, Вейсенфельсом, Лейпцигом. Случай с этим военачальником относится, скорее, к области проблем служебных взаимоотношений, чем к малодушию на поле боя.
* В июле 1808 г. Дюпон был отправлен во главе десятитысячного корпуса на юг Испании с целью замирить восставшую Андалузию. Однако остановленный неподалеку от города Байлен превосходящими силами испанцев, атакованный с фронта и тыла, он капитулировал на условиях репатриации его корпуса во Францию на английских кораблях. Дюпон вынудил также сдаться шедшие ему на помощь части генерала Веделя. В общем под Байленом попало в плен 17 534 французских солдата и офицера. Испанцы вероломно нарушили условия капитуляции и заточили сдавшихся в плен в страшную тюрьму, устроенную из старых корпусов кораблей, находившихся на плаву в бухте Кадиса.
Ш. Тевенен. Штурм и взятие Ревенсбурга, 21 апреля 1809 г. © Photo PMN.
Картина, исполненная менее чем через год после описываемых событий, изображает момент когда маршал Ланн вместе со своими адьютантами личным примером увлекает французских солдат на штурм Регенсбурга.
Ш. Мейнье. Маршал Ней, герцог Эльхингенский (1769-1815). 1805 г. © Photo PMN - G. Blot / С. Jean. Маршал Ней изображен в почти соответствующем регламенту маршальском мундире. Как и предписывали официальные документы, этот мундир не имел эполет (см Приложение II).
Фактически единственным за всю историю войн Империи документально засвидетельствованным примером трусости высшего офицера на поле боя является бегство генерала Грэндоржа в лодке с поля боя под Дюрренштайном 11 ноября 1805 г. И все же даже в данном случае, несмотря на всю очевидность проступка, его нельзя оценить иначе как минутную слабость: Грэндорж в течение своей карьеры два раза получал повышения прямо на поле боя, был ранен пять раз и геройски погиб от смертельной раны, полученной в битве при Бусако 27 сентября 1810 г. Так что даже этот эпизод - исключение в жизни самого виновного, полностью смывшего кровью свое бесчестье.
Мы подробно остановились на этих случаях, чтобы показать, насколько редкими были даже такие далеко не самые позорные проявления моральной слабости.
Ну а примеров отваги, как мы уже сказали, было слишком много, достаточно почитать биографии, помещенные в Приложениях. И все же вот несколько весьма характерных эпизодов.
Во время осады Сарагосы маршал Ланн постоянно находился под ураганным огнем неприятеля, неоднократно лично руководил отчаянными атаками. 31 января 1809 г. он со штабом отправился осмотреть осадные работы. Окончив свой визит, Ланн вернулся обратно не по траншее, а по открытой местности на расстоянии половины ружейного выстрела от врага. Но маршал не ограничился этим: он поднялся на небольшое возвышение поблизости от испанских позиций, чтобы еще лучше разглядеть неприятельские укрепления. Тотчас же вражеские стрелки принялись осыпать маршала и его свиту градом пуль. В течение нескольких минут один из его офицеров был ранен, у некоторых пули пробили шляпы или зацепили униформу. Большая часть свиты Ланна предпочла спуститься в окоп, сам же маршал продолжал диктовать распоряжения оставшемуся с ним офицеру так же спокойно, как если бы он находился в тиши своего кабинета. "Лишь закончив это, он, не торопясь, спустился в траншею" 6.
В своем раззолоченном мундире словно нарочно выставлял себя напоказ неприятелю маршал Мюрат. - Господа, не надо, чтобы вы оставались здесь: вы служите слишком хорошей мишенью", - произнес он, обращаясь как-то в разгар боя к своим офицерам, находившимся, как и он, под перекрестным огнем неприятеля. "Его безразличие к опасности было доведено до высшего уровня", - пишет о нем будущий маршал Второй Империи, а тогда младший офицер Кастеллан 7.
В битве при Бородине дивизия Фриана несла ужасающие потери под ураганным огнем русских орудий и градом пуль. Один из полковников, видя половину своей части, скошенной картечью, дал приказ отступать. Мюрат бросился к нему с криком: "Что Вы делаете?!" Офицер показал на груды трупов своих солдат:
Вы видите: здесь находиться невозможно!". "Да?! Ну а я-то нахожусь!" - воскликнул Мюрат в ответ. Взглянув с изумлением на маршала, полковник произнес: "Да, это так" - и, повернувшись к солдатам, крикнул: "Кругом марш! Вперед, на смерть!"8
Героическое поведение маршала Нея во время отступления из России стало легендой. С ружьем в руках, собирая вокруг себя всех тех, кто еще держался на ногах, маршал провел все тяжкие дни и ночи отступления в арьергарде, ободряя замерзающих, голодных солдат, с боями пробиваясь сквозь тысячи опасностей и лишений. "Присутствия маршала Нея было достаточно, чтобы нас успокоить, - пишет офицер из его корпуса об одном из самых тяжелых моментов отхода, - не зная о том, что он хочет сделать, что он может сделать, мы были уверены, что он сможет сделать что-нибудь. Его уверенность равнялась лишь его отваге. Чем больше была опасность, тем более быстрыми были его решения, он больше не сомневался в успехе. В этот тяжкий момент его лицо не выражало ни нерешительности, ни беспокойства"9.
В 1807 г. в битве под Гейльсбергом знаменитый командир легкой кавалерии генерал Лассаль соперничал в отваге со своим начальником Мюратом. Окруженный со всех сторон русскими кавалеристами, Мюрат был близок к тому, чтобы погибнуть в жестокой сече, как вдруг ряды окружавших маршала кавалеристов развалились, и какой-то страшный рубака, нанося удары направо и налево, прорвался к нему и спас в самый критический момент. "Спасибо!" - успел лишь крикнуть Мюрат, и они вместе с Лассалем снова бросились в вихрь схватки, а еще через несколько минут Лассаль, попавший в опасную ситуацию, сам был спасен своим командиром. Легендарный Лассаль - настоящий символ гусара - был одним из самых бесстрашных кавалеристов своего времени. В самые безумные конные атаки он водил своих легких кавалеристов, часто не вынимая трубки изо рта и лишь в самый последний момент выхватывая саблю из ножен. 26 декабря 1806 г. под Голыминым за проявленную в бою нерешительность Лассаль решил наказать свою бригаду. Он поставил гусар напротив неприятельских батарей, которые с короткой дистанции осыпали французских кавалеристов градом ядер и гранат, нанося им ужасающие потери. Сам генерал, как ни в чем не бывало покуривая трубку, стоял в самом опасном месте перед фронтом своих войск.
В битве под Люценом, как рассказывает голландец Дедем де Гельдер, "под генералом Жераром был убит конь, сам генерал получил две раны, но, весь залитый кровью, он взял полкового Орла* и встал в голове колонны гренадер, воскликнув: "Здесь каждый француз должен победить или умереть", повел нас на прусские батареи. Тут еще одна пуля пробила ему бедро и только тогда, чувствуя, как покидают его силы, он сказал мне: "Примите командование, я больше не могу идти...""10
* Подробнее об Орлах см. Приложение III
Знаменитый командир пехоты генерал Фриан, сражаясь под Аустерлицем, постоянно находился в самом центре схватки. Чудом он сам остался невредим, но во время боя под ним были один за другим убиты четыре коня! В память о его отваге в этот день Император приказал поместить на его гербе графа Империи четыре лошадиные головы.
Не щадили себя наполеоновские генералы и в последней битве Империи - Ватерлоо. В ней погибли семь генералов (один из них пропал без вести, другой был добит пруссаками после боя) и 29 были ранены. Только в этой битве военачальниками Наполеона было проявлено столько отваги, что не хватит томов для описания всех их подвигов. С двумя батальонами Старой Гвардии и горстью солдат дивизии Двжэма генерал Пеле в течение долгих часов сдерживал десять тысяч пруссаков; раненый генерал Мишель те покидал ряды атакующих плато Мон-Сен-Жан гренадер, пока не получил смертельную пулю; Кольбер, несмотря на ранение в руку, вел своих кавалеристов в полный галоп в самую гущу схватки...
Ж.-А. Гро. Генерал Фурнье (1773-1827). © Photo PMN - Н. Lewandowski. Генерал Франсуа Фурнье, прозванный позже Фурнье-Сарловез (что значит уроженец Сарла). Вошел в историю не столько из-за своих заслуг, сколько благодаря этому блистательному полотну. В современной французской исторической литературе он очень популярен, т. к. он был "яркой" личностью с "независимым" характером, "непонятой" Наполеоном. На самом деле, несмотря на свою несомненную личную храбрость, Фурнье был взбалмошным, неуравновешенным человеком, интриганом и вечным фрондером, за что разумеется его не жаловал Император. Навряд ли этот малосимпатичный человек удостоился бы чести занять своим портретом целую страницу нашей книги, если бы не блистательно изображенный мундир - абсолютно нерегламентированный образец генеральской униформы. За исключением серебряных генеральских звезд в форме Фурнье нет ни одного уставного элемента.
Вполне понятно, что при подобном самопожертвовании наполеоновские генералы должны были понести тяжелые потери. Действительно, за годы Империи на полях сражений погибли 3 маршала, 39 дивизионных и 102 бригадных генерала (трое из них пропали без вести). Сверх того, около десяти генералов умерли от ран и лишений войны спустя более или менее продолжительное время после похода. Так, бригадный генерал Мартильер умер в 1807 г. от раны, полученной еще в 1799 г. при Ваприо, а генерал Мопети скончался в 1811 г. от раны, полученной при Маренго. Мы не можем привести точное количество умерших таким образом, ибо далеко не во всех случаях точно известна причина смерти того или иного генерала. В общем же более 12% военачальников Империи пали на поле чести*. Это почти в точности соответствует проценту потерь полковых офицеров 1см. предыдущую главу) и так же, как и в их случае, превосходит в процентном отношении боевые потерн рядового состава. Так что образ, который порой ассоциируется у современного человека со словом "генерал" - тучный функционер, который из удобного теплого укрытия посылает на убой несчастных солдат, - для наполеоновской армии явно не подходит. Здесь быть высшим офицером было опаснее, чем рядовым (конечно, если не учитывать потери последних от болезней).
* Эта цифра не противоречит той, которая приведена на стр. 94, т. к. там речь шла только о потерях в кампаниях 1812 гг., а здесь приводится результирующая цифра.
Хотя генералы Великой Армии, погибшие в годы Империи, пали в подавляющем большинстве на поле чести, были и те, чьи жизни оборвались не в пекле сражения. Четверо покончили жизнь самоубийством. Так, дивизионный генерал Годино, один из героев битвы при Альмонасиде (1809), победитель гверильясов под Эль-Менором и Кесадой, не сумел взять линии неприятельских укреплений под Гибралтаром и Тарифой. 26 октября 1811 г. он имел весьма "горячее" объяснение с маршалом Сультом по этому поводу, в результате чего на следующий день застрелился.
Некоторые генералы погибли в результате роковых случайностей. Генерал Малер был убит во время учебных стрельб шомполом, оставшимся в стволе ружья после заряжания. В 1812 г. поздним вечером 26 июля на аванпостах армии при Островно был убит бригадный генерал Руссель, которого солдаты приняли за врага.
Наконец, смерть некоторых высших офицеров была особенно трагической и жестокой. Генерал Рене направлялся в Андалузию, чтобы присоединиться к своему корпусу, по дороге 27 июня 1808 г. он был схвачен гверильясами и зверски замучен: "герои народной войны" сварили его живьем в котле с маслом. Безжалостно расправились враги и с другим попавшим в их руки генералом - Дельгоргом: раненный во время боя с черногорцами в июне 1806 г., он был взят в плен и обезглавлен.
К счастью, в эпоху Империи такое отношение к пленным офицерам и генералам было редкостью и встречалось почти исключительно тогда, когда в войну вмешивалась "стихия народного гнева", и прежде всего это относится к Испанской кампании, где французам в течение шести лет пришлось драться не только с многочисленными испанскими, португальскими и английскими войсками, но и с большим количеством ополченческих, полуополченческих, партизанских и просто бандитских формирований. Вообще же, как известно, отношение к пленным, по крайней мере в высоком звании, было достаточно корректным.
Всего за время существования Империи в плен попали 185 французских генералов, из них 23 в плену и умерли. Основное количество пленных приходится, конечно, на капитуляции крупных отрядов и гарнизонов. 23 генерала попали в плен в результате Байленской капитуляции Дюпона (большинство из них были сразу же выпущены по условию, подписанному испанцами); 22 оказались в плену в 1813 г. при сдаче Дрездена. Здесь, согласно условиям, утвержденным союзниками, французы выходили из города с оружием и знаменами, после чего должны были быть пропущены к своим. Подобные капитуляции при условии свободного выхода гарнизона часто практиковались в войнах XVII-XVIII вв: сдавались не войска, а лишь сама крепость с той или иной долей материальной части армии. Союзники вероломно нарушили условия сдачи Дрездена, и целый французский корпус оказался в плену.
В ходе войн Империи три генерала пропали без вести: двое - во время отступления из России, один - при Ватерлоо.
Наконец, с 1804 по 1815 гг. ненасильственной смертью (и не в плену) умерли 98 генералов, из них, как мы уже отмечали, по меньшей мере, десять скончались от ранее полученных ран.
Те из генералов, которые вышли из пекла наполеоновских войн живыми, были покрыты ранами. Более половины высших офицеров получили ранения в годы Империи, причем каждый в среднем около четырех раз! Не составляли в этом смысле исключения и маршалы. Вот как выглядел послужной список маршала Удино:
■ пулевое ранение в деле под Хагенау 17 декабря 1793 г.;
■ нога перебита пулей под Триром 8 августа 1794 г.;
■ пять сабельных ранений и пулевая рана в ночной операции под Некерау 18 октября 1795 г.;
■ пулевое ранение в бедро и четыре сабельных ранения в плечи и шею в деле под Нойбургом 11 сентября 1796 г.;
■ пулевое ранение в грудь в деле под Вуренлосом (неподалеку от Цюриха) 4 июля 1799 г.;
■ пулевое ранение в лопатку в деле под Швицем 14 августа 1799 г.;
■ пулевое ранение в грудь под Цюрихом 25 сентября 1799 г.;
■ в декабре 1800 г. "за взятие лично" пушки в бою под Монцембано получил от Первого консула почетную саблю и пушку;
■ пулевое ранение в бедро в бою под Голлабрунном 16 ноября 1805 г.;
■ пулевое ранение в левую руку в битве под Эсслин- гом 22 мая 1809 г.;
■ пулевое ранение в голову в битве под Ваграмом 6 июля 1809 г.;
■ ранение картечью в бою под Полоцком 17 августа 1812 г.;
■ пулевое ранение в бок на Березине 28 ноября 1812 г.;
■ ранение осколком дерева на Березине 29 ноября 1812г.;
■ ранение ядром в бою под Бриенном 29 января 1814 г. (ядро задело оба бедра);
■ пулевое ранение в грудь в бою под Арси-сюр-Об (пуля попала в знак ордена Почетного Легиона) 21 марта 1814 г.;
Итого: 24 раны11.
Столь же густо был покрыт шрамами и адъютант Императора генерал Рапп. Практически не было ни одной большой битвы, где он не получал бы очередной пули или сабельного удара. Всего же Рапп был ранен 23 раза. Многократно были ранены и многие другие знаменитые военачальники. Император щедро вознаграждал своих соратников за потоки крови, которые они проливали за него на полях сражений. Если из предыдущей главы можно заключить, что материальное положение старших офицеров было весьма достойным и позволяющим рассматривать их как вполне состоятельных людей, то в отношении материального положения высших офицеров можно смело употребить куда более сильные эпитеты... "Вы любите шоколад?" - спросил Наполеон маршала Лефевра на торжественном приеме, где последнему было сообщено о возведении его в герцогское достоинство. Старый военачальник, несколько удивившись, ответил утвердительно. "В таком случае я даю Вам фунт шоколада из Данцига, ибо, раз Вы его завоевали, должен же он Вам хоть что-нибудь принести", - и Император, улыбаясь, вручил ничего не понимающему Лефевру пакет в форме плитки... Когда через несколько часов, уже по возвращении к себе, Лефевр удосужился развернуть "шоколад", он увидел триста тысячефранковых ассигнаций...
Подобные "сладкие" блюда генералитет получал в изобилии. Уже формально утвержденные суммы жалования были весьма основательными: 10 000 франков в год у бригадного, 15 000 франков - у дивизионного и 40 000 - у маршала. К этим суммам необходимо добавить различные дополнительные выплаты: квартирные, на лошадей, на фураж и т. д., которые генералитет, так же как и офицеры, получал в ходе кампаний. Эти суммы в год составляли не менее 2500 франков у бригадного и 3750 - у дивизионного генерала. Однако все эти цифры не отражают реального материального положения высших офицеров. Сверх названных доходов Император распределил среди своих генералов и маршалов 16 071 871 франков различных годовых выплат! Эти выплаты были оформлены в виде 1261 дотации в пользу 824 лиц (т. е. некоторые имели одновременно две и более дотаций). Таким образом, если разделить указанную сумму в шестнадцать миллионов франков на число высших офицеров Империи (1252), мы получим ориентировочную усредненную сумму дополнительного годового дохода военачальника Наполеона: она составляет 12 837 франков. Однако эта цифра, конечно, мало о чем говорит. Во-первых, мы подчеркиваем, что это лишь ориентировочная сумма (ведь 1252 высших офицера не существовали одновременно: кто-то еще не был произведен, кто-то погиб и т. д.), во-вторых, дополнительные доходы были распределены крайне неравномерно. Император поощрял прежде всего тех, кто выделялся талантом и отвагой, кто реально водил полки в огонь. Те же, кто скромно и прилежно, но не рискуя своей жизнью и не испытывая лишений войны, командовал в тылу, должны были ограничиться и без того высоким жалованием. "У меня вызывает отвращение идея награждать их так же, как тех, кто проливает кровь"12, - говорил Наполеон. Эта мысль Императора находила вполне реальное подтверждение в том, как распределялось денежное вознаграждение.
Размеры и количество отдельных дотаций высших офицеров13
| Размеры дотаций (франки/год) | Количество дотаций данного размера |
| 800 000 | 1 (Ней) |
| 300 000 | 2 (Бертье, Даву) |
| от 200 000 до 300 000 | 5 |
| от 100 000 до 200 000 | 16 |
| от 50 000 до 100 000 | 38 |
| от 20 000 до 50 000 | 178 |
| от 4000 до 20 000 | 709 |
| от 1000 до 4000 | 256 |
| 500 | 56 |
| Итого: | 1261 |
Из таблицы видно, что наибольшее число дотаций - это дотации суммой от 4 до 20 тыс. франков. Сложив эту ренту с годовым жалованьем генералов, мы получим сумму дохода, наиболее распространенного среди наполеоновского генералитета: порядка двадцати тысяч франков в год.
Однако элита высшего офицерства имела просто ошеломляющие денежные вознаграждения. Как мы уже отметили, некоторые из императорских военачальников имели по несколько рент одновременно. Бертье, например, получал сразу восемь из указанных 1261 дотации, Кларк - семь, Дюрок, Даву и Коленкур - по шесть каждый, Ней - пять (среди них указанная рента в 800 000) и т. д. В результате верховное командование Великой Армии имело феноменальные доходы:
Бертье - 1 254 945 франков в год;
Ней - 1 028 973;
Даву - 910 000;
Массена - 683 375 и т. д.
Для того чтобы понять, насколько велики были эти суммы, достаточно отметить, что ежегодный доход фабрик самого богатого капиталиста Франции той эпохи - Оберкампфа - составлял около полутора миллионов франков в год. Учитывая, что значительную часть этих средств Оберкампф вкладывал в расширение производства, годовая сумма для его личного потребления и накопления была наверняка меньшей, во всяком случае не большей, чем годовая рента Бертье, Нея или Даву. Другими словами, шпага принесла маршалам Империи доход, равный доходу сверхгиганта бизнеса этой эпохи. Сын бочара, Ней самоотверженностью на поле боя даже в чисто материальном плане заработал больше, чем многие капиталисты годами эксплуатации своих фабрик, финансовыми махинациями или игрой на бирже.
Что касается доходов лучших дивизионных генералов, то хотя они и были несколько скромнее указанных маршальских рент, но также превышали прибыли многих банкиров и заводчиков.
Годовые доходы дивизионных генералов (сверх жалования), во франках
| Бельяр | 53 012 |
| Нансути | 53 228 |
| Брюйер | 32 000 |
| Орденер | 35 882 |
| Лассаль | 50 000 |
| Рапп | 110 882 |
| Лепик | 40 000 |
| Савари | 162 055 |
| Монбрен | 24 020 |
| Себастиани | 120 000 |
Крупнейший из всех исследователей эпохи Империи - Жан Тюлар, полемизируя с рядом историков, подчеркивает, что наполеоновское государство не было военной диктатурой, и в этом мы с ним вполне согласны (об этом уже говорилось в предыдущих главах), однако, продолжая свою мысль, Тюлар отмечает, что фактически единственным критерием принадлежности к нотаблям (знатным людям), тем, которые согласно Кодексу Наполеона имели право входить в коллегии выборщиков и быть избираемыми на высшие государственные посты, являлось материальное положение. Отсюда Тюлар делает вывод о том, что наполеоновская Империя - это прежде всего царство нотаблей, иначе говоря, буржуазии. "Кодекс (Наполеона) был задуман прежде всего для собственника"14, - пишет Тюлар. Без сомнения, патриарх наполеоновских исследований в значительной степени прав. Однако кажется, что Тюлар оставил без должного внимания приведенные выше цифры. Хотя он отмечает, что даже в Париже принадлежность к нотаблям обеспечивалась (в зависимости от квартала) двенадцатью - пятнадцатью тысячами франков годового дохода, в редких случаях - тридцатью пятью - сорока тысячами. В провинции же вообще в среднем было достаточно пяти тысяч франков в год, а в отдельных районах - даже и трех. Следовательно, генералитет, вне зависимости от места жительства, мог смело рассматривать себя принадлежащим к верхушке нотаблей с любой точки зрения, в том числе и с материальной; что же касается провинциалов, то для них уже и гвардейский капитан считался знатью. Принимая же во внимание доминирование в ментальности наполеоновского общества воинских ценностей - то, о чем уже говорилось в предыдущей главе, - высшее офицерство, "знать войны", было поистине квинтэссенцией общества Первой Империи.
Р.-Т. Бертон. Наполеон принимает в королевском дворце в Берлине депутацию французского Сената, 19 ноября 1806 г.
Конечно, необходимо сделать ряд серьезных оговорок. Никто не устанавливал, да и невозможно в реальности установить строгое соответствие между мерой отваги, самопожертвования, талантов, с одной стороны, и социальным рангом, с другой. Предполагать возможность этого - значит впадать в идеализм, от которого был далек Император. Размеры наград, пожалований и рент нередко определялись родственными связями или вовремя сказанным комплиментом, нежели истинными заслугами. Иначе как объяснить, что Себастиани, в общем, не самый лучший из генералов, имел ренту в два раза больше, чем несравненный командир легкой кавалерии Лассаль? Ясно также, что пожалование маршальских жезлов многим из бывших дивизионных генералов Республики было продиктовано политическими и клановыми соображениями. Но, с другой стороны, было бы чудовищной аберрацией, взглядом жалкого пигмея на гигантов, увязывать знать Империи, и прежде всего ее воинскую аристократию, лишь с альковными похождениями и политическими дрязгами. Политика, родственные связи и т.п. вносили свои коррективы, но от этого не изменялось основное, то, что составляло корень элиты наполеоновского общества: воинская доблесть, самопожертвование, кровь, пролитая за отечество.
Это вполне сознавали новые вельможи. Как-то старый знакомый посетил маршала Лефевра, ставшего герцогом, богачом и владельцем великолепного замка. Зависть к успеху слишком ясно выразилась на лице визитера. Тогда Лефевр предложил ему отдать все свои богатства, но при одном условии: посетитель должен испытать всю меру опасности, которую маршал испытал в своей жизни. "Мы выйдем в сад, я выстрелю в тебя шестьдесят раз из ружья, и после этого, если я тебя не убью, - все это твое"15. Как легко можно догадаться, старый приятель Лефевра не выказал бурного энтузиазма по поводу возможности обогащения подобным образом.
В вышесказанном о военачальниках Империи мы сознательно не говорили до сего момента о моральном вознаграждении. Мы стремились показать, что даже с чисто материальных позиций военная знать доминировала над богачами, банкирами и фабрикантами. Что же касается общественного престижа "людей шпаги" в эпоху Наполеона, здесь вообще не приходится спорить. Блеск карет и пышные свиты маршалов Империи ослепляли парижских буржуа, звон шпор и веселые, уверенные голоса молодых генералов заставляли притихнуть в любом салоне биржевого воротилу.
Но, разумеется, венцом социального престижа для полководцев Наполеона было, как уже указывалось, создание дворянства Империи. Верхушкой этого дворянства стали маршалы и генералы.
Пять маршалов получили титул князей Империи (один из маршалов - Бертье - стал владетельным князем Невшательским);
17 маршалов и 5 генералов получили титул герцогов;
5 маршалов и 168 генералов стали графами;
623 генерала - баронами;
88 генералов - рыцарями Империи.
Когда речь идет о дворянстве Империи, часто вспоминают эфемерность этого института, а исторические труды полны анекдотов о неотесанности ряда новых вельмож (в особенности их супруг). Говорят, что никакого де особенного значения это дворянство не имело, социальный престиж его был слаб, и исторически оно не смогло победить старую знать... Очевидно, было бы чудовищным извращением и иезуитской издевкой требовать от дворянства Империи, не просуществовавшего и десяти лет, такой же стабильности и престижа в последующие эпохи, какими они были у знати тысячелетней французской монархии. Необходимо также обратить внимание, откуда исходит информация о грубых мужланах, наполнивших парижские салоны. Знаменитые анекдоты оказываются не более чем брюзжанием старух из Сен-Жерменского предместья и всех тех, кто завидовал успеху новых людей. Как метко сказал специалист по истории знати в период Империи Жером Зисенисс, "проще, конечно, было смеяться над неловкостью этих "герцогов из дурных семей", чем завоевать, как они, с мечом в руке свои громкие титулы"16. Лучше вспомнить то, как встретила гордая старая знать известие о рентах, которые раздавал Император: "В Сен-Жерменском предместье рассказывают, что мадам де Монморанси и мадам де Монтемар получили от Императора дотации на их мужей в виде ренты в 140 000 ливров, - свидетельствует бесстрастный рапорт парижской полиции от февраля 1810 г. — Подобная новость заставила многих людей из этого круга пожалеть о том, что они слишком долго ждали случая для представления Его Величеству..." 17 Что же касается тех из "бывших", кто не шушукался по углам, а пошел вместе со всей молодежью Франции выковывать себе новые гербы на поле чести, они думали иначе, чем их родители. Молодой офицер, ординарец Наполеона, отпрыск знатнейшего рода Анатоль де Монтескью вспоминал: "Это новое учреждение (дворянство Империи) было словно великолепным пиром, где царствовали заслуги и слава" 18.
Ж.-А. Гро. Маршал Виктор, герцог Беллюнский (1764-1841). © Photo PMN - G. Blot Портрет маршала Виктора - одно из нечастых изображений маршалов в церемониальном парадном мундире.
Итак, новая военная знать была щедро одарена Императором - пожалованиями, рентами, почестями. Впрочем, часто отмечают, что этот поток золота и наград пал на неблагодарную почву. Измена ряда маршалов в 1814 г., кажется, безусловно, подтверждает это положение. Возможно, в какой-то степени это и справедливо, но хотелось бы отметить следующий факт: практически все маршалы дрались, не щадя себя, до того момента, когда Империя заколебалась, а генералы в подавляющем большинстве сохранили верность Императору до самого момента отречения. Эти люди бесстрашно исполняли свой долг на поле боя, но проявили вполне понятную человеческую слабость, которой не чужды даже самые сильные натуры - желание сохранить свои богатства и социальный ранг, несмотря на катастрофу. Еще одно обстоятельство сыграло свою роль. В 1814 г маршалы, в отличие от генералитета, были большей частью людьми уже далеко не молодыми. Средний возраст тех, кто в этот момент оставался на службе, составлял около 53 лет, если же принять во внимание количество полученных ими ран и усталость после почти двадцати лет непрерывных войн, можно вполне понять этих людей, желавших наконец отдохнуть в своих замках, добытых ценой пролитой крови и совершенных подвигов. "Зачем он дал мне полтора миллиона ренты, красивый особняк в Париже? Чтобы я испытывал танталовы муки? - разрыдался Бертье во время отступления из России. - Я умру здесь, на войне. Простой солдат более счастлив, чем я"19. Еще одно обстоятельство не следует упускать из вида: маршалы, в отличие от большинства генералов Империи, не являлись детищем Наполеона. Всех их выдвинула на высочайшие посты Революция. Некоторые из них были уже знаменитыми полководцами, когда Наполеон Бонапарт был еще юношей. Например, Журдан, командующий французской армией под Флерюсом в 1794 г., Массена и Ожеро, которые были известнейшими дивизионными генералами в это же время, не говоря уже о Келлермане, командующем французской армией под Вальми в 1792 г. Хотя никто из них, очевидно, не получил бы столько почестей и богатств, не будь Императора Наполеона, но столь же ясно, что все они "вышли в люди" отнюдь не благодаря ему, а Бернадотт, например, вообще считал, что Бонапарт занимает его место. Вручение маршальских жезлов многим из них, как мы уже отмечали, явилось больше актом политической необходимости, чем признанием их истинных военных дарований, и еще менее - преданности Императору. Поэтому, вероятно, не следует делать слишком далеко идущие выводы из поведения ряда представителей высшего офицерства в 1814 г. Военачальники Наполеона в подавляющем большинстве честно и самоотверженно служили Империи, пока она существовала, и служили бы, очевидно, так же ей и дальше, если бы не вмешались внешние причины, и трудно строго судить этих людей, за исключением тех, кто совершил действительно низкий поступок, как маршал Мармон, сдавший свой корпус в 1814 г., или генерал Бурмон, перебежавший к врагу накануне Бельгийской кампании 1815 г.
Однако от исследования социальных и моральных проблем перейдем к проблемам чисто военным. Выше мы говорили об отваге и мужестве военачальников Великой Армии, и, как было отмечено, эти их качества неоспоримы. Гораздо более спорным является вопрос о полководческом искусстве высшего командного состава наполеоновской армии. Отметим сразу, что маршалы, несмотря на их высокий ранг, были далеко не лучшими из возможных помощников Императора, и это связано с уже отмеченным фактом политического императива в их производстве. Вознагражденный маршальским жезлом за свои прошлые заслуги под Флерюсом, Журдан оказался далеко не блистательным советником короля Жозефа в Испанской кампании; Лефевр, активный участник переворота 18 брюмера и бесстрашный солдат, зарекомендовал себя посредственный полководец; Мюрат, муж сестры Наполеона, а также один из самых ярких действующих лиц брюмерианского переворота, выказал столь же много безумной отваги, сколь мало элементарного рассудка. Нужно сказать, что в армии это чувствовали и не испытывали особо нежных чувств по отношению к маршалам типа Ожеро или Журдана. Особенно явственно это проявилось в Испанской кампании. "Мы считаем, что Император должен оставить старых маршалов лечить свои катары в их роскошных особняках, - писал молодой офицер, сражавшийся на Пиренеях. - Нам нужны не эти усталые и пресыщенные люди, а молодые командиры, активные и предприимчивые, достойные командовать нашими храбрыми и честными солдатами. Пусть нам дадут тридцатилетних генералов, и мы вышвырнем ко всем чертям в море англичан и победим испанцев, пусть даже ими командует Святой Нарцисс и все святые, вместе взятые" 20.
Тем не менее из ряда военачальников выделяются, без сомнения, несколько фигур, среди которых нам хотелось бы отметить прежде всего маршала Даву. Фактически до 1804 г., когда тридцатичетырехлетний дивизионный генерал Луи-Николя Даву стал маршалом Империи, его мало кто знал. "Что касается Даву, это человек чести, порядка и прежде всего долга, - пишет Сегюр. - Он был для нас почти неизвестным, хотя до этого и достойно служил. Говорили, что Келлермана сделала маршалом Франции победа под Вальми, Журдана - победа под Флерюсом, Ожеро - победа под Кастильоне, Массену - победа под Цюрихом, Лефевра, Нея, Ланна - сотня славных дел; что другие имели причиной производства пребывание ранее на посту командующих армиями, в то время как в личности Даву Император желал вознаградить прежде всего службу, оказанную непосредственно ему, и меньше интересовался его известностью, чем его преданностью" 21. Было ли производство Даву лишь наградой за его услуги и верность, или, быть может, Император угадал в этом прежде не особенно известном генерале замечательные дарования, трудно сказать, результат, тем не менее, очевиден: Даву стал маршалом и вскоре - одним из самых лучших полководцев Великой Армии. 14 ноября 1806 г., когда 3-й корпус французской армии под его командованием разбил главную армию прусского короля, более чем двукратно превосходящую его силы, Даву шагнул в бессмертие. С этого момента Император, не колеблясь, поручает ему самые трудные и ответственные миссии. Он безупречно командует корпусом в Польскую кампанию 1807 г., Австрийскую кампанию 1809 г., а с 1 января 1810 г. Даву, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский, - главнокомандующий Немецкой армией, т. е. всех сил Империи, расквартированных на территории Восточной Германии, и, фактически, проконсул этого огромного региона. В кампанию 1812 г. князь Экмюльский командует самым крупным 1-м корпусом Великой Армии численностью более шестидесяти тысяч человек. В 1813-1814 гг. он героически обороняет Гамбург, а в период Ста дней он назначается на пост военного министра. Даву вошел в историю как маршал Империи, ни разу не знавший поражений, прекрасный стратег и тактик, замечательный организатор и безупречный административный работник. Все признавали за ним "безграничную преданность, решимость, которая не отступает ни перед какими актами суровой необходимости, военный ум высшего порядка"22. Тем не менее князь Экмюльский был весьма непопулярен среди генералитета наполеоновской армии. Дело в том, что служить под его командованием для высшего офицера было делом, прямо скажем, непростым. Заботливый отец для солдат, справедливый начальник для младших офицеров, маршал был строг, подчас просто жесток и черств к своим непосредственным подчиненным, за исключением своих любимых дивизионных генералов Морана, Гюдена и Фриана. "Что бы вы ни сделали, даже во славу этого человека, он все равно считает, что вы сделали недостаточно, так что даже его сердитое молчание надо рассматривать как самую большую похвалу, которую можно от него получить" 23,- такую характеристику Даву вкладывает в уста бригадного генерала Готье автор знаменитых мемуаров барон Тьебо. Мемуарист, желчный старик, в своем объемном труде свел счеты со всеми, кто когда-либо имел несчастье им командовать, так что многими его "фактами" можно просто пренебречь, но, увы, в данном случае подобных свидетельств слишком много. Другой автор мемуаров, генерал Лежен, так же как Тьебо, сделал все, чтобы не служить под командованием Даву. Лежен предпочел даже отсидеть пятнадцать суток за не подчинение приказу, лишь бы не явиться для прохождения службы под командой князя Экмюльского24. "Даву был, без сомнения, наименее вежливым из всех маршалов" 25, - отмечает другой, вполне нейтральный автор. Ну а отсутствие вежливости - качество, которое во французской армии не прощают.
П. Готеро. Луи-Николя Даву, герцог Ауэрдштедтский, князь Экмюльский, маршал Империи. 1805 г. © Photo PMN - G. Blot / J. Scormans
Впрочем, этот недостаток Даву, столь важный для тех, с кем он ужинал каждый вечер, полностью заслонялся для Великой Армии его качествами полководца. "Князь Экмюльский - это человек, который лучше, чем кто-либо, умеет подчиняться, и благодаря этому он научился командовать, - пишет в своих мемуарах служивший под его началом генерал Дедем де Гельдер. - Никогда не было командира, более строгого в вопросах дисциплины, более справедливого и более занимавшегося нуждами солдат и их обучением, и никакой государь не имел слуги, столь верного и преданного. Он никогда не растрачивал ресурсы края, где находились его войска. Два раза стальной рукой держал он Пруссию... но его руки оставались всегда так же чисты, как золото... У меня были споры с князем Экмюльским, и я попросил военного министра разрешения покинуть его корпус в Русскую кампанию. Я знаю, что он был далеко не всегда любезен, но я буду всегда горд тем, что я служил под его командованием и учился у него, и, если бы мне снова пришлось воевать, я не желал бы лучшего, чем снова служить под его командованием. Те, кто служат с рвением, уверены в том, что получат его одобрение. С ним вы уверены, что вами хорошо командуют, а это кое-что значит, и маленькие неприятности компенсируются великими достоинствами" 26. Мало кто из маршалов мог бы заслужить в полной мере подобную похвалу. Впрочем, без сомнения, Луи-Габриэль Сюше относится к их числу. Нужно сказать также, что подобно Даву, он поднялся до высшей ступени воинской иерархии потому, что его отметил Наполеон. Сюше не выигрывал великих битв Республики, он стал дивизионным генералом в июле 1799 г., буквально накануне прихода к власти Бонапарта, поэтому о нем не было и речи во время создания маршальского достоинства в 1804 г. В кампаниях 1805-1807 гг. Сюше достойно командует дивизией в корпусе Ланна, но остается все же в ряду многих заслуженных дивизионных генералов, его звездный час еще не пробил. Но вот осенью 1808 г. Луи-Габриэль получает назначение в Испанию. Здесь он участвует в осаде Сарагосы, а в апреле 1809 г. ему вручается командование 3-м корпусом, позже получившим название Арагонской армии. Состояние войск, которые оказались под начальством Сюше, было из рук вон плохое. Испанская война на всех действовала угнетающе: дисциплина разболталась, униформа и экипировка полков были в жалком состоянии, численность соединений казалась слишком слабой, чтобы бороться с полчищами неприятеля, поддерживаемыми фанатичным населением. Однако Сюше справился со всеми препятствиями. Титаническими усилиями ему удалось подтянуть войска и повести их за собой. Как результат - первые победы под Мариа и Бельчите в июне 1809 г. Эти успехи подняли дух войск, укрепили дисциплину. Сюше отныне будет шаг за шагом продвигаться вперед, тесня неприятеля, занимать новые крепости и города, укреплять боевой дух и порядок в своей маленькой армии. А самое главное - строгой дисциплиной, поддерживаемой в войсках, пресечением малейших актов грабежа и насилия, доброжелательным и в то же время твердым отношением к испанцам добиваться доверия населения. Область, занятая его войсками, стала поистине оазисом спокойствия в объятой пламенем партизанской войны Испании, здесь, почти как в мирное время, передвигались курьеры и обозы, и только изредка появлялись "на гастроли" отдельные банды из соседних провинций. В результате армия шла от победы к победе. В мае 1810 г. была взята неприступная крепость Лерида, защищаемая мощным гарнизоном, в июне - Микененза, в январе 1811 г. войска Сюше овладели после кровопролитного штурма одной из самых знаменитых твердынь Испании - Таррагоной. Император достойно отметил заслуги талантливого полководца: 8 июля 1811 г. Луи-Габриэль Сюше был произведен в звание маршала Империи, а после того как его войска овладели важным очагом сопротивления неприятеля и крупнейшим городом Испании Валенсией, маршал получил титул герцога Альбуфера.
Сюше был единственным из маршалов, кто не знал поражений на испанской земле, единственным, кому удалось, одержав блистательные победы, добиться и самой важной - завоевать сердца испанцев. Мудрая военно-административная деятельность герцога Альбуфера запомнилась арагонцам: в 1826 г., когда Сюше умер, в Сарагосе была отслужена траурная месса за упокой его души - пожалуй, единственный пример такого отношения испанцев к наполеоновским генералам. Сюше был также и единственным, кто получил маршальский жезл за кампанию на Пиренеях.
В исторической литературе часто встречается мнение, согласно которому наполеоновские военачальники - храбрые рубаки - ничего толком не могли сделать в отсутствие Императора, что в лучшем случае они были неплохими тактиками, но оказывались беспомощными перед необходимостью принимать стратегические решения и т. п. Герцог Альбуфера явно не вписывается в подобный штамп: во всех сражениях и походах он проявил себя не только как отважный солдат и хороший тактик - он уверенно находил решения в самых сложных обстоятельствах на сцене театра военных действий, раскрыв себя как выдающийся стратег, талантливый администратор и незаурядный политик.
Карл Берне. Маршал Империи в церемониальной парадной форме. Акварель. Из рукописи регламента 1812 г. полковника Бардена.
В одном ряду с Даву и Сюше хотелось бы назвать и других выдающихся полководцев Империи, однако уже с определенными оговорками, и среди них прежде всего маршала Массена. Андре Массена вошел в плеяду блистательных военачальников раньше самого Наполеона Бонапарта и стал маршалом не в качестве воспитанника последнего, а получил маршальский жезл как должное. Своими подвигами в итальянских кампаниях, громкой победой под Цюрихом в сентябре 1799 г., практически спасшей Республику, героической обороной Генуи в 1800 г., безупречным военным командованием армией во время Итальянской кампании в 1805 г. и блистательной ролью, которую он сыграл во время австрийского похода 1809 г., Андре Массена, герцог Риволийский, князь Эсслингский вошел в легенду. "Кто не видел Массена в Асперне - тот ничего не видел!" - восторженно воскликнул Наполеон, отдавая должное поведению маршала в день битвы при Эсслинге. Однако, при всех неоспоримых достоинствах, Массена обладал серьезным пороком - он был чудовищно корыстолюбив. Его ненасытная алчность выходила за рамки обычной любви к деньгам и доходила до того уровня, при котором она могла даже вмешиваться в его стратегические комбинации. "Массена ненавидит вся армия. Вы, очевидно, убедились, что у него нет достаточной высоты духа, чтобы командовать французами, - с возмущением писал Император своему брату Жозефу, узнав об очередных нечистых делах маршала. - Массена все украл. Нужно порекомендовать ему вернуть украденные им три миллиона" 27. В другом письме Жозефу Наполеон говорит: "Массена ни на что не годен в гражданском правлении... Это хороший солдат, но он полностью отдался любви к деньгам, это единственный мотив его поведения... В начале он крал по мелочи, теперь ему не хватит и миллиардов"28. Увы, герцог Риволийский был непростой личностью: неустрашимый, храбро командующий полками в самых сложных ситуациях, отдававший громовым голосом не терпящие возражения команды, статный и мужественно красивый, он был настоящим воплощением бога войны на поле боя, где грохот орудий, по выражению Наполеона, "прояснял его мысли"29. Однако в ситуациях менее драматичных Массена превращался в мелкого лавочника, из семьи которого он, впрочем, и происходил. Наконец, герцог Риволийский был старше многих других военачальников Империи или, по крайней мере, раньше других состарился. В 1810 г., когда Наполеон поручил ему командование Португальской армией - соединением трех корпусов, предназначенных для движения на Лиссабон и разгрома находящихся там англо-португальских войск лорда Уэллесли (будущего знаменитого герцога Веллингтона), Массена было 52 года. Несмотря на то что это в общем еще далеко не старческий возраст, герцог Риволийский был уже не в самой лучшей форме. Он раньше многих почувствовал усталость от походов и славы, тем более что славы у него было более чем достаточно. В Португалии он мог разве что потерять ее и навряд ли приобрести новую. Массена отправился к армии скрепя сердце и командовал войсками устало и обреченно. Результат нетрудно предугадать: неудача, отступление из Португалии, нерешительная битва при Фуэнтес д'Оньоро - так закатилась звезда этого видного полководца.
Наряду с герцогом Риволийским хотелось бы отметить еще одного военачальника Империи - маршала Сульта. К началу правления Наполеона Жан де Дье Сульт пришел не с таким багажом побед, как Массена, однако его роль в кампании 1805 г. была высоко оценена Императором. После Аустерлица Наполеон назвал Сульта, ставшего маршалом в 1804 г., "первым тактиком Европы". Отличился маршал и в походах 1806-1807 гг. С 1808 г. он непрерывно сражается в Испании, именно ему принадлежит честь быть полководцем, который в начале 1809 г. под Коруньей сбросил в море английскую экспедиционную армию. Однако после этого успеха, не отвечавшего, впрочем, в полной мере ожиданиям Императора, герцог Далматский (этот титул маршал получил в 1808 г.) часто терпит неудачи. Особенно серьезным ударом по его репутации было поражение под Опорто в мае 1809 г. от лорда Уэллесли. Но блестящая победа над испанскими войсками под Оканьей (19 ноября 1809 г.) - во многом заслуга Сульта, достойно он сражался и в конце 1813 - начале 1814 гг., когда с остатками армии короля Жозефа ему пришлось сдерживать наступление превосходящих сил Веллингтона. В общем же, маршал Сульт, несмотря на ряд существенных недостатков (в частности, подобно Массена, он был крайне алчен), конечно, значительный полководец, но, как и герцог Риволийский, вероятно, не может быть поставлен на один уровень с Даву и Сюше.
Дивизионный генерал артиллерии Н.-М. Сонжи. Генерал одет в мундир главного инспектора артиллерии, он носит знаки Большого Орла Почетного Легиона, офицерский знак ордена Железной короны и звезду баденского ордена Верности.
Часто среди самых выдающихся стратегов и тактиков своего времени историки упоминают имена маршалов Сен-Сира и Макдональда. В опубликованной в 1981 г. биографии Гувийона Сен-Сира, принадлежащей перу Кристианы д'Энваль, есть даже такая фраза: "Если не считать Наполеона, Гувийон Сен-Сир представляется нам как самый интеллектуальный и самый умный из всех полководцев своей эпохи... Справедливо сравнивали его битвы с шахматной партией. Он думал обо всем, вычислял все, выстраивал все комбинации, подготовлял мельчайшие движения войск, ничего на оставляя на волю случая..."30 Мадам д'Энваль, видимо, не учла, что война - это не игра в шахматы, это, как выразился Клаузевиц, "область опасности", "область физических страданий и усилий", борьба, мобилизующая все физические и духовные силы человека, борьба с усталостью, слабостью, сном, страхом, холодом, жарой, неизвестностью. Наконец, для командующего - это умение "пламенем своего сердца, светочем своего духа... воспламенить жар стремления у всех остальных"31, умение повести за собой, заставить поверить в себя тысячи людей настолько, чтобы они беспрекословно шли за тобой навстречу смертельной опасности... Поэтому, разумеется, если бы Сен-Сир готовил и проводил свои операции лишь как игру в бессловесные деревянные фишки, он не одержал бы побед под Кастель-Франко, Калдеу, Молина-дель-Рей, Варлсом и Полоцком. И все же биограф в чем-то действительно права: Сен-Сир был в определенной степени немного "шахматистом". Замкнутый, холодный, мало интересующийся состоянием своих подчиненных, "филин", как прозвали его в армии, Гувийон Сен-Сир не пользовался особенной любовью солдат, а для полководца это уже серьезный недостаток. Наконец, мемуаристы, подчас абсолютно противоречащие друг другу, единодушно отмечают за Сен-Сиром такую черту, как крайний эгоизм, доходивший до того, что он испытывал удовольствие, если узнавал о поражениях других военачальников, имевших несчастье оказаться рядом с ним во время проведения военных операций. Сам Наполеон на Святой Елене сказал о Сен-Сире: "Он не идет в огонь, ничего не осматривает сам, дает разбить своих товарищей..."32 В общем, маршал Гувийон Сен-Сир навряд ли заслуживает приведенных восторженных эпитетов.
Что же касается Макдональда, то, несмотря на его таланты и бесспорную отвагу (впрочем, как ясно из всего вышесказанного, последним качеством в Великой Армии было трудно кого-либо удивить), определенной популярности среди историков он обязан, по всей видимости, прежде всего своим мемуарам. Если о Наполеоновской эпохе не читать ничего, кроме воспоминаний этого маршала, то можно вообразить, что он являлся лучшим полководцем Европы, и если французская армия терпела где-либо поражения, то, конечно, из-за отсутствия на командном посту герцога Тарентского (титул с 9 декабря 1809 г.). Однако бесцветное командование Макдональда Каталонской армией в 1810 г., вялые действия в ходе кампаний 1813-1814 гг., и особенно поражение под Кацбахом (26 августа 1813 г.), показывают не только беспочвенность подобных притязаний, но и, безусловно, ставят его значительно ниже первых трех из отмеченных военачальников Империи.
Другой знаменитый герой эпопеи - маршал Ланн. Полный порывистости и отваги, прямолинейный и честный, весь - буря, энергия, энтузиазм; сын крестьянина Жан Ланн, маршал Империи и герцог Монтебелло, был совсем не похож на педанта Сен-Сира или самовлюбленного Макдональда. Его обожали солдаты и шли за ним, не колеблясь, в пекло. На поле боя Ланн уверенно и точно направлял массы войск, был прекрасным тактиком, умел заставить людей выполнять свой долг в самой тяжелой обстановке, как под Сарагосой. "Ланн был Ахиллом армии, ее карающим мечом..."33,- будет восторженно вспоминать о нем Император на острове Святой Елены. Однако герцог Монтебелло погиб в расцвете сил: ему едва исполнилось сорок лет, он не успел получить крупного самостоятельного командования на театре военных действий, и поэтому у нас нет возможности дать оценку его качествам полководца. Вполне возможно, что он был бы самым лучшим из всей плеяды военачальников Империи.
Что же касается остальных: Бернадотта, Бессьера, Лефевра, Мортье, Мюрата, Нея... можно отметить, что при огромной разнице судеб этих людей, их темпераментов и моральных качеств, все они были, очевидно, не более чем лучшими или худшими исполнителями.
Наконец, еще одна общая для всех маршалов черта часто мешала им раскрыть на поле брани свои полководческие таланты. Этой чертой было соперничество, доходившее порой до крайних пределов. Вообще говоря, соперничество между высокопоставленными генералами - явление вполне естественное в любой армии. Вспомним, например, непримиримое противостояние Барклая и Багратиона в русской армии в начале войны 1812 г. - вражду, где с обеих сторон не стеснялись в средствах и которая чуть не обернулась для русских войск катастрофой. А чего стоят интриги Беннигсена против Кутузова в тот период, когда Москва была занята Великой Армией! Однако в наполеоновских войсках этот спор за место под солнцем славы приобрел, пожалуй, особо заостренные формы. Причин этому много. Без сомнения, сыграл важную роль тот факт, что все военачальники Французской Империи были людьми относительно молодыми, стремительно поднявшимися по ступеням военной иерархии и потому кипящими всеми страстями людьми, часто очень самоуверенными, считавшими себя центром вселенной. Кроме того, в Империи, где Императором стал тридцатипятилетний генерал, еще недавно младший офицер артиллерии, не было, как сказал Стендаль, "такого кандидата на судебную должность, который не стремился бы стать министром, не было суб-лейтенанта, который не мечтал бы о шпаге главнокомандующего"34. Ясно, что маршалы в такой атмосфере просто вынуждены были сражаться за то, чтобы покрывать себя все новой и новой славой, затмевать остальных. Наконец, маршалов было просто слишком много. Из-за этого получалось так, что, когда Император не присутствовал на каком-либо театре военных действий, там неизбежно оказывались два и более маршала. Каждый же из них, как уже отмечалось, был уверен в том, что он второй человек в армии, если не в мире, после Наполеона и ни в коем случае не хотел подчиняться своему коллеге, даже если к этому его вынуждал формальный приказ. Нетрудно догадаться, что это могло привести и действительно приводило к тяжелым последствиям.
14 октября 1806 г. 1-й корпус Бернадотта стоял всего в нескольких километрах от поля боя, где, истекая кровью, солдаты Даву сражались против главной армии прусского короля. Бернадотт отклонил предложение Даву действовать вместе, ссылаясь на приказ Императора двигаться на Дорнбург, т. е. в сторону от поля боя. На самом деле ночью командующий 1 -м корпусом получил послание Наполеона, в котором хотя и не отдавался формальный приказ двигаться вместе с Даву, но подобная возможность допускалась. Однако напрасно маршал Даву умолял своего коллегу объединить силы, предлагая даже добровольно встать под командование Бернадотта. Завистливому командующему 1-м корпусом были не нужны "половинные" лавры. В результате Даву выиграл бой в одиночку. "Поведение Бернадотта под Иеной было таково, что Император подписал декрет о суде над ним военным трибуналом, который бы, несомненно, приговорил его к смерти - так велико было негодование в армии, - вспоминал сам Наполеон на Святой Елене. - Однако из уважения к княгине Понте-Корво (жена Бернадотта, в девичестве Дезире Клари, бывшая возлюбленная молодого Наполеона) в момент вручения декрета князю Невшательскому Император его разорвал..."35 И напрасно: мягкость Наполеона в этой ситуации привела к тяжелым последствиям. Если в кампаниях, где он сам руководил ходом военных операций, случаи столь очевидного умышленного на - несения вреда своему сопернику были скорее исключением, то на далеком испанском театре военных действий они, увы, стали правилом. Никто из маршалов толком не подчинялся королю Жозефу, формально назначенному главнокомандующим. Каждый из них действовал в "своем" регионе и пренебрегал интересами соседа, которых платил ему той же монетой. В результате - сколько упущенных возможностей добиться победы! Сульт вяло содействует Массена в январе 1811 г., срывая возможность успеха в Португалии; Ожеро, командующий армией в Каталонии, медлит с помощью своему коллеге Сюше; Бессьер, командующий Северной армии, является лишь с горстью солдат на поле решающего сражения при Фуэнтес д'Онь-оро, где португальская армия атаковала Веллингтона, благодаря чему англичане в очередной раз выходят сухими из воды там, где они, кажется, были обречены поражение.
Ж.-Н. Жуй. Маршал Бернадотт, князь Понте-Корво (1763-1844). Версальский музей. В эпоху Наполеона эта картина украшала Зал маршалов во дворце Тюильри.
Столкновения честолюбивых маршалов, ревность и зависть не были тайной для подчиненных. Вот что писал офицер легкой пехоты через несколько месяцев после битвы под Талаверой (28 июля 1809 г.), где из- за нескоординированности действий была упущена стопроцентная возможность разгромить англо-испанскую армию: "...говорят, что Журдан, завидующий Сульту, не хотел действовать с ним вместе; говорят, что маршал Сульт намеренно задержал свой марш из Саламанки в долину Тахо, чтобы другой не получил слишком много славы; говорят, что маршал Ней, который не любит маршала Сульта и который к тому же сочетает в себе самый дурной характер с самой блистательной отвагой, подчинялся последнему лишь нехотя, и из-за этого наша армия подошла слишком поздно к Пуэнте дель Арсобиспо... Да что только не говорят! Что касается меня, я считаю, что там, где нет Императора, царит лишь беспорядок и путаница среди наших командующих, и что, если каким-нибудь наказанием он не приучит наших маршалов уметь подчиняться другому, когда требует долг... все это дурно кончится" 36.
Впрочем, иногда и близость Императора не останавливала соперничество. Если верить мемуарам Марбо, маршалы Ланн и Бессьер чуть не подрались на дуэли вечером первого дня битвы под Эсслингом, и только присутствие Массена остановило их: "Я старше вас, господа, - сказал он, - и в моем лагере я не потерплю, чтобы вы явили моим войскам скандальное зрелище маршалов, скрещивающих друг с другом клинки перед лицом врага!"37 Этот эпизод весьма показателен, даже если он и литературное преувеличение офицера со "слишком богатым воображением" (немалое количество фактов, приведенных в мемуарах Марбо, опровергаются документами).
И все же, несмотря на все эти недостатки марша лов Императора, ясно, что вокруг Наполеона была собрана плеяда выдающихся военных дарований. Уже имен таких полководцев, как Даву, Сюше, Массена, Ланн достаточно было бы, чтобы составить славу и гордость любой армии. Тем не менее нужно заметить, что далеко не все первоклассные военачальники эпо хи Империи сумели получить заветные жезлы. Немало заслуженных генералов просто не успели по при чине относительно краткого периода существования наполеоновского государства подняться до вершин военной иерархии, восхождение других оборвало вражеское ядро.
Среди этих, не засверкавших в полную силу "звезд" прежде всего нужно отметить Мориса Этьена Жерара. Эполеты бригадного генерала молодой полковник Жерар получил в 1806 г. Он покрыл себя славой в кампанию 1807 г., отличился при Ваграме в 1809, отважно сражался при Фуэнтес д'Оньоро в Испании, но особенно хорошо он зарекомендовал себя в тяжелые дни похода в Россию. Здесь Жерар заменяет на посту командира дивизии генерала Гюдена, смертельно раненного при Валутиной горе, и 23 сентября 1812 г. за отличные действия при Бородине получает звание дивизионного генерала. В конце 1813 г. он уже командует корпусом. Раненый под Лейпцигом, Жерар не покидает строя и продолжает храбро драться в кампанию 1814г., заменив маршала Виктора на посту командующего 2-м корпусом. Наконец, в трагической Бельгийской кампании Жерар мужественно сражается под Ли- ньи 16 июня, где он мощным ударом своих войск опрокидывает пруссаков, а затем отправляется вместе с маршалом Груши на преследование Блюхера. Увы, накануне рокового дня Груши не последовал совету своего помощника и не двинулся к полю боя при Ватерлоо. Знаменитая битва была проиграна, а Жерар получил рану, сражаясь вечером того же дня в бою при Вавре. Изгнанный в первые годы реставрации Бурбонов, Жерар вернулся во Францию в 1817 г., а после Июльской революции стал военным министром и маршалом Франции. Во всех битвах, где этот талантливый генерал командовал войсками, он показал себя как безупречный военачальник. Отважный, умный и преданный, он, без сомнения, стал бы одним из лучших маршалов Империи и, уж конечно, успешно заменил бы таких "сыновей Революции", как Ожеро, Журдан или Брюн. В момент тяжелых испытаний в конце 1813 г. Император сказал, обращаясь к Жерару: "Если бы у меня было побольше таких людей, как Вы, я считал бы, что наши потери восполнены, и я рассматривал бы себя как стоящего выше превратностей судьбы"38.
Подобно Жерару, не успел стать маршалом в эпоху Империи и другой талантливый генерал — Бертран Клозель (см. биографию в Приложениях). "А, Клозель... - сказал как-то Наполеон, - он молод, у него способности, у него напор". И, действительно, в войне на Пиренеях Клозель проявил выдающиеся качества. В кровавой битве при Арапилах (Саламанке) 22 июля 1812 г., которая из-за грубых ошибок маршала Мармона завершилась для французской армии тяжелым поражением, Клозелю пришлось взять на себя командование после серьезного ранения своего начальника. К этому моменту сражение было уже проиграно, а сам Клозель ранен в ногу. Однако он не потерял самообладания, более того, взяв командование твердой рукой, он не только не допустил паники, но и принял важное решение: вместо ночного отступления, которое, по-видимому, превратилось бы в бегство, дождаться утра и отходить с боем. Это был большой риск, но, верно оценив ситуацию, характер местности и особенности обеих армий, Клозель принял на себя ответственность за это решение и не ошибся: французские войска сумели выйти из-под удара без катастрофических потерь.
Отличился Клозель и в кампанию 1813 г., особенно после нового поражения у Виттории, когда пришлось с горстью войск сдерживать натиск врага, рвущегося во Францию. Из этого подающего большие надежды дивизионного генерала мог выйти крупный полководец, но падение Империи не дало Клозелю раскрыть свои таланты в полной мере. Впрочем, как и Жерар, он получил все-таки маршальский жезл, но это произошло также лишь в эпоху Луи-Филиппа, 30 июня 1831 года. Однако выюшее военное достоинство пришло к нему слишком поздно, и старый маршал Клозель не увил себя новыми лаврами в Алжирской войне, а скорее, растерял старые.
Еще один из генералов Империи мог бы, без сомнения, заслужить маршальский жезл, при условии, конечно, что Наполеон посчитал бы такое повышение возможным по политическим причинам. Это вицекороль Италии Евгений Богарне, сын императрицы Жозефины от первого брака. Не сразу этот молодой человек с изысканными манерами раскрыл свой полководческий дар. В 1809 г. двадцатисемилетний вице-король возглавлял Итальянскую армию (союзные франко-итальянские войска), вначале сражаясь на территории своего королевства, а затем - в Венгрии и Австрии. Первая его битва - при Сачиле - быта неудачной, но затем, под руководством присланного ему ментора - Макдональда, он постепенно овладевает опытом командования. 14 июня 1809 г. его войска, тесня отходящих австрийцев, наносят им поражение в серьезном бою под Раабом, а 5-6 июля Евгений участвует в грандиозной битве при Ваграме. В 1812 г. во главе 4-го корпуса Богарне сражается в России, где он уже уверенно управляет крупными массами войск. В последние дни зимнего отступления на его долю выпала тяжелейшая задача: после отъезда Императора, а затем и маршала Мюрата, временно исполнявшего обязанности командующего, возглавить остатки Великой Армии. Евгений сделал все, что было в человеческих силах, и показал себя предприимчивым и твердым военачальником. Чрезвычайно сложной быта и его миссия в Италии во второй половине 1813 - начале 1814 гг., когда в обстановке всеобщего брожения ему пришлось с сорокатысячной франко-итальянской армией сдерживать натиск семидесятипятитысячного австрийского войска Бельгарда, а затем и отделившихся от императорских сил неаполитанцев. Из самой трудной ситуации молодой командующий вышел с честью. Когда в Париже уже хозяйничали союзники, а Император подписал отречение, над столицей Итальянского королевства - Миланом - все еще развевался трехцветный флаг. Поистине Евгений Богарне оказался достойным учеником своего великого отчима.
В этом ряду замечательных генералов, возможных преемников маршалов, хотелось бы отметить блестящего артиллериста Антуана Друо. Трудно сказать, получил бы он маршальский жезл или нет, ведь Друо быш представителем специальных войск, но можно с уверенностью сказать, что на любом посту он заменил бы десяток Ожеро. Это поистине был человек, необходимый в самых трудных ситуациях. Если такие люди, как Мюрат, сверкали во время успехов, но потухали в час испытаний, генерал Друо, наоборот, поражал видавших виды людей своей несокрушимой стойкостью перед лицом всех невзгод. Его любимыми книгами были Библия и биографии великих людей Плутарха, и сам он словно сошел со страниц последней. В тяжелых битвах под Люценом, Бауценом, Лейпцигом он был безупречен, "великолепный своими энергией и хладнокровием", как сказал о нем генерал Ериуа. А в тот день, когда баварцы генерала Вереде преградили путь остаткам Великой Армии, именно на Друо была возложена задача с батареями гвардейских орудий проложить дорогу сквозь вражеские полки. Он выполнил свою работу, с пятьюдесятью орудиями прорубив кровавую брешь в рядах неприятеля. Когда же баварская кавалерия ринулась на батареи, генерал Друо со шпагой в руках сражался в рядах своих артиллеристов, которые штыками и банниками дрались с вражескими всадниками. Французы не отдали врагу ни одной пушки, более того, едва баварцы были отброшены, как батареи под командованием Друо тотчас же снова обрушили на них шквал картечи. "Ну, знаменитый пушкарь, Вы сегодня славно поработали!" - сказал Император, радостно обнимая генерала после победы. Друо был безупречен и в суровых испытаниях кампании 1814 г. под Ла Ротьером, Вошаном, Краоном и Лаоном и в последние дни Империи на поле боя при Ватерлоо.
На Святой Елене Император часто вспоминал о преданном воине: "Он видел в Друо все необходимое, чтобы стать великим генералом. У него было много оснований считать его стоящим выше многих маршалов. Он, не колеблясь, говорил о том, что Друо мог бы командовать сотней тысяч человек"39. И если Антуан Друо не стал маршалом, то в историю он вошел как образец командира, как пример стойкости, отваги и преданности.
Эту галерею портретов замечательных военачальников мы хотели бы завершить несколькими словами об одном малоизвестном офицере - маркизе Шарле Мари Робере Дэскорше де Сент-Круа. Имя этого человека известно разве что некоторым специалистам по истории эпохи Империи, статьи о нем нет даже в огромном "Словаре Наполеона" Ж. Тюлара, где помещены биографии 490 генералов.
Планшет 3. Дивизионный генерал Ламарк в мундире нерегламентированного образца. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Сент-Круа происходил из очень знатного рода. Его отец, бывший офицер королевской армии, в период Директории являлся послом Франции в Константинополе. Вполне понятно, что родители желали видеть своего сына также делающим карьеру на дипломатическом поприще. В результате юный Сент-Круа оказался одним из чиновников Министерства иностранных дел. Однако в 1805 г. вести из армии об удивительных подвигах пробудили воинственный пыл молодого человека, который, подобно Сегюру, почувствовал, как "в его жилах вскипела кровь рыцарственных предков". Почти сразу же для Сент-Круа представился великолепный случай: Наполеон, желая воссоздать иностранные полки, поручил Министерству иностранных дел провести подготовительную работу, направленную на освоение опыта использования иностранных частей на службе Франции при Старом Порядке. Министр, зная о наклонностях молодого чиновника, поручил ему подготовку этого досье. Шарль де Сент-Круа настолько блестяще справился с работой, что Император, узнав о его желании вступить на военную службу, приказал зачислить его в 1-й иностранный полк сразу в звании командира батальона! Однако случай чуть не прервал его еще не начавшуюся карьеру. Один из родственников императрицы Жозефины, некто де Мариоль, страшный бретер и повеса, также желал занять место командира батальона в 1-м иностранном. Он нашел предлог, чтобы вызвать Шарля на дуэль, но Провидение наказало самоуверенного дуэлянта: пуля Сент-Круа сразила его наповал. Эта дуэль вызвала большой скандал, и Шарля даже на некоторое время взяли под арест. Однако с горем пополам молодой человек выпутался из этой истории и прибыл, наконец, к своему полку, расквартированному в Италии. Хотя Шарль и был совершенным новичком в военном деле, природный дар и хорошее образование помогли ему стать одним из лучших офицеров части, он зарекомендовал себя как умелый организатор и отличился в боях. Маршал Массена заметил молодого талантливого офицера и взял его к себе в адъютанты. В начале кампании 1809 г. Сент-Круа лично захватил в бою под Ноймарктом вражеское знамя, и был произведен в полковники. Поворотным пунктом в его удивительной карьере была подготовка французской армии ко второй переправе через Дунай. Во время работ на острове Лобау Сент-Круа проявил столько энергии, отваги и военных дарований, что не только был замечен Императором, у которого достоинства молодого офицера быстро из - гладили из памяти неприятные воспоминания о дуэли с родственником Жозефины, но и, более того, стал настоящим коллегой великого полководца, с которым последний обсуждал планы действий и советовался чаще, чем с маршалом Массена. Во время переправы через Дунай и Ваграмской битвы Сент-Круа вновь отличился, несмотря на полученную рану, образцово командуя авангардом и реализовав на практике все, что было задумано в тишине императорского кабинета. Наполеон был в восторге от способностей своего помощника. За заслуги в подготовке и проведении грандиозной Ваграмской операции Шарль де Сент-Круа в неполные двадцать семь лет был произведен в бригадные генералы. Император сказал о нем в разговоре с адъютантом Александра I генералом Чернышевым: "Он напоминает мне маршала Ланна и генерала Дезе, поэтому, если только гром не сразит его, Франция и Европа будут потрясены той карьерой, которую я планирую для него" 40. Увы, в дело вмешался "гром". В 1810 г. молодой генерал получил назначение командовать бригадой драгун в армии, готовящейся к наступлению в Португалии. 12 октября, когда вместе с Монбреном он совершал рекогносцировку вдоль берега Тахо, случайное ядро, выпущенное с неприятельской стороны реки, разорвало его пополам... Так в истории Франции не появился маршал Сент-Круа...
Эти несколько биографий ясно показывают, что Великая Армия была богата полководческими дарованиями, более того, "чисто наполеоновские генералы", шедшие на смену высшим офицерам, выдвинувшимся в эпоху Революции, были, пожалуй, более способными. Прошли те времена, когда вследствие массового дезертирства и чисток необходимо было обновлять весь командный состав. Прилив свежих сил шел постоянно, но было время оценить по достоинству каждого. Наконец, непрерывные войны давали огромный боевой опыт и возможность увидеть на практике, чего стоит тот или иной офицер, да и сдавался этот своеобразный экзамен перед лицом одного из величайших полководцев мировой истории, который был единственным, кто выставлял оценку. Именно поэтому Оже- ро, занесенный на вершину военной иерархии "ветром свободы", нам кажется менее типичным, менее "наполеоновским" военачальником, чем Сюше, Жерар или Сент-Круа, которые являются представителями нового стиля командования.
Этот стиль выражается в том, что "наполеоновский генерал" - конечно, больший профессионал, чем импровизированный Революционный командир, он умело управляет войсками в бою и на походе, действуя привычно и уверенно, без колебаний жертвуя собой в критический момент. Высший офицер Императора знает жизнь солдат и при необходимости делит с ними лишения биваков, однако вполне достойно выглядит и в парижском салоне, на балу или при дворе. Вообще, "наполеоновский генерал", конечно, более интеллигентен и образован, чем его предшественник эпохи Республики. Наконец, генералы Империи были "...молоды, для них был тяжел отдых, а не работа. Выкованные из стали, они, не колеблясь, выносят тяготы кампаний, переносят холод, жару, дождь, не слезая с коня целыми днями, обходясь без сна, питаясь чем попало. Сражаясь уже в течение многих лет, они делают это, имея опыт зрелых годов. К тому же с ними Наполеон, он берет на себя все, что касается стратегических комбинаций и оставляет им то, в чем они несравненны: инстинктивное умение действовать в самых сложных ситуациях, отвагу, воздействие личным примером на солдат..." - так прекрасно резюмировал образ военачальника Империи генерал де Голль41.
1 Macdonald J.-E.-J.-A. Souvenirs du marechal Macdonald due de Tarente. P., 1892, p. 162.
2 Six G. Les Generaux de la Revolution et de l'Empire. P., 1947.
3 Six G. Op. cit, p. 320.
4 Journal militaire, an IX.
5 Gourgaud G. Journal de Sainte-Helene (1815-1818). P., 1947, t. 2, p. 60.
6 Lejeune L.-F. Memoires du general Lejeune. P., 1895, t. 1, p. 176-177.
7 Castellane V.-E. Journal du marechal de Castellane (1804-1862). P., 18951897, t. l,p. 134, 142.
8 Dupont M. Murat. P., 1980, p. 257.
9 Montesquiou due de Fezensac R.-E.-P.-J. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 287-288.
10 Van Dedem de Gelder A.-B.-G. Un general hollandais sous l'Empire. Me moires du general baron de Dedem de Gelder. P., 1900, p. 315.
11 Stiegler G. Le marechal Oudinot due de Reggio d'apres les souvenirs inedites de la marechale. P., 1894, p. 549-550.
12 Gourgaud G Memoires pour servir a l'histoire de France, sous Napoleon... P., 1823, t. l,p. 213.
13 Six G. Op. cit., p. 250.
14 Tulard J. Napoleon ou Le mythe du sauveur. P., 1977, p. 316.
15 Remusat C.-E.-J. de. Memoires (1802-1808). P., 1879-1880, t. 2, p. 155.
16 ZiesenissJ. Noblesse d'Empire. // Dictionnaire Napoleon. Sous la direction de Jean Tulard. P., 1987, p. 1246.
17 Цит по: Ibid., p. 1247.
18 Montesquiou A. de. Souvenirs sur la Revolution, l'Empire, la Restauration et le regne de Louis-Philippe P., 1961 //Цит по: Dictionnaire Napoleon... p. 1247.
19 Meneval C.-F. de. Memoires pour servir a l'histoire de Napoleon 1er depuis 1802 jusqu'a 1815, par le baron Claude-Francois de Meneval. P., 1893-1894, t. 3,n. 48.
20 Jolyet. Episodesde la guerre en Catalogne, 1808-1812 // Revue des etudes napoleoniennes 1919. Juillet-decembre, p. 187.
21 Segur Ph.-P. de. Un aide de Camp de Napoleon de 1800 a 1812. Memoires du general comte de Segur. P., 1894, p. 307-308.
22 Lort de Serignan de. Napoleon et les grands generaux de la Revolution et de l'Empire. P., 1914, p. 163.
23 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P., 1895, t. 4, p. 89.
24 Lejeune L.-F. Memoires du general Lejeune. P., 1895, t. 2, p. 221-222.
25 Biot. Souvenirs anecdotiques et militaires. P., 1901, p. 17.
26 Van Dedem de Gelder A.-B.-G. Op. cit., p. 193-194.
27 Correspondance... t. 12, p. 120.
28 Ibid., p. 430.
29 Ibid., t. 30, p. 367.
30 Ainval C d'. Gouvion Saint-Cyr. Soldat de r An II, Marechal d'Empire, reorganisateur de r armée. P., 1981, p. 286-287.
31 Клаузевиц К. О войне. М., 1936, , т. 1, с. 78, 84.
32 Gourgaud G. Op. cit., t. 2, p. 103.
33 Las Cases M.-J.-E.-D. Le memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p. 409.
34 Stendhal. Vie de Napoleon Ceuvre complete. P., 1953, t. 17, p. 111.
35 Цит по: Bonnal H. La Manoeuvre d'lena. P., 1904, p. 422.
36 Fantin des Odoards L.-F. Journal du general Fantin des Odoards Etapes d'un officier de la Grande armée, 1800-1830. P., 1895, p. 265-266.
37 Marbot J.-B.-A.-M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 1891, t. 2, p. 191.
38 Las Cases M.-J.-E.-D. Op. cit., p. 581.
39 Ibid., p. 344.
40 Marbot J.-B.-A.-M. de. Op. cit., p. 237.
41 Gaulle C de. La France et son armée. P., 1985, p. 130.
Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ
Теперь, когда мы познакомились с солдатами, офицерами и генералами наполеоновской армии, уместно будет остановиться на том, как были организованы воинские силы огромной Империи, простиравшейся в эпоху ее наибольшего могущества от скалистых берегов Эбро до холодных вод Балтики.
Пехота
Как уже упоминалось во вступлении, в эпоху Революции пехотные полки королевских войск были слиты с батальонами волонтеров, образуя части, названные полу бригадами. Когда Бонапарт пришел к власти, в рядах французской армии насчитывалось 543 пехотных батальона, сведенных в 112 полубригад линейной и 30 полубригад легкой пехоты, а также выделенных в несколько отдельных формирований. Теоретически каждая полубригада состояла из штаба* (34 человека) и трех батальонов, состоящих в свою очередь из 9 рот каждый. 8 рот батальона были обычными, называвшимися в линейной пехоте фузилерными**, а в легкой пехоте егерскими. Одна рота быта элитной: в нее входили лучшие и самые высокорослые солдаты батальона. В линейной пехоте элитная рота называлась гренадерской, а в легкой - карабинерной. Все роты находились под командованием капитанов, которым помогали один лейтенант и один суб-лейтенант. В роте был также один старший сержант - "старшина роты" - и один капрал-фурьер - унтер-офицер, отвечающий за хозяйственную часть подразделения. Количество рядовых капралов и сержантов было различным. В ротах гренадер, карабинеров и егерей было 64 рядовых, 8 капралов и 4 сержанта, а в роте фузилеров - соответственно 104, 10 и 5. Наконец, во всех ротах было по два барабанщика. Таким образом, рота гренадер, карабинеров или егерей должна была насчитывать 83 человека, а рота фузилеров - 126 человек. Весь батальон, таким образом, состоял из 1094 человек в линейной пехоте (считая одного командира, одного полкового адъютанта и одного старшего унтер-офицера) и 750 человек в легкой. Общая численность полубригады линейной пехоты 3307 человек, а легкой - 2275 человек.
* В штаб полубригады входили: командир части, три командира батальонов, три полковых адъютанта, два квартирмейстера-казначея, два хирурга, три старших унтер-офицера, тамбур-мажор, два капрала барабанщиков, восемь музыкантов, трое портных, три сапожника и три оружейника.
** Фузилер (fusilier) происходит от французского "fusil" - "ружье".
Однако все это лишь на бумаге. На самом деле численность полубригады в эту эпоху была далека от предписываемой уставом цифры, и хотя некомплект - практически неизбежное состояние любой армии в любую эпоху, во французской армий в период Директории он был особенно значителен.
Говоря о легкой и линейной пехоте, необходимо отметить, что реальных принципиальный отличий между этими двумя родами оружия становилось все меньше и меньше. Первоначально в эпоху Революции линейные полубригады образовывались, как мы видели, из слияния полков линейной пехоты и батальонов волонтеров, а полубригады легкой пехоты -из остатков егерских батальонов старой армии, вольных отрядов, а также ряда волонтерских батальонов. Предполагалось, что линейная пехота будет сражаться, как и следует из ее названия, в основном в линейном боевом порядке, а легкая - рассыпаться в стрелковые цепи, выполняя на походе функции разведки и боевого охранения. Однако в реальности все указанные задачи пришлось выполнять как линейной, так и легкой пехоте. Легким войскам нельзя было обойтись без навыков боя в сомкнутых боевых порядках, а линейной пехоте, в свою очередь, нельзя было постоянно надеяться на то, что легкие полубригады прикроют ее походные колонны или боевые порядки (см. гл. VII). Тем не менее разница в происхождении все-таки сказывалась. В частях линейной пехоты больше использовалась традиция действий в сомкнутом строю и опыт коллективного боя, порой чуть более строгой была дисциплина. Легкая пехота чаще действовала в рассыпном строю и имела больше навыков индивидуального боя. Кроме того, легкая пехота отличалась менее жесткой дисциплиной (впрочем, в эпоху Директории она нигде не была слишком строгой). Постепенно за время революционных войн, а особенно начиная с эпохи Консульства, эти различия стирались. Кроме внешних атрибутов в виде разной униформы, между этими двумя видами пехоты оставалось все меньше принципиальных различий. И те и другие учились по одному и тому же уставу, выполняли практически абсолютно одинаковые функции, а после реформы 1808 г. (см. ниже) стерлась всякая разница и в организации этих воинских частей, так что к концу Империи названия "линейная" и "легкая" по отношению к пехоте будут в значительной степени лишь символическими.
В течение периода Консульства и Империи структура пехотных частей претерпевала постоянные изменения. Мы отметим наиболее значительные из них.
С первых своих шагов на посту главы государства Первый консул всеми силами стремился вернуть армию хотя бы к относительному единообразию, улучшить качество ее подготовки и материального обеспечения. В этих целях, а также исходя из желания возродить традиции, нарушенные в эпоху Революции, Бонапарт указом от 1 вандемьера XII года (24 сентября 1803 г.) восстановил названия "полк" (regiment) вместо "полубригада" (demibrigade) и "полковник" (colonel) вместо "командир бригады" (chef de brigade)*. Одновременно было осуществлено сокращение количества частей до 89 в линейной пехоте и до 26 в легкой, а за счет высвободившихся сил увеличено количество батальонов в других частях**. Отныне полки линейной и легкой пехоты должны были насчитывать по 4 батальона, из которых три находились в действующей армии, а четвертый оставался в депо.
Указом от 22 вантоза XII года (12 марта 1804 г.) в батальонах легкой пехоты были созданы так называемые роты "вольтижеров"***, а уже императорским декретом от 2 дополнительного дня XIII года (19 сентября 1805 г.) подобные роты были организованы и в линейной пехоте1. Каждая вольтижерская рота имела следующий состав:
1 капитан
1 лейтенант
1 сублейтенант
1 старший сержант
4 сержанта
1 фурьер
8 капралов
104 вольтижера
2 горниста
Всего: 123 человека.
Вольтижеры были созданы как роты, призванные выполнять функции застрельщиков в бою. Именно они отныне станут настоящей легкой пехотой, теми, кто всегда будет в авангарде и в цепи стрелков. В документах, предписывающих создание этих подразделений, хотя и не указано прямо, что они рассматриваются как элитные, однако говорится, что вольтижеры имеют жалование как у карабинеров (в легкой пехоте) или как у гренадер (в линейной)2. Появление вольтижеров во многом объясняется тем, что Наполеон желал отметить храбрых солдат, которые не могли по недостатку роста быть зачисленными в роты гренадер или карабинеров. Если понятие "гренадер" всегда связывалось с высоким солдатом, отважным в штыковом бою, то "вольтижер" станет синонимом маленького стрелка, бесстрашного в передовой цепи под жестоким огнем неприятеля.
Для организации вольтижерских рот в легкой пехоте была упразднена 3-я рота егерей каждого батальона (в линейной - 3-я рота фузилеров), ее солдаты и офицеры распределялись в другие роты батальона. А лучшие солдаты низкого роста сводились в новую, вольтижерскую роту, ставшую отныне ротой № 3, вместо расформированной роты центра****. Таким образом, количество солдат в батальоне и численность рот не изменились. Отныне каждый батальон имел одну элитную роту солдат высокого роста (гренадер или карабинеров), 7 рот центра и 1 элитную роту солдат низкого роста (вольтижеров).
* Мы не ошиблись: именно командир бригады (а не полубригады). Наименование довольно странное, потому что бригадой называлось соединение, включающее 2-З полубригады. Очевидно название chef de demi-brigade ("командир полубригады") было неудобно для произношения и вместо него было принято упомянутое - chef de brigade.
** Были расформированы следующие линейные полубригады: З1, ЗЗ, 41, 49, 68, 71, 7З, 74, 77, 78, 80, 8З, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 107, 109, 110 - и следующие легкие: 11, 19, 20, 29, 30. При этом нумерация остальных частей не изменилась, в результате получились "вакантные" цифры, т. е., например, существовали З0-й и З2-й линейные полки, а З1-го не было. Интересно, что впоследствии, когда будут создаваться новые линейные пехотные полки, они будут получать номера начиная со 11З-го (сформированного в 1808 г.), перечисленные же выше номера останутся "вакантными" вплоть до 1-й Реставрации. В легкой пехоте 11 и 29 номера будут заполнены в 1811 г. На некоторое время в 1814 г. будет создан и 19-й полк; 20-й же и З1-й номера останутся вакантными в течение всего периода Империи.
*** Voltigeur- от глагола "voltiger" - порхать; здесь: "быстро перемещаться с одного места на другое ".
**** Фузилерные или егерские роты часто называли общим понятием "роты центра", т. к. в линейном боевом порядке они стояли между гренадерами (карабинерами), находившимися на правом фланге батальона, и вольтижерами, стоявшими на левом фланге.
Императорским декретом от 18 февраля 1808 г. вся структура пехотных частей была изменена кардинальным образом. Отныне линейная и легкая пехота были организованы совершенно одинаково. Все полки с этого момента должны были стать пятибатальонными: четыре батальона несли службу в рядах действующей армии, а пятый оставался в депо. Батальон депо являлся школой для новобранцев, отправляемых после обучения в "боевые" батальоны (bataillon de guerre). В него поступали также солдаты, неспособные по тем или иным причинам нести активную службу. Батальонное депо находилось под командованием майора*, заместителя командира полка, и насчитывало только 4 роты центра. Что же касается боевых батальонов, отныне они имели в своих рядах только шесть рот: одна гренадерская или карабинерская, 4 роты центра и одна вольтижерская. Зато была значительно увеличена численность рот. Отныне в каждой роте были:
1 капитан
1 лейтенант
1 суб-лейтенант
1 старший сержант
4 сержанта
1 капрал-фурьер
8 капралов
121 рядовой
2 барабанщика (или горниста)
Всего: 140 человек.
Таким образом, численность батальона (теоретическая) мало изменилась.
Реформа пехоты 1808 г. позволила высвободить большое количество офицеров: за счет упразднения трех рот в каждом батальоне освобождалось 9 офицеров. Эти командные кадры были использованы при формировании новых частей. Декрет предписывал следующий штаб полка:
1 полковник
1 майор
4 командира батальонов
5 полковых адъютантов
1 квартирмейстер-казначей
1 офицер, ответственный за выплату жалованья
1 тамбур-мажор
1 капрал барабанщиков
1 орлоносец
1 старший хирург
1 младший хирург
5 помощников хирурга
10 старших унтер-офицеров
2-й и 3-й орлоносцы
8 музыкантов
4 мастеровых
Всего: 50 человек.
Итак, теоретически численность пехотного полка стала равняться 3970 человек, из которых: 108 офицеров и 3862 унтер-офицеров и солдат. Впрочем, на практике такая численность достигалась редко, и даже не во всех частях были организованы 4 действующих батальона по причине того, что в это время многие полки имели свои подразделения, разбросанные по разным уголкам огромной Империи и ее вассальных государств. Отметим, что в этот момент пехота наполеоновской армии (французских и иностранных полков) насчитывала в своих рядах уже 1034 батальона!
В 1809 г. в организацию пехоты были внесены существенные коррективы. Желая усилить боевую мощь полков, декретом от 9 июня Наполеон приказывает снабдить все части пехоты, находящиеся в Австрии**, легкими 3-4-фунтовыми орудиями, найденными в Венских арсеналах. Каждый полк должен был получить два орудия, три зарядных ящика и 11 повозок с материальной частью. Полковые орудия обслуживались ротой под командованием лейтенанта (командира артиллерии) и суб-лейтенанта, его помощника (командир обоза). Общая численность артиллерийского отряда: 2 офицера, 20 канониров, 40 солдат обоза и 2 мастеровых. Из корреспонденции Императора следует, что полковая артиллерия была создана в очень короткий срок, хотя, возможно, и не во всех указанных в примечании полках. По возвращении из кампании 1 апреля 1810 г. эти роты были расформированы. Однако декретом от 11 февраля 1811 г. была вновь создана полковая артиллерия в полках, составлявших Эльбский обсервационный корпус***, т. е. в тех частях, которые располагались на территории Восточной Пруссии и Польши, и впоследствии стали 1-м корпусом Великой Армии 1812 г. (под командованием маршала Империи Л.-Н. Даву). Предполагалось снабдить каждую пехотную часть значительной артиллерийской группой, имевшей 4 орудия, 6 зарядных ящиков и 11 повозок. Обслуживать орудия должны были 1 лейтенант, 1 суб-лейтенант, 1 старший сержант, 1 фурьер, взвод артиллерии (2 сержанта, 2 капрала, 36 канониров, 4 рабочих) и два взвода обоза (один в 26 человек, другой - в 28) - всего 98 человек и 100 лошадей. Непосредственно перед кампанией 1812 г. почти все пехотные полки французской армии и союзников получили полковую артиллерию (но в меньшем составе: по два орудия), в указанных же шестнадцати частях 1-го корпуса действительно были сформированы 4-орудийные артиллерийские роты. Гибель основных сил Великой Армии в России поставила крест и на полковой артиллерии. В 1813 г. лишь немногие полки будут иметь приданные им пушки. Нужно отметить, что эксперимент по созданию рот полковой артиллерии подвергся почти единодушной критике современников. Он оказался тактически неоправданным. Приданные полкам пушки, которые были полезны в XVIII в., когда пехота была малоподвижна, оказались обузой для идущих форсированными маршами и атакующих скорым шагом наполеоновских солдат, а малый калибр полковых орудий ограничивал их боевые возможности. Опыт кампаний показал, что только организационно независимые от пехоты артиллерийские формирования отвечали требованиям эпохи как с точки зрения тактической эффективности, так и в смысле их стратегической и экономической целесообразности.
* В войсках Наполеона было упразднено звание подполковника, и звание майора, которое в большинстве армий носят командиры батальонов, стало соответствовать упраздненному званию подполковника. Что же касается батальонов, ими командовали офицеры в звании, которое стало называться прямо в соответствии с должностью - chef de bataillon ("командир батальона").
** К ним относились 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 69, 72, 79, 81, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 102, 105, 106, 108, 111, 112 линейные, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23,24 легкие, четвертые батальоны 39, 40 и 88 линейных полков.
*** 12, 17,21,25,30,43,48,57,61,85, 108, 111 линейные и 2, 7, 13, 33 легкие.
Планшет 9. Легкая пехота в 1805-1806 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Планшет 10. Легкая пехота 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Но вернемся к организационным изменениям в самих пехотных формированиях. В 1811 г. состав пехотного полка был увеличен еще на один действующий батальон. Отныне батальоны с номерами 1, 2, 3, 4 и 6 были боевыми, а пятый продолжал оставаться в депо. Наконец, в 1813 г. в связи с огромным приливом новобранцев в ряде полков были созданы даже седьмые батальоны. Обе эти меры коснулись далеко не всей пехоты. Например, в 1812 г. в 1-м корпусе Даву, бывшем образцовым, почти все пешие части были представлены полками с пятью действующими батальонами, исключение составили лишь 127-й полк (два действующих батальона), а также 33-й легкий (три батальона). Зато ни в одном другом корпусе вообще не было полков, состоявших из пяти боевых батальонов; в основном французские пехотные части имели 3-4 батальона. Одновременно происходил значительный рост самих пехотных частей. Мы не будем описывать все многочисленные появления и исчезновения пехотных формирований в рядах наполеоновской армии (краткие сведения о каждой части см. в Приложении V). Отметим лишь самые важные.
В 1806 г. был сформирован 32-й легкий полк. В 1808 г. в Испании из бывшего тосканского пехотного полка (вследствие присоединения Тосканы к Франции) создан 113-й линейный полк. Указом Императора от 7 июля 1808 г. из различных батальонов временных полков, находившихся в Испании, были сформированы 114, 115, 116, 117, 118, 119 и 120 линейные полки. В 1809 г. из резервных легионов созданы 121 и 122 линейные полки. После присоединения Голландии к Франции (в 1810 г.) из бывших голландских пехотных полков образованы 123, 124, 125 и 126 линейные и 33-й легкий полки. В 1811 г. из пехотных формирований немецких земель, присоединенных к Империи (Гамбурга, Бремена и Ольденбурга), сформированы еще три линейных полка (127, 128, 129); в этом же году из отдельных батальонов французских частей в Испании сформированы 130-й линейный и 34-й легкий полки. Пожалуй, самым необычным было формирование пехотных частей из дисциплинарных отрядов, расквартированных на островах Бель-Иль и Вальхерен, а также на островах Средиземного моря, куда направлялись пойманные дезертиры и уклоняющиеся конскрипты. В 1812 г. из них были образованы 131, 132 и 133 линейные и 35 и 36 легкие полки. Особенно многочисленны были части, созданные для Великой Армии 1813 г. Это были 22 линейных полка (номера с 135 по 156), набранные из когорт национальной гвардии первого призыва, линейный пехотный полк (№ 134) из парижской муниципальной гвардии и 37-й легкий. В этом же году пехоту французской армии усилили контингенты, набранные среди частей морской артиллерии, из них были организованы четыре так называемых морских полка. В 1811 — 1813 гг. происходил также огромный рост численности гвардейских пехотных частей (см. главу о Гвардии).
Наряду с этим пехота французской армии постоянно усиливалась иностранными частями на французской службе (см. гл. XII и Приложение V). Среди них самые знаменитые - части Вислинского легиона, сформированные из поляков и за свои отличия приписанные к Молодой Гвардии; иностранные пехотные полки - прообраз современного иностранного легиона (т. к. они были сформированы из лиц самых разных национальностей), 4 швейцарских полка - пехотинцы, традиционно обладающие замечательными боевыми качествами, португальский легион и др. Наконец, в кампании 1809 г. против Австрии, в испанской войне, в русском походе, в кампании 1813 г. в Германии и Италии французские части поддерживались многочисленной союзной пехотой: итальянской, польской,неаполитанской,баварской, вюртембергской, вестфальской, саксонской, баденской, а в кампании 1812 г. - даже прусской и австрийской (см. гл. XII).
Увы, значительная часть пехоты 1812 и 1813 гг. осталась на полях России и Германии, а те, кто вернулся во Францию, были больными или ранеными. Союзники изменили, и Наполеону пришлось сражаться в кампанию 1814 г. с горсткой отчаянно храбрых, но необученных новобранцев. Относительно этого периода трудно говорить о каких-либо организационных принципах формирования пехотных частей. Хотя оставались в силе распоряжения предыдущих лет, но нечего было и мечтать о гигантских 4-5-батальонных полках 1812-1813 гг. В бой бросали всех, кого можно было поставить в строй. В это время встречаются дивизии, сведенные в один-два батальона, обломки полков и бригад, перемешанные в причудливых отрядах, наспех обмундированных и плохо вооруженных. Почти не осталось иностранных частей, а из союзников - только итальянцы, мужественно сражающиеся под командованием Евгения Богарне против австрийцев. С этими импровизированными соединениями Наполеон совершал чудеса, однако дни Империи были сочтены. Вернувшиеся Бурбоны после Первой Реставрации не уничтожили полностью старую армию, но сильно ее сократили.
В линейной пехоте был расформирован ряд полков (начиная со 112 номера и выше), оставшиеся изменили свои порядковые номера за счет заполнения имевшихся вакансий (№ 31, 38,41...). В результате сохранилось 90 линейных полков, пронумерованных, как и полагается, с 1 по 90. Количество легкой пехоты было сокращено до 15 полков. В период Ста дней по возвращении Императора с острова Эльбы армия снова увеличилась в численности за счет призыва солдат, находящихся в бессрочных отпусках, а также за счет добровольцев.
Был восстановлен ряд гвардейских частей (см. гл. XIII) и иностранных формирований (гл. XII), мобилизованы батальоны национальных гвардейцев и моряков, однако количество линейных и легких пехотных полков осталось прежним. Единственное, что сделал Император, - пополнил ряды и вернул частям их старые номера, с которыми они прославились в сотнях боев.
Во время Второй Реставрации вся армия как оплот бонапартизма была полностью расформирована и воссоздана в сильно уменьшенном виде уже на абсолютно иных началах.
Кавалерия
В эпоху Революционных войн кавалерия переживала если не упадок, то, по крайней мере, явно играла в армии второстепенную роль. В отличие от пехоты, ряды которой пополнялись за счет создания волонтерских батальонов, а позже вследствие принудительных наборов, численность конных частей не увеличилась. Доброй воли и патриотического порыва было недостаточно для создания полноценных кавалерийских полков. Не хватало опытных кадров, а главная проблема состояла в нехватке лошадей. Поэтому в знаменитых победах республиканской армии кавалерия чаще играла второстепенную роль, всю основную "работу" выполняли пешие части.
Возрождение кавалерии началось в Итальянской армии Бонапарта. Несмотря на относительную малочисленность своих эскадронов, молодой полководец отвел им важнейшую роль в стиле ведения войны, который стал отныне его полководческим почерком. Из рядов Итальянской армии вышли в скором времени знаменитые кавалерийские начальники Мюрат, Лассаль, Бессьер...
Когда Бонапарт стал Первым консулом, одной из важнейших задач в деле реорганизации армии для него стало приведение в порядок кавалерийских полков. Количество и названия частей на первых порах были сохранены. Всего в 1799 г. кавалерия насчитывала 83 полка:
■ 2 карабинерских
■ 25 кавалерийских (так назывались полки тяжелой кавалерии)
■ 20 драгунских
■ 23 конно-егерских (они имели нумерацию с 1 по 25, без 17 и 18, расформированных в 1794 г.)
■ 13 гусарских (гусары имели нумерацию с 1 по 12; 7-й номер имели два полка: 7 и 7-bis
(К ним были добавлены только два гвардейских конных полка, но об этом в отдельной главе.)
Главной целью Первого консула было пополнение некомплектных частей людьми и лошадьми, их вооружение, обмундирование, экипировка и обучение, ибо состояние, в котором Директория оставила кавалерию, было плачевным. 6-й гусарский считался далеко не худшей конной частью французской армии, однако вот что отмечает рапорт инспекции от 25 вандемьера VII года (16 октября 1798 г.): на 797 человек, реально состоящих на службе в полку, имелось только 645 лошадей. Из обмундирования эти же 797 человек имели только 35 ментиков, 560 доломанов и 470 форменных штанов на всех - что уж говорить о второстепенных предметах униформы: поясах, киверах, плащах. Только на 531 лошадь имелись седла! Рапорт отмечает также крайний разнобой в вооружении, плохую экипировку, недостаточное обучение рядовых владению конем и т. д.3 Необходимо было срочно привести в порядок имеющиеся части. Последовательная работа в этом направлении привела к тому, что к 1801-1802 гг. кавалерия постепенно начала приобретать достойный вид. В этот период Бонапарт задумал осуществить реформу, которая в корне должна была изменить облик конных войск и привести их в соответствие с его концепцией использования этого рода войск. Наполеон желал покончить с "распылением" кавалерии, которое было характерно для организации республиканских армий; он планировал использовать ее на поле боя крупными массами для прорыва фронта неприятеля и развития тактического успеха. (Подробнее мы остановимся на этом в главе VII.) Кроме того, Первый консул обратил внимание на то, что каски и кирасы, которых были практически лишены конные полки в эпоху Революции (каски носили только драгуны, а кирасы только один полк - 8-й кавалерийский, бывший "Королевский кирасирский"), далеко не изжили себя. Отказ от защитного вооружения был в конце XVIII в. явно преждевременным, и только появление во второй половине XIX в. дальнобойного и скорострельного нарезного оружия сделает действительно нерациональным ношение кирас. В Наполеоновскую эпоху стальной нагрудник еще надежно защищал всадника не только от сабельных ударов, но и от пистолетных и даже ружейных пуль, выпущенных с дальней дистанции. Поэтому 10 октября 1801 г. по распоряжению Первого консула 1-й кавалерийский полк должен был получить кирасы, в сентябре 1802 г. за ним последовали 2-й, 3-й и 4-й, а в декабре того же года - 5-й, 6-й и 7-й полки. Наконец, консульский декрет от 1 вандемьера XII года (24 сентября 1803 г.) полностью видоизменял структуру кавалерии. Отныне все кавалерийские полки с 1 по 12 становились кирасирскими. Им выдавались не только кирасы, но и стальные каски. Прочие же кавалерийские полки либо переводились в драгуны (с 13 по 18), либо вообще расформировывались (с 19 по 25), а люди и конный состав должны были пополнить недокомплект в остальных частях. Одновременно 11й и 12-й гусарские, а также полк со странным номером 7-bis(существовавший параллельно с 7-м в течение всех революционных войн) переводились, к великому разочарованию щеголей гусар, в драгунские части. Отныне кавалерия была сведена в 78 полков:
■ 2 карабинерских
■ 12 кирасирских
■ 30 драгунских
■ 24 конно-егерских*
■ 10 гусарских.
* В мае 1802 г. пьемонтские гусары, включенные во французскую армию, стали 26-м конно-егерским полком (напомним, что два номера остались вакантными).
Планшет 11. Карабинеры 1804-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 13. Кирасир и трубач 9-го полка, 1806-1807 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Подобное переформирование отражало тактическую и стратегическую концепцию Наполеона. Кирасиры, сведенные в дивизии, должны были осуществлять таранный удар в генеральных сражениях; гусары и конные егеря - быть кавалерией аванпостов, "глазами и ушами" армии, сражаться в авангарде и арьергарде; драгуны большими массами должны были идти впереди пехотных дивизий, при необходимости спешиваясь и удерживая важные позиции до подхода основных сил - отсюда возникала необходимость увеличения численности данного вида оружия. Разумеется, на поле боя все кавалерийские части должны были быть готовыми к выполнению любой задачи.
Преобразования в общей концепции конных войск почти не затронули их внутренней структуры. Как и ранее, полки делились на несколько эскадронов, а эскадрон на две роты. Каждая рота в военное время теоретически состояла из:
| Карабинеры | Кирасиры | Драгуны | Гусары конные егеря | |
| Капитан | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лейтенант | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суб-лейтенант | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Старший вахмистр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вахмистры | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Бригадиры-фурьеры | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Бригадиры | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Рядовые (имеющие коней) | 74 | 66 | 76 | 86 |
| Рядовые (без коней) | 0 | 8 | 20 | 10 |
| Трубачи | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Итого: | 86 | 86 | 116 | 116 |
Численность эскадронов в полках в период Консульства и Империи постоянно варьировалась - то вводился, то отменялся пятый эскадрон. Например, в кирасирских полках он был введен в августе 1805 г. Отныне каждый полк одетых в броню кавалеристов имел 4 действующих эскадрона и 1 эскадрон в депо. 31 августа 1806 г. опять вернулись к 4-эскадронному полку: 3 боевых эскадрона и 1 в депо. 10 марта 1807 г. вновь введен 5-й эскадрон. 18 января 1810 г. он снова отменен, в марте 1812 г. снова введен... Вполне понятно, что в бурную эпоху Империи в условиях постоянных войн эти противоречивые приказы часто оставались на бумаге и реальная численность эскадронов в полках зависела от многих факторов, но в общем полки состояли большей частью из 3-4 действующих эскадронов, хотя встречались и 2- эскадронные полки.
Состав штаба полка (см. Приложение IV) и численность рот также претерпевали изменения, однако весьма незначительные. Реальное же число кавалеристов в полку было еще более подвержено влиянию обстоятельств, чем число солдат в пеших частях, и варьировалось от 200 до 1000 человек, причем наиболее типичными были, пожалуй, части, имевшие в строю в 450-600 кавалеристов.
В течение периода Консульства и Империи было принято только одно постановление, серьезно корректировавшее внутреннюю структуру полков. Указом от 18 вандемьера X года (10 октября 1801 г.) во всех кавалерийских полках были введены элитные роты. Отныне 1-я рота каждого полка должна была быть сформирована из лучших кавалеристов и носить специальные знаки отличия (в большинстве случаев это красные эполеты, как у гренадер, и меховые шапки "colback" с красным султаном).
Планшет 18. Гусар и трубач 9-го полка 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Исключение составляли карабинеры и кирасиры, которые рассматривались как элита кавалерии, своеобразные "гренадеры" конных войск и потому не имели в своем составе элитных рот (все рядовые этих полков носили красные эполеты). Отныне 1-й эскадрон гусар, конных егерей или драгун состоял из элитной, первой по номеру, и пятой рот; 2-й эскадрон - из второй и шестой; 3-й - из третьей и седьмой; и, наконец, 4-й - из четвертой и восьмой рот.
Кавалеристы элитных рот блистали на всех парадах, открывая шествие полка, они же составляли эскорт орлов, а также выделялись для всех опасных и ответственных боевых задач. Создание элитных рот в кавалерии логически вытекало из общей политики Бонапарта как в отношении армии, так и в отношении общества в целом. Консул, а затем Император, умело разжигал честолюбие каждого солдата и офицера целой системой поощрений и наград (о чем будет говориться в Приложении IV). Самой простой из них, почти ничего не стоящей государству, зато необычайно эффективной, был перевод военнослужащих в элитную роту, с ее столь яркими и видимыми внешними отличиями.
Численность кавалерии не прекращала возрастать в течение всего периода Империи, вплоть до кампании 1812 г.
В сентябре 1806 г. сформирован полк бельгийских шеволежеров князя Аренбергского, преобразованный в мае 1808 г. в 27-й конно-егерский. В марте 1807 г. сформированы части польских шеволежеров, впоследствии знаменитые уланы Вислинского легиона (2 полка). В ходе Испанской кампании создавались временные кавалерийские полки из эскадронов различных частей, в общей сложности здесь было сформировано 3 временных полка тяжелой кавалерии, 8 драгунских, 3 конно-егерских и 4 гусарских, впрочем, многие из них лишь на непродолжительное время. В декабре 1808 г. 1-й временный полк тяжелой кавалерии стал 13-м кирасирским, а в 1810 г., после присоединения Голландского королевства к Франции, из голландских кавалеристов были образованы 14-й кирасирский и 11-й гусарский полки и т. д. (см. Приложение V).
Нужно отметить также серьезное изменение в составе конницы, осуществленное декретом от 18 июля 1811 г. Вследствие успеха, который имела кавалерия, вооруженная пиками, в предыдущих кампаниях, Император распорядился создать полки французских шеволежеров, которые должны были получить пики по образцу польских улан. Шесть первых полков были организованы за счет перевооружения 1, 3, 8, 9,10, 29 драгунских полков. Кавалеристы этих частей получали также новую форму и проходили специальное обучение под руководством польских инструкторов.
7-й и 8-й шеволежерные полки были созданы из кавалеристов Вислинского легиона, сохранивших типичную форму польских улан, а 9-й из конно-егерского полка, набранного в Гамбурге.
К этому надо прибавить значительный численный рост гвардейской кавалерии (см. гл. XIII). Но особенно большое пополнение в конных массах Великая Армия получила за счет союзников: прекрасных польских, вестфальских, саксонских, баварских, вюртембергских и других кавалерийских полков. Эти части сражались не только как союзные формирования - некоторые из них включались временно в ряды французской армии и получали жалованье от французского военного министерства. В этом случае полки надевали трехцветную кокарду Франции.
Потери в людском и конном составе в ходе Русской кампании нанесли кавалерии Великой Армии ужасающий удар. Из почти сорокатысячного кавалерийского резерва (1329 офицеров, 37 231 унтер- офицеров и рядовых) в строю на 15 января 1813 г. осталось три с небольшим тысячи всадников (71 офицер, 2938 унтер-офицеров и рядовых)4. Остальные были убиты, ранены, обморожены, попали в плен. Однако было бы неверно утверждать, что Великая Армия осталась без кавалерии. Неимоверными усилиями Императору удастся к лету 1813 г. поставить в строй новые массы людей и коней. Более того, 28 января было сформировано даже два новых гусарских полка. Но, без сомнений, в качественном и количественном отношении новые полки будут уступать знаменитой коннице 1812 г. Тем не менее кампанию 1813 г. нельзя сравнивать с революционными войнами, где растворившаяся среди масс пехоты кавалерия оставалась на вторых ролях. Даже понесшая серьезные потери, она будет совершать массированные атаки, такие как под Вахау 16 октября 1813 г., где неаполитанский король произвел атаку четырьмя кирасирскими дивизиями, поддержанными драгунской дивизией Пажоля, частью гвардейской кавалерии и польскими конными полками — в общей сложности 12 тыс. кавалеристов, разделенных на две большие группы.
В кампанию 1814 г., ослабленная и качественно и количественно, как и пехота, французская кавалерия будет, однако, душой всех боевых успехов. Шампобер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Монтеро, Реймс - эти победы наполеоновской армии вызывают в памяти прежде всего безумные кавалерийские атаки блестящих командиров конных соединений: Пажоля, Пире, Экзельманса, Груши... Наконец, последняя битва Империи, Ватерлоо, - это не только самоотверженность погибающих каре гвардейской пехоты, но, быть может, еще более - безумная отвага кирасир, атакующих плато Мон-Сен-Жан. Ну и самая последняя победа наполеоновской армии была кавалерийским боем. 1 июля 1815 г. неподалеку от Версаля у деревушки Роканкур кавалерия Экзельмана преподала урок зарвавшимся пруссакам, наголову разбив прусскую кавалерийскую бригаду генерала фон Зора.
Артиллерия
Наполеон Бонапарт, артиллерист по образованию, получил в наследство от армии Старого Порядка и Республики великолепную артиллерию. Еще до Революции она считалась лучшей в Европе, как в отношении материальной части, блистательно организованной знаменитым Грибовалем (см. следующую главу), так и в отношении подготовки офицерского и рядового состава. Революция нанесла артиллерии, в отличие от других родов войск, значительно меньший урон. Дело в том, что офицеры в артиллерийских частях преимущественно были выходцами либо из образованных слоев третьего сословия, либо из небогатого просвещенного дворянства (яркий пример - сам Наполеон). В обоих случаях это были люди, если и не с восторгом принявшие Революцию, то, как минимум, с пониманием. Рядовые же и унтер-офицеры этого рода войск, слывшего "научным", были тесно связаны со своими командирами узами корпоративной солидарности, годами, проведенными вместе в учебных классах и на полигонах. Поэтому революционная анархия не захлестнула артиллеристов. Они в большинстве своем приняли идеи нового строя, не последовав, однако, за разгулом черни. Символично, что под Вальми, в первой битве Революции, вражеское наступление было остановлено исключительно артиллерийским огнем, пехота была лишь свидетельницей, но не участницей столкновения. В течение всех войн 1-й Республики артиллерия действовала безупречно, несмотря на развал в экономике и финансах, а следовательно, и на неминуемые перебои со снабжением. В период этих войн произошел целый ряд организационных изменений, но так как их изучение выходит за рамки этой книги, отметим лишь одно наиболее важное - появление и повсеместное распространение конных батарей. Созданная в апреле 1792 г., конная артиллерия в скором времени насчитывала в своих рядах сотни артиллерийских орудий. "Она делала чудеса. Во время войн на территории Германии простые капитаны этого рода оружия порой становились известными всей армии..."5 - писал генерал Фуа.
В результате к моменту прихода к власти Бонапарта французские войска располагали 8 полками (20- ротного состава) пешей и 8 полками (6-ротного состава) конной артиллерии и очень скоро были значительно усилены. Отмечая организационные особенности артиллерийских частей, необходимо напомнить, что в отличие от пехоты и кавалерии артиллерийский полк являлся единицей чисто организационной и административной. Крупным войсковым соединениям были приданы отдельные батареи (роты), а так как война продолжалась практически непрерывно уже долгие годы, роты столь сильно перемешались, что обычно в одном месте находились артиллерийские подразделения различных полков, объединенные под командованием старших офицеров и генералов для решения оперативно-тактических задач. Однако артиллерийский полк - далеко не фиктивное понятие. Депо полков было тем центром, с которым постоянно связывались разбросанные батареи, откуда они получали материальную часть, личное оружие, униформу и т. д. Наконец, депо артиллерийских полков были центрами подготовки офицеров и унтер- офицеров артиллерии.
До Революции расположение артшкол, которых было восемь, совпадало с местом расположения полков, и они являлись неотъемлемой частью последних. В эпоху Консульства и Империи депо полков неоднократно перемещались, однако они по- прежнему продолжали располагаться преимущественно в городах, где остались подготовительные центры. Так, в 1802 г. депо 1-го полка пешей и 5-го полка конной артиллерии располагались в Ла Фере. Название города говорит само за себя, ведь будущий Император начинал свою службу в Лаферском артиллерийском полку. Другие части имели депо в следующих городах (на 1802 г.): 2-й полк пешей артиллерии - в Пьяченце (Италия), 3-й - в Тулузе, 4-й - в Гренобле, 5-й -.в Меце, 6-й - в Ренне, 7-й - в Страсбурге, 8-й - в Дуэ. Там же находились депо полков конной артиллерии, оружейные мануфактуры, а также были расквартированы роты рабочих артиллерии (всего их было 12). Несмотря на то достойное положение, которое артиллерия сохранила во всех превратностях Революции, и в этом роде войск необходимо было провести ряд важных реформ. Первый консул осуществил "селекцию" командного состава артиллерии "с целью устранить посредственный или, скорее, ничтожных офицеров, а также очистить ее (артиллерию) от тех немногих людей, которые позорили этот род войск"6. Для решения этой же задачи было проведено сокращение численности артиллерийских частей: 7-й и 8-й конноартиллерийские полки были расформированы, что позволило заполнить вакансии, образовавшиеся за счет увольнения ряда офицеров. Несмотря на сокращение числа полков, реальная сила артиллерии возрастала. В апреле 1803 г. полки пешей артиллерии были увеличены на две дополнительных рога. На 16 термидора XIII года (4 августа 1805 г.) Франция располагала следующими силами полевой артиллерии:
| полки | роты | орудия | личный состав (в строю) | |
| Пешая артиллерия | 8 | 176 | 1108 | 14 723 |
| Конная артиллерия | 6 | 37 | 222 | 7270 |
| Гвардейская конная артиллерия | 2 | 12 | 57 |
С апреля 1803 г. каждая рота пешей артиллерии располагала 8 стволами (обычно б пушек и 2 гаубицы), каждая рота конной - 6 стволами (4 пушки и 2 гаубицы). Общая же численность артиллерийского парка Франции в 1805 г. составляла 21 938 орудий (!), из них 4506 крупного калибра (осадные), 7366 малого, 8320 гаубиц и 1746 мортир. Потребности войны и специфика тактических приемов Императора, широко использовавшего во всех своих операциях артиллерию, привели к продолжению роста ее численности. В полках пешей артиллерии вновь увеличивается число рот: в мае 1809 г. каждое полковое депо организовано в роту, в январе 1813 г. в каждом пешем полку дополнительно созданы 4 действующие роты, а в августе того же года еще две. Равным образом 1-й, 2-й и 3-й конноартиллерийские полки получили в августе 1813 г. по седьмой роте (состав и численность персонала артиллерийских полков см. в Приложении IX).
В 1810 г., после присоединения Голландского королевства к Франции, пешая артиллерии Голландии становится 9-м полком пешей артиллерии (в 22 роты, а впоследствии - как и в остальных полках), а конная образует 7-й*полк конной артиллерии. Последний, впрочем, был расформирован и влился в другие части.
Наконец, стремительно растет гвардейская пешая артиллерия. В 1810 г. она уже насчитывала 10 конных и 16 пеших рот (всего 190 орудий).
Если в 1805 г. в артиллерии было около 40 тыс. артиллеристов, солдат обоза, мастеровых, артиллеристов береговой артиллерии и т. д., то в 1813 г. количество личного состава будет уже около ста тысяч - почти столько, сколько было пехоты во всей королевской армии Франции.
Упомянув солдат обоза, мы не можем пройти мимо наиважнейшего преобразования, которое Первый консул провел в организационной структуре артиллерии. Дело в том, что в XVIII и в первой половине XIX вв. артиллерийские роты состояли лишь из канониров и орудий. В их состав не входили тягловая сила (лошади) и люди, ответственные за их обслуживание. Вплоть до установления консульства Бонапарта транспорт орудий и зарядных ящиков брали на свое обеспечение частные компании. Наиболее известными из них были "Винтер и Бурсо" (81 тыс. лошадей), "Массой и Эспаньяк" (41 тыс. лошадей), "Ланшер" (10 350 лошадей) и "Шуазо" (10 350 лошадей). Государство выплачивало определенную сумму этим предпринимателям, но организацией людей, лошадей, их снабжением и т. д. занимались они сами. Это существенно упрощало работу чиновникам Военного министерства, но создавало гигантские сложности на войне. Кучера артиллерийских упряжек, не будучи военными и не имея ни малейшего понятия о чести солдата, не испытывали желания подвергаться опасности. Поэтому нередки были случаи, когда упряжки удирали о поля боя при первых же серьезных залпах неприятеля, бросая на произвол судьбы артиллеристов. Получая нерегулярно низкое жалованье, кучера славились тем, что, будучи последними перед лицом опасности, были первыми в грабеже и воровстве. Наконец, многочисленны были и злоупотребления самих предпринимателей, которые беззастенчиво грабили государственную казну. Так, о компании "Винтер и Бурсо" все в открытую говорили, что это воры и мошенники. Понятно, что, реорганизуя государство и армию, Бонапарт не мог пройти мимо столь вопиющих злоупотреблений. Одним из своих первых указов от 13 нивоза VIII года (3 января 1800 г.) Первый консул реорганизовал артиллерийский обоз в военные формирования. Было создано 8 батальонов по 5 рот (в 1801 г. добавлены шестые роты), а в скором времени численность батальонов возросла: в 1804 г. их стало 10, в 1805 г. - 11, в 1808 г. - 13, в 1810 г. - 14. Причем в военное время (а иного практически и не было) эти батальоны (кроме 14-го) "раздваивались": к каждому из них добавлялось такое количество людей и коней, что он образовывал новый батальон под тем же номером, но с добавлением частицы "bis". Таким образом, фактически в 1810 г. было 27 батальонов армейского артиллерийского обоза и 2 батальона (по 6 рот) гвардейского артиллерийского обоза (состав рот см. в Приложении IX). Отныне каждая артиллерийская рота перед выступлением в поход получала отряд военного обоза (обычно роту) для обслуживания своих орудий. Объединенная артиллерийская рота и рота обоза назывались дивизионом и находились под командованием артиллерийского капитана. Чтобы упростить взаимоотношения между обозом и артиллерией и избежать конфликтов из-за подчинения, роты обоза находились под командованием лейтенантов или суб-лейтенантов, которые как по должности, так и по чину, должны были беспрекословно выполнять приказы капитанов командиров батареи (артиллерийской роты). Несмотря на эту полезную предосторожность, подобная система сохранила некоторые явно архаичные черты. Только в 1829 г., накануне июльской Революции, во Франции будет введена система батарей, где орудия, люди и тягловые животные будут объединены в единое подразделение под общим командованием. р Говоря об архаичных чертах в организации французской артиллерии, необходимо особо отметить одну: батальоны понтонеров, вопреки очевидной логике, но в силу традиции, относились не к инженерным частям, а к артиллерии. Эти батальоны имели в своем составе по 8 рот и сохраняли свою организацию почти на протяжении всей эпохи Консульства и Империи. 1-й батальон понтонеров находился при Великой Армии, 2-й обслуживал войска на итальянском театре военных действий. Только в апреле 1813 г. был сформирован 3-й батальон понтонеров из 6 рот, а чуть позже было добавлено 4 новых роты в 1-й батальон и две новых роты во 2-й. Депо понтонеров находилось в Страсбурге, а с 1810г. у них появилось также новое депо в Турине.
Планшет 24. Рядовой конной артиллерии, 1810-1812 гг. Рядовой батальона артиллерийского обоза, 1808-1809 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Понтон и повозка для его транспортировки.
К артиллерии были приписаны и роты мастеровых, о чем уже упоминалось. В 1802 г. их было 15, в 1805 г. - 16, в 1810 г.-18, в 1812 г.-19. Эти роты работали в арсеналах, а также выделяли некоторое количество персонала для обслуживания артиллерии на походе. При артиллерийском управлении состояли, кроме того, роты фейерверкеров (artificiers), которые были организованы как роты мастеровых. Число рот фейерверкеров также увеличивалось: 1803 г. — 1,1805 г. - 3, 1806 г. - 4, 1811 г. - 5, 1813 г. - 6. Данные подразделения занимались изготовлением боеприпасов для орудий и ремонтом ручного огнестрельного оружия.
Как видно, у артиллерийского управления было много забот. Однако не будем вдаваться во все подробности работы тыловых служб артиллерии: данная тема выходит за рамки нашего исследования. Нельзя, однако, не отметить, что к артиллерии относились также роты канониров береговой обороны, созданные в мае 1803 г. Этих рот было 100 (позже, с расширением границ Империи, - 145), и они набирались из числа лиц, освобожденных от конскрипции и имеющих возраст от 25 до 45 лет. Впрочем, служба канониров, связанная с береговой обороной их родных мест, проходила вне контакта с основной массой боевых соединений, и потому мы ограничиваемся лишь упоминанием об их существовании. В похожей ситуации находились и подразделения морской артиллерии (в 1804 г. 72 роты и приданные к ним 5 рот рабочих, а также 6 рот учеников-канониров), призванные пополнять артиллерийский персонал корабельных экипажей и обслуживать береговые батареи, находящиеся в подчинении флота*. Наконец, к артиллерийскому управлению относились и роты канониров-ветеранов, сформированные из бывших сверхсрочников и реформированных по здоровью военнослужащих. Они несли службу только в гарнизонах по месту жительства. Этих рот было 13 в 1801 г., 14 - в 1804 г., 18 - в 1805 г., 25 - в 1814 г. Среди них была и образованная в 1812 г. рота канониров - ветеранов Гвардии, призванная составить гарнизон Венсеннского замка под Парижем, где находилось депо гвардейской конной артиллерии.
* Как уже отмечалось в разделе, посвященном организации пехоты, в 1813 г. из личного состава морской артиллерии было набрано 4 полка пехоты, героически сражавшиеся под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, а также в кампанию 1814 г.
Как свидетельствуют факты, Император располагал мощной и самой многочисленной в Европе (а значит, и в мире) артиллерией. Эти огромные массы орудий находились в ведении крупных специалистов артиллерийского дела. Среди генерал-инспекторов этого рода войск нельзя не упомянуть имена Николя- Мари де Сонжи де Курбон (инспектор с 1804 по 1810 гг.), Жана-Амбруаза Бастона де Ларибуазьера (18101812), Жана Бартеллемона Сорбье (1813— 1815), блестящих артиллеристов - теоретиков и практиков, - умевших прекрасно работать пером в тиши рабочего кабинета и управлять массами орудий в грохоте великих битв. Нельзя не отметить также генерала Гассенди, первого генерал-инспектора артиллерии (1800-1801), который с августа 1801 г. по апрель 1813 г. возглавлял подразделение Военного министерства, ответственное за артиллерию и инженерные войска. Этот опытный офицер отличался не только завидными организаторскими способностями, но был одновременно и крупным ученым. Его двухтомный труд «Справочник для офицеров французской артиллерии» стал настольной книгой для всех европейских артиллеристов. Благодаря деятельности этих блестящих ученых и солдат, французская артиллерия в эпоху Наполеона стала поистине грозной силой и гордостью Великой Армии.
Инженерные войска
Несмотря на то что фортификационные сооружения дореволюционной Франции славились своим качеством во всем мире, а королевская армия слыла особо искусной в осаде крепостей, сооружении полевых укреплений и прокладке дорог, страна не располагала инженерными войсками в современном понимании этого словосочетания. В армии Старого Порядка имелась лишь блестящая плеяда офицеров, входивших в Королевский корпус инженеров, которые руководили работами переданных в их временное распоряжение солдат различных полков или мобилизованных крестьян. Интересно, что созданные в 1759 г. роты саперов и минеров были приданы артиллерии и работали во время осад лишь для обеспечения функционирования батарей. Только в эпоху Революционных войн, в 1793 г., было принято решение о создании специальных инженерных частей. К моменту прихода к власти Бонапарта Франция располагала, кроме корпуса офицеров инженерных войск, четырьмя батальонами саперов и шестью ротами минеров. Организация инженерных частей была закреплена указом Первого консула от 18 вандемьера X года (10 октября 1801 г.). Корпус офицеров инженерных войск насчитывал 365 человек, прежним оставалось и число батальонов и рот. Каждый батальон саперов имел в своих рядах штаб и 9 рот общей численностью 40 офицеров и 568 рядовых и унтер-офицеров.
Подобно другим родам войск, численность инженеров в связи с нуждами войны быстро росла. В 1806 г. уже было 7 батальонов саперов и 16 рот минеров, которые были также сведены в батальоны (2 батальона по 810 человек). Декретом от 25 марта 1811 г. по образцу артиллерии был создан батальон обоза инженерных войск, а в феврале 1812 г. из числа испанских солдат на французской службе организован 8-й саперный батальон. Впрочем, к 1814 г. большие потери заставили сократить численность инженерных войск и свести оставшихся саперов в 5 батальонов.
Так же, как и артиллеристы, саперы и минеры наполеоновской армии были элитными частями. Во время осад и штурмов они шли впереди, считая за честь первыми встречать вражеские пули и ядра. Особенно отличились инженерные части в осадах и оборонах крепостей на Пиренейском полуострове, где они доказали неоспоримое превосходство над противником - испанцами, англичанами и португальцами, - поддержав славу «ученых» частей французской армии (артиллеристов и инженеров традиционно считали одними из лучших в Европе). Образцово проведенные осады и штурмы сильнейших крепостей- Лериды, Сиудад-Родриго, Таррагоны, Тортозы, Микенензы, Сагунта, Хероны, - защищаемых фанатичными и многочисленными гарнизонами, взятие Сарагосы, героическая оборона Бадахоса и в особенности блистательная защита цитадели Бургоса, где 1800 французских солдат 35 дней удерживали укрепления от атак сорокатысячной армии Веллингтона и заставили англичан снять осаду, являются неоспоримыми доказательствами боевых качеств французских инженеров. В значительной степени этими достижениями французская армия обязана незаурядному командному составу. Среди французских военных инженеров и фортификаторов особенно выделяются имена Шасслу-Лоба, героя осад Штральзунда и Данцига, автора новых укреплений Александрии, Магдебурга, Венеции и Анконы; Аксо, знаменитого благодаря взятию Сарагосы и Лериды, укрепившего Дарданелльский пролив против английских атак и построившего укрепления Гамбурга; и, конечно же, имя знаменитого Лазара Карно*, «организатора побед» Республики, героя обороны Антверпена в 1814 г. Его трактат «О защите крепостей», опубликованный в 1811 г., стал настоящей классикой военно-инженерной мысли. «Из того, что написано здесь, - завершает свою книгу Карно, - вытекает, что... хороший гарнизон, утвердившийся в одной из наших современных крепостей и одушевленный желанием отличиться памятной обороной, может столь долго, насколько у него хватит припасов, держаться против десятикратно превосходящей его в численности армии и надеяться не только сорвать ее намерения, но и разбить ее, если она будет упорствовать в своем желании победить его сопротивление»7. Самое замечательное, что эту мысль Карно блистательно доказал три года спустя в реальном бою.
* См. биографию в Приложении.
Э. Детайль. Саперы во время подготовки штурма.
А. Адам. Переход через Днепр у Дорогобужа 26 августа 1812 г. На переднем плане французские саперы восстанавливают разрушенный мост через Днепр.
Организация соединений наполеоновской армии
Ознакомившись с организацией отдельных родов войск, рассмотрим, каким образом Император объединял их для решения оперативно-тактических задач.
В большинстве европейских армий середины XVIII в. фактически не было более крупной организационной единицы, чем полк. Во французской королевской армии, правда, существовали бригады - объединения двух полков, однако это мало что меняло в общей оперативно-тактической картине. Когда армия строилась для боя или выступала в поход, назначался соответствующий боевой или походный ордер. В боевом порядке между генералами распределяли командование линиями или их частями, на походе - колоннами. Во французской армии этого периода существовало нелепое с современной точки зрения военное правило «roulement des generaux» (смена генералов). Оно заключалось в том, что генералы получали командование по очереди, так что авангард, сегодня командуемый генералом А, назавтра передавали генералу В, затем генералу Сит. д., благо что генералов было больше, чем соединений. Конечно, все эти особенности происходили не от глупости полководцев XVIII в., а из-за определенных особенностей армий этого периода. Тем не менее в условиях революционных войн они выглядели явно архаичными.
Спонтанно, как и в области тактики и оперативного искусства, новые масштабы борьбы вызвали к жизни и новые организационные формы. В армиях Республики появились постоянные крупные объединения - дивизии (французское - Стаоп; дословно: «деление», «членение» или, иными словами, «отделенная часть»). К чести королевской армии нужно отметить, что создание подобных соединений планировалось еще до Революции. Дивизии состояли из 4-5 пехотных полубригад (впрочем, были самые разные дивизии, имевшие 3, 6, 7 и более полубригад), нескольких полков кавалерии и артиллерийских рот. Иногда в состав дивизии входили и отряды инженерных войск. Сами же дивизии объединялись в армии. В самом факте существования дивизий - отрядов с наличием всех родов войск - не было ничего нового. Новое заключалось в том, что эти соединения организовывались не для выполнения одной конкретной задачи, после чего растворялись в остальной массе войск, а существовали в течение продолжительного времени. Командующий армией оперировал дивизиями, как кубиками, из которых складывались группировки, необходимые ему, оставляя дивизионным генералам большую свободу в расстановке и использовании наличных сил. Подобная система, несомненно, была более гибкой, чем прежняя; более того, она была единственно возможной при сильно возросшей численности армии. Однако дивизионная система в том виде, в котором она существовала в эпоху Революции, не была свободна от существенных недостатков. Разделив все свои силы на однотипные дивизии, главнокомандующий не мог отныне воспользоваться преимуществами, которыми в определенных условиях мог обладать тот или иной род войск, употребленный в «чистом» виде. Для использования масс кавалерии или артиллерии понадобилось бы снова раздробить соединения: скажем, забрать у нескольких дивизионных генералов на время их конные части. Но подобная операция отняла бы у главнокомандующего много времени и... нервов. Клаузевиц, прекрасно знакомый с поведением людей на войне, пишет: «...командир каждой части полагает, что он имеет какие-то собственнические права на все подчиненные ему войска, и поэтому упорствует почти всякий раз, когда какая-либо их часть отнимается у него на более или менее продолжительное время. Кто имеет хоть некоторый боевой опыт, тому это вполне ясно»8. Поэтому в эпоху Революции мы постоянно встречаемся с распылением усилий отдельных родов войск. Правда, нужно отметить, что командующие армиями оставляли в своих руках так называемый отдельный резерв, состоящий в большинстве случаев из кавалерии. Однако он был малочислен, и его явно не хватало для решения отдельных оперативно-тактических задач. Возьмем для примера одну из типичных республиканских армий - Самбро-Маасскую армию Журдана. На 1 октября 1795 г. в составе армии общей списочной численностью 82 796 было 8 дивизий примерно равной численности, т. е. около 10 тыс. человек (± 2 тыс.), и резерв под командованием генерала Арвиля - 4 полка тяжелой кавалерии общей численностью 1 593 человека (и это на восьмидесятитысячную армию!). Ясно, что сил подобного резерва не хватило бы даже, чтобы прикрыть отступление в случае неудачи, не говоря уже о самостоятельных активных действиях. Наполеон на своей боевой практике понял недостатки системы и, взяв из нее все лучшее, значительно усовершенствовал ее. Уже в 1800 г. во 2-ю Итальянскую кампанию армия под его личным командованием была организована иначе. Главные силы армии (44 тыс. человек) Первый консул разделил на четыре корпуса (впрочем, само название еще не появилось): первый авангардный (Ланна) включал пехотную дивизию без кавалерии и бригаду кавалерии, два других (Дюэма и Виктора) имели по две пехотные дивизии вообще без кавалерии. Четвертый, под командованием Мюрата, состоял из лучших кавалерийских полков и небольшого отряда конной артиллерии. Наконец, имелся отряд Гвардии, тогда еще малочисленный, но уже снабженный хорошим артиллерийским резервом. Таким образом, маленькая армия Бонапарта имела (в процентном отношении) значительный резерв,
составленный из отборных частей кавалерии, артиллерии и гвардейской пехоты (около 5 тыс. человек и 18 орудий); кавалерия вырвалась из «пут» пехотной дивизии и, находясь в руках командующего, могла отныне решать самостоятельные тактические задачи. Обращает на себя внимание тот факт, что пехотная дивизия, оставшаяся без поддержки конницы, теряла в своей самостоятельности, но этого и добивался Бона - парт. Перед нами вырисовывается картина диалектического развития по спирали: от армии как единого нерасчлененного блока в конце XVII - середине XVIII вв. к армии, состоящей из плохо связанных, почти независимо друг от друга действующих дивизий эпохи Революции, и опять-таки к сильно централизованной армии, состоящей из гибких группировок, имеющих определенную возможность автономных действий. Нужно отметить, что в Рейнской армии, где фактически независимо от Консула «правил» генерал Моро, также появились зачатки корпусов и наметилось выделение сильного резерва. Однако там, несмотря на большую численность войск (103 тыс.), гораздо сильнее были выражены архаические черты: распыленность кавалерии и артиллерии и, кроме того, непосредственное командование резервным корпусом самим полководцем, что отвлекало его от общего управления войсками.
В полной мере наполеоновская концепция организации вооруженных сил на театре военных действий проявилась в 1805 г. при создании Великой Армии. Название «Великая Армия» впервые появилось в приказе от 29 августа 1805 г. Этим именем были названы соединения бывшей «Армии берегов океана», двинувшиеся в Германию под личным командованием Императора. Приказом того же дня фиксировалась и организация этой массы войск, отныне ставшая образцовой. Подробная структура Великой Армии на основе впервые публикуемых архивных документов приведена в Приложении VI. Это описание относится ко второй половине ноября 1805 г., когда наполеоновские полки форсированными маршами шли по дорогам Австрии и Моравии.
Из документа видно, что Великая Армия9 насчитывала в своих рядах в общей сложности 176 тыс. человек и была разделена на 8 больших групп войск, названных армейскими корпусами: 7 корпусов просуществовали в течение всей кампании, а один - под командованием маршала Мортье - был создан для выполнения конкретной боевой задачи, после чего составлявшие его дивизии были возвращены в свои соединения. Каждым корпусом командовал маршал Империи, исключение составлял 2-й корпус Мармона: последний получит звание маршала только в 1809 г. Кроме этих восьми корпусов, существовало также крупное соединение отборных частей - Императорская Гвардия, в которой, как и во всех прочих корпусах, имелись все три рода войск. Наконец, Император располагал внушительными массами конницы и артиллерии, не приданными ни одному корпусу - резервной кавалерией и главным артиллерийским парком. Каждый армейский корпус состоял из штаба, 2-х или 3-х пехотных дивизий (минимум из 6 батальонов пехоты, максимум - из 11), кавалерийской дивизии (10-14 эскадронов, кроме 7-го пехотного корпуса, где был всего лишь один полк кавалерии), артиллерии конной и пешей с обозом и нескольких рот саперов и минеров; наконец, 1, 2, 3 и 6 корпуса имели отряды понтонеров. Общая численность корпуса варьировалась от 12 тыс. человек (7-й корпус Ожеро) до 26 тыс. человек (4-й корпус Сульта). В большинстве корпусов пехотные дивизии не имели кавалерии - она была окончательно передана в распоряжение высших эшелонов командования. Более того, кавалерийские дивизии армейских корпусов состояли только из гусар и конных егерей* и призваны выполнять прежде всего функции боевого охранения, разведки и поддержки пехоты в небольших стычках. Тем не менее данное расписание показывает, что в ряде случаев маршалы получали возможность вводить в состав пехотных дивизий кавалерийские части и, наоборот, придавать пехоту крупным кавалерийским отрядам. Так, в 1-м корпусе Бернадотта кавалерийская дивизия Келлермана была временно разделена: к одной из ее бригад был придан 27-й легкий полк. В результате была создана так называемая дивизия авангарда из легкой пехоты, гусар и конных егерей.
* Исключение составлял 2-й корпус, он шел из Голландии и потому присоединил все возможные голландские части, куда попали и драгуны.
Однако подобные объединения применялись в основном для корпусов, действовавших изолированно, когда им было необходимо прикрывать свой маневр собственным авангардным отрядом. Нужно отметить, что, когда корпус Бернадотта присоединится к главной армии накануне битвы при Аустерлице, кавалерийская дивизия Келлермана снова сольется и будет действовать отдельно от пехоты. Основная масса кавалерии отнюдь не распылена по армии, а соединена под общим командованием знаменитого маршала Мюрата. В его распоряжении было 2 дивизии тяжелой кавалерии (Нансути и д'Опуля) и 4 дивизии драгун (Клейна, Вальтера, Бомона, Бурсье), которым была придана так называемая дивизия пеших драгун Бараге д'Илье, в которую входили 4 временных полка*. Наконец, кавалерийский резерв располагал несколькими батареями артиллерии. В подобном распределении сил явно прослеживается мысль не только о тактической, но и о стратегической роли конных масс. Драгуны, которых в Булонском лагере обучали для боя в конном и пешем строю, должны были выполнять те функции, которые во второй половине XX в. выполняют частично бронетанковые и частично десантные войска, - стратегический прорыв, захват важных пунктов в тылу неприятеля и удержание их до подхода пехотных дивизий, массовые действия на коммуникациях вражеской армии. Подобное использование драгун в столь широком масштабе было подлинным новаторством. Увы, опыт кампаний 1805 - 1807 гг. показал, что Наполеон слишком много требовал от этого рода оружия. Драгуны, усиленно занимаясь подготовкой к бою в пешем строю, ослабили свою конную выучку и в результате оказались не лучшей кавалерией и посредственной пехотой. В конечном итоге они использовались фактически как обычная кавалерия и, возможно, не самая лучшая. Поэтому с началом испанской войны, которую Император рассматривал как второстепенную, он послал на Пиренеи большую часть драгунских полков. Им пришлось работать за всех: и атаковать, как тяжелая кавалерия, и нести патрули, как легкая, и, как жандармам, преследовать гверильясов в лесах и горах. Драгуны пройдут от начала до конца всю тяжкую эпопею и в Испании вновь обретут свою славу. «Cabezas d’oro!»** - с ужасом будут восклицать вражеские солдаты при виде сверкающих на солнце касок этих отважных кавалеристов, и этот крик будет для испанцев сигналом паники...
Но вернемся к Великой Армии 1805 г. Если эксперимент с ездящей пехотой и не был особо удачным, то это никоим образом не умаляет самого принципа концентрации кавалерии; наоборот, несмотря на умеренные способности драгун 1805-1807 гг. как наездников, их дивизии сыграли огромную роль в разгроме австрийской армии Макка в 1805 г., а затем в ошеломляющем преследовании и уничтожении хваленых прусских полков в 1806 г. И поэтому присутствие крупных масс резервной кавалерии станет характерной чертой Великой Армии. Тем не менее чрезвычайно крупная концентрация кавалерии в 1812 г. (отныне это уже не дивизии, а целые кавалерийские корпуса, общей численностью 38,5 тыс. человек) привела к утяжелению ее маневра и неоправданно большим потерям на марше.
Что же касается распределения пехоты в корпусах, то здесь обращает на себя внимание ряд важных моментов. Еще раз отметим, что в отличие от отрядов, выделяемых армиями XVIII в., дивизии наполеоновской армии образуются не на один-два дня. Хотя, разумеется, Император не задавался целью сохранить во что бы то ни стало состав своих соединений (о чем говорит приведенное расписание: создание временного корпуса Мортье, временное разделение на части кавалерийской дивизии Келлермана и пехотной дивизии Друэ), тем не менее многие из них будут обладать очень большой стабильностью. Например, в корпусе Даву знаменитые дивизии Морана (в 1805 г. под командованием генерала Биссона), Гюдена и Фриана просуществовали с небольшими изменениями с 1805 г. по 1812 г. включительно. С другой стороны, в организации пехоты характерно отсутствие всякого догматизма. Когда корпусная организация будет перенята другими армиями, в частности прусской, мы увидим, как в 1815 г. с немецким педантизмом, равномерно и строго единообразно, будут распределены по четырем корпусам армии Блюхера пехотные части. Подобное единообразие отсутствует в наполеоновской армии. Более того, так как оперативные задачи у корпусов были различные, а степень доверия Императора к своим помощникам неодинакова, то и сила их дивизий различалась. Если обратить внимание на составы дивизий, то можно также заметить тот факт, о котором уже упоминалось, - постепенное стирание различий между легкой и линейной пехотой. В дивизиях Риво (из 1 го корпуса Бернадотта), Груши (из 2-го корпуса Мармона) и Гюдена (из 3-го корпуса Даву) вообще отсутствует легкая пехота. Подобное было бы маловероятным, если на самом деле в цепи стрелков могли действовать только егеря. Наконец, в составе Великой Армии, в рядах 5-го корпуса Ланна, мы видим своеобразную дивизию, которую называли по-разному: «1-я дивизия авангарда», «элитная дивизия», «гренадерская дивизия» и т. п. Это соединение, находившееся под командованием дивизионного генерала Удино, состояло из 5 временных полков двухбатальонного состава (всего 10 батальонов), а каждый батальон был образован из 6 элитных рот одного из полков легкой или линейной пехоты. В отличие от Гвардии, служившей последним резервом в руках Императора, гренадеры Удино были ударным соединением авангарда. В этом, пожалуй, и состоит их оригинальность. В остальном подобные дивизии встречаются во многих других армиях, в частности в русской знаменитая сводная гренадерская дивизия Воронцова или в австрийской армии не менее известные гренадеры д'Аспра.
* Дивизия Бараге д`Илье была сформирована для десанта в Англию. Предполагалось, что спешенные драгуны получат лошадей по прибытии на берега туманного Альбиона.
** Cabezas d’oro! (исп.) - «золотые головы», прозвище, которое получили французские драгуны в Испании из-за своих латунных касок.
Планшет 15. Офицер (командир эскадрона) 1-го драгунского полка и трубач 4-го полка 1806-1807 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Выдающийся немецкий военный теоретик Клаузевиц в своем трактате «О войне», написанном в 1818-1830 гг. и, по сути дела, резюмирующем опыт наполеоновских войн, пишет о том, что наиболее выгодное количество соединений, на которое необходимо расчленить армию, составляет 8 единиц (естественно, плюс-минус некоторое количество). Если армия расчленена на значительно большее количество составляющих, то штабу армии будет сложно справиться с управлением войсками, если на значительно меньшее, то армия станет неуклюжей вследствие удлинения иерархической лестницы, удаления главнокомандующего от непосредственного исполнителя и определенной утраты им части власти и действенности, происходящей за счет чрезмерного усиления полномочий командиров крупных соединений. Наполеон, отметим еще раз, конечно, был абсолютно чужд всякого догматизма и никак не мог читать работы Клаузевица, однако его армия делится как раз на указанные 8-9 частей (7 корпусов, Гвардия, резервная кавалерия). Вообще организация Великой Армии 1805 г. оказалась столь удачной, что фактически стала типовой во французских войсках, повторяясь в основных чертах во всех кампаниях вплоть до 1815 г. включительно, более того, с небольшими изменениями она будет повсеместно принята во всех европейских армиях.
1 Bardin. Memorial de l'officier d'infanterie. P., 1809, t. 1, p. 22-24.
2 Ibid.
3 Inspection faite a Amersfoort le 5 thermidor An XIII par le general de division Vignole // S. H. A. T. Xe 247.
4 Rigo. Le Plumet, planche V 24.
5 Foy M.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Braxelles 1827,1.1, p. 98.
6 Boulart. Memoires du general d'artillerie baron Boulart (1792-1815). P., 1992, p. 114.
7 Carnot. De la defence des places fortes, Bibliotheque Historique et Mil itate. P., 1844, t. 5, p. 687.
8 Клаузевиц. О войне. М., 1936, т. 1, с. 346.
9 S. H. A. T. C2605.
Глава VI. ВООРУЖЕНИЕ
В мирное время вы научились обращаться с оружием, на войне вы научитесь им пользоваться.
Де Брак
Прежде чем увидеть армию в ее основном деле — в бою, нам необходимо остановиться на весьма важном вопросе - вооружении.
Данная глава не претендует на то, чтобы быть пособием для коллекционеров в точном определении места и даты производства того или иного образца оружия, - для этого существуют узко специальные работы и справочники, указанные в библиографии. Здесь речь пойдет, прежде всего, о вооружении наполеоновской армии с точки зрения его боевой эффективности и того технического императива, который оно накладывало на действия подразделений пехоты, кавалерии и артиллерии.
Начнем, впрочем, с того, насколько удовлетворительно армия была обеспечена оружием. Революционная буря вызвала к жизни не только огромный численный рост вооруженных сил, но и, как вполне понятно, резкий рост потребности страны в оружии. Не хватало всего: пушек, сабель, пистолетов... Но все же самую острую нехватку армия испытывала в ружьях. Ведь основное увеличение численности войск происходило за счет пехоты. «Нам не хватает не людей, а оружия!»1 - вот лейтмотив всех докладов представителей Комитета общественного спасения с мест.
В начале 1794 г. в армии Альп не хватало двух тысяч ружей, в Северной армии не доставало десяти тысяч, а в армии Восточных Пиренеев - двадцати тысяч!2 В трех батальонах из Сен-Кантена на 2600 человек было только 600 ружей и 200 патронов! В общей же сложности примерно один из десяти солдат не имел ружья вообще, еще большее количество пехотинцев имели неисправные ружья. В результате в 1793-1794 гг. пришлось вооружать даже часть людей пиками!
Декретом Комитета общественного спасения от 23 января 1793 г. предписывалось: «...принять все необходимые меры, чтобы организовать производство оружия, достойное порыва и энергии французского народа...» Как известно, этот орган власти слов на ветер не бросал, и, подталкиваемые революционным энтузиазмом, а при необходимости - и угрозой гильотины, по всей стране заработали мастеровые. Весной 1794 г. в Париже на производстве ружей непрерывно работали около трех тысяч рабочих, изготовлявших около 700 ружей в день. На полную мощность заработали мануфактуры в Шарлевиле, Сент-Этьене, Туле, Мулене, Клермон-Ферране.
В результате огромного напряжения сил Республике в период якобинской диктатуры удалось увеличить количество изготовляемых ружей до 240 тыс. в год, а производство артиллерийских орудий для армии и флота выросло с 900 единиц в год до 12-13 тыс. Армия, таким образом, получила достаточное количество оружия, однако его качество, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Особенно снижение тщательности производства отразилось на изготовлении ружей. Появилось даже так называемое «ружье республиканской модели», представляющее собой смесь деталей от ружей различных систем. Однако, несмотря на все недостатки оружия, изготовленного в эпоху якобинской диктатуры, была выполнена основная задача - армия была снабжена необходимым; более того, усилия, предпринятые страной в этот период, позволили войскам иметь в достатке ружья и пушки и в эпоху термидорианского Конвента и Директории; тем более что численность армии, как уже указывалось, в этот период сильно сократилась.
В эпоху Консульства и Империи потери материальной части в ходе боев и новый рост численности войск снова остро поставили вопрос о производстве оружия. «Большая битва, такая как Аустерлиц, стоит, по меньшей мере, двенадцати тысяч ружей, - писал Наполеон в 1807 г., - длительные марши также приводят к значительным потерям ружей. За два года мы их потеряли 60 тысяч...»3
Необходимо было всеми силами налаживать производство. Но отныне не могло быть и речи о революционных методах в решении этого вопроса. В работе оружейных мастерских был установлен строгий порядок. Императорский декрет от 8 вандемьера XIV года (30 сентября 1805 г.) предписывал: «Никакой предмет вооружения или его часть, каково бы ни было его предназначение, не может быть произведен где-либо, кроме как на Императорских оружейных мануфактурах, и только с предварительного разрешения военного министра»4. В результате большой организационной работы качество ружей, сабель и пушек снова стало образцовым, зато в количественном отношении Франции трудно было достигнуть уровня производства периода кровавого революционного террора. Так, например, в 1806 г. французские мануфактуры дали лишь 146 тыс. ружей. Император распорядился, чтобы производилось 200 тыс. ружей в год, однако в последние годы Империи даже и этого количества стало недостаточно. В кампанию 1812 г. было утрачено около полумиллиона ружей, а в 1813 г. - около двухсот тысяч. Потому к моменту неприятельского вторжения 1814 г. в вопросе снабженности вооружением Франция снова оказалась в ситуации, напоминающей начало революционных войн. 25 ноября 1813 г. Император писал: «Трудно быть в положении более тяжелом, чем мы, в отношении ружей. Необходимо немедленно приказать изъять ружья у драгун (чтобы передать их пехоте)... Кроме 30-40 тыс. ружей модели 1777 г., которые могут давать в месяц мануфактуры, нужно производить еще 30-40 тыс., менее строго придерживаясь регламента»5. Несмотря на экстренные меры, нехватка ружей будет иметь место во многих полках, что же касается национальной гвардии, то, как и в эпоху Конвента, ее снова будут вооружать чем придется. Согласно распоряжению Императора от февраля 1814 г., охрана барьеров Парижа должна нестись «50 национальными гвардейцами с ружьями военного образца, 100 гвардейцами - с охотничьими ружьями и 100 - с пиками (!)»6.
Несмотря на эти трагические обстоятельства последних месяцев существования Империи, нельзя не отметить, что в общем наполеоновская армия была снабжена достаточным количеством оружия. Особенно это хорошо видно в отношении артиллерийских орудий: как уже отмечалось, в 1805 г. французская артиллерия имела в наличии 21 938 стволов.
Учитывая же продолжающееся интенсивное изготовление орудий в период Империи, потери в ходе кампаний с лихвой перекрывались имевшимися резервами.
Вооружение пехоты
С тех пор как в начале XVIII в. знаменитый французский инженер-фортификатор Вобан сделал простое, но гениальное изобретение — штыковую трубку, позволившую крепить штык к ружью, которое не теряло при этом возможность стрелять, а также усовершенствовал ударно-кремневый замок, сделав его простым и надежным, - кремневое ружье со штыком становится, без всякого сомнения, основным и фактически единственным оружием пехотинца. Ружье с вобановским замком практически сразу же было принято на вооружение всеми европейскими армиями и просуществовало без серьезных изменений почти полтора столетия! Во Франции начиная с 1717 г. последовательно принимались на вооружение различные его модификации. Последней, введенной незадолго перед Революцией, была модель 1777 г. Фактически с этим ружьем французские пехотинцы и прошли все войны Революции и Империи. Хотя в 1801 г. (IX году Республики) оно и было немного усовершенствовано, изменения касались лишь нескольких деталей и были незначительными (см. фото на след. стр.), поэтому, несмотря на официальное название - «ружье 1777 г., модифицированное в IX году», - его почти везде, в том числе и в официальной корреспонденции, продолжали называть просто «ружье модели 1777 г.». Как уже отмечалось, во время острой нехватки оружия появилось так называемое «ружье республиканской модели № 1», но оно было ничем иным как ружьем образца 1777 г., изготовленным более небрежно и с использованием ряда деталей от ружей предыдущих систем - 1763 и 1764 гг.: «то была смесь, которую породили и заставили временно терпеть обстоятельства Революции»7.
Поэтому, рассматривая огнестрельное оружие пехоты армии Наполеона, мы будем говорить лишь о «ружье 1777 г., модифицированном в IX году». Его основными параметрами были следующие:
общая длина 1,52 м;
длина ствола 1,137 м;
вес 4,646 кг;
калибр 17,5 мм;
стоимость (в зависимости от времени и места производства) 24-34 франка;
штык со штыковой трубкой:
общая длина 48 см;
длина клинка 40 см;
вес 0,33 кг;
вес пули:
до Революции 25,5, г,
после Революции 23,0 г
Последняя характеристика может слегка озадачить: какое отношение политические перипетии могут иметь к весу пули одного и того же ружья? Дело в том, что как более тяжелые, так и более легкие пули гладкоствольного ружья были по диаметру несколько меньшими, чем калибр ствола. Зазор был необходим, чтобы не произошло разрыва ружья из-за неизбежных неровностей внутренних стенок ствола. Чем больше было несовершенств в производстве, тем больше возрастала вероятность разрыва. Именно поэтому - из-за падения качества производства ружей в период Революции – было приказано изготовлять не 18 пуль из фунта свинца (французский фунт - 459,51 г), как это делалось ранее, а 20. Уменьшение веса и диаметра пуль, а следовательно, увеличение зазора, конечно, несколько уменьшило убойную силу и точность стрельбы, зато сделало более безопасным использование ружья. После восстановления нормального производства вооружения в эпоху Консульства было решено, тем не менее, не возвращаться к старому весу пуль -также из соображений безопасности.
Ружье образца 1777 г., модифицированное в IX году
Каковы же были боевые возможности этого ружья, бывшего долгое время универсальным оружием европейской пехоты? (В 1808 г. в России было принято на вооружение ружье, являющееся практически точной копией французского ружья 1777 г.; не намного отличались от него и ружья, использовавшиеся в других европейских армиях). В исторической литературе можно найти очень широкий спектр боевых характеристик ружья Наполеоновской эпохи, причем часто данные, характеризующие скорострельность, дальнобойность и другие параметры, весьма расходятся. Дело в том, что большинство авторов приводят не абсолютные цифры, - скажем, дальнобойности при данном угле возвышения, - а оценочные параметры эффективности, которые, конечно, весьма субъективны, особенно если принять во внимание, что гладкоствольное кремневое ружье было инструментом, требовавшим немалой сноровки для его успешного использования. Например, скорострельность ружья целиком и полностью зависела от навыков стрелка, а точность огня определялась не только верностью прицела, но и качеством содержания оружия.
Больше всего разночтений в литературе связано с вопросом скорострельности ружей с вобановским ударно-кремневым замком. Авторы конца XIX в., желая, видимо, сильнее подчеркнуть дистанцию, пройденную в развитии огнестрельного оружия, нередко сильно занижали возможности старых ружей. В России некто Федоров опубликовал исследование по развитию оружия в XIX в., где он утверждает, что ружье Наполеоновской эпохи могло давать не более одного выстрела в 1,5 минуты8. Данная цифра с легкой руки этого автора попала чуть ли не во всю русскоязычную литературу по исследуемому вопросу.
Так как проблема скорострельности имеет принципиальное значение для понимания тактики войск в описываемую эпоху, мы рассмотрим ее подробно. Прежде всего обратимся к процессу заряжания, а для этого вспомним, как действовало ружье с ударнокремневым замком. При заряжании из патрона, который представлял собой бумажную трубку с отмеренным зарядом пороха и пулей, насыпалось немного пороха на полку замка, а основная часть его высыпалась в канал ствола, куда шомполом забивалась также и пуля с бумагой, выполнявшей роль пыжа. Для производства выстрела нажимали на спусковой крючок, приводивший в действие механизм замка. Курок с кремнем ударял по огниву - изогнутой металлической пластинке - от этого удара высекались искры и одновременно открывалась полка с порохом, так как нижняя часть огнива служила крышкой для последней. Воспламенение пороха на полке через затравочное отверстие передавалось заряду в канале ствола - происходил выстрел.
Функционирование ударно-кремневого замка.
Данное описание в принципе упоминает все операции, которые необходимо было проделать с ружьем для производства выстрела. Тем не менее ряд специфических особенностей, проистекавших, в частности, из необходимости действовать с оружием в строю, вызывали создание четко отработанной системы заряжания - так называемого заряжания в 12 приемов - операции, знанием которой новобранец должен был овладеть как можно скорее. Солдат 2-го легкого полка Ж. Б. Буассон вспоминал: «Обучение продолжалось безостановочно. Наступила весна, и каждое утро мы отправлялись делать упражнения. После ружейных приемов нужно было овладеть заряжанием. Новые испытания, новые заботы, недовольные окрики унтер-офицеров... Я помню все, словно это было вчера. Построившись в одну шеренгу, новобранцы делали упражнения, стараясь как можно лучше выполнять команды» 9.
Указанные 12 приемов (команд) были следующими* :
1. Chargez vos armes («Заряжайте Ваше оружие») - «Заряжай».
По этой команде нужно было повернуть ружье, которое солдат держал в вертикальном положении на плече левой рукой, ружейным замком наружу, а затем перехватить его так, чтобы оно легло в левой руке почти горизонтально. Конец ствола должен был оказаться на уровне глаз. Затем ладонь правой руки необходимо было приблизить к замку, уперев большой палец в огниво.
2. Ouvrez le bassinet («Откройте полку») - «Открой полку».
Большим пальцем правой руки необходимо было нажать на огниво и открыть тем самым полку для пороха. (Курок стоял при этом на предохранительном взводе). Затем правой рукой солдат открывал подсумок с патронами.
3. Prenez la cartouche («Возьмите патрон») - «Вынь патрон».
Солдат брал патрон из подсумка и подносил его ко рту концом, противоположным тому, где была пуля.
4. Dechirez la cartouche («Разорвите патрон») - «Скуси».
Зубами скусывался конец бумажного патрона, так чтобы порох можно было высыпать.
5. Amorcez («Насыпьте порох») - «Сыпь порох на полку».
Порох насыпался на полку, после чего солдат зажимал большим и указательным пальцами конец патрона, чтобы порох не рассыпался в процессе дальнейших действий.
6. Fermez le bassinet («Закройте полку») - «Закрой полку».
Свободными пальцами правой руки нажатием на огниво солдат закрывал полку.
7. L’arme a gauche («Оружие налево») - «Обороти ружье».
Ружье опускалось прикладом на землю слева от солдата, ствол был повернут вперед, дуло оказывалось примерно у подбородка.
8. Cartouche dans le canon («Патрон в ствол») - «Патрон в дуло».
Солдат подносил патрон к дулу и вытряхивал внутрь порох, а пуля с бумагой притапливалась в стволе пальцем.
9. Tirez la baguette («Выньте шомпол») - «Вынь шомпол».
Солдат вытаскивал шомпол из паза в ложе ствола, разворачивал его расширенной частью вниз и направлял его в канал ствола.
10. Bourrez («Прибейте») - «Прибей».
Держа шомпол между большим и указательным пальцами, солдат должен был два раза прибить патрон, т. е. до отказа загнать пулю с бумагой в канал ствола.
11. Remettez la baguette («Вложите на место шом пол») - «В ложу».
Шомпол разворачивался в первоначальное положение и вкладывался в паз ложа ружья.
12. Portez vos armes («На плечо») - «На плечо».
Солдат возвращал ружье в исходное положение - «на плечо»: левая рука поддерживала приклад снизу ружье лежало на плече, развернутое стволом вперед, правая рука свободно свисала вдоль корпуса.
* Мы приводим команду на французском языке, ее дословный перевод и затем соответствующую русскую команду.
Замок ружья образца 1777 г. Замок находится в спущенном состоянии, пороховая «полка» открыта.
Заряжание ружья по регламенту 1791 г. (Униформа фузилеров-егерей Гвардии).
На левом рисунке показана команда «Chargez vos armes ("Заряжай")» (конечное положение).
На правом - «Prenez la cartouche ("Вынь патрон")» (конечное положение).
С этого момента ружье было заряжено. Для производства выстрела необходимо было подать дополнительные команды:
1. Appretez vos armes («Изготовьте Ваше оружие») - «Товсь».
По этой команде солдат выносил ружье вертикально перед собой ложем вперед, подхватывал его правой рукой за шейку приклада и большим пальцем правой руки взводил до отказа курок.
2. Joue («К щеке») - «Кладсь».
Ружье опиралось в плечо и осуществлялось прицеливание.
3. Feu («Огонь») - «Пли».
Солдат нажимал спусковой крючок, и производился выстрел.
Человеку, прочитавшему это описание и незнакомому до этого с кремневым ружьем, процесс заряжания должен был показаться бесконечно долгим. На самом деле речь шла, разумеется, об учебных командах. Даже так называемое «ускоренное заряжание» (charge precipitee), которое делалось в 4 приема, было тоже прежде всего учебным. Фактически в бою солдаты заряжали ружья по одной команде: «Charge a volonte. Chargez vos armes» («Свободное заряжание. Заряжай»), или еще проще: «Chargez vos armes» («Заряжай»). При этом, хотя и исполнялись все фазы заряжания в 12 приемов, но делались они практически слитно: одно движение тотчас переходило в следующее. В результате вся операция длилась не столь долго, как это может показаться на первый взгляд. Сколько же времени требовалось на это? Согласно нашему принципу, мы начнем с экстремальной цифры, которая является в своем роде «абсолютной», ибо не подвержена субъективной оценке. Думается, что эта цифра многих удивит. Согласно распоряжению прусского генерал-лейтенанта графа Ангальта, данного им в 1783 г., хорошо обученные солдаты полков, находящихся в его подчинении, должны были «давать в минуту семь выстрелов и шесть раз зарядить ружье...»10(Предполагается, что перед первым выстрелом ружье заряжено.) Будучи максимальной, строго документально подтвержденной скорострельностью кремневого ружья, эта цифра является лишь отправной точкой для выяснения реальной боевой скорострельности. Ведь речь в данном документе идет, во-первых, о стрельбе холостыми патронами, которыми ружье заряжалось куда быстрее, чем боевыми. Во-вторых, имеется в виду учебная стрельба на плацу, да к тому же одиночными выстрелами, а не залпами. Наконец, распоряжение относится к профессионалам, которыми, подчас поневоле, являлись прусские солдаты этого времени. Если же мы примем во внимание, что нас интересуют боевые патроны, боевая обстановка и реальные солдаты армии Наполеона, нам придется ввести серьезные коррективы. Уже исходя из общих соображений, понятно, что «идеальную» цифру в 7 заряжаний в минуту нужно уменьшить, как минимум, в два раза. И действительно, большинство источников сходятся на том, что солдат Наполеоновской эпохи, имеющий среднюю обученность, мог без команды зарядить и выстрелить из ружья боевыми патронами 2-3 раза в минуту. (Кстати, многие члены групп исторической реконструкции (см. Приложение XIII) вполне могут заряжать свои ружья за 20-30 секунд). Разумеется, когда велся залповый огонь по команде, стреляли куда реже, ведь необходимо было дождаться, пока зарядят ружья самые неловкие. Не могли быстро стрелять и новобранцы - ведь для проворного заряжания требовались долгие упражнения. И в том и в другом случае войска могли не успеть выстрелить и за минуту,, но это, строго говоря, не имеет никакого отношения к возможностям ружья как такового. Напротив, есть немало свидетельств и документов, подтверждающих реальность боевой стрельбы, доходящей до 4-5 выстрелов в минуту. В Пруссии, где особо обращали внимание на частоту пальбы, устав 1779 г. требует, чтобы «ежедневно так долго упражнялись с рекрутами, пока эти новички не научатся стрелять 4 раза в минуту»11.
Заряжание ружья по регламенту 1791 г. (Униформа фузилеров-гренадеров Гвардии).
На левом рисунке показана команда «Remettez la baguette ("В ложу")» (промежуточное положение).
На правом - «Appretez vos armes ("Товсь")» (конечное положение).
Впрочем, высокой скорострельности в бою препятствовали не только технические возможности ружей с ударно-кремневым замком и недостаточная обученность солдат. Использование черного пороха быстро приводило к загрязнению канала ствола. Знаменитый «Справочник для офицеров французской артиллерии» Гассенди, являвшийся важнейшим пособием для использования артиллерийских орудий и ручного огнестрельного оружия в эпоху Наполеона, предписывает тщательно промывать ствол после каждых 60-65 выстрелов12. Ясно, что эту операцию, требующую полного демонтажа ружья, невозможно было провести в ходе боя, а значит, частая пальба была чревата неприятными последствиями: в нужный момент ружье могло отказать. В частности поэтому практики военного дела описываемой эпохи не слишком гнались за частотой стрельбы. В справочнике, не менее известном, чем работа Гассенди, «Книжка пехотного офицера» полковника Бардена говорится: «Если пехотный огонь не производит большого эффекта, то это объясняется недостатком подготовки и вредной привычкой палить беспрерывно вместо того, чтобы стрелять прицельно и метко»13.
Немало противоречий встречается и в вопросе оценки дальнобойности ружей Наполеоновской эпохи. В военно-исторических трудах можно найти самые разные цифры, характеризующие дистанцию, на которой можно было вести огонь: 200 м, 400 м, 300 шагов и т. д. Конечно, как и в предыдущем случае, речь идет об оценке эффективности стрельбы. Что же касается объективных цифр, их указывают без всяких разночтений справочники того времени: при угле возвышения в 43° дальность полета пули была максимальной и составляла примерно 1000 м; при горизонтальном положении ствола она равнялась 120 туазам (234 м)14. Оценка же дистанции действительного выстрела по вполне понятным причинам различна. «Учебник для пехоты», изданный в 1808 г., указывал, что дистанция в 600-900 шагов принципиально возможна для производства выстрела, но попасть в одиночную цель на таком расстоянии можно только случайно. 450 шагов (около 300 м) оценивались как расстояние, с которого можно вести относительно действенный огонь, тем не менее авторы учебника сомневались в его целесообразности. Наконец, 300 шагов (200 м) считались ими той дистанцией, с которой стоило начинать пальбу15.
К таким оценкам были близки и выводы Бардена. Он писал: «Все выстрелы на расстоянии, большем, чем 234 м (120 туазов)*, и особенно на значительно большей дистанции, производят незначительный эффект и, следовательно, приводят к пустой трате боеприпасов и делают наше оружие менее опасным для врага»16.
* Ясно, что Барден за действительную дистанцию огня условно принял дальность полета пули при горизонтальном положении ствола, причем выраженную в туазах. Отсюда такая странная для оценочной цифры точность - 234 м.
Необходимо отметить, что точное прицеливание затруднялось из-за конической формы ствола, стенки которого были более толстыми в казенной части и более тонкими в дульной. Поэтому при стрельбе по близким объектам необходимо было целиться «под яблочко», а при стрельбе по удаленным объектам, вследствие кривизны траектории, нужно было направлять ствол выше цели. Тот же «Учебник для пехоты» дает следующие наставления: в 150 шагах (около 100 м) от неприятеля надо целиться в колени вражеского солдата; в 300 шагах - в пояс; в 450 шагах (300 м) - в шляпу; в 600 шагах (400 м) - на фут выше головы; в 900 шагах (600 м) - на 3 фута выше головы 17.
Впрочем, последние два указания имели чисто теоретическое значение, ибо, как уже отмечалось, попаданий на таком расстоянии ожидать особенно не приходилось. Согласно экспериментам той эпохи уже на расстоянии 200 туазов (390 м) среднее отклонение пули от директрисы стрельбы составляло примерно 2 фута (65 см)!
Все перечисленные показатели, конечно, разительно отличаются от возможностей современного стрелкового оружия. Однако для своего времени по отношению к общему уровню развития техники ружье с ударно-кремневым замком и, в частности, одна из самых удачных его модификаций - ружье образца 1777 г. - было весьма совершенным орудием. Тем не менее даже в масштабах Наполеоновской эпохи оно обладало рядом существенных недостатков, отмечаемых всеми тогдашними практиками военного дела.
Кроме указанного выше быстрого загрязнения канала ствола, забивалось гарью и затравочное отверстие. В ходе боя его необходимо было прочищать с помощью специальной иглы, которую солдаты носили либо на цепочке, пристегнутой к пуговице лацкана, либо на ремне патронной сумы. Из-за загрязнения затравочного отверстия, а также в результате неудачных ударов кремня об огниво случались осечки (в первом случае не воспламенялся порох в стволе, во втором случае - полке). В среднем было принято считать одну осечку на 6-12 выстрелов. В дождливую погоду число осечек резко возрастало, ну а если дождь становился проливным, пехотинцу приходилось рассчитывать только на штык - ружье фактически не могло стрелять.
Механизм замка требовал тщательного ухода, и неумелое обращение с ним резко увеличивало процент осечек и быстро выводило ружье из строя. Так, Барден отмечает, что «только один чрезмерно сильно закрученный винт приводит к нарушению функционирования всех элементов замка из-за усиления трения, изменяющего нормальное действие пружины» 18.
Солдат должен был не только прилежно чистить и смазывать ружейный замок, но и следить за состоянием кремня. Считалось, что хорошо приготовленный кремень должен был выдержать примерно 50 выстрелов.
Несмотря на все эти недостатки, ружье образца 1777 г. не уступало, а напротив, превосходило многие иностранные системы ручного огнестрельного оружия. При хорошем уходе, тщательной чистке, смазке и своевременной замене наиболее изнашивающихся частей (прежде всего пружин) оно было практически вечным. Незадолго до Революции был проведен ряд экспериментов на выносливость ружей образца 1777 г. В опытах, осуществленных контролером вооружения Бланом, было взято наугад со склада 4 обычных ружья, и из каждого из них произвели по 25 тыс. выстрелов! При этом ни одно из ружей не разорвалось, а, напротив, их состояние говорило о том, что они могут продолжать службу. Этот и ряд других экспериментов показали, что «французские ружья высокого качества и могут надежно служить, если их не портить неумелой чисткой и плохим ремонтом» 19.
Рассмотренное нами ружье образца 1777 г. состояло на вооружении подавляющего большинства французских пехотинцев эпохи Наполеона, однако оно все же не было единственным огнестрельным оружием пехоты. Роты вольтижеров линейной и легкой пехоты использовали драгунские ружья, а полковые саперы (в ряде пехотных частей также барабанщики и музыканты) - кавалерийские мушкетоны. На этих образцах ручного огнестрельного оружия мы остановимся ниже, в части главы, посвященной вооружению кавалерии. Забегая вперед, отметим лишь, что ничего принципиально иного по сравнению с ружьем они не представляли, отличия заключались лишь в размерах и деталях отделки.
Однако существовало и принципиально иное по сравнению с ружьем 1777 г. пехотное оружие. Этим оружием был карабин* с нарезным стволом. Еще с конца XV- начала XVI вв. в Европе то в одном, то в другом месте оружейные мастера создавали отдельные экспериментальные образцы нарезного оружия. В XVIII в. нарезные ружья производились в небольших количествах в Англии, Австрии, Пруссии и России, а также во Франции. Широкому распространен нию этого вида оружия препятствовала, прежде всего, сложность его заряжания. Поскольку карабин, как и обычное ружье, заряжался с дула, то пулю, завернутую в промасленную ткань, необходимо было загнать в нарезы с помощью специальной колотушки (прибойника). Разумеется, подобная процедура требовала в несколько раз больше времени, чем заряжание обычного ружья, и одновременно большей аккуратности и осторожности, чего сложно добиться в боевой обстановке. Однако выгоды карабина - большая точность и дальность стрельбы - привели во второй половине XVIII в. к созданию во многих армиях специальных подразделений, вооруженных нарезным оружием: английских «Rifles», австрийских тирольских стрелков и др. Во Франции долгое время карабин существовал лишь на вооружении от дельных элитных кавалерийских частей. Но, столкнувшись в начале революционных войн с применением противником (прежде всего австрийцами) этого рода вооружения, якобинское правительство приняло осенью 1793 г. решение широко развернуть производство карабинов во Франции. Однако изготовление нарезного оружия требовало больших средств и очень опытных мастеров, а потому не смогло стать массовым. С 1793 по 1800 гг. во Франции было произведено не более 10 тыс. карабинов20, а в 1800 г. их производство было вообще прекращено. Впрочем, в 1806 г. Император отдал приказ возобновить их изготовление. Но и на этот раз оно не приобрело большого размаха. С 1806 по 1818 гг. (время окончательного прекращения выпуска нарезного стрелкового оружия) был изготовлен всего 2091 карабин21.
* По французской терминологии конца XVIII - начала XIX вв. карабином (carabine) называлось именно нарезное оружие. Для обозначения короткого гладкоствольного ружья использовался термин «мушкетон». В России в это же время нарезное оружие называли штуцером, короткое гладкоствольное ружье - карабином, а специальное ружье с раструбом для стрельбы крупной дробью - мушкетоном. Так как в современном русском языке значения этих слов изменились, мы решили придерживаться французской терминологии.
Пистолет образца XII г. для генеральского состава. Мануфактура Буте, Версаль. © Tradition № 29.
Три карабина Версальской мануфактуры. © Tradition№ 6. Слева направо: кавалерийский карабин образца 1793 г.; пехотный карабин образца 1793 г.; пехотный карабин образца XII г.
В чем причина столь невнимательного отношения сначала республиканского, а затем Императорского правительства к оружию, которому в его усовершенствованном виде суждено будет впоследствии изменить все военное дело? Эти причины уже частично были упомянуты: чрезвычайная дороговизна и сложность производства, долгое и неудобное заряжание. Сверх этого, стоит вспомнить, что порох, которым стреляли в Наполеоновскую эпоху, был дымным. Поэтому, если гладкоствольное ружье требовало основательной чистки после 60 выстрелов, нарезы карабина забивались гарью уже после несколько выстрелов, а чистка его была очень сложным делом. При неаккуратном заряжании, если промасленная ткань, в которую была завернута пуля, не слишком плотно входила в нарезы, дальнобойность и точность резко уменьшались. Так что стрелок, потеряв время на работу колотушкой, имел шанс сделать из карабина не намного более меткий выстрел, чем из ружья. Наконец, если пуля была забита в ствол не до упора, т. е. не до контакта с пороховым зарядом, карабин мог просто-напросто разорваться.
Эти причины вполне объясняют более чем прохладное отношение французского командования к этому виду оружия. Для того чтобы оно стало действительно мощным и произвело революцию в военном деле, необходимо было изобретение простой системы заряжания с казенной части и бездымного пороха, но это произойдет лишь через несколько десятков лет и к описываемой эпохе не имеет ни малейшего отношения.
Почему же, если нарезное оружие было столь несовершенным, может удивиться недоуменный читатель, его, хотя и в ограниченном количестве, но с успехом использовали пруссаки, австрийцы и англичане? Действительно, части этих армий, вооруженные карабинами, доставили французам немало хлопот, особенно английские «Rifles» в ходе Испанской кампании и в битве при Ватерлоо, где, как рапортовал полковник Лебо, командир 1-го полка, «почти все офицеры 1-го линейного и сам полковник были ранены пулями из нарезных ружей» 22.
Причиной в значительной степени является то, что для успешного массового использования столь деликатного и капризного оружия, как заряжающийся с дула карабин, необходимо было подбирать определенных людей, уже владеющих навыками обращения с подобными образцами, как это делали, например, в Австрии, где батальоны егерей формировались из тирольцев, хорошо знакомых с нарезными охотничьими штуцерами. Во Франции подобных «самородных» стрелков не существовало, а в условиях непрекращающихся войн заниматься созданием и обучением специальных частей не было возможности. Наконец, существовал и еще один фактор - психологический. Действия с нарезным заряжающимся с дула карабином требовали холодной спокойной флегматичности охотника-профессионала, которой французы никогда не отличались. Напротив, порывистая отвага, решимость сойтись грудь грудью с врагом, которыми славились батальоны Республики и Империи, были, скорее, бесполезны для стрелка из нарезного оружия. Не следует, кстати, забывать, что карабин, в силу технической необходимости, был короткоствольным, в противном случае он стал бы еще опаснее в употреблении и невообразимо сложнее в заряжании. Поэтому, даже если бы он был снабжен длинным штык-ножом, как это делалось в австрийской, русской и ряде других армий, он все равно не мог бы достойно противостоять в рукопашном бою обычному ружью со штыком. Но у карабина Версальской мануфактуры штык вообще отсутствовал.
Кавалерийский пистолет образца XIII г. © Tradition № 3.
Именно поэтому французская пехота предпочитала обходиться без этого сомнительного вооружения. Сухой стиль справочника Гассенди вдруг наполняется страстным красноречием, когда речь заходит о карабинах. Перечислив недостатки этого оружия, автор заключает: «Из всего этого следует, что карабин - это оружие, которое не соответствует духу французского пехотинца и подходит лишь для терпеливых и флегматичных убийц». Отметим, кстати, что в русских войсках, где, подобно французам, полагались больше на отвагу и штык, чем на англосаксонское умение стрелять из-за кустов, нарезное оружие не привилось. 25 июня 1808 г. было высочайше поведено «всем нижним строевым чинам егерских полков иметь ружье с трехгранными штыками, а штуцеров и кортиков не употреблять»23.
Указ от 22 вантоза XII года (12 марта 1804 г.) и императорский декрет от 2-го дополнительного дня XIII года (19 сентября 1805 г.), создавшие роты вольтижеров в полках легкой и линейной пехоты, говорят о том, что офицеры и унтер-офицеры этих рот должны быть вооружены нарезными карабинами. Однако эти распоряжения в значительной степени остались на бумаге. Большая часть унтер-офицеров указанных рот сохранила свои старые ружья. Что же касается офицеров, то многие из них приобретали за свой счет дорогостоящие экземпляры роскошно отделанных карабинов. Это оружие служило им, впрочем, средством индивидуальной самозащиты, не более.
Сабля, предположительно принадлежавшая маршалу Бессьеру, работы знаменитого мастера Лепажа. © Tradition № 98.
Кроме огнестрельного оружия, пехотинцы располагали также и холодным. Рядовые и унтер-офицеры имели пол'усабли (sabre-briquets) с коротким клинком (около 59 см). Впрочем, это оружие трудно отнести к разряду боевого. В мемуарах и дневниках современников нам нигде не встречались упоминания о применении полусабли в сражениях, зато с отменой этого оружия у фузилеров ношение полу сабли стало знаком «элитности». Отныне право ее носить имели лишь сержанты и капралы всех пехотных частей, рядовые гренадерских и вольтижерских рот и, конечно, пехотинцы Императорской Гвардии (за исключением некоторых частей Молодой Гвардии, сформированных в 1813-1814 гг. из новобранцев). У гвардейцев полу сабля была особого образца: более длинная и нарядная, чем в линейной пехоте, и, следовательно, более дорогая. Обвязанная красивым темляком, полусабля была непременным спутником ее обладателя в момент, когда он, получив увольнение, выходил на прогулку или отправлялся в отпуск. Увы, случалось, что после лишнего стаканчика бургундского этот короткий, но весьма увесистый клинок служил для сведения счетов между товарищами по полку или соперниками из соседних частей... Впрочем, у полу сабли было и куда более мирное, а главное, более частое применение: она не раз служила солдатам подручным инструментом, например, чтобы нарубить веток для шалаша на биваке.
Как и во всех армиях Европы того времени, пехотные офицеры наполеоновской армии имели на вооружении личное холодное оружие — шпаги и сабли. Однако во французской армии, в отличие от других, шпага являлась регламентированным оружием только у офицеров фузилеров и егерей. Офицеры же гренадер, карабинеров и вольтижеров носили сабли. Впрочем, офицерское оружие мало отвечало уставным нормам. Офицеры «рот центра» нередко носили сабли, и напротив, командные кадры элитных рот часто не пренебрегали шпагами. Наконец, сами модели офицерского холодного оружия отличались большим разнообразием, хотя общий стиль в целом выдерживался. Порой, однако, были и исключения. Так, согласно ряду иконографических документов эпохи Империи, некоторые из офицеров, сражавшихся в пешем строю, использовали легко-кавалерийские сабли, которые они носили на портупее кавалерийского образца. Эти портупеи были таковы, что, когда ее обладатель был в пешем строю, сабля волочилась по земле, что, как читатель легко поймет, не особенно удобно для совершения каждодневного тридцатикилометрового марша. Увы, чтобы быть элегантным, приходилось страдать.
В заключение отметим, что, наряду с этими образцами холодного оружия, имелись и регламентированные сабли и шпаги для генералов и офицеров штаба (сабля для конного строя и шпага для выхода в город). Разумеется, генералы еще менее следовали регламенту, чем офицеры пехотных полков, и их оружие отличалось огромным разнообразием. Богато украшенные экземпляры этих видов оружия, изготовленные лучшими мастерами Европы, составляют сейчас предмет гордости любой коллекции. Однако их анализ относится больше к области искусствоведения, чем к военной истории, и выходит за рамки нашего исследования.
Наконец, существовали и специальные образцы сабель для тамбур-мажоров, полковых саперов, гвардейских моряков, составлявших часть пеших войск и т. д.
Вооружение кавалерии
«Сабля - это оружие, которому вы должны больше всего доверять; лишь в редких случаях она может отказать...»24 - эту мысль из знаменитой книги де Брака вполне разделяли кавалеристы Великой Армии. Несмотря на наличие немалого количества огнестрельного оружия в рядах конных войск Наполеона, сабля (sabre) играла решающую роль в атаках французской конницы (напомним, что «sabre» означает по-французски и саблю, и палаш). Поэтому нам кажется естественным начать описание вооружения кавалерии с холодного оружия.
Наполеоновская эпоха не внесла, да и не могла внести, каких-либо кардинальных изменений в конструкцию сабель и палашей. Тем не менее свой заметный отпечаток она оставила и здесь. Прежде всего, как и в случае с огнестрельным оружием, было покончено с революционной анархией в производстве. Отныне холодное оружие для армии производилось лишь на крупных государственных мануфактурах в Клингентале и в Версале (позже и в Турине). Здесь издавна существовала строгая система приемки качества товара, еще более ужесточившаяся в годы Империи. На каждом этапе производства будущая сабля проходила строгую проверку государственных контролеров, которые должны были поставить на принятом изделии свой личный штамп, расписавшись таким образом в его качестве. Эти люди знали, что в случае выпуска брака ответственного за него найти будет нетрудно, и потому они были неумолимы к рабочим. В случае изготовления некачественного изделия мастер не только не получал за работу деньги, что для нормального государства вполне естественно, но и возмещал убытки предприятию за напрасно переведенный металл и впустую сожженный уголь. Так что на Клингентальской и Версальской мануфактурах, как справедливо высказался Мишель Петар, «рабочий персонал был обречен на выпуск качественных изделий» 25.
Консульское, а затем и Императорское правительство предприняли меры к тому, чтобы навести порядок и в хаосе многочисленных моделей холодного оружия, использовавшегося в войсках во время Революции. В IX году (1800-1801 гг.) была образована комиссия, которая должна была выработать наиболее рациональные модели оружия для пехоты и кавалерии (именно ее трудами было усовершенствовано ружье образца 1777 г.). Комиссия выработала три образца, которые должны были стать прототипами для всего армейского холодного оружия:
1. Палаш (sabre) для тяжелой кавалерии в стальных ножнах. (Тот же палаш в кожаных ножнах предназначался для драгун.)
2. легко-кавалерийская сабля для полков гусар и конных егерей, а также для конной артиллерии.
3. Пехотная полусабля (см. выше).
Палаш и сабля образца IX года окажутся весьма удачными по конструкции и с небольшими изменениями доживут до упразднения кавалерии как рода войск. Палаш, подобный принятому в IX году, оставался на вооружении французских кавалеристов до Первой мировой войны, а сабля - вплоть до 1940 г.
Характерной чертой палаша и сабли IX года было наличие боковых дужек на эфесе, достаточно надежно защищавших руку кавалериста. Такой тип палашного эфеса имел многочисленных предшественников в XVIII в., но для легко-кавалерийской сабли подобная форма была совершенно новой. До этого французская легкая кавалерия ориентировалась в своем вооружении главным образом на венгерские гусарские сабли, а также на польские и немецкие сабли. Все указанные образцы были снабжены либо одной дужкой, либо имели лишь перекрестие эфеса. Отличалась от венгерских и польских образцов и форма клинка: отныне он был более прямой и увесистый, явно рассчитанный не только на рубящий удар, но и на укол.
Палаш и сабля IX года имели в общем немало достоинств, однако боевая практика вскоре выявила и их недостатки. Самым очевидным упущением оказалось качество ножен: выполненные из тонкого металла (всего 0,95 мм толщиной), они легко деформировались от самого незначительного удара. Эта деформация была способна привести к самым неприятным последствиям, вплоть до того, что оружие могло заклинить в ножнах в решающий момент. Поэтому новая комиссия, собравшаяся в XI году, ввела изменения в принятые образцы. Ножны легко-кавалерийской сабли и кирасирского палаша отныне были выполнены из толстой стали - 2,5 мм толщиной, внутрь для еще большей надежности конструкции и для предохранения клинка от контакта с металлом ножен был вставлен деревянный вкладыш с пазом. С другой стороны, чтобы как-то скомпенсировать увеличение общего веса оружия, клинок палаша, до этого плоский, стал двудольным. Проблема деформации ножен была решена, однако кавалерийское оружие стало более тяжелым, что никак не могло быть скомпенсировано незначительным облегчением палашного клинка. Общий вес палаша (с ножнами) увеличился с двух килограммов до трех с лишним. легко-кавалерийская сабля вместо 1,65 кг стала весить 2,769 кг. Генерал Гассенди, начальник бюро вооружения в военном министерстве, считал, однако, что это увеличение веса не играет существенной роли. Он писал: «Жалуются, что ножны из стального листа слишком тяжелы... Но, будучи легкими,., они быстро приходили в негодность... Поэтому нужно оставить этот добавочный вес, тем более что он пустяковый...»26 Кавалеристы наполеоновской армии так не считали, и в течение всей эпохи Империи в бюро военного министерства поступали жалобы от командиров частей на чрезмерный вес сабель и палашей. Вследствие этого в 1811 г. был разработан палаш с несколько укороченным клинком (на 5 см), имеющий кожаные ножны, подобно драгунским. По неизвестным причинам этот палаш не был введен в армии. Впрочем, еще ранее, в 1805 г., образцы холодного оружия кавалерии были слегка доработаны, в частности немного облегчены. В общем же кавалерия в эпоху Империи была вооружена в подавляющем большинстве палашами и саблями IX- XI гг.
Сабель образца IX года было выпущено 26 296, а XI года - 156 052 (до 1815 г.)27; кирасирских палашей образца IX года - 18 199, XI года - 54 640 (до 1817 г.)28.
Являясь основными типами холодного оружия французской кавалерии, сабля и палаш гг. не были единственными. Отличалось от прочих вооружение драгунских полков, которые, как ясно из вышесказанного, носили палаш не в стальных, а в кожаных ножнах; равным образом командование карабинерных полков, рассматривавших себя как элиту армии, не пожелало вооружать свои части таким же оружием, как и в других частях. На основе палаша IX-XI гг. был создан специальный карабинерский палаш с традиционной гардой из красной меди, украшенной гренадой. Ножны этого палаша были кожаными. Кроме того, необходимо отметить, что на вооружении кавалерийских полков оставалось немало старого оружия, особенно это относится к гусарам, ревностно хранящим свои традиции. Изображения этих образцов представлены на следующей странице. В общем же старые образцы будут постепенно вытесняться холодным оружием моделей IX-XI гг., которые к концу Империи будут практически единственными (исключение составляли гвардейские полки, получившие специально для них разработанное холодное оружие).
легко-кавалерийские сабли, изготовленные на Клингентальской мануфактуре. © Tradition№ 65. Слева направо: образца IX г., образца XI г., образца XI г., изготовленная позднее.
Кирасирский палаш образца XIII г. с ножнами и портупеей. © Tradition № 28.
Карабинерские палаши. © Tradition№ 56.Снизу вверх:1,2- палаши образца 1777 г., 3 - палаш образца IX г., 4 - палаш, изготовленный в эпоху Революции.
Сабля и палаш XI года отражают и новую тактическую концепцию кавалерии. Особенно явственно это раскрывается в легко кавалерийской модели. Вес данного образца оружия свидетельствует об общем «утяжелении» легких полков. Наполеоновская легкая конница уже не являлась иррегулярными гусарами конца XVII - начала XVIII вв., не знавшими строя и выполнявшими лишь вспомогательные задачи на театре военных действий. Отныне гусары и конные егеря вместе с кирасирами и драгунами при необходимости атакуют «стеной» (en muraille) на полях генеральных сражений. Понятно, что эскадрон, обрушившийся на врага сплоченной массой коней, гораздо лучше мог реализовать себя в массированном колющем ударе тяжелыми клинками, чем в индивидуальной рубке легкими саблями. Потребность в более увесистом, ориентированном на укол, оружии и была реализована в новых образцах. Действительно, саблей XI года было удобнее колоть, чем рубить. Недаром все тот же опытный боец де Брак писал: «Удары, которые убивают, - это удары колющим острием. Остальные лишь ранят. Колите, колите как можно больше! Вы сбросите на землю всех, в кого попадете, вы испугаете врага, сумевшего уклониться от ваших ударов, и добавите к этим выгодам то, что "не откроетесь" и будете всегда в состоянии взять защиту. В испанской войне наши драгуны своими колющими ударами создали себе такую репутацию, которая пугала испанские и английские войска...» 29 В форме вопросов и ответов де Брак пояснял, как надо пользоваться саблей: «1. Твердо держать оружие; 2. Выбрать цель, лучше всего - открытый бок противника; 3. Если наносишь удар в верхнюю часть корпуса, направить оружие так, чтобы острие клинка было сбоку (т. е., чтобы клинок находился в горизонтальной плоскости) и он мог войти между ребер неприятеля; 4. Стремительно вынести руку в ударе на полную длину и тотчас же с помощью быстрого движения локтем увести ее обратно, особенно это важно, если противник готовился к ответному удару. Я видел много кавалеристов, которые травмировали себе запястье и тем самым выходили из строя на всю кампанию из-за неправильного нанесения удара... Если бы они вовремя отвели назад руку, они не получили бы травмы и имели бы возможность либо повторить выпад, либо вовремя парировать ответный удар неприятеля» 30.
Три нерегламентированные сабли, которые могли использоваться офицерами и унтер-офицерами французской легкой кавалерии. © Tradition№ 66-67.
Слева направо: сабля венгерского типа с клинком «а ля Монморанси»; сабля венгерского типа с клинком Золингеновского производства; венгерская сабля.
Разумеется, предпочтение нанесению уколов нисколько не исключало применения рубящих ударов. Де Брак писал:
«Вопрос. Куда нужно наносить удар?
Ответ. Нужно целиться на уровне воротника неприятеля, ибо естественной реакцией кавалериста, которому угрожает удар, является попытка уйти от опасности, пригнув голову, в этом случае ваш удар придется ему по лицу, а если вы промахнетесь, нанеся удар ниже, вы попадете ему по плечу или предплечью и тем самым выведете неприятеля из строя.
Вопрос. Как наносить этот удар?
Ответ. Плотно сжать рукоять сабли, чтобы клинок не мог повернуться и не попал по врагу плашмя, затем нанести удар, стараясь произвести "пилящее" движение. В этом случае сабля войдет глубже в тело противника. Не следует забывать, что любое острие - это, в известной степени, пила, но с очень маленькими зубцами. Действие будет большим, если лезвие проходит, совершая горизонтальные движения по цели. Для того чтобы добиться этого эффекта, в момент, когда вы рубите, резко отведите руку назад, это и есть секрет страшных ударов сабель мамелюков» 31.
В завершение мы, снова предоставив слово де Браку, остановимся немного на уходе за оружием. «Есть две причины, из-за которых сабля тупится быстро. Первая - это небрежность, с которой вкладывают саблю в ножны и с которой ее оттуда достают. Вторая - это то, что клинок болтается внутри ножен и трется тем самым о них острием. Чтобы избежать первого, никогда не бросайте свою саблю в ножны, но вкладывайте ее аккуратно, дабы не затупить режущую кромку клинка. Во избежание второго, следите за тем, чтобы деревянный вкладыш, который находится в ножнах, был правильно изготовлен и плотно прижимал клинок, не давая ему шататься.
Одно из самых разрушительных воздействий оказывает на оружие влага. Никогда не вкладывайте вашу саблю в ножны, предварительно ее не протерев: не только дождь, кровь или сырой туман могут быть причиной ржавчины, но даже самая малозначительная влажность воздуха, которая приводит к оседанию капелек на глади клинка, где вода задерживается в мельчайших порах. Если вы вкладываете лезвие мокрым, оно передаст свою влагу ножнам, и вам будет непросто потом их высушить. Самое лучшее средство от этого на войне - всегда держать клинок хорошо смазанным...
Часто, когда спешившийся кавалерист держит оружие в руках, он опирает конец сабли в землю -из- за этого острие ржавеет и тупится, в таком случае вы можете не рассчитывать на него в день боя.
Часто кавалеристы на биваке жарят кусок мяса, насадив его на клинок. Что из-за этого происходит? То, что клинок теряет твердость закалки, и вы не можете больше положиться на него в опасный момент.
Общее правило: заботьтесь о лезвии вашей сабли, как о лезвии вашей бритвы»32.
Вооружение французского драгуна: палаш образца IV г. (представлял из себя палаш 1784 г., лишь слегка видоизмененный, в частности лилия на гарде была заменена дикторским пучком); драгунское ружье образца 1777 г.; пистолет образца 1763-1766 гг.; штык. © Tradition№ 1.
Кавалерийский мушкетон образца IX года со штыком. © Tradition № 14.
Давая общую характеристику холодного оружия наполеоновской кавалерии, нельзя оставить в стороне и столь важный его элемент, как пику. До эпохи Революции и Империи во французских конных войсках фактически отсутствовали формирования, вооруженные пиками. Однако вместе с польскими легкими кавалеристами этот вид оружия пришел во французскую конницу. Сначала пика состояла на вооружении лишь польских улан, но с 1811 г. пикой вооружились и французские шеволежеры, а к концу Империи ее получил и ряд других конных формирований.
Пики регламентированной длины - 276 см, также как и сабли, изготовлялись на Клингентальской и Версальской мануфактурах. По внешнему виду они отличались от польского прототипа тем, что не имели шарообразного металлического утолщения, находившегося между древком и наконечником польской пики. Этот «шар» делался для того, чтобы при сильном ударе острие не входило слишком глубоко в тело врага и улан мог бы вовремя вытащить свое оружие. В новой модели пики от шара отказались, по всей видимости, из желания облегчить оружие, а вот белокрасный польский флюгер остался. Всего за период с 1811 по 1814 гг. мануфактуры Империи произвели 28 551 такую пику.
Современники единодушно отмечали, что пика, являясь грозным оружием, имела в то же время ряд существенных недостатков. Особенностью ее было то, что в недостаточно умелых руках она становилась бесполезной. Если даже неопытный кавалерист, вооруженный саблей, мог так или иначе применить ее в бою и надеяться нанести ущерб неприятелю, то неподготовленный боец с пикой в серьезной схватке был просто беспомощен. Дело в том, что парировать прямой удар пикой новичка для уверенного в себе конника не представляло особого труда: вследствие тяжести и длины пики укол ее был относительно медленным, и место его нанесения было видно заранее. Отведенная же в сторону клинком вражеской сабли, пика оставляла улана совершенно незащищенным перед его противником, вооруженным обычным холодным оружием. «В ближнем бою коротким клинком можно действовать с большей легкостью, - писал маршал Мармон, - он более выгоден. При прочих равных условиях гусар или конный егерь побьют улана, они успеют парировать его укол и нанести ответный удар раньше, чем он сумеет защититься»33. Именно по этой причине пика, хотя и очень эффективная в ряде случаев, осталась все же второстепенным оружием по сравнению с саблей.
Огнестрельное оружие, напротив, было для кавалериста непременным дополнением сабли или палаша. Драгуны, задуманные в свое время как ездящая пехота, имели на вооружении специальные ружья, являвшиеся, по сути дела, укороченными пехотными ружьями с небольшими видоизменениями. Общая длина драгунского ружья образца 1777 г. (усовершенствованного в IX году) была 1,417 м, калибр - 17,5 мм, вес - 4,275 кг. Почти все параметры, таким образом, были близки к параметрам пехотного огнестрельного оружия. Равным образом драгуны имели в своем арсенале штык (общая длина 46,5 см), практически аналогичный тому, которым располагали пехотинцы. Поэтому драгунское ружье использовалось нередко и пехотинцами, и артиллеристами. Нет необходимости описывать принцип его действия и тактико-технические данные. Его замок был абсолютно таким же и функционировал так же, как замок пехотного ружья, технические данные были очень близкими. Да и применяли драгуны свои ружья тоже по-пехотному, т. е. в тот момент, когда они спешивались для выполнения той или иной задачи. Отметим лишь, что с 1806 г. драгунское ружье состояло также на вооружении карабинеров и гвардейских конных гренадер.
Э. Детайль. Мушкетон в бою - гусары в перестрелке на аванпостах.
Несколько подробнее мы остановимся на кавалерийском мушкетоне. Это короткое огнестрельное оружие (mousqueton, дословно: «маленький мушкет») использовалось гусарами, конными егерями, шеволежерами, а с 1811 г. - и кирасирами. В основном наполеоновская кавалерия была вооружена мушкетонами образца IX года, однако использовались и более ранние модели - 1786 г. и даже 1766 г.; особенно часто их можно было встретить в гусарских полках. Основное отличие мушкетона от ружья - это его размер (общая длина была всего лишь 114,5 см, а вес - 3,289 кг (калибр 17,1 мм)) и способ ношения - мушкетон носили на пантальере через плечо. В эпоху Наполеона мушкетон стал очень распространенным оружием. Достаточно сказать, что с 1802 по 1815 гг. мануфактуры Империи (Мобеж, Шарлевиль, Версаль, Турин и др.) выпустили 221 420 единиц этого вида оружия 34. И это несмотря на то, что его тактико-технические данные сильно уступали таковым у пехотного ружья. Как читатель, очевидно, помнит, при стрельбе из ружья с расстояния в 450 шагов (около 300 м) необходимо было целиться в шляпу неприятеля. Фактически такой способ прицеливания означал предельную для относительно меткого выстрела дистанцию. Из мушкетона подобным образом надо было целиться уже в 195 шагах (125 м), иначе говоря, дистанция предельной стрельбы мушкетона была в два с половиной раза меньше, чем у ружья. Тем не менее мушкетон широко использовался легкой конницей, так как он был незаменим для службы на аванпостах, в боевом охранении, а также в тех случаях, когда кавалеристы вынуждены были вести бой в пешем строю.
Марбо, в 1812 г. полковник 23-го конно-егерского, вспоминал о боях на Березине: «...необходимо было перейти мост, но чтобы его взять, требовалась пехота, а наша находилась еще в трех лье от Борисова. Чтобы заменить ее, прибывший в это время маршал Удино приказал генералу Кастексу спешить три четверти кавалеристов его бригады, которые, вооружившись мушкетонами и построившись в маленький батальон, должны были атаковать мост. Мы поспешили исполнить приказание и, оставив наших коней на улице под охраной нескольких солдат, отправились к реке. Нас вел генерал Кастекс, который в этом опасном предприятии пожелал быть во главе своей бригады»35.
Куда менее очевидной была необходимость такого оружия в кирасирских полках, ведь тяжелой коннице практически не приходилось нести аванпостной службы. Тем не менее в период подготовки к русской кампании Наполеон принял решение вооружить мушкетонами полки кирасир и шеволежеров-улан, приданных кирасирским дивизиям. «Признано, что кавалерии, имеющей кирасы, трудно пользоваться мушкетонами, - писал Император военному министру в 1811 г., - тем не менее было бы абсурдно, если бы 3-4 тыс. этих храбрецов были захвачены врасплох на постое или остановлены на марше двумя ротами вольтижеров. Поэтому их необходимо вооружить (имеется в виду - снабдить кирасир мушкетонами)»36. В результате дивизии тяжелой кавалерии перед вступлением в русский поход получили мушкетон, носимый через плечо на пантальере. Однако это оружие, столь успешно употребляемое гусарами и конными егерями, оказалось нерациональным для кирасир и улан. «Наполеон не был кавалеристом, - писал позже уже известный нам де Брак. - По его мнению, кони могли нести любой вес, питаться где угодно и идти повсюду... Мы получили приказ вооружаться мушкетонами, да еще и со штыком. Таким образом, каждый из наших улан был вооружен пикой, саблей, пистолетом, мушкетоном и штыком... Так мы отправились в Московскую кампанию... Наши уланы, изнуренные от того, что были вынуждены почти всегда идти пешком, чтобы облегчить своих коней, уступили без труда совету здравого смысла, который подсказал им, что носить с собой целый арсенал было бесполезно и смешно, и потому они освобождались от половины этой опасной и "антикавалерийской роскоши » 37.
Каска, кираса, сабля и пара пистолетов офицера карабинеров (1811-1815 гг.). © Tradition № 38.
Если вооружение тяжелой, а также пиконосной конницы мушкетоном вызывало немало сомнений, то необходимость наличия пистолетов, будь то у кирасира, будь то у гусара или улана, была очевидной. Все французские кавалеристы эпохи Первой Империи имели в обязательном порядке один-два пистолета в седельных кобурах. В большинстве своем это были пистолеты модели IX и XIII гг., но встречались и более ранние образцы, в частности модель 1763 г., а некоторые из кавалеристов имели на вооружении даже пистолеты, изготовленные в первой половине XVIII в. Часто использовались и трофейные экземпляры. Были, наконец, и специальные пистолеты для жандармерии, для мамелюков и для генералитета. В общем же за годы Империи поступило на вооружение около 400 тыс. пистолетов. Из них 300 тыс. - это пистолеты образца ХШ года, 80 тыс. - пистолеты образца IX года, оставшиеся 20 тыс. приходятся на прочие модели этого вида ручного огнестрельного оружия.
По своим параметрам пистолет, как нетрудно предположить, резко отличался от ружья и даже от мушкетона. Естественно, что он был легче и короче: пистолет модели XIII года весил 1,269 кг, его общая длина составляла 35,2 см, калибр - 17,1 мм. Но особенно разительно отличались его тактико-технические данные. Так, прицельная дальность стрельбы из пистолета была такой, что практики военного дела рекомендовали стрелять из него... в упор! «Для этого не надо тщательно целиться, - вполне здраво отмечает де Брак. - Но нельзя, чтобы конец ствола касался тела врага, потому что пистолет в этом случае может разорваться и ранить самого стреляющего» 38. Конечно, стреляли и с десяти, и с двадцати и более шагов, однако точность при этом была невелика. Необходимо также добавить, что при стрельбе с коня на рыси в 50% случаев пистолет давал осечку, а на галопе - в 75%!39
Несмотря на это, пистолет довольно широко применялся. 400 тыс. использованных экземпляров говорят сами за себя. Как и мушкетон, он использовался прежде всего на аванпостах, в патрулях, в разведках, в цепи стрелков. Однако в дополнение к этому кавалеристы часто использовали пистолет и в момент схватки. Де Брак советовал своим конным егерям прикрепить пистолет на длинном шнуре к притороченной к седлу кобуре. Тогда с саблей, подвешенной за темляк к запястью, держа пистолет в руке, можно было атаковать одиночных всадников врага. В случае промаха пистолет отбрасывался в левую сторону, а сабля перехватывалась в руку. Почему именно в левую сторону? Дело в том, что пистолет, когда он был один, носился в правой кобуре. Привязав его на длинном ремешке к этой кобуре, было бы неразумно бросать его рядом с собой: тогда бы он повис очень низко и болтался бы под ногами лошади. Если же его бросить влево, он повисал достаточно высоко, ибо ремешок проходил поверх вальтрапа40.
Мемуары кавалеристов эпохи Империи пестрят примерами употребления пистолетов в бою и показывают, что, несмотря на все их несовершенство, кремневые пистолеты не залеживались в кобурах. Вот, например, эпизод из кампании 1807 г., который рассказывает Паркен, в то время унтер-офицер 20-го конно-егерского полка: «С пистолетом в руке я устремился по равнине в галоп по направлению к группе казаков и, приблизившись к ним на десять шагов, выстрелил. Один из казаков упал. Пока все шло хорошо. Но неприятель атаковал меня, и я был вынужден отходить, чтобы добраться до линии наших стрелков. Но мой плохо подкованный конь поскользнулся и упал на снег. В этот критический момент я был бы, конечно, убит или взят в плен, если бы меня не спасло хладнокровие. Я, быстро выбравшись из-под упавшего коня, который тотчас же встал на ноги, и, взяв его за повод и взведя курок, по очереди направлял свой пистолет на казаков, которые приблизились ко мне ближе других. Так я сумел сдерживать врага до тех пор, пока ко мне на помощь не подоспел офицер 3-го гусарского полка г- н де Бомест...»41
Как видно из этого эпизода, пистолет активно употреблялся в схватке. Тем не менее не следует забывать, что в приведенном эпизоде речь шла о бое кавалерии в цепи стрелков. В момент же массированных атак конных дивизий французские кавалеристы полагались больше на силу своих клинков. Генерал Тьебо в «Учебнике штабной службы», изданном в 1813 г., очень удачно сформулировал, в чем состояло различие в употреблении холодного и огнестрельного оружия кавалерией: «Холодное оружие для кавалерии - это наступательное оружие, именно с ним она должна атаковать неприятеля. Огнестрельное же является для нее оборонительным оружием, тем, с которым она удерживает врага на некоторой дистанции. Поэтому кавалеристы могут пользоваться холодным оружием и тогда, когда они сражаются в одиночку, и в сомкнутом строю - будь то в момент атаки кавалерии противника, будь то при атаке пехоты или вражеской батареи, в то время как палить они могут лишь тогда, когда противопоставляют свою цепь стрелкам неприятеля, чтобы прикрыть от огня боевую линию, или когда кавалерия высылает разъезды вперед на фланги и позади себя, чтобы вынудить противника своим огнем показать свое присутствие, или когда нужно прочесать лес, или, спешившись, атаковать мост, или при защите своего квартирного расположения или отдельного поста: но во всех этих случаях кавалерия действует изолированно и для себя самой, это уже не тот род войск, который разбивает вражеские массы и опрокидывает линии» 42.
Так что, как бы ни были значимы пистолеты и мушкетоны в конном бою, мы недаром начали это короткое описание вооружения наполеоновской кавалерии с фразы де Брака, отдающей дань всемогущей сабле.
Кавалерийский пистолет образца 1763-1766 гг. © Tradition № 2.
Парадный палаш (гарда) офицера гвардейских конных гренадер. © Tradition № 50.
Роскошные палаши подобные этому были изготовлены мануфактурой Буте для офицеров конных гренадер в эпоху Консульства и без сомнения продолжали использоваться в период Империи.
Кирасирские каска и кираса. © Tradition № 54-55. Представленная каска отличается от регламентированного образца тем, что меховая полоса, обрамляющая ее снизу, прикрывает также и козырек. Несмотря на прекрасное состояние данных предметов, брыжи на кирасе не сохранились.
Вооружение артиллерии
Стало уже почти общим местом отмечать высокое качество материальной части французской артиллерии в эпоху Наполеона, и мы не будем ради оригинальности изложения утверждать обратного, хотя ряд нюансов в этот вопрос и будет внесен...
Прежде всего хотелось бы отметить, что именно во Франции с созданием регулярной армии во второй половине XVII в. были сделаны первые попытки привести в систему артиллерийское вооружение. Авторами не реализованной на практике реформы полевой артиллерии были инженер Антонио Гонсалес и генерал Фрезо де ла Фрезельер. Цель, поставленная этими людьми, была осуществлена генералом Жаном Флораном де Вальером (1667-1759), который разработал и ввел в войсках единую артиллерийскую систему, принятую на вооружение в 1732 г. Девальеровская материальная часть при наличии ряда достоинств имела особенности, из-за которых она скоро отстала от времени. Проблема состояла в том, что де Вальер создавал свою систему, исходя из опыта войн Людовика XIV, в которых преобладали не полевые сражения, а осады крепостей. Поэтому пушки де Вальера делались с расчетом на возможность их применения в «крепостной» войне, а следовательно, главное, чего желали от них добиться, -это дальнобойность и мощный начальный импульс ядра. Отсюда необходимость больших пороховых зарядов и, как следствие, стволов с чрезвычайно толстыми стенками. Нетрудно догадаться, что пушки де Вальера для боя в открытом поле оказались тяжелы и плохо подвижны. Наконец, де Вальер, также, исходя прежде всего из опыта осад, сделал ставку не на быструю стрельбу, а наоборот, на медленный, «размеренный» огонь, что должно было экономить ядра и порох. В результате из его системы были изгнаны картузы (мешочки с отмеренным пороховым зарядом), и артиллеристы, как и в начале XVII в., насыпали порох в канал ствола с помощью специальных совков.
Планшет 23. Пешая артиллерия: рядовой, сержант, офицер, барабанщик 1807-1809 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Недостатки системы де Вальера проявились в первых же войнах, где использовались его пушки. Особенно они стали очевидными, когда в 40-е годы XVIII в. пруссаки, а затем австрийцы ввели в войсках системы полевой артиллерии (соответственно - системы Хольцмана и Лихтенштейна),где ставка делалась не на дальнобойность, а на легкость и маневренность орудий. Наконец, теоретическим основам системы де Вальера был нанесен мощный удар, когда опыты Белидора (1739 г.), профессора артиллерийской школы в Ла Фере, доказали, что дальнобойность орудий не находится в прямо пропорциональной зависимости от веса порохового заряда.
Артиллерийскую систему, построенную на основе новых реалий войны и результатах научных исследований, суждено было создать генералу Жану-Батисту Вокетту де Грибовалю (1715-1789). Грибоваль по распоряжению военного министра проходил стажировку в прусских, а затем, во время Семилетней войны, в австрийских войсках. На основе увиденного и на базе глубоких теоретических изысканий, а также практических экспериментов он разработал стройнейшую систему полевой артиллерии, которой было суждено не только пережить своего создателя, но и стать, пожалуй, самой известной артиллерийской системой в Европе. Система Грибоваля прошла все войны Революции и Империи и в слегка измененном виде существовала во Франции вплоть до второй половины XIX в.
Эта, ставшая впоследствии знаменитой, артиллерийская система была введена в войсках королевским ордонансом от 13 августа 1765 г. Однако интриги завистников, в частности де Вальера-сына, привели к тому, что в 1772 г. было решено вернуться к старой материальной части. Но ненадолго. Уже в 1774 г. система Грибоваля вновь восторжествовала, и на этот раз окончательно.
Каковы же были основные черты французской артиллерии образца 1774 г.? В систему Грибоваля входило три стандартных типа полевых пушек: 12-, 8- и 4-футовые и одна гаубица калибром 6 дюймов 4 линии (165,7 мм). Стволы всех этих орудий были отлиты из бронзы. Отныне было введено единообразие не только стволов, но и лафетов, колес, зарядных ящиков, передков, упряжек и даже специальных измерительных приборов для контроля за качеством изделий. Колесо, изготовленное в Страсбурге, теперь без всяких подгонок могло заменить поломавшееся колесо на лафете, сделанном в Гренобле.
Полевые пушки были отделены от осадной артиллерии, которая в свою очередь тоже была реформирована Грибовалем. Им же были разработаны артиллерийские системы для крепостных и береговых батарей (рассмотрение этих орудий выходит за рамки нашего очерка).
Грибоваль выбрал соотношение веса ствола к весу снаряда полевых пушек, равное 150 вместо 225-280 в системе де Вальера, что позволило значительно облегчить вес орудий. Вес порохового заряда уменьшился с 2/3 от веса ядра до 1/3. Равным образом длина ствола сократилась с 20-25 калибров до 18 калибров. Все это, конечно, не могло не сказаться на дальности и точности стрельбы пушек. Однако небольшое уменьшение дальнобойности с лихвой компенсировалось во много раз возросшей подвижностью орудий и простотой их эксплуатации. Уменьшение веса стволов позволило значительно облегчить и лафеты, которые к тому же были снабжены отныне высокими колесами с большей степенью проходимости. Наконец, введение металлической оси и чугунных втулок на колесах обеспечило еще большую прочность и надежность конструкции. Укорочение стволов позволило резко увеличить скорострельность пушек, тем более что грибовалевские орудия заряжались совершенно иначе, чем в системе де Вальера. Отныне заряд представлял собой заранее заготовленную дозу пороха, насыпанную в камлотовый мешок (картуз). Ядро же прикреплялось металлическими полосками к Шпигелю (sabot) - деревянному поддону, который в свою очередь был соединен с картузом. Таким образом, вместо долгой и небезопасной процедуры заряжания при помощи совка для пороха, артиллеристы использовали теперь удобные в обращении заряды, похожие на современный унитарный патрон. Эти заряды перевозились в специально разработанных Грибовалем зарядных ящиках (caissons).
Говоря о зарядах, нельзя не отметить, что знаменитым реформатором французской артиллерии была значительно усовершенствована и стрельба картечью. Отныне картечь - специальные пули очень крупного калибра - была заключена в жестяные банки с железным поддоном, что, как показали эксперименты и боевая практика, значительно увеличило дальность и точность стрельбы этим видом снарядов. Сами картечные пули стали делаться не из свинца, а из кованого металла. Теперь они не деформировались в полете и, сверх того, могли рикошетировать от твердой земли.
Для более точной наводки орудий появились мушки и прицелы, а также специальные винты под казенной частью для разворота ствола в вертикальной плоскости. Эти приспособления дополнялись таблицами дальности стрельбы, рассчитанной для разных углов возвышения. Среди изобретений Грибоваля нельзя не отметить одно остроумное преобразование, сыгравшее большую роль в войнах Революции и Империи. Это так называемый «отвоз» (prolonge, дословно: «продолжение»). Он представлял собой не что иное, как толстый канат длиной восемь метров, который крепился одним концом к передку, а другим концом - к кольцу на лафете орудия. Это простейшее приспособление позволяло мгновенно переводить пушку из походного положения в боевое. Особенно удобными действия орудий на отвозах были в ситуации, когда требовалось прикрыть отход своих войск на поле боя. Лошади тянули передок, канат напрягался и тянул за собой орудие. Стоило же обозным остановить упряжку, как канат ослаблялся, и пушка сама собой становилась в положение для стрельбы. Длина каната позволяла не опасаться повреждения передка при откате орудия после выстрела. Хотя и с несколько меньшим успехом, отвоз, использовался и при наступлении; наконец, он был незаменим при перевозе орудий через препятствия на местности. Эта маленькая хитрость Грибоваля значительно усилила боевые возможности артиллерии и тотчас же была заимствована всеми армиями Европы. Генерал Фаве, специалист по истории артиллерии, считал, что одно только изобретение отвоза обеспечило бы Грибовалю далеко не последнее место в истории развития военной техники 43.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). 1,2- ствол 24-фунтовой осадной пушки; 3, 4 - ствол 16-фунтовой осадной пушки; 5, 6 - ствол 12-фунтовой осадной пушки; 7, 8 - ствол 6-дюймовой полевой гаубицы; 9,10 - чертежи винграда; 11 - прицел полевой пушки.
А. Адам. Утро 5 сентября 1812 г. неподалеку от Москвы-реки.
Баварская конная артиллерия, приданная 4-му армейскому корпусу (слева на рисунке), ведет огонь, будучи поставленной на «отвозы».
Наконец, необходимо сказать и о том, что Грибоваль был первым, кто разработал новый метод производства стволов пушек, при котором канал ствола высверливался в отлитой болванке на специальном станке.
Перечисленные достоинства грибовалевских пушек сделали французскую артиллерию образцом для подражания во всей Европе. Орудия Грибоваля с успехом прошли боевое крещение в войне за независимость США и показали свои великолепные боевые качества в эпоху войн Великой французской революции. Тем не менее боевая практика выявила и ряд недостатков указанной системы.
В эпоху Консульства, когда короткая мирная передышка дала возможность подвести некоторые итоги опыту революционных войн, из высших офицеров артиллерии была создана комиссия, которая должна была выработать новую артиллерийскую систему. В комиссию, начавшую свою работу в декабре 1801 г. под председательством генерал-инспектора артиллерии д'Абовиля, входили видные специалисты военного дела - генералы Ламартильер, Андреосси, Эбле, Сонжи, Фольтрие, Гассенди. С сентября 1802 г. работу комиссии возглавлял адъютант Первого консула и его личный друг, молодой генерал Мармон. В результате довольно обширной теоретической работы была разработана новая артиллерийская система, которая получила название «Система XI года». Тем не менее нужно отметить, что, несмотря на название, новый ансамбль орудий, стволов, лафетов, зарядных ящиков, упряжек и т. п. оставался в большинстве своем несколько видоизмененной системой Грибоваля.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Большой зарядный ящик (caisson a munitions).
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Лафет 12-фунтовой полевой пушки. 1, 2, 3 — станина лафета; 4 - ось; 5 - правилы; 6, 7 - малый зарядный ящик (coffret); 9-25 - отдельные металлические детали лафета, ведро и колеса.
В работе над новыми образцами полевой артиллерии генерал Мармон, как он позже вспоминал, исходил из следующих принципов: «Лучшая артиллерия - это самая простая артиллерия. Если бы один калибр мог отвечать всем боевым потребностям, а один тип повозки - всем транспортным нуждам, это и было бы совершенством.
Однако дело обстоит так, что артиллерия должна производить разное действие. В соответствии с этим действием нужно определить калибры орудий, ограничив количество этих калибров до минимума, так как если два калибра могут выполнять одну и ту же функцию, значит, один из них лишний и, более того, вредный, потому что он вносит затруднения в доставку боеприпасов, замену необходимых частей и т. д.»44 «Я предложил заменить калибр 8 фунтов и 4 фунта единым 6-фунтовым, -рассказывал Мармон в своих мемуарах. - Пушки этого калибра производят действие, близкое к восьмифунтовым, и в то же время значительно превосходят четырехфунтовые. Я предложил также делать отныне гаубицы калибром 5 дюймов 5 линий, что соответствует калибру 24 фунтового орудия»45.
12-фунтовые пушки с коротким стволом сохранялись в качестве тяжелых полевых орудий, а с длинным стволом — в качестве осадных. В результате вся артиллерия, вместе с осадной, свелась к орудиям, имевшим канал ствола, соответствующий калибру 6-, 12- и 24-фунтовых пушек.
Интересно, что 6-фунтовые пушки, то есть основные орудия полевой артиллерии, по мысли Мармона, делались калибром чуть больше, чем соответствующие 6-фунтовые орудия основных европейских стран. Это позволяло французам использовать трофейные заряды, хотя и с некоторой потерей точности стрельбы. Напротив, французские боеприпасы не могли быть использованы противником.
Полевая артиллерия не только упрощалась, но и еще больше облегчалась. 6- и 12-фунтовые орудия системы XI года предполагали вес ствола в 130 весов снаряда (вместо 150). Наконец, уменьшился допустимый зазор между ядром и диаметром канала ствола для осадных орудий с 1,5 линий (3,37 мм) до 1 линии (2,25 мм), что должно было повысить точность огня.
Система XI года предполагала также существенное упрощение транспортной материальной части: вводились усовершенствованные повозки. Вместо 22х различных типов колес было сохранено лишь десять.
Тем не менее система XI года не была достаточно опробована на практике. Если теоретически она обсуждалась очень долго - комиссия собиралась 51 раз на заседания, - тактических испытаний было проведено крайне мало. В результате ряд нововведений оказался не особенно удачным. Например, появившаяся в соответствии с новой системой ось с изменяемым расстоянием между колесами оказалась неудачной конструкции, плохо зарекомендовали себя и малые зарядные ящики, помещенные на передки вместо лафетов, как это было у грибовалевских пушек. И все же, несмотря на отдельные недочеты, артиллерийская система, введенная указом от 12 флореаля XI года (2 мая 1803 г.) была бы, наверное, еще более удачной, чем грибовалевская, если бы не одно но... В 1803 г. снова началась война, которая, как читатель прекрасно помнит, отныне была почти беспрерывной вплоть до конца Империи. В этой ситуации начатая реформа не могла быть проведена должным образом. Невозможно было сразу перелить тысячи стволов четырех- и восьмифунтовых орудий, переделать десятки тысяч зарядных ящиков и передков. Пришлось «временно» использовать старые, переходя на новые постепенно. Как следствие, вместо упрощения грибовалевской системы, которое являлось целью Мармона и его коллег, получилось лишь усложнение. Орудия 4- и 8-фунтового калибра, зарядные ящики и передки Грибоваля продолжали использоваться, но к ним добавились 6-фунтовые пушки и целый ансамбль новых повозок и передков. Чтобы хоть как-то решить возникшие в связи с этим проблемы, пришлось отправлять на испанский театр военных действий старые орудия, ибо в конце XVIII в. в испанской армии была принята система Грибоваля в ее классическом виде, и потому трофейные боеприпасы и материальная часть могли использоваться французскими артиллеристами. Напротив, на германский театр военных действий отправляли вновь изготовленные орудия, тем более что неприятель (австрийцы, пруссаки, русские) использовали там свои, уже упоминавшиеся, 6-фунтовые пушки. Но все возникшие сложности эта мера не решила. Рапорт, представленный Императору военным министром 10 января 1809 г. гласил: «...нововведения XI года, несвоевременно предложенные, вместо упрощения системы материальной части и боеприпасов артиллерии привели к путанице калибров и лафетов разных видов, которую необходимо прекратить»46. Однако было произведено уже столь много орудий новых типов, что стало почти невозможно в военное время прекратить их использование. В результате вплоть до падения Империи фактически сосуществовали две различные артиллерийские системы. После Реставрации монархии Бурбонов была окончательно отменена артиллерийская система XI года и вновь полностью возвращена система Грибоваля в ее классическом виде, однако это было связано скорее с политическими мотивами, чем с императивом технического характера: из армии и общества вытравлялось все, что напоминало об эпохе Революции и Империи.
Пушка с прислугой (изображен момент перед вкладыванием заряда в ствол). Условные обозначения: КП - канонир справа, КЛ - канонир слева, Ш - 1-й номер справа, 2П - 2-й номер справа, 1Л - 1-й номер слева, 2Л - 2-й номер слева, ПЗ - подносчик зарядов.
Впрочем, несмотря на все эти пертурбации, материальная часть французской артиллерии оставались одной из лучших в Европе. Какими же тактикотехническими данными обладали эти орудия, грохотавшие на всех полях сражений от берегов Тахо до берегов Днепра? Те из них, которые не вызывают разночтений, мы свели в приведенную ниже таблицу:
Тактико-технические данные полевых орудий системы Грибоваля
| Калибр, мм | Длина ствола, см. | Вес ствола, кг | Вес орудия, кг | Вес снаряда, кг | Начальная скорость, м/сек | Вес зарядного ящика, кг | Кол-во прислуг согласно регламенту | Кол-во лошадей | Количество зарядных ящиков полагаемых на орудие | Содержание зарядного ящика | В малом зарядном ящике на лафет ядра, гранаты | Итого зарядов на орудие | ||||
| для пешей артиллерии | для конной артиллерии | ядер (гранат для гаубиц) | дальней картечи | ближней картечи | ||||||||||||
| 12-фунтовая пушка | 121.3 | 229 | 880 | 1454 | 6 | 415 | 1800 | 15 | 6 | - | 3 | 48 | 12 | 8 | 9 | 213 |
| 8-фунтовая пушка | 106.1 | 200 | 580 | 1114 | 4 | 419 | 1700 | 13 | 4 | 6 | 2 | 62 | 10 | 20 | 15 | 197 |
| 4-фунтовая пушка | 84.0 | 157 | 290 | 880 | 2 | 416 | 1500 | 8 | 4 | 6 | 1 | 100 | 26 | 24 | 18 | 168 |
| 6-дюймовая гаубица (6 дюймов 4 линии) | 165.7 | 76 | 330 | 924 | 12 | 170 | 1600 | 13 | 4 | 6 | 3 | 49 | 3 | - | 4 | 160 |
Что же касается остальных важных характеристик орудий (скорострельность, дальнобойность и т. д.), то прежде чем их указать, мы должны дать предварительный комментарий, ибо, подобно тактикотехническим данным ружей, они в немалой степени зависели от качества обслуживающего их персонала. Чтобы лучше это понять, обратимся к тому, как заряжались и вели огонь пушки наполеоновской армии.
Для обслуживания одного орудия, как мы можем видеть из таблицы, предназначалось довольно значительное количество прислуги - от 8 до 15 человек, однако фактически основную роль в орудийном расчете выполняли лишь 6 артиллеристов, остальные помогали подносить заряды и перетаскивать, когда это было необходимо, орудие вручную*. Упомянутые шесть человек имели определенные порядковые номера, за каждым из этих номеров были закреплены строго определенные функции при заряжании и стрельбе, а расположение этих людей (вплоть до положения рук и ног) четко фиксировалось регламентом. Двое старших в расчете назывались канонирами (canoniers), а остальные четверо - прислугой (servants). Размещение расчета вокруг орудия показано на рисунке на предыдущей странице.
* В ряде изданий можно встретить указание на то, что эта дополнительная прислуга была составлена из солдат пехоты. Действительно, так гласит регламент. Но не следует забывать, что регламент артиллерии, также как пехотные уставы, был введен еще до Революции. Многие из его положений полностью устарели в эпоху наполеоновских войн.
Рассмотрим теперь, как расчет исполнял свои обязанности в действии.
Только что с ужасающим грохотом вместе со снопом пламени орудие изрыгнуло в сторону врага смертоносный заряд. В густом пороховом дыму артиллеристы, не теряя времени, немедленно готовят пушку к новому выстрелу. Первое, что им необходимо было сделать - это накатить вперед орудие. Ведь, как следует из элементарных законов физики, пушка получила импульс, обратный импульсу вылетевшего снаряда, и потому была отброшена на несколько метров назад. В принципе, ее можно было заряжать и даже стрелять с того места, где она оказалась, но тогда после нескольких залпов батарея укатилась бы с назначенной позиции и превратилась бы в бесформенную груду вразнобой стоящих пушек, что, разумеется, было неприемлемо как сточки зрения тактической, так и с точки зрения безопасности самой прислуги. Поэтому, дружно взявшись за рукояти на лафете, артиллеристы возвращали пушку на место. Затем командир орудия (канонир справа) выверял ориентацию пушки в горизонтальной плоскости. При действии с легким орудием он сам наводил его, взявшись за рычаги, при обслуживании тяжелых орудий ему помогали другие номера расчета (не входившие в рассматриваемые нами шесть человек). Едва пушка была развернута в нужном направлении, как командир орудия отдавал приказ «Заряжай» («Chargez»). По этой команде первый артиллерист справа подносил к дулу банник, смоченный в воде с уксусом, и с помощью своего коллеги (первого номера слева) энергичным движением прочищал канал ствола. Это делалось прежде всего для того, чтобы освободить его от тлеющих остатков картуза. Во время прочистки орудия канонир слева затыкал затравочное отверстие, чтобы преградить доступ воздуха в канал ствола и способствовать тому, чтобы упомянутые остатки быстрее загасали. Интересно отметить, что затравочное отверстие затыкалось пальцем, правда на палец был надет специальный кожаный напальчник. Одновременно, затыкая отверстие, канонир слева осуществлял и наводку орудия в вертикальной плоскости с помощью винта, находившегося под казенной частью орудия. Как только пушка была наведена и прочищена, подносчик снарядов передавал первому номеру слева заряд -ядро или картечную банку, соединенные со Шпигелем и картузом. Заряжающий вкладывал снаряд в канал ствола, а первый номер справа разворачивал банник обратной стороной (прибойником), а затем оба первых номера, взявшись вместе за прибойник, загоняли снаряд до конца в ствол пушки. Во время этой операции канонир слева продолжал держать палец в напальчнике на затравочном отверстии, т. к. при сжатии воздуха от заталкивания картуза могли «ожить» тлеющие остатки предыдущего. Как только заряд был на месте, канонир отпускал руку с затравочного отверстия, а второй номер слева брал протравник (длинный металлический стержень на деревянной ручке) и протыкал через отверстие картуз, находившийся в стволе, а затем левой рукой вставлял в затравочное отверстие «быстрогорящую трубку» (тростинку со специальной, хорошо воспламеняющейся смесью). В этот же момент второй номер справа зажигал пальник от всегда находившегося в готовности фитиля.
Теперь орудие могло стрелять. Второй номер слева поднимал вверх руку, подавая офицеру сигнал о том, что орудие готово к бою. Если же пальба велась без общей команды, он самостоятельно давал сигнал к открытию огня. По его знаку второй номер справа подносил пальник к быстрогорящей трубке, которая мгновенно воспламенялась, выбрасывая сноп искр из затравочного отверстия, а через секунду раздавался грохот - орудие вновь извергало огонь и дым... и описанная нами операция начиналась сначала.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Лафет 6-дюймовой гаубицы. 1, 2, 3 - станина лафета; 4 - ось; 5-19 - прочие детали.
Мы не уверены, что читатель, первый раз знакомящийся с заряжанием пушки начала XIX в., сразу все понял из этого описания. Увы, короче его сформулировать навряд ли возможно. Поэтому тем, кто запутался в действиях артиллерийского расчета, мы можем порекомендовать лишь перечитать текст и внимательно рассмотреть приложенные рисунки. В любом случае, из приведенного описания ясно, что скорострельность орудия всецело зависела от тренированности и слаженности расчета. В этом отношении французские артиллеристы не уступали никому в Европе. На полигоне им удавалось развивать фантастическую скорострельность - 13-14 выстрелов в минуту! Однако сразу заметим, что речь идет об идеальных условиях учебных стрельб и о пальбе без накатывания орудия в исходную позицию и без прицеливания, и поэтому эта цифра имеет скорее теоретическое значение. Впрочем, даже при необходимости наводки и наката пушки наполеоновские канониры на учебных стрельбах могли палить очень и очень часто: до 5—7 выстрелов в минуту. В реальном же бою эта цифра уменьшалась до 2-4 выстрелов в минуту. Фактором, серьезно уменьшавшим возможности орудий Наполеоновской эпохи в этой области, был перегрев ствола. После серии часто произведенных выстрелов ствол накалялся настолько, что быстрогорящая трубка воспламенялась преждевременно, не исключалась и возможность самопроизвольного воспламенения пороха в картузе. Конечно, в принципе, можно было бы охладить ствол с помощью нескольких ведер воды, однако такая возможность редко предоставлялась в пылу боя. Небольшое количество воды в ведре, входившем в непременный набор инструментов, прилагавшихся к орудию, тратилось на смачивание банника. Именно поэтому во французской артиллерии существовал формальный приказ, запрещающий использовать орудия по одному. Одиночная пушка могла заглохнуть в самый неподходящий момент. Тем не менее и с этой оговоркой можно отметить, что, каким это ни покажется странным, орудия стреляли в общем ничуть не реже чем ружья. В критические же моменты французские артиллеристы палили с ошеломляющей скорострельностью. Например, батарея Сенармона, сыгравшая огромную роль в битве под Фридландом, отстреляла свои заряды со средней скоростью 3 выстрела в минуту на одну пушку с учетом того, что орудия поочередно на время прекращали огонь для охлаждения. Это значит, что в среднем каждая пушка этой батареи в момент ее работы вела огонь с частотой 4 и более выстрелов в минуту.
Необходимо также отметить, что картечью стреляли чаще, чем ядрами. 3-4 картечных банки в минуту, выпущенные во врага на поле боя, не представлялись особым рекордом. Это было связано с тем, что картечь не так тщательно забивали в ствол, не требовалось также и наводки, как при стрельбе ядром. Зато гаубицы действовали куда медленнее. Необходимость отдельно от картуза аккуратно вкладывать гранату в канал ствола (запальной трубкой в сторону направления полета) усложняла процесс заряжания. Поэтому от этого вида орудий в бою не приходилось ожидать более одного-двух выстрелов в минуту.
Остановимся теперь на дальнобойности орудий. Максимальная дальнобойность 12-фунтовых орудий при углах возвышения около 45° составляла почти 4 км! Однако на практике такая дистанция огня была недостижима, так как конструкция лафета не позволяла применять углы возвышения больше 6-8°, впрочем, это было и не особенно нужно вследствие большого рассеивания ядер на такой дистанции. С другой стороны, необходимо учитывать, что при малых углах возвышения, хотя ядро и летело куда ближе, но при попадании на твердый грунт оно отражалось и продолжало свой полет. Число рикошетов достигало 2-3 и даже более. Ниже мы приводим приблизительную траекторию ядра при рикошетировании, а также таблицу изменения длин рикошетов в зависимости от угла возвышения 47.
Приблизительная траектория ядра при рикошетировании
Дальность стрельбы и длины рикошетов для 24-фунтового орудия*
| Угол возвышения | Дистанция до первого падения ядра, м | Дистанция первого рикошета, м | Дистанция второго рикошета, м | Дистанция третьего рикошета, м |
| 0° | 292 | 886 | 477 | 275 |
| 1° | 707 | 579 | 335 | 272 |
| 2° | 1027 | 458 | 334 | 222 |
| 3° | 1288 | 406 | 236 | 210 |
| 4° | 1521 | 402 | 220 | 199 |
| 5° | 1754 | 332 | 172 | 148 |
| 6° | 1926 | 274 | 153 | 85 |
| 7° | 2101 | 198 | 90 | 66 |
| 8° | 2270 | 157 | 72 | 59 |
| 9° | 2422 | 77 | 34 | - |
| 10° | 2567 | 65 | - | - |
* Таблица рассчитана на основе экспериментов, проводимых в начале 20-х гг. XIX в.
А. Адам. На дороге из Бешенковичей в Островно 25 июля 1812 г. На переднем плане художник запечатлел рикошетирующее ядро, выпущенное русской пушкой с другого берега Двины
(справа на втором плане).
Как видно из таблицы, при малых углах возвышения длина рикошетирующих скачков ядра даже превосходит дальность его полета до первого падения. Особенно это было заметно при горизонтально поставленном стволе. Ядро пролетело лишь 300 м, а рикошетировало в общей сложности на 1680 м! Эффект рикошетирования ядер был, разумеется, хорошо знаком французским артиллеристам, и в стрельбе они умело его использовали.
Что же касается дистанции эффективного огня, она, как и в случае с ружьями, оценивалась современниками по-разному. Сравнивая данные различных источников, можно заключить, что для орудия среднего калибра (огонь ядром) она равнялась примерно 1 км. Более подробно эффективные дальности стрельбы приведены в таблице48.
Дистанции эффективного огня для орудий различных калибров
| Ядро/граната, м | Дальняя картечь ,м | Ближняя картечь, м | |
| 12-фунтовая пушка | 1100 | 700 | 500 |
| 8-фунтовая пушка | 1000 | 600 | 400 |
| 4-фунтовая пушка | 900 | 500 | 300 |
| Гаубица | 900 | 400 |
Данные величины выглядят, конечно, весьма скромно по сравнению с дальнейшим прогрессом артиллерии. Однако, если сравнить эти параметры с тактико-техническими данными других видов оружия той эпохи, прежде всего с ружьями, можно ясно увидеть значительное качественное превосходство артиллерии. Это заметно и по тем параметрам, которые характеризуют точность огня. Разброс ядер в сторону от направления директрисы выстрела составлял всего лишь десятые доли процента от дистанции полета ядра. На дистанции 1000 м разброс ядер в направлении выстрела - L (недолеты и перелеты) и отклонение влево и вправо от цели (Т) - были таковы49:
| L, м | T | |
| 12-фунтовая пушка | 39 | 1=0,1 L2 |
| 8-фунтовая пушка | 60 | |
| 4-фунтовая пушка | 49 | |
| Гаубица | 33 |
Как видно, максимальное уклонение в сторону от цели (на указанной дистанции) составляло / = 0,11/2, т. е. всего 3 м для 8-фунтовой пушки. Для реального прицеливания по мишеням результаты были таковы: при стрельбе в мишень, представляющую собой щит, в длину и высоту равный соответствующим параметрам роты пехоты в развернутом трех- шереножном строю, с 1000 шагов было от 40 до 70% попаданий, а у гаубицы - 20-30%50. С учетом скорострельности орудий и относительно невысокой скорости перемещения сомкнутых строев это было очень высокой точностью.
Что же касается эффекта, который производило ядро при попадании в цель, об этом красноречиво говорят следующие цифры. Согласно подсчетам французских инженерных офицеров, 12-фунтовое ядро пробивало с расстояния 500 м два метра земляного бруствера или кирпичную стену толщиной 0,4 м, по австрийским данным - 2,5 м земляного бруствера, что соответствует 36-ти поставленным друг за другом солдатам51. Современный читатель может с иронией заметить, что для того чтобы избежать воздействия ядра, этим тридцати шести солдатам не следовало бы становиться один за другим. Увы, тактический императив времени был таков (и с этим можно достаточно полно ознакомиться в следующей главе), что, хотелось этого людям или нет, они вынуждены были прибегать к густым сомкнутым построениям. Для масс пехоты и конницы ядро было очень опасным снарядом, особенно если принимать во внимание его возможный рикошет, а при каменистой почве - воздействие разлета камней. Необходимо также добавить, что даже ядра, не попавшие в колонну пехоты или кавалерии, все-таки оказывали на людей воздействие. Оглушительный вой проносящихся над головой чугунных шаров деморализующе влиял на солдат.
Теперь немного информации о картечи. Эксперименты, проведенные в изучаемое нами время, наглядно иллюстрируют ее воздействие. При опытах использовались орудия разных калибров, которые стреляли с разных дистанций по мишеням размером 5,8 м высотой и 35 м шириной: это примерно соответствует размерам фронта развернутого эскадрона. Затем подсчитывалось количество пуль, попавших в щит. Ниже мы приводим результаты этих экспериментов. 52
Количество картечных пуль, попавших в мишень
| Тип орудия | Количество пуль в заряде | Расстояние до мишени, м | Количество попавших пуль |
| 12-фунтовая пушка | 41 (дальняя картечь) | 800 | 7-8 |
| 700 | 10-11 | ||
| 112 (ближняя картечь) | 600 | 20-25 | |
| 500 | 35 | ||
| 400 | 40 | ||
| 8-фунтовая пушка | 41 | 700 | 8-9 |
| 500 | 10-12 | ||
| 112 | 600 | 25 | |
| 500 | 40 | ||
| 4-фунтовая пушка | 41 | 600 | 8-9 |
| 500 | 16-18 | ||
| 61 (ближняя картечь) | 400 | 21 |
Как видно из таблицы, даже на весьма значительных дистанциях картечь могла быть очень опасна. К тому же, тяжелые картечные пули были убийственны при стрельбе с короткого расстояния. Генерал Тьебо приводит в своих мемуарах эпизод, когда во время штурма Чивитта дель Кастелло неприятель выстрелил из 24-фунтовой пушки картечью в атакующую французскую колонну: 44 человека были убиты и ранены одним выстрелом, 17 из них скончались на месте 53.
Немалый урон неприятелю могли наносить и гаубичные гранаты. Уступая в дальности полета пушечным ядрам, гранаты тем не менее, разрываясь, производили значительный эффект. Дальность разлета осколков в среднем составляла 20 м, однако отдельные куски корпуса гранаты могли быть опасными на расстоянии до 150-200 м. Каждая граната давала от 25 до 50 осколков. Практики того времени весьма высоко оценивали и моральное воздействие разрывов гранат. Наконец, разрывы пугали лошадей, что было совсем не бесполезно при отражении кавалерийских атак.
В общем же эффект действия орудий был весьма значительным, и, без всякого сомнения, основное количество убитых и раненых в сражениях приходилось на долю артиллерии.
* * *
Подводя итоги главы, необходимо отметить тот факт, что Великая Армия имела оружие высокого качества по меркам той эпохи, а многие из его образцов превосходили соответствующие единицы вооружения стран-участниц антинаполеоновской коалиции. Однако ясно и другое. В эпоху Первой Империи не наблюдалось значительного прогресса в развитии вооружения. Продолжалось лишь медленное усовершенствование артиллерии и ручного огнестрельного оружия. Качественный скачок в развитии боевой техники начнется во второй половине XIX в., когда развитие крупного машинного производства создаст для этого необходимые предпосылки. В описываемое нами время в большинстве стран Европы наблюдалось достижение «потолка» тактикотехнических характеристик, которого оружие могло достигнуть в эпоху мануфактурного производства. Именно поэтому Император Наполеон не проявлял повышенного внимания к изысканиям в области военной техники. То немногое новое, что было изобретено в его эпоху в этой сфере, было либо малозначительным, либо носило характер почти что эксцентричных диковинок (например, воздушные шары, которые несколько раз применялись французами в ходе революционных войн). Поэтому все усилия Императора были направлены лишь на то, чтобы снабдить армию достаточным количеством оружия хорошего качества. С этой точки зрения Наполеоновская эпоха, уже такая современная во многих своих проявлениях, оставалась во многом принадлежащей по своему характеру к «традиционным» обществам. Люди, полные энергии, отваги и воли к победе, могли быть уверены, что сумеют противостоять неприятелю, чем бы он ни был вооружен.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Передвижение 12-фунтовой полевой пушки вручную с помощью лямок с крючком. 1 — вперед; 2 - назад; 3, 4 - лента с крючком.
Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). 1-7 - детали передка для 12- и 8-фунтовой полевой пушки и для 6-дюймовой гаубицы; 8, 9 - лафет 20-дюймовой осадной мортиры; 10,11 - бомба для 20-дюймовой осадной мортиры.
1 Bertaud J.-P. La révolution armée. Les soldats citoyens et la Révolution française. P., 1979, p. 240.
2 Ibid.
3 Correspondance... t. 14, p. 362.
4 Journal Militaire An XIV, p. 158.
5 Correspondance... t. 26, p. 467.
6 Correspondance... t. 27, p. 122.
7 Gassendi J.-J.-B. Aide-memoire a l'usage des officiers d'artillerie de France, attaches au service de terre. P., 1809, t. 2, p. 571.
8 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIXстолетие. СПб, 1911, с. 3.
9 Boisson J.-B. Souvenirs racontes par J.-B.- Boisson, chasseur au 12-e leger. // Revue de l'Agenais 1965-1967, p. 292.
10 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938, т. 4, с. 270.
11 Ibid., с. 270-271.
12 Gassendi J.-J.-B. Op. cit, t. 2, p. 572.
13 Bardin. Memorial de l'officier d'infanterie. P., 1809., t. 1, p. 422.
14 Ibid., p. 427.
15 Manuel d'infanterie ou resume de tous les reglements (decrets usager renseignements propres a cette arme). P., 1808.
16 Bardin. Op. cit, t. 1, p. 427.
17 Manuel d'infanterie...
18 Bardin. Op. cit, t. 1, p. 420.
19 Gassendi J.-J.-B. Op. cit, t. 2, p. 588.
20 Mirouze L. Les carabines de Versailles // Tradition N 7, juillet 1987, p. 15.
21 Mirouze L.,Les carabines de Versailles. // Tradition N 8, aout 1987, p. 15.
22 Ibid., p. 12.
23 Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по Величайте му повелению. СПб, 1841-1862, ч. 10, с. 404.
24 Brack F. de. Avant-postes de cavalerie legere. P., s d., p. 54.
25 Petard M. Le sabre des cuirassiers, // Tradition N° 54-55, juillet-aout 1991, p. 30.
26 Petard M. Les sabres de cavalerie legere modele An IX - An XI. // Tradition N° 65, juin 1992, p. 5.
27 Ibid., p. 8.
28 Petard M. Le sabre des cuirassiers.. p. 30.
29 Brack F. de. Op. cit, p. 54.
30 Ibid., p. 55.
31 Ibid., p. 54-55.
32 Ibid., p. 56-57.
33 Marmont A.-F.-L.-V. Esprit des institutions militaires P., 1845, p. 47A18.
34 Mirouze L. Le mousqueton de cavaleri e modele An IX. //Tradition N 14, fevr. 1988, p. 32.
35 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot P., 1891, t. 3, p. 186.
36 Correspondance... t. 23, p. 4.
37 Brack de. Notes sur l'arme des landers P., 1833. // Цит. по: Petard M. Le cheveau-leger-lancier français en 1812. //Tradition N° 51, avr. 1991, p. 16.
38 Brack F. de. Op. cit, p. 51.
39 Viau J.-L. Le pistolet modele An xm. // Tradition N° 3, mars 1987, p. 33.
40 Brack F. de. Op. cit, p. 53.
41 Parquin D.-C. Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de l'Empire. P., 1843.
42 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors generaux et divisionnaires, P., 1813, p. 410.
43 Fave I. Etudes sur le passe et 1'avenir de l'artillerie. P., 1846-71, t 4, p. 137-138.
44 Marmont A.-F.-L.-V. Esprit des institutions militaires,.. p. 54-55.
45 Marmont A.-F.-L.-V. Memoires du marechal Marmont due de Raguse de 1792 a 1841. P., 1857, t 1, p. 120.
46 Цит по: Gerard A. Le reglement de l'An XI... (2). // Tradition N° 80, sept. 1993, p. 33.
47 Coste. Sur le ricochet. // Journal Militaire, 1826, t. 5, p. 536.
48 Guibert J.-A.-H. de. Essai general de Tactique. P., s, d. Du Teil J. De l'usage de l'artillerie nouvelle dans la guerre de campagne en 1778. P., 1924, p. 27-29. Durturbie T. Manuel de l'Artilleur. P., 1794, p. 65, 67-68.
49 Lauerma M. L'Artillerie de campagne française pendant les guerres de la Revolution. Evolution de l'organisation et de la tactique. Helsinki, 1956, p. 26.
50 Ibid.
51 Ibid., p. 27.
52 Durturbie T. Op. cit, p. 217.
53 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P., 1893-1895, t. 2, p. 210.
Глава VII. АРМИЯ В БОЮ
Говорят, что в эпоху Империи теоретическая военная подготовка была слабой... Да, это так. Но в эту эпоху, наполненную действием, теория сама по себе не составляла и сотой части нашего обучения. Каждодневная опасность, каждодневный боевой опыт составляли 99 оставшихся частей.
Де Брак
На основании данных второй главы читатель мог сделать вывод, что основные потери, а следовательно, и главные тяготы солдаты Великой Армии претерпевали не в огне схваток, а в утомительных переходах, на холодных биваках и в заброшенных госпиталях... И все же, оставив пока в стороне биваки и госпитали, мы начнем с боя. Недаром великий Клаузевиц писал: «Бой есть подлинно военная деятельность, и все остальное лишь ее проводники»1. Именно ради боя солдат набирали, обмундировывали, вооружали, вымуштровывали, ради боя совершали форсированные марши, спали в грязи и на снегу, не доедали; из-за него же раненые и искалеченные мучились на грязных госпитальных койках... Кроме этого нужно добавить, что знакомство с тактическими формами необходимо также и для понимания походных порядков, организации лагеря и размещения на биваках.
Прежде чем перейти к описанию тактики наполеоновских войск, коротко обратимся вкратце к тому, что непосредственно ей предшествовало. Только сделав небольшой экскурс в середину XVIII в. мы сможем ясно осознать процессы, происходившие в тактической области в период Революции и Империи, когда старые методы ведения боя оказались несостоятельными, и на их место пришла совершенно иная тактика.
Манеру сражаться в XVIII в. современные историки описывают нередко с долей иронии: «время неспешных и величественных войн... с их длительными осадами и размеренными сражениями, с расшаркиванием и поклонами»2. «Маршалы и генералы-набобы были уверены, что секрет побед... состоит в точных негибких бесконечных эволюциях - величественность прежде всего»3. В результате бытует мнение, что бой в XVIII в. был чуть ли не игрой, а командующие армиями то ли в силу глупости, то ли в силу трусости, а скорее всего потому, что им была недоступна «мудрость» современного человека, воевали напудренными солдатами с помощью каких-то неразумных, условных, ритуальных маневров...
Действительно, сражения века Евгения Савойского и Фридриха Великого отличались картинностью: батальоны в красочных мундирах, построенные в плотно сомкнутые линии, марширующие с развевающимися знаменами под звуки военной музыки, стройные эскадроны кавалерии, пышно разодетые штабы. И все эти массы неторопливо маневрируют, словно на грандиозном смотру. В области тактики особенно удивляет современного человека почти полное отсутствие рассыпного строя, залповый неприцельный огонь пехотных линий, в стратегии - медленность и осторожность маршей, большие обозы, относительный «комфорт» на походе, если не для солдат, то, по крайней мере, для офицеров.
И вот на смену этим «театральным» войнам приходят кампании сначала Революции, а затем - Империи, с их форсированными маршами, бешеными штыковыми атаками и стремительным движением цепей стрелков. В чем причина столь резкого изменения облика войны, связано ли это с эволюцией вооружения или, быть может, с деятельностью отдельных гениальных личностей?
Прежде всего отметим, что в XVIII в. и во все эпохи люди сражались так, как это единственно было возможно при данном уровне развития техники, при данной системе социальных связей, моральных норм, государственного устройства и т. д. Методы ведения боя были ничуть не более надуманными и условными, чем у немецких танкистов в ходе операции «Барбаросса», или у советских штурмовых отрядов в битве за Берлин, или у американских десантников во Вьетнаме. Вот только реалии, из которых исходили генералы, были совершенно иными. С одной из этих реалий - технической оснащенностью войск - мы уже неплохо познакомились, ибо в середине XVIII в. ружья и пушки были во многом сходными с ружьями н пушками Наполеоновской эпохи, хотя, конечно, уступали им по ряду параметров. Ясно, что описанные нами ружья могли давать значительный эффект только при их массовом употреблении. Особенно действенным был огонь залпами. Достаточно очевидно, что такой огонь проще всего вести от группы, построенной ровными шеренгами и действующей по команде, поданной голосом. Так естественным образом родился батальон в развернутом строю, а поскольку максимально возможное количество людей, которыми можно командовать голосом (при условии сомкнутого строя), - 500-900 человек, то это количество стало обычной численностью батальона. Батальон пехоты, построенный в три шеренги и ведущий максимально частый залповый огонь, становится основой всех боевых порядков. Вполне вероятно, что такой строй являлся предпочтительным, более того, забегая вперед, отметим, что он продолжал оставаться немаловажным и в Наполеоновскую эпоху. Тем не менее даже исходя из общих соображений можно предположить, что рассыпавшиеся в кустах стрелки могли бы принести неприятелю немалый вред в бою, нельзя также не отметить, что кроме линии в ряде случаев могли бы оказаться удобными и другие построения, что перетаскивание за собой войсками целого палаточного города, замедлявшее до предела всякие действия армии, и т. п. - все это никак не может быть объяснено лишь императивом технических возможностей ружья или пушки. Действительно, подавляющее большинство военных историков отмечают, что основная причина вышеозначенных методов ведения войны заключалась в низких морально-боевых качествах наемных армий XVIII в. На этом объяснение обычно исчерпывается. Но любой здравомыслящий человек должен поставить следующий вопрос: «Почему именно в XVIII в. боевые качества наемников резко снизились?» Ведь римские легионы эпохи Цезаря, совершившие столько подвигов, тоже были наемными. Наемными были и полки Густава-Адольфа, и полки Тюренна, но они, как известно, сражались с отвагой, переносили лишения со стойкостью. Причина ухудшения качества солдатского материала в западноевропейских армиях конца XVIII в. кроется в социальной и экономической сферах. Образование централизованных абсолютистских государств в конце XVII - начале XVIII вв. дало в руки монархов большие, чем раньше, денежные средства, позволившие резко увеличить численность армий. Достаточно сказать, что регулярные вооруженные силы Франции численно возросли с 15-20 тыс. человек в начале XVII в. до 375 тыс. в 1690 г.4, при этом количество подданных французской короны увеличилось за то же время по сравнению с этими цифрами совсем незначительно: приблизительно с 18 млн. человек до 20 млн.5
Уже поэтому ясно, что вся эта масса солдат имела куда меньше доброй воли, чем «старые наемники», которые по причине малочисленности были практически все людьми не только добровольно сделавшими свой выбор, но и наделенными природной воинственностью, поступившими в армию в поисках приключений и в надежде обогатиться. Важно, однако, и другое: XVIII в. был временем значительного повышения уровня жизни, что весьма изменило отношение к воинской службе. Среди важнейших моментов в эволюции материальных условий жизни отметим следующее: средняя продолжительность жизни мужчин возросла с 30 лет в 1679 г. до 46 в 17796, впервые всего за сто лет человечество отвоевало у смерти более чем целое десятилетие. В Европе постепенно исчезает опасность смертельного голода, т. е. такого, который ранее возникал в случае неурожая и приводил к вымиранию целых областей; с 1720 г. в Западной Европе больше не было эпидемий чумы; отступила детская смертность, упавшая с 34% в конце XVII в. до 20% во второй половине XVIII в.7. За этими цифрами стоят огромные сдвиги в материальной жизни и в менталитете людей, которые живут теперь гораздо дольше, гораздо комфортнее, чем их деды и прадеды. Эти люди, в отличие от свирепых ландскнехтов XVI в., не готовы к тому, чтобы бросить родной дом, терпеть лишения и опасности в поисках наживы. Для того чтобы оторвать их от обычных занятий и бросить с остервенением уничтожать себе подобных, потребовалась бы либо религиозно-национальная рознь, либо пропагандистская мощь современного государства, способного разжечь идеологическую вражду. Но в XVIII в., когда в Европе еще не закончилось формирование национальных государств в современном понимании этого слова, национализм был еще мало известен, религиозные страсти угасли, но, самое главное, классические монархии были слишком слабыми государственными образованиями для того, чтобы организовать идеологическую обработку своих подданных, заставив их поверить, что жители враждебной страны являются воплощением зла, а собственный общественно-политический строй — воплощением добра. Особенно очевидным это стало в XVIII в., когда наметился кризис традиционной идеологии, и грамотные подданные, читая Монтескье и Вольтера, стали задавать себе вопросы о справедливости установленного порядка вообще. Все эти материальные и моральные трансформации XVIII в. еще более снизили желание среднестатистического крестьянского парня идти под знамена. «Легко оторвать от земли и повести на смерть людей, которые не знают, что сделать со своими жизнями, - писал знаменитый военный теоретик XVIII в. граф де Гибер, - просвещение и благосостояние изменили в этом смысле облик населения. Они создали тысячи новых профессий и занятий,., открыли дорогу для разного рода деятельности, расслабили дух и тело, дали почувствовать ценность жизни. Теперь напрасно будет призывать граждан на защиту страны: кроме дворянства, которое пойдет сражаться из чувства чести, нельзя надеяться привлечь остальных» 8.
Итак, у среднего европейца не было острого желания ринуться в бой, а государство было куда слабее современного и совершенно не имело возможности ни осуществлять полицейский контроль за всеми своими подданными, ни набить их головы пропагандой, неважно какой, ни даже эффективно проконтролировать убежавших из полков дезертиров. Поэтому тактика, а в особенности стратегия, должны были исходить из существующих реалий: солдату наплевать на войну; при плохом снабжении, при слишком больших трудностях на походе он дезертирует, и никто его не поймает... Достаточно обратиться к произведениям Фридриха Великого, чтобы понять, какие проблемы прежде всего беспокоили полководца в эту эпоху: «Если вы собираетесь совершить какое-либо предприятие против врага, - писал прусский король, - нужно, чтобы армия не испытывала ни в чем нужды... Как только армия войдет на вражескую территорию, необходимо немедленно захватить всех пивоваров и изготовителей водки..., чтобы у солдата не было нехватки в этих напитках, без коих он не может обойтись... это благо, которое бедный солдат заслуживает, особенно в Богемии, где воюешь как в пустыне (!)»9 Фридрих также наставлял: «Существенный долг каждого генерала - предотвращать случаи дезертирства. Это можно сделать следующим образом: надо приказывать почаще навещать ребят в палатках; вокруг лагеря надлежит наряжать гусарские патрули; на ночь следует расставлять посты егерей во ржи, а к вечеру удваивать посты кавалерией; нельзя позволять солдатам разгуливать, офицеры обязаны вести их строем, когда идут за соломой или водой... ночных маршей не следует делать; строго запрещать солдатам покидать свои взводы на походе; когда пехота проходит через лес, с боков должны следовать гусарские патрули; надо внимательно следить за тем, чтобы войска не терпели недостатка в необходимом, будь то в хлебе, мясе, водке, соломе и пр.»10
При таком положении дел нечего было и думать о форсированных маршах и наступлении в любых условиях. «Очевидно, - писал король, - что лучшая армия мира не выдержит подобных (зимних) походов, и поэтому надо избегать войны зимой»11.
В тактике, как в зеркале, отражались все перечисленные императивы: солдат безынициативен, у него нет ненависти к врагу, нет жажды драться во что бы то ни стало, зато есть желание дезертировать при первой же возможности. «...Тактика вполне соответствует составу армии, - справедливо отмечал Дельбрюк, - рядовому ничего не остается делать самому, ему надо только слушаться: он идет, маршируя в ногу, имея справа - офицера, слева - офицера, сзади - замыкающего; по команде даются залпы и, наконец, врываются в неприятельскую позицию, где уже не ожидается действительного боя. При такой тактике добрая воля солдата, если он только остается в руках офицера, не играет особенной роли, и можно было рисковать подмешивать в строй чрезвычайно разношерстные элементы» 12.
Так совершенно естественно родилась тактика, получившая позже название линейной, основой которой являлся уже упомянутый развернутый в трех- шереножную линию батальон, выравненный как на параде, с офицерами и унтер-офицерами позади и на флангах. Между тонкими линиями отдельных батальонов невозможно было оставить большие интервалы, так как фланги и тыл каждого из них были очень уязвимы, в результате армия строилась по сути дела в единый огромный боевой порядок, состоявший чаще всего из двух поставленных одна за другой на дистанции 200-300 метров линий развернутых батальонов. Кавалерии при этом оказывается нечего делать в ином месте, кроме как на флангах этого построения. Так боевой порядок армии стал неуклюжим и тяжеловесным. Поскольку всякий разрыв боевой линии грозил тем, что неприятель вломится в него, армия, если она желала предпринять какой-либо маневр или передвижение, вынуждена была действовать как одно целое, над ней, как сказал Клаузевиц, царило «проклятие единства» - отсюда медлительность и негибкость всех маневров.
Конечно, данное описание - не более чем общая схема. Не следует, как это делается в ряде трудов, сводить все многообразие форм борьбы в XVIII в. только к приемам линейной тактики. Как на теоретическом, так и на практическом уровне в течение всего столетия происходил поиск иных возможных форм борьбы. Еще в начале XVIII в. французский генерал Фолар выступил с идеей применения в бою глубоких колонн пехоты, с помощью которых он надеялся прорвать тонкие линии врага13. Идеи Фолара позже поддержал другой французский военный теоретик Мениль-Дюран 14. В военной литературе Франции той эпохи возникнет даже бурная полемика между сторонниками «тонкого боевого порядка» и «глубокого боевого порядка». Последний получит название «французского», так как, согласно мнению его авторов, он более соответствовал французскому характеру с его порывистой отвагой и энтузиазмом.
Батальонные и полковые колонны не раз применялись французскими войсками в ходе Семилетней войны, их использовали в боях под Бергеном, Зондерсгаузеном, Минденом и Клостеркампом...
Л.-Ф. Лежен. Сражение при Абукире 25 июля 1799 г. © Photo RMN - G. Blot / J. Scormans. На втором плане хорошо видно построение французских войск - развернутые линии батальонов пехоты и эскадронов кавалерии. На переднем плане слева - генерал Бонапарт со штабом.
Рассыпной строй стрелков также не был изобретен американскими повстанцами в ходе войны за независимость США. «Вольные батальоны» Фридриха II, «легкие легионы» французской армии, кроаты и пандуры австрийцев сражались почти всегда только таким способом.
Однако все эти теоретические диспуты и практические эксперименты оставались маргинальными по отношению к основной форме боя. Вплоть до Великой французской революции линейная тактика, как естественным образом вытекающая из всех социальных, политических, моральных и материальных условий войны, оставалась доминирующей. Напрасно знаменитый французский военный историк Колен доказывал, что основной причиной будущего глобального изменения облика войны было развитие огнестрельного оружия - появление ружья 1777 г. и пушек Грибоваля. Согласно его концепции, неудобный мушкет и несовершенные артиллерийские орудия были, якобы, причиной неповоротливых форм построений, а с облегчением оружия само собой произошло появление тактики колонн и рассыпного строя: «Могущество полевой артиллерии, развитие дорожной сети, прогресс тактики - все способствовало в конце XVIII в. тому, чтобы в исполнение был приведен наступательный дух... Отныне снабженные маневренной артиллерией и достаточной наступательной силой армии могли вести войну с невиданной дотоле энергией...»15 Трудно найти что-либо более противоречащее фактам. Хотя батальонная колонна формально и появилась во Франции в Уставе 1763 г., но вплоть до Революции .все обучение войск велось с ориентацией в первую очередь на основные концепции линейной тактики. Стремительные марши и отчаянные атаки полководцев XVII в. Тюренна и Конде куда больше напоминают наполеоновский стиль, чем битвы Семилетней войны, а самая пассивная, самая пронизанная духом линейной тактики война произошла почти накануне Французской революции в 1778 г. Этот конфликт между Пруссией и Австрией вошел в историю как «картофельная война», так как обе противоборствующие армии так «активно» искали встречи друг с другом, что за всю кампанию не состоялось ни одного решительного боя и вся война свелась к переходу войск с одного места на другое, занятию оборонительных позиций и... поеданию картофеля, который хорошо уродился той осенью в Богемии. Смешно было бы утверждать, что эта пассивность проистекала из того, что австрийские пушки Лихтенштейна или прусские Хольцмана имели дальнобойность на несколько десяткой метров меньше, чем грибовалевские. Никогда, напротив, с такой явственностью не проявлялся тезис Клаузевица о том, что «война - это продолжение политики другими средствами». Ограниченные политические цели, отсутствие национальной, религиозной, идеологической ненависти вызывали к жизни и крайне умеренные формы борьбы... И, быть может, о времени, которое вошло в историю как эпоха «войн в кружевах», можно вспомнить с сожалением, но никак нельзя приписывать ему того, что оно не создало.
Переворот в военном деле произвели, конечно, не ружье образца 1777 г. и не пушки Грибоваля, а гигантское политическое, социальное и моральное потрясение, которым была Великая французская революция. Мы говорили уже о том, что она вызвала к жизни невиданные дремавшие дотоле силы, она разбудила джина национальных и идеологических страстей, она бросила в огонь людей, одержимых жаждой победы, революционным пылом и энтузиазмом. Разве могли эти многочисленные батальоны новобранцев, впервые взявших в руки оружие, маневрировать с такой же точностью, как вымуштрованные прусские, австрийские, саксонские, гессенские полки? Комитет общественного спасения постановил 2 февраля 1794 г.: «Общим правилом должно стать - всегда действовать массами и наступательно, при каждом случае бросаться в штыки и преследовать врага до полного уничтожения»16. Необученные батальоны не могли удержать равнение в линиях и превращались в толпы стрелков, ведущих частый огонь без команды, другие, шедшие за ними, сбивались в подобие колонн, «так как все равно не собирались стрелять»17, и решительно шли вперед. «Когда град пуль и ядер врага становился все более жестоким, - рассказывает очевидец, - офицер или солдат, а порой и представитель народа запевал гимн победы. Генерал поднимал на острие шпаги свою шляпу, над которой развевался трехцветный плюмаж, чтобы его видели издалека и храбрецы могли следовать за ним. Солдаты бросались вперед бегом, первые шеренги брали штыки на руку, барабаны били атаку, воздух наполнялся криками, тысячу раз повторяемыми: "Вперед! Вперед! Да здравствует Республика !"»18
Конечно, если бы французов было меньше или столько же, сколько обученных вражеских солдат, они навряд ли смогли бы добиться победы подобными импровизациями, но на стороне республиканцев было численное преимущество, дерзкий порыв и самозабвенная отвага. В результате все премудрости линейной тактики начали рассыпаться под этим шквалом.
Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку и сказать, что с этого момента родилась новая тактика, которую, разработав и улучшив, применяли позже наполеоновские войска. Увы, все было не так просто. Едва республиканские части получили самые общие понятия о строе, как они снова стали тяготеть к линейному боевому порядку. Ведь старые унтер-офицеры и офицеры, обучавшие волонтеров, не знали иной тактики кроме той, которой их учили раньше, а победы, достигнутые описанным выше способом, относили к случайным (не без определенных оснований).
Этому возвращению к старым формам боя придается слишком большое значение в научно обоснованных трудах Колена, где он на примере корреспонденции республиканских генералов показывал, что фактически все обучение в 1793-1794 гг. велось по старой методике и направлено было на использование привычных стереотипов19. Совсем недавние исследования документов революционной эпохи - реляций, отчетов, рапортов о боях Северной армии - позволили американскому исследователю Джону Линну показать несостоятельность положений Колена. Несмотря на бесспорное возвращение линии как боевого построения в 1793-1794 гг., она отныне соседствовала и с широко употребляемыми цепями застрельщиков, и с батальонами в колоннах, смело идущими в штыковые атаки20. Гибкая система ведения боя, сохранившая из линейной тактики все полезное, все то, что определялось техническими возможностями оружия, но отбросившая все рутинное, стала естественной для всей республиканской армии. В своих первых походах Бонапарт ничего не изменил в боевых формах, выработанных революционными войсками, он просто мастерски использовал их на полях сражений и добивался блестящих результатов. Более того, тактика французских войск фактически не претерпела изменений и в период Консульства, и в первых походах Империи. Так что, описывая манеру сражаться Великой армии 1805-1807 гг., мы фактически расскажем и о тактике армии молодого Бонапарта. В последующих кампаниях Империи эти боевые формы претерпят ряд изменений, но об этом чуть позже.
Тактика пехоты
Наверняка Император был бы поклонником таланта Клаузевица, если бы последний написал свои военные произведения на пару десятилетий раньше. Впрочем, то, о чем великий немецкий военный теоретик писал с большим талантом, Наполеон реализовывал на практике. Подобно Клаузевицу, Император считал, что успех боя определяется не хитростью надуманных комбинаций и заумных построений, а отвагой, натиском, решимостью победить или умереть, спаянностью боевых единиц и единством командования, а все прочее - детали. Это пренебрежение к «низшей» области военной науки и отрицание формализма и педантизма заходили в наполеоновской армии, пожалуй, даже слишком далеко. В частности, несмотря на значительные изменения в тактике войск и их организационной структуре, во французской армии так и не были разработаны и введены ни строевой, ни полевой уставы, отвечающие новым методам ведения войны. Это кажется удивительным, но солдаты Аустерлица, Ваграма и Бородина формально должны были руководствоваться в своей боевой практике полевым уставом, написанным чуть ли не в эпоху войны за Австрийское наследство! Официально, впрочем, этот документ назывался «Полевой устав 1792 года», но на самом деле это был просто перепечатанный регламент 1788 г., который в свою очередь был не чем иным, как копией с устава 1778 г. Что же касается последнего, он был построен на основе базового регламента 17531755 гг. и немного дополнен опытом Семилетней войны! «При огромной разнице в организации армии и в военных операциях тогда и сейчас невозможно, - писал в 1812 г. генерал Преваль, - чтобы этот устав отвечал потребностям боевой практики. Удивительно другое: он, несмотря ни на что, хотя бы для чего-то еще подходит» 21. Что же касается строевого устава, введенного в войсках в 1791 г., о нем можно сказать, что для своего времени, конечно, он был последним словом воинской науки, и, будучи достаточно ясным и исчерпывающим, отвечал реалиям королевской армии 80-х гг. XVIII столетия. Однако уже к началу войн Империи этот совсем не старый документ казался древней историей. В нем ничего не говорилось о новой организации полков, батальонов и рот, ни словом не упоминалось о рассыпных строях стрелков, даже и полунамеком не давалось никаких рекомендаций для обучения штыковому бою, зато были, например, параграфы, где тщательно расписывалось, как надо отдавать почести Св. Евхаристии, и это при том, что многие солдаты в 1805 г., вероятно, уже и не знали, что такое Евхаристия и тем более не понимали, зачем ей надо отдавать почести. Поистине генерал Фуа, которому, как и тысячам других наполеоновских офицеров, пришлось разбираться в этом хаосе, выстрадал следующую фразу: «Тот, кто, желая изучить историю французской армии, будет изучать ее письменное законодательство, предпримет работу пространную и бесполезную; в этом ворохе монарших ордонансов и министерских постановлений, которыми можно заполнить сотню томов, противоречия будут останавливать его на каждом шагу, он не сможет отличить положения, которые находятся в силе, от тех, которые уже не находятся, и от тех, которые никогда не находились» 22. Так как изменения происходили практически непрерывно, старые уставы предпочитали не трогать, зная, что все равно к моменту публикации новых изменится еще что-нибудь. Да и Императору уже некогда было этим заниматься в постоянных походах. Вспоминая позже на острове Святой Елены о своих многочисленных проектах по поводу реформ в армии, Наполеон писал: «Я обдумывал все эти изменения, но не осмеливался реализовать их на практике. Для этого мне потребовался бы период полного мирного спокойствия: армия во время войны не позволила бы этого сделать, она... послала бы меня подальше»23. Впрочем, в 1809 г. в Шенбрунне после заключения перемирия с австрийцами Император поручил генералу Матье Дюма разработать новый полевой устав, однако наскоро составленный документ был, по признанию самого автора, не более чем компиляцией предыдущих регламентов (все тех же уставов 1778, 1788 гг.), в которые был включен ряд текстов новых приказов. Только в 1812 г., накануне похода в Россию, генерал Преваль составил проект действительно нового устава, отвечающего реалиям войн Империи. Однако официально он так и не был введен в войсках: на его анализ и доработку уже не нашлось времени.
Что же касается строевого устава, то здесь даже не было сделано подобных попыток. Поэтому мы начнем знакомство с боевыми приемами пехоты прежде всего с устава 1791 г.
Вполне понятно, что разработанный на основе опыта сражений XVIII в. регламент предполагал в качестве основного построения пехоты развернутую трехшереножную линию батальона. В этой линии солдаты стояли очень тесно по фронту: в среднем на одного человека приходилось меньше одного шага*, и каждый должен был слегка касаться локтями соседей справа и слева. Достаточно близко друг от друга располагались и шеренги - на дистанции одного фута (расстояние измерялось от ранца солдата передней шеренги до груди солдата задней). Позади линии располагалась большая часть унтер-офицеров и офицеров, исключение составляли капитаны, которые должны были стоять на правом фланге своей роты, и часть сержантов, которые также находились в строю. Конкретное местоположение каждого из солдат, унтер-офицеров и офицеров хорошо видно на рисунке.
Важно отметить, что при построении в боевой порядок каждая рота получала название «взвод» (peloton)**; два рядом стоящих взвода назывались «дивизион» (division). Это было связано с тем, что организационная единица и единица строевая не совпадали. По той или иной причине в ротах могло оказаться разное количество солдат, строевые же маневры требовали одинакового количества людей в подразделениях. Поэтому из рот, где их было с избытком, ставили в те роты, где их не хватало, в результате, хотя строевой взвод и соответствовал приблизительно роте, полной идентичности между ними не было. Регламент предполагал, что данное построение должно быть основным, более того, фактически единственным используемым в бою. Именно поэтому построение батальона в развернутую линию называлось построением «en bataille», т. е. просто боевым. Вообще в регламенте все перестроение взвода, дивизиона или батальона, приводящее к тому, что данное подразделение оказывалось в развернутой сомкнутой линии, называлось перестроением «в боевой порядок». Итак, трехшереножная сомкнутая линия батальона являлась, по мысли авторов регламента, основным и естественным построением. Модулем же ее, из которого, как из кубиков, выстраивалась как линия, так и все прочие построения, был взвод. В отличие от пехоты XVII в., которая для похода, боя или парада принимала построение, где совершенно по-разному, с различными дистанциями и интервалами размещались бойцы, батальон рассматриваемого периода был как бы составлен из неразрушаемых, нерасчленяемых кирпичиков. Преобразование одного построения в другое осуществлялось за счет изменения положения взводов, которые делали захождения плечом вперед, перемещались вперед или назад, вправо или влево, сохраняя при этом неизменным внутри себя положение практически всех солдат и офицеров.
* Регламент не указывает точно, какое пространство отводится по фронту на человека, однако в одном из наставлений маршала Даву для своего корпуса указывается, что батальон, имеющий 213 человек по фронту, должен занимать 152 шага (или 100 м).
** Речь идет лишь о строевой единице, а не об организационной. Именно поэтому в России XVIII в. употребляли специальный термин «плутонг» (искаженное франц. «peloton»), чтобы не путать со взводом организационным.
Батальон в развернутой линии по регламенту 1791 г.
Взвод, построенный по регламенту 1791 г. Примечание: солдаты стоят тесно в строю. Каждый слегка касается локтями своих соседей. Расстояние между шеренгами (измерялось от ранца впередистоящего солдата до груди сзадистоящего) - 1 фут (32,4 см).
Построение батальона в колонну повзводно.
Например, основным строем для передвижения батальона по дороге или по полю была колонна повзводно.
Строилась она следующим образом. Командир батальона отдавал приказ:
1. Par peloton a droite Повзводно направо
2. Marche Марш
По второй команде каждый взвод заходил левым плечом вперед на 90°. В результате получалась последовательность построенных один за другим взводов.
Необходимость двигаться и маневрировать развернутой линией батальона, быстро «ломать его фронт»* и опять строиться в линию привела и к появлению особой строевой стойки солдата, соответствующего шага и всей системы обучения, которые могут показаться сейчас весьма неудобными, но которые, тем не менее, являлись единственно возможными в тех условиях. Лучшим доказательством является то, что все войска Европы от Петербурга до Мадрида обучались по примерно сходным регламентам.
Первое, чему должен был обучиться рекрут, - это правильно стоять в строю. Устав так описывал правильную стойку солдата: «Каблуки на одной линии, сближенные настолько, насколько позволяет телосложение, ступни разведены и составляют одна по отношению к другой угол чуть меньше прямого, колени держатся прямо, но не натянуты, тело прямо и чуть наклонено вперед, плечи разведены, руки держатся естественным образом, локти прижаты к телу, кисти рук слегка развернуты ладонями наружу так, чтобы мизинец лежал по шву штанов, голова прямо, подбородок чуть приближен к шее, но не слишком, глаза смотрят на землю примерно в пятнадцати шагах»24.
Непросто было научить крестьянского парня держать ступни разведенными, так чтобы они «составляли одна по отношению к другой угол чуть меньше прямого», тем не менее это было необходимо. Ибо чтобы в строю солдат занимал минимальное пространство по фронту, чтобы он выполнял все ружейные приемы, не мешая другим, требовалась максимальная собранность всех движений. Напомним, что в одной шеренге по фронту стояло 200-250 человек! Малейший толчок сразу передавался, как волна, и мог нарушить равнение и сомкнутость.
Исходя из этих же принципов был выработан и основной строевой шаг, так называемый «обычный шаг» (pas ordinaire)**. По современным понятиям он может показаться просто черепашьим - 76 шагов в минуту, то есть примерно та скорость, с которой идет неторопливо прогуливающийся человек. Столь медленный шаг также легко объясняется уже названными императивами. Ведь линия развернутого батальона, занимавшая по фронту 100120 метров, должна была перемещаться не только по плацу, но и по реальному полю боя со всеми его рытвинами, камнями, кустами, обломками лафетов и изуродованными телами, не нарушая или почти не нарушая равнения! Понятно, что даже очень хорошо обученные войска, если бы они вздумали двинуться вперед со скоростью парадного шага современных армий (100 шагов в минуту во французской и 120 шагов в русской), не сумели бы сохранить равнение, превратились из стройной линии в бесформенную толпу. Движения солдата во время шага также были подчинены необходимости сохранять равнение и сомкнутость в огромной линии. Правая, свободная от ружья, рука не давала отмашки, а держалась плотно прижатой к телу. Солдат должен был шагать, «вытягивая носок, но не слишком, причем так, чтобы он сохранял выворотность наружу, верхняя часть корпуса должна быть наклонена вперед, икры должны быть напряжены. Ставить ногу на землю надо плоско, без стука. Голову держать прямо...»25' Вся техника шага была построена на том, чтобы избежать малейших колебаний корпуса, которые могли бы привести к давлению на соседей справа или слева и тем самым разрушить линию: «...Солдаты в строю не могут идти так, как это мог бы позволить себе отдельно взятый человек, так как нет двух людей, ходящих одинаковым образом. Необходимо, чтобы рекруты научились ходить одинаковым шагом, чтобы этот шаг был четким и ритмичным, без чего не будет единства»26.
* «Ломать фронт батальона» (Rompre le bataillon) означало превратить линию батальона в набор так или иначе стоящих взводов или дивизионов, например, описанное выше построение колонны повзводно могло быть охарактеризовано как «сломать фронт батальона по взводам направо».
** В русском уставе он называется «тихий шаг» и точно соответствует как по скорости и технике, так и по его применению «обычному шагу» французской армии.
Строевая стойка солдата по регламенту 1791 г. (Рисунок из издания 1809 г.).
Кроме «обычного шага» применялся также и ускоренный, который, впрочем, тоже был не особенно стремительным - сто шагов в минуту. Этот тип шага применялся при движениях в колоннах, где вследствие узости фронта гораздо легче было сохранить равнение. Наконец, «в атаке и при всех прочих обстоятельствах, которые могут потребовать особой быстроты движений», использовался особо ускоренный шаг или, как его называли, «шаг атаки» (pas de charge) - 120 шагов в минуту, однако, как отмечал регламент, «подразделение, идущее таким шагом, не сможет долго держать равнение и, конечно же, скоро придет в беспорядок, поэтому шаг этой скорости рассматривается как выходящий за рамки нормального обучения»27.
В наборе возможных типов маршировки, предписываемых регламентом, был еще один, который может поразить военного XX в. - это так называемый «облический шаг» (pas oblique) вправо или влево. Облический шаг вправо выполнялся следующим образом: солдат шагал вперед левой ногой, а затем выносил правую ногу под углом 45° к направлению движения, не поворачивая корпуса, затем снова левой вперед, правой вбок и т. д. Соответственно при облическом шаге влево ходили вперед правой ногой, а левой - вбок. Скорость облического шага была 76 шагов в минуту. Современный читатель может подумать, что это что-то из области балета. Конечно, облический шаг не принадлежит к числу самых естественных форм движения человека. Тем не менее его употребление также вытекало из необходимости действовать сомкнутой развернутой линией. Если во время боя линию требовалось сместить под углом вперед, сохраняя в то же время ее ориентацию фронтом к неприятелю, это можно было сделать только облическим шагом, при всех прочих вариантах пришлось бы изменить направление фронта боевого порядка либо ломать строй.
Наконец, добавим, что устав предусматривал и самый обычный человеческий шаг, который назывался «походным шагом» (pas de route). Как можно догадаться из его наименования, этот шаг использовался на марше. Скорость для походного шага не была регламентирована с такой же точностью, как для остальных (так как солдаты на марше шли не в ногу), и могла варьировать в пределах 85-90 шагов в минуту. Солдаты, двигаясь по-походному, шли как кому удобно, оружие также неслось произвольным образом, разрешалось разговаривать и петь.
Солдат, обученный правильно ходить, должен был затем овладеть приемами обращения с оружием. Прежде всего это было ношение ружья по команде «на плечо» (portez vos armes). «Инструктор должен обратить особое внимание на то, чтобы солдат держал ружье не слишком низко и не слишком высоко, - указывал регламент, - если ружье держится чрезмерно высоко, левый локоть будет слишком отставлен в сторону, и солдат в результате будет занимать больше, чем положено, места в шеренге, оружие будет держаться нетвердо; если же оружие держится слишком низко, у солдата не будет места, чтобы свободно действовать с ним, потому что его соседи, придвинувшись ближе, то стеснят его движения...» 28
Как мы видим, и здесь главной задачей было добиться максимальной слаженности действий в плотном строю.
После занятий по основным «принципам ношения оружия» рекрута обучали заряжать и стрелять (см. предыдущую главу), а затем и выполнять прочие ружейные приемы: брать ружье «под курок», «держать вольно» и т. д. Наконец, солдат обучался примыкать штык «брать на руку», то есть выставлять ружье со штыком прямо перед собой. Вероятно, современный читатель будет удивлен, но последним приемом исчерпывалась вся индивидуальная боевая подготовка рядового. Никаких уроков штыкового боя, а тем более каких-либо других видов единоборств на оружии или без оружия, не давалось. Впрочем, отметим, что и во всех других армиях Европы - австрийской, русской, прусской, испанской - дело обстояло точно также. Причина этого явления очень проста: дело в том, что, как мы неоднократно подчеркивали, устав, используемый в наполеоновской армии, также, впрочем, как и все уставы других армий в этот период, был составлен исходя из опыта сражений эпохи линейной тактики, а в них, как читателю уже известно, по возможности избегали рассыпного строя, в действиях же массами полагались прежде всего на залповый огонь. Знаменитый австрийский полководец XVIII в. принц де Линь писал, что ему много удалось повидать в своих походах, но вот лязг скрещивающихся в бою штыков он слышал лишь один раз в сражении под Монсом (1757 г.).
Только Наполеоновская эпоха, с ее отчаянными штыковыми схватками под Эсслингом, Бородино, Люценом, Линьи и ряде других сражений поставила на повестку дня необходимость подобного обучения. Но и здесь надо сделать следующую оговорку: почти все сражения, где действительно встречался серьезный штыковой бой, относятся к поздним войнам Наполеона, в основном 1812-1815 пц выводы из них можно было сделать лишь после падения Империи. Наконец, при всей ожесточенности отдельных эпизодов штыковых схваток, подавляющее число потерь и в эти годы наносилось неприятелю за счет артиллерийского и ружейного огня, а потому остро и не ставился вопрос об обучении индивидуальному бою, тем более что для таких занятий потребовались бы специально подготовленные кадры, дополнительные денежные средства и, самое главное, время. Ни того, ни другого, ни третьего не было ни у Наполеона, ни у его противников. Начало обучению рукопашному бою, гимнастическим приемам, физической подготовке солдата будет положено в европейских армиях лишь во второй четверти XIX в., и Наполеоновская эпоха в этом смысле еще целиком принадлежит XVIII в.
Более или менее индивидуально обученный рекрут переходил к занятиям по «программе» взводной школы. В этой части подготовки будущий солдат еще тверже закреплял пройденное в отношении шага, равнения и ружейных приемов, и везде главное внимание обращалось на слаженность исполнения, на то, чтобы взвод действовал как единое целое, не теряя равнение, маршировал фронтом, заходил правым или левым плечом вперед, менял скорость шага, четко выполнял ружейные приемы, а также вел залповый огонь. Усвоив эти упражнения, солдат должен был продолжать обучение в составе всего батальона. Конечно, когда на это имелось время, но в наполеоновской армии его очень часто не хватало, и конскрипты нередко пополняли ряды боевых частей, пройдя лишь взводную школу. Одним из важных моментов «батальонной школы» было обучение солдат разнообразным методам ведения огня, которые применялись на практике.
Основными способами стрельбы из сомкнутого строя были следующие: батальонный огонь (feu de batallion), огонь полубатальонами (feu de demi bataillon), огонь взводами (feu de peloton) и, наконец, огонь «двумя шеренгами» (feu de deux rangs). В первых трех случаях речь шла о залпах, даваемых соответственно целым батальоном, полубатальоном или отдельными взводами. При этом регламент предполагал, что залп давался сразу всеми тремя шеренгами, причем первая шеренга вставала на колено, а третья стреляла в промежутки между солдатами второй шеренги. Для производства залпа всем батальоном командир отдавал следующие приказы:
Bataillon Батальон
Armes (сокращенно от Appretez vos armes) Товсь
Joue Целься
Feu Огонь
Chargez Заряжай
По второй команде солдаты брали ружья наизготовку и взводили курки, причем солдаты первой шеренги одновременно садились на колено. По третьей и четвертой, как достаточно ясно, производилось прицеливание и осуществлялся залп. Аналогично отдавались команды и для стрельбы полубатальонами, только название «батальон» заменялось на название «правый» или «левый полубатальон». Впрочем, этот тип огня редко встречался на практике. Зато весьма распространенным был огонь взводами. Командир батальона отдавал приказ:
Feu de peloton Огонь взводами
Commencez le feu Начинайте огонь (соответствующая русская команда - «зачинай»)
По второй команде командир первого взвода приказывал своему подразделению изготовиться и стрелять, тотчас же после производства залпа первым взводом стрелял третий, затем немедленно каждый по очереди: пятый, седьмой, второй, четвертый, шестой и восьмой. Огонь, таким образом, быстро перекатывался по фронту всего батальона.
Однако самым «любимым» методом огня французской пехоты был так называемый «огонь двумя шеренгами» (feu de deux rangs), при котором достигалась максимальная скорострельность. Для его начала командир батальона отдавал следующие приказы:
Feu de deux rangs Огонь двумя шеренгами
Bataillon Батальон
Armes Товсь
После того как все солдаты первых двух шеренг с заряженными ружьями становились наизготовку, отдавалось распоряжение:
Commencez le feu Зачинай
По этой команде в каждом взводе целились и стреляли два солдата крайнего правого ряда, затем тотчас за ними - солдаты второго ряда, затем третьего, четвертого и т. д. (напоминаем, что «рядом» по уставу как французской, так и русской армии называются солдаты, стоящие один в затылок другому). Огонь, таким образом, прокатывался по фронту каждого взвода*. После первого организованного выстрела каждый вел огонь так, как это было ему удобно, и, в частности, солдаты второй шеренги уже не обязаны были стрелять одновременно со своим соседом спереди. Огонь начинал беспорядочно, но с большой скоростью «метаться» по всей линии батальона. Интенсивность этого огня была очень велика. Достаточно сказать, что батальон средней численности (т. е. около 700-750 человек) при весьма скромной степени обученности солдат давал около 1000-1200 выстрелов в минуту** или приблизительно 16-20 выстрелов в секунду! Это был настоящий шквал огня, линия батальона окутывалась пороховым дымом, в котором с ужасающим непрекращающимся треском ежесекундно вспыхивали несколько десятков снопов вылетающего из ствола пламени. Пытаться остановить такую пальбу командой голосом было бы просто бесполезно, поэтому сигнал для прекращения огня подавался с помощью короткой барабанной дроби. Добавим, что во время производства стрельбы командиры взводов и знаменосец с охраной отходили назад, на один шаг позади третьей шеренги.
Как видно из-всего вышесказанного, устав 1791 г. нацеливал на обучение личного состава в духе линейной тактики и, безусловно, рассматривал развернутую трехшереножную линию как основное боевое построение. Правда, на страницах 235-238 регламента описывалась «колонна к атаке». Она представляла собой колонну, построенную подивизионно (дивизион – два рядом стоящих взвода), и «строилась на центр». Это означало, что центральные 4-й и 5-й взводы батальона оставались неподвижными, а остальные с правого и с левого крыла скорым шагом отходили за них. Получались четыре (иногда пять)* стоящих одна за другой коротких линии, расстояние между которыми равнялось фронту «секции» (половины взвода). Таким образом, если считать батальоны в 600-700 человек, колонна насчитывала примерно 50-55 человек по фронту, а в глубину - 12 полных шеренг плюс 4 неполных (шеренги замыкающих), что представляло собой прямоугольник, имевший около 25 метров по фронту и 40 метров в глубину.
* Так как огонь при этой системе стрельбы перекатывался вдоль строя по рядам, он назывался еще «огонь рядами» (feu de file), последнее выражение было и в русской военной терминологии начала XIX в.
** Стреляли две шеренги, т. е. около пятисот человек; принимая за минимальную нормальную скорострельность 2-2,5 выстрела в минуту, мы получим 1000-1250 выстрелов в минуту. Из этой суммы нужно вычесть несколько десятков неизбежных осечек. С другой стороны, учитывая, что, согласно регламенту, солдаты третьей шеренги должны были заряжать ружья, постоянно обмениваясь с солдатами второй шеренги, эта цифра могла быть и несколько большей. Правда, этот маневр - передачу ружей - редко делали на войне. В общем же 1000-1200 выстрелов в минуту могли быть даны батальоном без особых усилий.
Построение батальона в колонну к атаке
Устав 1791 г., описывая построение колонны к атаке, не делал из этого никаких выводов. Не указывались ни случаи, при которых нужно было ее применять, ни то, как управлять этой колонной на поле боя. Зато очень подробно описывались построения разнообразных колонн для передвижений в дороге и выдвижений из резервов, а также многообразные «эволюции линий». Последним термином назывались маневры, производимые одновременно большим количеством развернутых батальонов. Устав подробнейшим образом описывал такие перестроения, как «перемена фронта на пятый батальон левым крылом вперед», «облическая перемена фронта вперед на оконечность правого крыла первой линии», «перпендикулярная перемена фронта левым крылом вперед на центр первой линии» и т. д. Уже исходя из этих замысловатых формулировок можно усомниться в ценности таких маневров на реальном поле боя; впрочем, мы скоро увидим, насколько полно они реализовывались на практике.
Против кавалерийских атак регламент предписывал строить каре** в шесть шеренг - громоздкое построение из четырех батальонов. Подобное каре, конечно, с успехом могло бы противостоять вражеской коннице, если бы его можно было построить где-нибудь кроме как на маневрах на Марсовом поле. Боевые реалии Революции полностью отменили все сложные маневры, годные лишь для обучения на огромном ровном плацу. Зато ни одно сражение не обходилось без использования цепей стрелков, без атак батальонных колонн, без необходимости на ходу изобретать простые построения против кавалерийских атак. Наконец, как уже отмечалось в предыдущих главах, в 1804-1805 гг. в батальонах появились роты вольтижеров, одновременно росло число батальонов в полках, и наконец, декрет 1808 г. вообще в корне изменил организационную структуру пехотных частей и подразделений. (Напомним, что отныне батальон состоял из шести рот: четыре роты центра, одна гренадерская (карабинерная) и одна вольтижерская). Все эти организационные изменения и боевая практика войск остались без всякого отражения в строевом уставе. Поэтому в наполеоновской армии и не существовало абсолютного единообразия в боевых приемах пехоты. Если на уровне «школы солдата» и «взводного учения» устав не вызывал особых сложностей в его использовании, то уже на уровне батальона, а тем более многих батальонов он даже при желании просто не мог быть применен буквально. Генерал Фуа справедливо отмечал, что «регламент 1791 года... был для младших чинов книгой истин, но командирам в высоких чинах его приходилось изменять и применять к потребностям войны»29. В каждом армейском корпусе существовал свой «стиль» управления войсками, своя трактовка строевого устава. Некоторые из этих версий уставов оставались, быть может, даже не записанными, другие, хотя и были сформулированы на бумаге, не дошли до нас, некоторые же сохранились. Среди них «Инструкции для войск корпуса левого крыла», составленные Неем скорее всего в 1804 г. и опубликованные вместе с его бумагами в 1833 г., а также строевые наставления маршала Даву «Маневры рот стрелков или фланкеров», «Инструкции по образованию резервов и построению каре» и другие, датируемые октябрем-ноябрем 1811 г. Последние вместе с бумагами маршала попали в руки русских войск во время отступления из России и были полностью опубликованы в Петербурге в 1903 г. вместе с другими материалами военно-учетного архива Главного штаба, относящимися к войне 1812 г.30
Как наставления Нея, так и предписания Даву дают нам действительные реалии обучения и боевой практики войск в эпоху Империи. Отметим, однако, что, написанные в разные годы, они немало отличаются друг от друга.
Рассмотрим для начала инструкции маршала Нея. Они резюмируют боевую практику Революционных войн и в немалой степени еще отражают тактические привычки конца XVIII в. Основным качеством колонн Ней считает «легкость развертывания во всех направлениях, построение в линию (en bataille) вперед или на центральные дивизионы...»31 То есть главным боевым порядком для него еще остаются батальоны в развернутом трехшереножном строю. Кроме того, в инструкции Нея немало места отводится и знаменитым «эволюциям линий», которые так пространно описывал регламент. Правда, эти эволюции куда менее сложны, чем уставные, но даже и они, как покажет опыт, практически не найдут боевого применения.
* Согласно регламенту, в каждом батальоне было по одной роте гренадеров. Эти роты для боя объединялись в отдельный гренадерский дивизион, приданный первому батальону, в результате этот батальон оказывался состоящим не из четырех, а из пяти дивизионов. Если же батальон действовал отдельно от полка, то рота (строевой взвод) гренадеров стояла на правом фланге развернутой линии и при построении колонны к атаке уходила за середину последнего дивизиона.
** Каре - построение в форме прямоугольника, где каждая сторона (фас) обращена «в поле». Середина каре оставалась незаполненной, здесь располагались конные офицеры, знаменосцы и барабанщики.
Впрочем, если войска Нея обучались столь сложным маневрам, это не прошло для них даром. Полки под командованием «храбрейшего из храбрых» действовали на поле боя слаженно и умело, хотя, конечно, в войне 1805 г., как и в последующих кампаниях, сами собой отсеялись все чрезмерно хитроумные эволюции.
Инструкции Нея вносили серьезные коррективы в устав относительно ведения огня из линий. Маршал полностью отвергал практическую ценность стрельбы всеми тремя шеренгами: «Для производства пальбы всей линией те, кто стоит в первой шеренге, должны сесть на колено. Это движение обычно не нравится солдатам, так как они подвергаются опасности со стороны стреляющих, когда встают для заряжания ружья. Другой немаловажный недостаток такой стрельбы заключается в том, что линия не может быстро двинуться вперед, чтобы атаковать неприятеля в штыки... Замечено также, что когда солдаты в опасных обстоятельствах посажены на колено, весьма трудно поднять их снова, так как они в определенном смысле укрыты в этом положении от огня врага, ибо местность, какая бы открытая она ни была, всегда имеет некоторые неровности, прикрывающие сидящего человека... Огонь "двумя шеренгами", он же "огонь рядами", - это единственный способ стрельбы, который дает преимущество хорошо обученной пехоте...»32 Впрочем, Ней замечал, что передачу заряженных ружей от солдат третьей шеренги стоящим впереди следует упразднить. А самым лучшим методом маршал считал необходимость «после общего залпа двумя первыми шеренгами смело двинуться на врага в штыки. При этом третья шеренга сохранит ружья заряженными, держа их "под курок", чтобы применить свой выстрел по обстановке»33.
Говоря об инструкциях маршала Нея, написанных во время пребывания войск в Булонском лагере, нельзя не обратить внимание на следующий вопрос: насколько хорошо пехота императорской армии была обучена как простейшим, так и сложным маневрам. По этому поводу существует два прямо противоположных мнения. Обычно принято писать, что в Булонском лагере войска прошли хорошую тактическую школу. Вот как, например, характеризует маршал Мармон степень обученности войск вверенного ему корпуса в этот период: «...необходимо было подтянуть строевую подготовку. Примерно месяц ушел на изучение ее элементов, а после этого два дня в неделю занимались батальонной школой и три дня в неделю маневрами целыми дивизиями. В воскресенье весь армейский корпус, составленный из трех дивизий, маневрировал вместе, а каждые две недели были большие маневры с огневой подготовкой; специальный полигон был задействован для обучения артиллерии... так что каждый день был заполнен, и даже во время отдыха солдаты приходили посмотреть, как упражняются другие. Войска быстро достигли степени обученности, которую трудно себе вообразить. Я никогда не видел французские части достигшими в боевой подготовке столь высокой степени совершенства. Полки, получившие такую отличную подготовку, сохранили ее надолго; и даже после длительных войн в них оставались следы пребывания в этих лагерях...»34
Однако существуют и другие свидетельства. Одно из самых интересных курьезным образом относится к упомянутому нами корпусу Нея. «Я удивлю моих читателей, рассказав им, сколь мало в Монтрейльском лагере (корпуса Нея) командование занималось нашим обучением и как плохо оно использовало ценное время, - сообщает в своих мемуарах генерал Фезенсак, в то время офицер 59-го линейного полка. - Маршал Ней приказал провести большие маневры осенью 1804 г. и в 1805 г. Я участвовал в них первый раз как солдат, второй раз - как офицер. Было много хлопот и много усталости. Мы уходили засветло, поев супа, и возвращались заполночь, получив за весь день лишь глоток водки. Генерал Малер собрал дивизию едва три раза, и мы маневрировали плохо. Что же касается занятий побригадно, то их вообще не было, так как генерал, командующий бригадой, отсутствовал в лагере. Каждый полковник обучал свой полк как хотел: немного теории, немного работы с новобранцами, а каждую весну снова занимались с унтер-офицерами, начиная с азов - строевой стойки без оружия...» 35
Построение батальона в каре.
Стрелковая цепь по регламенту Даву.
Последнее свидетельство должно, конечно, сделать куда более осторожным наше отношение к интенсивности обучения в Булонском лагере. Тем не менее нельзя не отметить, что большинство очевидцев все же склоняются скорее к традиционной точке зрения. Ее же, хотя и с куда меньшим энтузиазмом, чем в описании не скупящегося на похвалы себе Мармона, подтверждают бесстрастные свидетельства рапортов инспекций.
И в общем, несмотря на все оговорки, генерал Фуа был прав, когда он писал, что «никогда во Франции не было столь мощной армии. И хотя храбрецы, восемьсот тысяч которых в первые годы войны за свободу поднялись по призыву "Отечество в опасности!", были наделены большими добродетелями, воины 1805 г. имели больше опыта и подготовки. Каждый в своем звании знал свое дело лучше, чем в 1794 г. Императорская армия была лучше организована, лучше снабжена деньгами, одеждой, оружием и боеприпасами, чем армия Республики...»36
Армия Наполеона, обученная в Булонском лагере, использовала на практике боевые порядки, которые описывал регламент 1791 г.: линия, батальонная колонна (повзводно и подивизионно). К ним добавились те, которые привнес опыт революционных войн: рассыпной строй, а также батальонные и полковые каре, строившиеся для отражения атак кавалерии. Эти каре, в отличие от регламентированных, получались в результате очень простых движений. Вот, например, как производилось построение батальонного каре: батальон, стоявший в колонне подивизионно на взводных дистанциях (т. е. каждый дивизион располагался в затылок предыдущему на расстоянии, равном длине фронта взвода), получал приказ:
1. Garde a vous - pour former le саrre Смирно, приготовиться к построению в каре
2. Forme le carre par peloton droite et de gauche en bataille Строй каре, повзводно - направо и налево в боевой порядок
3. Marche! Марш!
По последней команде правые взводы 2-го и 3-го дивизионов заходили левым плечом вперед, а левые взводы тех же дивизионов - правым.
4-й дивизион примыкал вперед и делал поворот кругом. Барабанщики, знаменосец и командир батальона уходили в центр каре (см. рис. на пред. стр.).
Что касается рассыпного строя, то в кампаниях 1805-1807 гг. для этой цели использовались как вольтижерские роты, так и целые батальоны легкой пехоты, причем последние применялись все реже. Стрелковая цепь действовала на расстоянии 100-200 метров перед фронтом сомкнутого строя, чаще всего колонны, так как сама линия предназначалась для стрельбы. Застрельщики вели огонь, разбившись попарно: в момент, когда один солдат стрелял, другой прикрывал его, стоя на изготовку.
Итоги эволюции тактики в период войн 1805-1811 гг. подводились в циркулярах Даву, адресованных его дивизионным генералам - Морану, Фриану, Гюдену, Дессе и Компану. Они дают действительно реалистическую картину пехотного боя этих лет. Остановимся на них более подробно.
Э. Детайль. «Массы» пехоты в стрелковом бою.
Во-первых, в «уставе» Даву батальоны указаны наконец такими, какими они были в реальности: состоящие из шести рот, с вольтижерами и гренадерами. Во- вторых, из циркуляров маршала полностью исключены все теоретизирования и схоластические «эволюции линий». Наконец, регламент Даву нацелен на обучение новой форме боя - гибкому сочетанию колонн, линий и рассыпного строя. Хотя указанные циркуляры не являются всеобъемлющим уставом и многое в них не разъясняется, так как подразумевается очевидным, тем не менее ясно, что основной боевой формой становится теперь колонна подивизионно (вследствие уменьшения числа рот она состояла лишь из трех дивизионов). На это косвенно указывает ряд разделов. В частности, указывая, каким образом необходимо строить каре, Даву обходится без предварительных объяснений, предполагая, что батальоны уже стоят в колоннах. В параграфах устава, говорящих о действиях стрелков, лишь один раз упоминается линия, в остальных случаях речь всегда идет о колоннах и т. д.
Даву уделяет большое внимание действиям цепей стрелков. Маршал считает, что маневрированию в рассыпных строях должны быть обучены не только вольтижеры, но и вся пехота без исключения. Чтобы поддержать огонь стрелковой цепи, батальоны выделяют последовательно то одну, то другую роту. Совершенно очевидно также, что полностью стерлось различие между полками легкой и линейной пехоты. Теперь вся пехота при надобности выполняет службу, которой ранее занимались лишь солдаты легких частей, а позже - солдаты легкой пехоты и вольтижеры.
Маневры цепей отныне тщательно продуманы. Для того чтобы прикрыть батальонную колонну стрелка - ми, выделялась одна рота, которая выходила на 200 шагов вперед и разделялась на три равные части. Средняя часть в сомкнутом боевом порядке оставалась на том месте, куда выдвинулась рота, при ней находился капитан - командир роты, старший сержант, два сержанта, два капрала и два горниста для подачи сигналов. Другие две части роты расходились в стороны: одна на сто шагов направо, другая на сто шагов налево. Из этих подразделений две трети, а именно первые две шеренги, рассыпались в цепь попарно, а третья с командиром оставалась на месте в качестве маленького резерва. Цепь, таким образом, была поддержана тремя небольшими сомкнутыми группами, которые использовались в качестве источника подкрепления застрельщикам и опорных точек для командования. К этим же группам стрелки сбегались в случае кавалерийской атаки врага, формируя небольшие «массы» (masse) пехоты, ощетинившиеся штыками во все стороны. Как показал боевой опыт, такие «массы» могли быть очень эффективными. Вот что рассказывает Коленкур в своих мемуарах о действиях вольтижеров 9-го линейного полка под Витебском 27 июля 1812 г.: «...рота вольтижеров, направленная на наш левый фланг, доказала, что в состоянии сделать решимость этих замечательных пехотных частей, даже когда они изолированны... Эти храбрецы, окруженные в сто раз более сильной кавалерией, вели с ней перестрелку, чтобы поддержать наши слабые эскадроны; они стреляли без перерыва и все время выводили из строя неприятельских конников... Много раз мы видели, как пять или шесть вольтижеров стоят группой в пятидесяти шагах от неприятельских эскадронов под обстрелом целой тучи всадников и держатся против них, прислонившись спиной друг к другу, экономя свои патроны и выжидая неприятеля с таким расчетом, чтобы можно было стрелять в упор»37.
Батальонное каре по регламенту Даву.
От солдат, ведущих бой в цепи стрелков, теперь требовалось много инициативы, ловкости и навыков. Наконец, их передвижения должны были быть быстрыми. «Стрелков необходимо учить не только обычному и ускоренному шагу, но и бегу, ибо все перемены направления движения фронта, броски вперед, чтобы захватить лес, деревню либо другие позиции, где они могут обезопасить себя от кавалерийской атаки, должны осуществляться бегом. Так же бегом они должны отходить к взводам резерва, если покажется кавалерия, готовящаяся-к атаке, если только они не найдут канавы, рва, изгороди, за которыми они могут вести огонь в безопасности. На равнинах стрелки должны двигаться в строжайшем порядке, сохраняя хладнокровие и тишину, беречь патроны и быть готовыми к исполнению любых передвижений... Если равнина, по которой движется колонна, пересечена оврагами или на местности имеются холмы или перелески, стрелки должны прочесать овраги, забраться на вершины холмов, обойти и прочесать перелески... Если встречается дом, усадьба, хижина, капитан вышлет туда необходимые силы, чтобы их осмотреть, а если есть подозрение, что там находится враг, он тотчас же предупредит командира колонны, стянет к себе стрелковую цепь, чтобы не быть опрокинутым внезапным нападением...» 38
Кроме действий цепей стрелков, Даву обращает большое внимание на построение и маневры каре, в которые он вносит ряд усовершенствований. В частности, маршал отмечает, что «опыт показал необходимость помещения резервов в центр каре... Его светлость монсеньер маршал князь Экмюльский заполнил этот пробел в регламенте»39'. Для резерва выделялась одна двенадцатая часть имевшихся солдат. Даву предписывал, каким способом необходимо строить каре из одного, двух, трех или четырех батальонов. При построении одновременно нескольких каре они должны были располагаться поэшелонно, чтобы своим огнем поддерживать друг друга. Углы каре, так как они особенно уязвимы, должны были быть по возможности защищены передками орудий, повозками и фургонами, если таковые двигались с пехотой. При этом вольтижеров выдвигали в рассыпном строю, чтобы, прикрываясь повозками, они вели непрерывный огонь по вражеской коннице. Более того, на марше в условиях угрозы кавалерийской атаки стрелки должны были смело выдвигаться вперед, даже на открытом поле, будучи готовыми либо отбежать к повозкам, либо, сбившись в «массы», первыми встретить порыв неприятельских всадников.
Итак, боевые приемы наполеоновской пехоты, которые можно ясно представить себе по наставлениям Даву, освободились от рамок линейной тактики. Новый облик солдата, знавшего, за что он сражается, позволил применять все виды боевых форм, соответствующих техническому уровню развития вооружения. Тактика стала гибкой, лишенной формализма и шаблонности. Пехотные батальоны в ходе боя постоянно меняли свои построения: для движения выстраивались в колонны; затем разворачивались в линии, чтобы уменьшить потери от огня; снова сворачивались в колонны, выдвигая цепи стрелков; затем опять развертывались в линии, чтобы встретить залпами наступающую пехоту врага, или строили каре, чтобы отразить налет конницы. Наконец, в решающий момент батальоны в мгновение ока строили колонны к атаке и бросались на врага в штыки... «Обычный» шаг употребляли все реже, чаще всего использовался ускоренный, наконец, как видно из наставлений Даву, пехотинцы при необходимости перестраивались, маневрировали и атаковали врага бегом.
Собственно говоря, ничего лучшего, что соответствовало бы реалиям оружия той эпохи, выдумать было уже невозможно. Более поздние уставы французской, русской, прусской, австрийской и других армий лишь резюмируют все то, что сделали на практике солдаты армии Наполеона, и только появление в середине XIX в. новых видов оружия вызовет к жизни и новые тактические формы.
Тактика кавалерии
В нашем коротком очерке общей эволюции тактики с начала XVIII в. до Великой французской революции мы намеренно практически ничего не говорили о кавалерии. Ибо как бы ни были значимы конные войска на поле боя в этот период времени, они все же не определяли общий характер развития тактики, а тем более стратегии. Наконец, эволюция боевых приемов кавалерии шла несколько иными путями, чем пехоты. Все, что было сказано о недостаточно высоком качестве солдатского материала в наемных армиях XVIII в., в определенной степени относится и к кавалеристам, но лишь в определенной степени... Во-первых, кавалерия, как бы многочисленна она ни была, составляла все же относительно малую часть армии, поэтому умеренная потребность в рекрутах позволяла быть более разборчивыми при вербовке. Во-вторых, более высокое жалование и вообще престижность службы в конных частях удерживали солдат от дезертирства и позволяли надеяться, что на поле сражения на них можно будет положиться куда больше, чем на пехотинцев. Наконец, не следует забывать, что конница была в определенном смысле «техническим» родом войск: здесь требовались хорошие навыки в искусстве верховой езды, умение ухаживать за лошадьми, совершенное владение холодным и огнестрельным оружием - все эти качества вырабатывались годами и значили для кавалерии не меньше, чем вера солдат в правоту своего дела. Эту веру заменяла корпоративная солидарность опытных профессионалов, часто рассматривавших себя как элиту армии.
Все эти факторы привели к тому, что Французская революция, ставшая поворотным моментом в эволюции облика войны в целом и пехотного боя в частности, мало отразилась на тактических приемах конницы. Вспомним, что в отличие от пехоты кавалерийские части французской армии не только не претерпели глобальной перестройки в эпоху Революции, но продолжали даже носить практически ту же униформу, что и раньше, лишь убрав с нее монархическую символику. Огромный численный рост армии происходил почти что исключительно за счет пехоты, а корпоративная солидарность, о которой мы только что упоминали, помогла сохранить в рядах кавалерии значительное количество кадров, по крайней мере, унтер-офицерских. В результате эскадроны конницы насчитывали в процентном отношении куда больше старых служак, чем «амальгамированные» пехотные батальоны. Вполне понятно, что в этой ситуации офицеры и генералы французской кавалерии не имели ни надобности, ни желания искать какие-либо другие тактические приемы, чем те, которым они обучились еще при Старом Порядке. В результате появление новых форм боя будет связано для кавалерии не с периодом Революции, а с эпохой Империи и объясняется не качественными, а скорее, количественными изменениями. В отличие от пехоты, у кавалерии эти новые тактические приемы будут не столь радикально отличаться от старых, да и выгоды их применения будут не столь очевидны.
Фабер дю Фор. Рядом с Валутиной Горой (19 августа 1812 г.). Французская линейная пехота (корпуса Нея) в колонне повзводно выдвигается на боевые позиции. Слева - адъютант, спешащий передать приказ.
Настоящая «революция» в методах кавалерийского боя произошла раньше, в середине XVIII в., когда идя по пути, намеченному еще выдающимся шведским полководцем королем Густавом-Адольфом, Фридрих Великий провел кардинальную реформу прусской кавалерии. Отныне конница должна была достигать победы прежде всего с помощью стремительности и слаженности движений, главным оружием всадника стал не столько палаш, сколько плотно сомкнутый строй эскадрона, слитого в единую, мчащуюся в галоп массу: «Кавалерия одерживает верх в бою не саблей, а хлыстом», - якобы говаривал знаменитый прусский кавалерийский генерал фон Зейдлиц. Его высказывание надо понимать в том смысле, что таранный удар- «шок» несущегося бешеным галопом сомкнутого эскадрона стал намного важнее для достижения победы, чем индивидуальное владение кавалеристами холодным оружием.
Эту концепцию конного боя в общем переняли все страны Европы и применяли на практике с большим или меньшим успехом. Исходя из этих же принципов составлялись и уставы для французской кавалерии, на основе которых она действовала в эпоху Революции и Империи. Нужно отметить, что в отношении тактики кавалерии мы располагаем гораздо более точными официальными предписаниями, чем в отношении пехоты. В 1804 г. был опубликован так называемый «Временный ордонанс для упражнений и маневров кавалерии», который и являлся основной базой для теоретической и практической подготовки конницы Наполеона. В отличие от пехотного устава, где мы вынуждены только догадываться о его реальном практическом применении в ходе войн Империи, в отношении кавалерии этого не происходит. Мы четко знаем, где стояли в строю полка офицеры, унтер-офицеры, трубачи, какие подавались команды для того или иного маневра и т. д. Также хорошо известно, каким образом обучались рекруты. Именно с процесса подготовки будущих кавалеристов мы и начнем этот раздел.
Прежде всего отметим, что берейторское искусство не было поставлено в наполеоновской армии на высоком уровне. В целом, по сравнению, скажем, со второй половиной XIX - началом XX вв., индивидуальная подготовка кавалеристов всех европейских армий была не очень высока. Требование массовости употребления конницы приводило к тому, что на тщательную индивидуальную конную подготовку рекрутов смотрели как на слишком дорогое удовольствие. Обучение будущего кирасира или гусара начиналось со «школы пешего кавалериста» (ecole du cavalier a pied), то есть с основ пехотного строя и обращения с оружием. Только после этого переходили к конной подготовке. В процессе нескольких первых занятий кавалеристы обучались ездить без седла и запрыгивать на коня без помощи стремян. При этом обучение шло в основном на корде шагом и рысью. Инструктор стоял в центре описываемого кавалеристами круга и выверял правильность посадки, особенно следя за тем, чтобы «голова и верхняя часть корпуса не изменяли своего положения при движении»40. Затем постепенно переходили к работе с седлом и стременами. Новобранец приучался твердо сидеть на коне, уверенно совершать эволюции в одиночку, как рысью, так и шагом. После этого начинались занятия с оружием, а также небольшими группами, в составе которых кавалеристы приобретали необходимую привычку к слаженности движений: обучались держать равнение, совершать заезды шеренгой, строиться в колонну по два и по четыре. Наконец, кавалерист учился работать на галопе, в одиночку и группой, брать барьеры и даже целым взводом на галопе преодолевать препятствия, держа при этом равнение!
Конечно, если бы все делалось в строгом соответствии с регламентом, рекруты могли бы стать неплохими наездниками. Однако времени не хватало. В результате нередки были такие ситуации как та, что описывал генерал Рош Годар в своих мемуарах, рассказывая о драгунах-новобранцах в армии Массена, сражавшейся в Португалии. «Большинство драгун не прошли и десяти уроков верховой езды и не умели ни сдерживать лошадь, ни направлять ее» 41. Сам Император с сожалением отмечал в 1807 г.: «Наша кавалерия недостаточно обучена. Люди не умеют толком ездить на коне...»42 Это вполне объясняется уже хотя бы тем, что в 1806 г. один из приказов Наполеона, адресованный маршалу Келлерману, занимавшемуся организацией пополнения кавалерии, гласил: «Нам мало толку от тех, кто прибудет после боя, исходите из этого принципа... Здесь мы находимся в краю, удобном для действий конницы. Поэтому, как только в каком-либо кавалерийском депо будет 15 человек новобранцев в состоянии отправиться к армии, посылайте их тотчас же» 43. Выездка рекрутов осложнялась трудностями в бесперебойном снабжении кавалерии конным составом. Все источники единодушно отмечают огромные потери лошадей во время быстрых маршей наполеоновских войск. Самой катастрофической в этом смысле была, конечно, русская кампания. Великая Армия вступила в Россию, имея около 60 тыс. лошадей под седлом и примерно 80 тыс. в упряжках. К концу похода осталось не более трех тысяч коней! Общие потери конного состава за годы Империи составили приблизительно 300 тыс. голов44. В известной степени и поэтому требования к качеству коней были весьма умеренными. Вот какой рост определял для них регламент: кирасирские и карабинерские -1,56-1,59 метра в холке, драгунские - 1,53-1,57 метра, легко кавалерийские - 1,49-1,53 метра. По современным понятиям это очень невысокие лошади. Даже если принять во внимание, что и средний рост людей был несколько меньше, чем сейчас, все равно по отношению к человеку строевая лошадь была ниже, чем современный скаковой конь по отношению к сегодняшнему жокею нормального роста.
Планшет 12. Офицер и рядовой карабинеров 1810-1815 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 22. Командир эскадрона 6-го полка шеволежеров-улан и рядовой элитной роты того же полка 1812-1815 гг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
Согласно уставам, прежде чем лошади будут использоваться на войне, они должны быть «обстреляны». Чтобы создать у животных положительный условный рефлекс на выстрелы, кавалеристы должны были во время кормления лошадей палить из мушкетонов на некотором расстоянии от конюшни. С каждым «занятием» это расстояние уменьшалось. В конце концов, стреляли прямо в конюшне, давая лошадям понюхать пороховую гарь, все так же одновременно производя кормление. Завершалось обучение следующим упражнением: хозяева лошадей выстраивались в шеренгу с мушкетонами, заряженными холостыми патронами, их товарищи по полку, оседлав обучаемых коней, «атаковали». Эту атаку спешенные кавалеристы встречали дружным залпом, а когда конники доезжали до их строя, хозяева лошадей тотчас же забирали своих четвероногих друзей, встречая их похвалой и, конечно же, хорошей порцией овса.
В дореволюционной французской армии эти положения кавалерийского устава 1766 г., без сомнения, выполнялись. Что же касается эпохи Империи, то здесь, увы, опять-таки не хватало времени... Хотя мы не располагаем точными данными на этот счет, но, как можно предположить, судя по поспешным ремонтам, заниматься этим вопросом не успевали, и скорее всего лошади привыкали к грохоту битв прямо в ходе боевой практики. Так что не обходилось без курьезов. Вот какой случай описывает майор Гонневиль в своих мемуарах. Во время осады Гамбурга в 1813 г. из отдельных подразделений кирасир были наспех сформированы эскадроны. Не хватало конного состава. В июне Гонневиль получил-таки 120 лошадей для своих кирасир, и почти тотчас же им был получен и приказ «отправиться на разведку на десять лье от Гамбурга в Штеклиц». Лошади были хорошими, но абсолютно необъезженными и, уж конечно, необстрелянными. Что же касается кирасиров, то все они были новобранцами. Так что неопытным солдатам стоило больших усилий оседлать своих ретивых скакунов. После долгих трудов кирасиры выехали на улицу, с грехом пополам двигаясь более или менее сомкнутой колонной. Проезжая мимо караульного поста, Гонневиль на горе себе приказал взять палаши наголо. Звон стали, выходящей из ножен, и сверкание клинков так перепугали коней, что часть кирасиров вылетела из седел, а другие ускакали кто куда. Потребовалось два часа, чтобы снова собрать эскадрон!45 Конечно, этот эпизод - не более чем забавное происшествие, и не стоит воображать, что так происходило во всех кавалерийских частях, но все же подобный курьез был немыслим во французской армии до Революции.
Недостаточное индивидуальное обучение верховой езде части рекрутов тем не менее не сводило на нет боевые возможности конных частей вследствие особенностей тактики того времени. Как только кавалерист мог сносно держаться в седле, он начинал обучаться «эскадронной школе», то есть маневрам в составе основного боевого подразделения. Начиная с эпохи Фридриха Великого эскадроны кавалерии стали строиться в две шеренги. Если линейный боевой порядок пехоты наряду с выгодами имел и массу недостатков, то развернутое сомкнутое построение конницы с середины XVIII в. ни у кого не вызывало сомнений в своей целесообразности. Дело в том, что «давление», которое оказывают в пехотной колонне задние шеренги, обеспечивая превосходство глубокому боевому порядку в рукопашном бою, фактически отсутствует в кавалерийском строю. Лошади задних шеренг почти не увеличивают силу удара передних, особенно на быстрых аллюрах. Глубокие построения кавалерии конца XVI - начала XVII вв. были вызваны низкой обученностью рейтаров и особенностью кавалерийской тактики, построенной на употреблении огнестрельного оружия. С того момента как конница снова стала полагаться на палаш и получила сносное обучение, выгода линейного боевого порядка стала очевидной.
Эскадрон в развернутом строю по ордонансу 1804 г.
Построение эскадрона в колонну (повзводно направо).
Эскадрон в колонне повзводно.
Итак, основным построением эскадрона Императорской кавалерии был развернутый двухшереножный строй. В каждой шеренге кавалеристы стояли очень близко друг к другу - колено к колену. Таким образом, на одного всадника в строю приходилось меньше метра пространства. Кирасирский эскадрон в 48 рядов (т. е. состоящий из двух шеренг, в каждой по 48 человек) в соответствии с регламентом должен был занимать 37-38 метров по фронту, драгунский эскадрон - 36-37 метров, а легко-кавалерийский - 35-36 м. Конечно, в реальности из-за неизбежных нарушений сомкнутости строя эту цифру можно округлить до 40 метров, а более поздний французский кавалерийский регламент (1832 г.) считал даже 39-48 метров по фронту. Глубина эскадрона была около 6 метров, из которых два фута (2/3 метра) приходилось на дистанцию между первой и второй шеренгами, и, соответственно, на каждую шеренгу приходилось приблизительно 2,5-2,7 метров. Эскадрон в строю делился на два «дивизиона», каждый из которых подразделялся на два взвода - итого четыре взвода в каждом эскадроне. В действительности эскадрон организационно состоял из двух рот, но по той же самой причине, что и в пехоте, необходимость уравнять количество людей в строевых подразделениях приводила к тому, что дивизион не соответствовал в точности роте. «Избыточных» кавалеристов либо отправляли в другой дивизион, если там не хватало людей, либо отряжали в отдельный взвод фланкеров, строившийся в резерве за линией эскадронов. Так же как и в пехоте, развернутая линия справа, слева и сзади была «обрамлена» унтер-офицерами и офицерами.
Построение эскадрона в линию (повзводно налево).
Построение эскадрона в линию (повзводно вперед).
Каждый взвод в свою очередь имел на флангах бригадиров, поддерживающих равнение во время всех перестроений. Отличие заключалось, однако, в том, что в кавалерии перед фронтом линии также находились офицеры. Как вполне понятно, в пехоте подобное расположение исключалось - оно помешало бы залповому огню. В кавалерии такого затруднения не было, и потому большая часть офицеров (кроме капитана второй роты, стоящего в замке) находилась перед строем вверенных им солдат, показывая своим подчиненным пример неустрашимости. Интересно отметить, что в армии Наполеона не существовало специального эскадронного командира, его роль выполнял капитан, командовавший первой ротой (дивизионом). Что же касается офицера в звании командира эскадрона (chef d'escadron), он командовал двумя эскадронами и, согласно регламенту, находился в бою на несколько шагов впереди в интервале между вверенными ему подразделениями. Аналогично пехотным батальонам эскадроны кавалерии совершали эволюции не за счет перестроения составляющих их бойцов, а с помощью изменения положения взводов, которые маневрировали практически как не- расчленяемые «атомы» строя. Например, основным приемом, с помощью которого эскадрон перестраивался в колонну повзводно, был маневр, почти аналогичный таковому в пехоте. Командир отдавал приказ:
Garde a vous Смирно
Pelotons a droite Взводами направо
Mâche! Марш!
По последней команде каждый взвод заезжал левым плечом вперед до тех пор, пока не оказывался на перпендикуляре к линии своего первоначального положения. Регламент, правда, предполагал построение в походную колонну по четыре и даже по два, что, естественно, приводило к расчленению взводов, однако в бою рекомендовалось этого не делать: «Нужно воздерживаться... от всякого движения по четыре - одно ядро развалит подобную колонну так, что ее будет не узнать. Пусть взвод будет единственным минимальным тактическим подразделением»46, - советовал молодым офицерам де Брак. Поэтому главным маневром, которым в совершенстве должны были овладеть кавалеристы, являлось перестроение из линии в колонну повзводно и обратно. Развертывание из колонны могло осуществляться в порядке, обратном тому, который мы только что описывали, то есть взводы заезжали правым плечом вперед и выстраивали линии. Для этого подавались команды:
Garde a vous Смирно
A gauche en bataille Налево в линию
Mâche! Марш!
При необходимости практиковалось построение колонны повзводно «левым крылом вперед». Тогда из линии эскадрона каждый взвод заезжал в противоположную сторону, для возвращения же в исходный боевой порядок командовали:
A droite en bataille Направо в линию
Наконец, очень часто необходимо было выстроить линию, ориентированную в том же направлении, в котором двигалась колонна. Это делалось после следующих команд:
Garde a vous Смирно
En avant en bataille Вперед в линию
Marche! Марш!
По команде «Марш!» первый взвод проезжал вперед 20 шагов, остальные же взводы делали полу- разворот налево (demi a gauche) и двигались под углом 45° к первоначальному направлению. Доезжая до линии, на которой встал первый взвод, командиры взводов приказывали выполнить заезд левым плечом вперед, и подразделение становилось в боевой порядок.
Разумеется, существовал и обратный маневр - из развернутой линии строилась колонна в том же направлении, в котором была первоначально ориентирована линия. Приказы для этого построения были таковы:
Garde a vous Смирно
Par peloton rompez l'escadron Строй колонну повзводно (дословно: сломать эскадрон повзводно)
Marche! Марш!
Существовали и более сложные комбинации перестроений, в которых взводы компоновались в обратном порядке, строили линии назад контрмаршем и т. д. Однако практики военного дела старались воздерживаться от подобных маневров: «Вне опасности со стороны врага нет причины делать сложные движения... в присутствии врага тем более надо их избегать, потому что они никогда не совершаются с тем же спокойствием и точностью, что и на учебном плацу; нас могут застигнуть врасплох и разгромить. Если вы можете заменить сложные эволюции простыми - делайте это. Исполняйте лишь те маневры, которые ваши кавалеристы знают, так сказать, лучше чем нужно, в которых офицеры и солдаты не спутаются, потому что, я повторяю, необходимо, чтобы вы учитывали неизбежное волнение людей на поле боя...»47
А. Адам. Бой под Островно 25 июля 1812 г. На рисунке изображены гусары 7-го полка, атакующие в колонне повзводно русскую артиллерию и пехоту.
Кавалерийский полк в «густой» колонне (colonne serree).
Опытные командиры неустанно упражнялись со своими подчиненными в как можно более сложных перестроениях, так что в бою эскадроны совершали перестроения чаще всего рысью, а иногда и галопом. Самое главное, чего стремились добиться от кавалеристов как авторы устава, так и те, кто применял его каждодневно в походах и сражениях - это умение вовремя выстроить эскадроны в линию и атаковать врага сомкнутым строем на максимально возможном аллюре. Причем ряд опытных генералов ценили сомкнутость и слаженность выше, чем скорость: «Не думайте, что порыв всегда решает схватку в действиях кавалерии против кавалерии, - писал известный военный теоретик и талантливый штабной работник генерал Жомини. - Когда противник идет на вас крупной рысью, будет неосторожным ходом броситься на него в галоп, так как вы достигнете его в беспорядке, а столкнетесь с компактной сомкнутой линией, которая опрокинет ваши рассеянные эскадроны... Лассаль, один из самых способных генералов, сказал, видя вражескую кавалерию, атакующую галопом: "Вот погибшие люди!"... Действительно, эти эскадроны были опрокинуты атакой на рыси» 48.
В общем же действия конницы представляли собой постоянные перестроения из колонн в линии и обратно. На поле боя кавалерия появлялась обычно в колоннах повзводно или подивизионно, затем занимала назначенные ей позиции, разворачиваясь в линию или, еще чаще, в линии эскадронов. В ходе боя ей приходилось часто менять позиции и выдвигаться на исходный рубеж к атаке, что опять-таки делалось в колоннах повзводно.
Наконец, наступал самый важный для кавалерии момент, когда приходил приказ атаковать. Тогда колонны снова разворачивались в линии эскадронов и бросались вперед...
Если кавалерии было много, полки, бригады или даже дивизии строились в так называемые «густые колонны» (colonnes serrees - дословно: «сомкнутые, сжатые колонны»). Это были боевые порядки, в которых эскадроны строились в затылок один за другим на очень короткой дистанции. Подобные построения применялись прежде всего для крупных кавалерийских масс, стоящих в резервах, чтобы держать их максимально сконцентрированными. В момент выдвижения на боевые рубежи густые колонны обычно разворачивались в линии эскадронов.
Что же касается рассыпного строя, то он, каким это ни покажется странным современному читателю, не играл для регулярной кавалерии существенной роли. Предполагалось и действительно многократно подтверждалось на практике, что эскадрон, действующий в сомкнутом строю, всегда разобьет эскадрон, атакующий в беспорядке. Поэтому атаку в рассыпном строю применяли лишь в ряде случаев: для внезапного броска на вражескую батарею, для наскока на неприятельскую стрелковую цепь, в случае нападения на обоз противника и т. п. Предполагалось также и выдвижение застрельщиков в рассыпном строю из линии эскадрона. Для этой цели использовался четвертый взвод, который галопом должен был выдвинуться вперед и, таковые имелись). Стрельба с коня применялась, конечно, не с целью разгрома неприятеля. Описанный маневр использовался в тех случаях, когда нужно было прикрыть основные силы эскадрона от назойливых вражеских стрелков или, наоборот, попытаться вызвать противника на активные действия.
Основным же и главнейшим маневром кавалерии, ради которого делались все подготовительные эволюции, была решительная атака сомкнутой стеной с саблями наголо. Момент, предшествующий атаке, был волнующим и величественным. По команде:
Garde a vous pour charger Смирно к атаке!
Sabrea la main Сабли наголо!
Au trot... Рысью...
Marche! Марш!
рассредоточившись, вести огонь по неприятелю из пистолетов или мушкетонов (если раздавался лязг стали, вынимаемой из ножен, и гул от ударов сотен копыт. Эскадроны трогались с места и медленно набирали скорость. Командиры в это мгновение должны были «следить за тем, чтобы точно соблюдалось направление движения, не допускать ни малейших колебаний рядов, смыкать насколько возможно плотно своих людей и смотреть за тем, чтобы они сохраняли абсолютное молчание»49. Через сто пятьдесят шагов после начала атаки, когда всадники уже шли крупной рысью, раздавалась команда: «В галоп... Марш!» (Au galop... Marche!). По этому приказу, повторенному вслед за полковником всеми старшими офицерами полка, кавалеристы давали шпоры лошадям. Земля тряслась от грохота копыт, с лязгом бряцали ножны о стремена, но всадники, храня молчание, постепенно превращались в сгусток энергии, ожидая последнего сигнала. И вот, когда до противника оставалось примерно сто метров, командир привставал в стременах и выкрикивал одно лишь слово: «Chargez!» (дословно: «Атакуйте!»). Этот короткий приказ словно взрывал весь сдерживаемый до сих пор порыв. Трубачи полка громко трубили атаку. Кавалеристы привставали в стременах, сабли первой шеренги наклонялись острием в грудь врага, сабли второй приподнимались для удара. Громовое «Vive L'empereur!» сотрясало воздух, кони, шедшие до этого галопом, переходили на карьер... Еще мгновение, и безумный шквал людей и лошадей обрушивался на неприятеля...
Неизвестный художник. Бой французских конных егерей 5-го полка с казаками, 1807 г. Эта картина, изображающая стычку на аванпостах, где впереди сомкнутых линий действуют кавалеристы в рассыпном строю, написана, по всей видимости, одним из офицеров 5-го полка. Об этом говорит необычайная точность, с которой отражены униформа и снаряжение этой части, а также знание боевых приемов кавалерии.
Выдвижение стрелков из линии эскадрона.
Так должна была происходить атака согласно регламенту. И так в действительности тысячи раз ходили в бой эскадроны Великой Армии. Опытные кавалерийские командиры советовали: перед атакой, если это возможно, «распорядиться подтянуть подпруги у лошадей и дать солдатам выпить глоток водки. Иногда, чтобы придать кавалеристам порыв, если они должны атаковать пехоту или артиллерию, неплохо подставить их ненадолго под пули стрелков или под ядра (!).
Войска, которые понесли потери, атакуют с большим напором, ибо они не только желают взять реванш и отомстить, но их также легко убедить, что атаковать менее опасно, чем оставаться на месте и что мощный быстрый удар освободит их от необходимости быть мишенью и погибать поодиночке без результата... Общее правило: когда атака уже начата, ведите ее до конца и держитесь во что бы то ни стало. Тогда вы одержите победу... У атаки есть свой момент порыва, момент схватки, затем момент колебания, а затем может наступить момент, когда придется отходить. Будьте твердыми во второй и третий момент, и победа будет за вами...»50
Действительно, решительность и упорство были отличительными чертами атак французской кавалерии эпохи Наполеона. Пусть кавалеристы были подчас плохо обучены, пусть их кони не отличались блестящей выездкой скаковых жеребцов, но у них была отвага, порыв, товарищеская солидарность и взаимопомощь, слаженность в массовых действиях и, наконец, их вели блестящие кавалерийские командиры: Лассаль, Мюрат, Монбрен, Кольбер, Пажоль, Брюйер, Корбино... В результате французская конница била гораздо лучше обученные, сидящие на прекрасных немецких конях эскадроны пруссаков и австрийцев. Чего только стоит одно преследование отряда эрцгерцога Фердинанда в октябре 1805 г.! За пять дней боев четыре тысячи французских драгун и легких кавалеристов, поддержанные горстью пехоты, разгромили целый корпус, в котором было много отличной кавалерии, взяли в плен 12 тыс. человек, захватили 128 пушек, 11 знамен и сотни зарядных ящиков. А в октябре 1806 г. на поле битвы под Иеной французские эскадроны своими массовыми атаками буквально смели хваленую прусскую конницу. А затем началось преследование, гигантское стратегическое преследование, где каждый день французская кавалерия обрушивалась на врага, не считая его. 26 октября под Цедеником Лассаль с восемьюстами гусарами атаковал двухтысячный отряд генерала Шиммельпфенига - знаменитых прусских черных гусар. После первого успеха французские кавалеристы были отброшены и могли бы погибнуть в неравной схватке, но прибытие на поле боя драгун Груши решило успех дела. Хваленые прусские гусары, прозванные «мясниками армии», были наголову разгромлены: два эскадрона прижаты к болоту и сдались в полном составе, пятьсот прусских кавалеристов зарублены или ранены в ходе схватки.
Б. Зис. Битва при Иене, 14 октября 1806 г. Тушь, перо. На переднем плане изображены генералы прусской армии, руководящие войсками; в глубине - кавалерийский бой.
Б. Зис. Капитуляция прусских войск в Эрфурте 16 октября 1806 г. Рисунок пером. © Photo RMN - Arnaudet. Справа на рисунке изображены французские кавалеристы, перед которыми складывает оружие шеститысячный прусский гарнизон.
28 ноября под атаками кавалерии Лассаля, Груши и Бомона сдался уже целый корпус - 10 тыс. человек, 45 знамен и 60 пушек! 29 ноября конные егеря Мильо (500 человек) у Пазевалька заставили сдаться отряд в 4200 человек, куда наряду с пехотой входили элитные части прусской кавалерии: лейб-кирасирский полк и кирасирские полки Гейснига, Гольцендорфа, Бюнтига. Отныне, согласно формальному приказу начальника штаба Мюрата генерала Бельяра, французская кавалерия должна была атаковать неприятеля при любом соотношении сил! Этот приказ перекликается с наполненными верой в себя, в своих товарищей, в отвагу словами де Брака: «Вы можете все! Атакуйте их, врубайтесь в их ряды, захватывайте их пушки, генералов, заставляйте сдаваться каре, превращайте их отступление в бегство, вы можете все, нет пределов вашим успехам!» 51
Но кавалерия Великой Армии не только умела лихо действовать массами в дни побед и успехов. В часы неудач она всегда была готова на самопожертвование. Ее эскадроны бросались очертя голову навстречу смерти, если это было необходимо для спасения армии. В битве под Эсслингом 21 апреля 1809 г., когда французской армии численностью в 29 тыс. человек пришлось удерживать позиции от атак 80-тысячной армии эрцгерцога Карла, к восьми часам вечера сложилась катастрофическая ситуация. Австрийцы напирали со всех сторон, но если по флангам, в деревнях, французская пехота еще как-то держалась, то в открытый центр двинулись напролом многочисленные массы вражеской пехоты и кавалерии. Нужно было задержать их любой ценой. Тогда было приказано бросить на прикрытие центра кирасирскую дивизию д'Эспаня. Генерал обратился к своим солдатам с несколькими словами, напоминая им об их славе и призывая сделать все возможное для спасения армии. Дивизия, уже сильно потрепанная в ходе боя, ринулась в безумную атаку на десятикратно превышающие силы врага. Австрийская артиллерия встретила атакующих шквалом картечи, пехотные батальоны свернулись в каре, кавалерия выдвинулась для контратаки... Но кирасиры д'Эспаня ворвались на батареи, обрушились на первую, вторую линии каре, атаковали эскадроны неприятеля, штабы... Трудно сказать, сколько времени бушевал ураган кавалерийской атаки, точно известно только одно: австрийский центр оказался парализован до конца боя: перевернутые пушки, спутавшиеся батальоны, смешавшиеся эскадроны... Французская армия была спасена, но кирасиры д'Эспаня заплатили за это высокую цену. Примерно три четверти офицеров (а значит, приблизительно столько же рядовых) были убиты или ранены, среди них были и трое из четверых полковников. Погиб смертью храбрых и сам генерал д'Эспань.
В моменты самых тяжелых испытаний кавалерия Империи не колеблясь поступала так же. Ее атаки под Эйлау, на Березине, под Вахау и Монтеро, при Линьи и Ватерлоо вошли в бессмертие и легенду.
Тактика артиллерии
Подобно пехоте и кавалерии, артиллерия не получила каких-либо принципиально новых уставов в эпоху Революции и Империи. Более того, этот род войск вообще не имел никакого тактического устава в современном смысле этого слова. Существовало только наставление под названием «Обслуживание и маневры полевых орудий», однако оно описывало лишь обязанности прислуги в действиях с отдельно взятой пушкой, при этом ни слова не упоминалось даже о месте, которое должен занимать зарядный ящик во время стрельбы. В тексте наставления, как и в тексте пехотного устава, встречались анахронизмы, о маневрах батареи не говорилось вообще ни слова. Тем более не существовало никаких официальных руководств для действий артиллерии на поле боя. Весь боевой опыт артиллеристов передавался чуть ли не как средневековый эпос: из уст в уста. К счастью, в упоминавшемся уже основательном справочнике Гассенди есть глава «Маневры с полевыми орудиями». Автор отмечает: «Маневры пушек... не зафиксированы регламентом. Все, что мы будем описывать, есть не что иное, как приемы, используемые в ряде полков, либо те, которые мы предлагаем использовать»52. Благодаря означенному документу, а также свидетельствам очевидцев и практическим наставлениям командного состава Великой Армии можно восстановить основные тактические приемы, используемые в эту эпоху.
Как уже отмечалось в пятой главе, пешая артиллерия была разделена на роты по восемь орудий, конная - по шесть; в момент начала кампании вместе с присоединенной ротой обоза это подразделение образовывало артиллерийский дивизион, который и являлся основной тактической единицей артиллерии. Необходимо отметить, что в реальной боевой практике дивизионы могли иметь меньшее количество орудий: пешие - шесть, а конные - четыре; однако число орудий всегда было четным, так как дивизион подразделялся на отделения по две пушки, и этот организационный момент соблюдался достаточно строго.
Л. Руссело. Майор Друо под Ваграмом 6 июля 1809 г. Акварель. На рисунке изображен момент, когда майор Гвардии Друо руководит развертыванием знаменитой батареи Лористона (102 орудия, из которых 60 гвардейских).
Построение батареи по команде «На первое отделение развернуть колонну».
Для выезда на боевые позиции, если позволяло пространство, дивизион разворачивался в линию (еn bataille). Каждую пушку, поставленную на передок, везли, поддерживая равнение с соседними. В пешей артиллерии артиллеристы шли по сторонам от орудий в том положении, которое они должны были занять в момент заряжания и стрельбы. Позади, на расстоянии 30-40 метров, везли зарядные ящики, каждый из них следовал за своей пушкой. По достижении назначенного места отдавался приказ: «En batterie» (дословно: «в батарею!», т. е. в боевой порядок). По этой команде линия останавливалась, артиллеристы снимали лафет с передка и отвозили упряжку с передком назад, провозя ее слева от орудия, если смотреть в сторону неприятеля, затем пушка разворачивалась в боевое положение вокруг своего левого колеса. Кроме того, если орудие было грибовалевской системы, то артиллеристы снимали короб (маленький зарядный ящик) с лафета. Орудия выравнивались строго в линию, причем равнение должно было соблюдаться по их осям. Правила предусматривали расстояние между пушками батареи в 4 туаза (около 8 метров). Нормальным положением считалось такое, при котором орудия большего калибра стояли на правом фланге батареи, а гаубицы - на левом. Однако, разумеется, при необходимости этот порядок менялся.
В конной артиллерии правила были практически те же; разница заключалась в том, что пушки должны ставиться на отвозы (prolonge), «как только они прибудут на учебный полигон или поле боя»53. В момент движения в линии артиллеристы располагались не по бокам орудий, а позади них, в колонну по два, равняясь на орудийные колеса. Наконец, по прибытии на место развертывания, прежде чем встать в боевой порядок, отдавалась предварительная команда «Стой, спешиться» (Halte, pied a terre). Разворот упряжек осуществлялся при ослабленном натяжении отвоза, чтобы сократить радиус развертывания.
Разумеется, передвижение развернутой линией, хотя и было выгодным (позволяло тотчас же поставить батарею в боевой порядок), было не всегда возможным. Поэтому, чтобы маневрировать в любых условиях, предполагалось построение артиллерии в колонны, чаще всего по отделениям или по одному орудию. Эти колонны строились способами, очень напоминающими те, которые применялись в кавалерии для построения колонн повзводно налево, направо и вперед. Например:
Par section a droite, rompez la division По отделениям направо в колонну (дословно: «сломать фронт дивизиона»)
Marche! Марш!
По этой команде, как и в кавалерии, каждое подразделение заезжало левым плечом вперед на 90°, и выстраивалась колонна. Такая же команда отдавалась и при построении колонны по одному орудию (слово «отделение» заменялось лишь на слово «орудие») налево или направо. Развертывание из колонн в линию также осуществлялось методами, очень напоминающими кавалерийские:
Sur la premiere piece (section) deployez la colonne На первое орудие (отделение) развернуть колонну
Piece (section) de gauche oblique a gauche: Левые орудия (отделения) облически налево
Marche! Марш!
Первая пушка (отделение) продолжала двигаться вперед, остальные же, взяв влево, выезжали с ней на одну линию.
Существовали и другие методы построения и развертывания колонн.
Необходимо отметить, что, когда пушки двигались одна за другой, конные артиллеристы ехали рядом с ними в колонну по два. Если же строилась колонна по отделениям, то артиллеристы скакали справа и слева от нее, но никогда - между пушек. Это делалось во избежание травмирования людей и лошадей при быстрых разворотах орудий.
Как и в случае с пехотными уставами, артиллерийские регламенты составлялись во второй половине XVIII в. и во многом не отражали боевые реалии Наполеоновской эпохи. В справочниках и наставлениях для артиллерийских офицеров можно найти массу сведений о том, как нужно стрелять из «камнеметов» (реrriers) - тяжелых осадных мортир, - давно уже не применяемых, как действовать полковыми пушками в составе развернутого батальона в соответствии с требованиями линейной тактики и т. д. Зато нет ни слова о ряде важнейших вопросов боевой практики. Например, не ясно, где должны были располагаться большие зарядные ящики во время маневров дивизионов. Гассенди дает только следующее указание: «Положение передков указано в регламенте, а зарядные ящики располагаются в 16-20 туазах позади своих орудий, соблюдая равнение (речь идет о дивизионе в развернутом строю), или в колоннах, подобных орудийным (ou en colonnes semblables a celles des pieces) »54, последняя фраза допускает неоднозначное толкование. Можно предположить, что зарядные ящики строятся либо вместе с орудиями в колонны, продолжая двигаться за своей пушкой, либо в отдельные колонны только из зарядных ящиков, с фронтом таким же, как у орудийной колонны. Если исходить прежде всего из лексического анализа, то скорее нужно предположить второе, т. к. зарядные ящики должны были двигаться отдельно. К этому же выводу можно придти, если проанализировать ряд рекомендуемых перестроений артиллерийских дивизионов. Однако большое количество изображений той эпохи, нарисованных специалистами, показывает колонны артиллерии, где зарядные ящики идут вперемешку с пушками. Чему верить? Скорее всего, в зависимости от обстоятельств могла применяться либо одна, либо другая комбинация. Однако в официальных документах об этом нет ни слова.
Несмотря на отсутствие в наставлениях указаний по многим вопросам, никоим образом нельзя сделать вывод о том, что французская артиллерия маневрировала неуверенно и хаотично, путаясь в своих многочисленных пушках, упряжках, зарядных ящиках и передках. Здесь, как и везде, солдаты и офицеры Великой Армии действовали исходя из огромного опыта, и действовали образцово. Все мемуары единодушно отмечают слаженность, четкость и профессионализм наполеоновских артиллеристов.
А. Адам. 27 июля в полдень под Витебском.
Изображен момент, когда франко-итальянские войска 4-го корпуса ведут бой с арьергардами 1-й русской Западной армии, продвигаясь в направлении Витебска (вдали, в глубине картины). Хорошо видно, что французская пехота использует развернутые линейные построения. Справа - 6-фунтовые пушки (образца XI г.) итальянской артиллерии выдвигаются в колоннах, где орудия идут вперемешку с зарядными ящиками.
Однако батареи Императорской армии добивались замечательных успехов не только благодаря образцовой выучке. Наполеоновская эпоха внесла значительные коррективы в область артиллерийской тактики. Если на уровне элементарных маневров батареи все оставалось почти таким же, как и накануне Революции, то стиль их действий в бою стал совершенно иным.
Еще в 70-е годы XVIII в. в работах ряда французских военных теоретиков появляется идея об иных способах применения артиллерии, чем те, которые были характерны для линейной тактики, где в полевом бою пушки, обычно относительно равномерно распределенные по фронту, лишь усиливали огонь пехоты, но не выполняли самостоятельных тактических задач. Гибер в нашумевшем произведении «Общий этюд о тактике» (1777), дю Пюже в «Эссе об употреблении артиллерии в полевых сражениях» (1771), дю Тей в книге «Об употреблении новой артиллерии в полевой войне» (1778) предрекали новые способы употребления орудий. Основная мысль этих произведений состоит в том, что батареи должны использовать концентрацию своих усилий на важнейших участках боевой линии: «Цель артиллерии - не убивать понемногу людей из всего неприятельского фронта, а опрокидывать, разрушать избранные части этого фронта»55, - писал Гибер. Одновременно Гибер и дю Тей настаивали на активных действиях артиллерии: «Нужно, чтобы батареи... привыкли маневрировать с отвагой, вставать даже на опасно выдвинутые вперед позиции и поддерживать друг друга огнем; не думать о том, прикрывают ли их другие войска, если огонь пушек может сыграть решающую роль, наконец, снимать орудия лишь тогда, когда враг, так сказать, сядет на них верхом, потому что именно последние залпы в упор - самые решительные. Нужно, чтобы артиллеристы думали прежде всего не о сохранении своих орудий, которые в конечном итоге есть лишь легко заменяемые машины, но о том, чтобы стрелять как можно эффективнее...»56
Эти смелые для своего времени мысли были не только реализованы на практике французской артиллерией в ходе войн Революции и Империи, можно сказать больше: действительность превзошла самые дерзкие ожидания теоретиков. Известный финский военный историк Матти Лауэрма в своем прекрасном исследовании «Французская полевая артиллерия в эпоху революционных войн» высказывает мнение, что первым примером артиллерийской атаки являются действия конной артиллерии республиканской армии в сражении под Аарлоном 9 июня 1793 г., когда в критический момент боя французская батарея Сорбье, будущего героя войн Империи, дерзко выдвинутая на дистанцию 50 метров от врага (!), открыла ураганный огонь по австрийцам и, проложив дорогу для кавалерийской атаки, решила участь схватки57. Трудно сказать, действительно ли этот эпизод был первым подобным примером в истории войн, известно, как легко создаются «приоритеты» в такого рода открытиях. Однако не вызывает сомнения, что революционные войны стали поворотным моментом в тактике артиллерии. Ясно также и то, что именно Бонапарт был тем генералом, который систематически стал применять эту смелую и эффективную тактику в ходе боев вверенной ему Итальянской армии.
Ярким примером, иллюстрирующим манеру действия батарей молодого полководца, является эпизод битвы при Кастильоне. Это знаменитое сражение, в котором на карту была поставлена судьба Италии и армии Бонапарта, произошло 5 августа 1796 г.
В ходе битвы назрела критическая ситуация, когда стало ясно, что от обладания высотой Монте-Медолано на левом фланге австрийской армии зависит исход боя. Тогда французский главнокомандующий отдал приказ своему любимому адъютанту Мармону подготовить штурм этого ключевого пункта решительными действиями артиллерии. «Он отдал всю конную артиллерию в мое распоряжение, - рассказывает Мармон, - она состояла из пяти рот, обслуживающих 19 орудий... У неприятеля были орудия более крупного калибра, и я мог выйти победителем из борьбы, лишь приблизившись к нему вплотную. Хотя местность в общем была открытой, прежде чем подъехать к подножию холма и развернуться на нужной дистанции, необходимо было пройти через узкое дефиле. Вражеские ядра осыпали его. Я устремился в этот проход в колонну по отделениям, то есть по два орудия, поставив впереди роту, которую я считал самой худшей. Колонна устремилась вперед, ее голова была разбита вражеским огнем, но остальная часть моментально развернулась на короткой дистанции от врага и интенсивным точным огнем сбила половину его пушек, неприятельской пехоте также досталось. Подошедшая дивизия Серюрье... атаковала неприятеля. С этого момента битва была выиграна...»58
Э. Детайль. Артиллерия в бою (1796 г.).
Битва при Кастильоне (5 августа 1796 г.).
Таким образом, со времени походов Бонапарта тактика, основанная на концентрации огня и решительных наступательных действиях, становится типичным образом поведения французских батарей. Наполеоновские артиллеристы совершали в реальных боях маневры, которые намного превзошли своей отвагой дерзкие идеи Гибера и дю Тея. Последний считал, например, довольно смелым маневром выдвижение пушек на дистанцию 800 метров от неприятеля. Батареи же армии Наполеона выносились в галоп на пистолетный выстрел от противника! В битве при Ватерлоо гвардейская конная артиллерия, ведомая майором Дюшаном, понеслась прямо к английским позициям. Офицеры штаба недоуменно следили в подзорные трубы за пушками, мчащимися во весь опор на линии неприятельской пехоты. «Можно подумать, что Дюшан дезертирует», - якобы даже сказал Император. Но орудия Гвардии остановились на расстоянии 25 метров(!) от врага и открыли огонь.
«Самый лучший принцип (действий конной артиллерии) - это подъезжать как можно ближе и палить как можно чаще»59, - так резюмировал будущий генерал Фуа, тогда полковник артиллерии, первую составляющую тактики конных батарей. Его старший коллега генерал Леспинасс, командовавший артиллерией в Итальянской армии Бонапарта, коротко сформулировал вторую составляющую: «Не разбрасывать пушки по боевой линии, но всегда занимать мощными батареями выгодные позиции и крушить врага массированным огнем» 60.
Ярким примером действий артиллерии армии Наполеона, где были полностью реализованы эти принципы, является атака батареи Сенармона под Фридлан- дом. 14 июня 1807 г. в генеральном сражении у этого города с русской армией под командованием Беннигсена Император поручил генералу Сенармону проложить дорогу наступающим колоннам. Сенармон получил под команду 36 орудий, с которыми он выдвинулся на 400 метров от противостоящих ему войск и открыл частую пальбу, затем, когда бившие в ответ французам батареи частично снялись с позиций и ослабили свой огонь, Сенармон приказал продвинуться еще на 200 метров вперед, а затем, после нового ураганного обстрела, он выехал на дистанцию 100 метров от русских позиций. Его орудия грохотали не умолкая. Все попытки пехоты и кавалерии атаковать батарею были отражены шквалом картечи: как уже упоминалось в предыдущей главе, французские пушки давали по три-четыре выстрела в минуту. Не считаясь с потерями, Сенармон продолжал свою жестокую канонаду, пока не подавил противостоящие батареи и не проложил своим огнем дорогу для наступающих колонн. Потери французских артиллеристов были немалыми: 56 человек убитыми и ранеными, однако можно себе представить урон, который они нанесли храбро стоящим под их жерлами батальонам, если учесть, что все 2816 зарядов были выпущены по сомкнутым густым массам с дистанции хорошего ружейного выстрела! Пример действий батарей Великой Армии на поле боя под Фридландом показывает, что фактически в Наполеоновскую эпоху произошел настоящий переворот в тактике артиллерии и ее роли на поле боя. Из «полезного и важного дополнения» для пехоты и кавалерии она превратилась в самостоятельный могучий род войск, способный решать важнейшие тактические задачи.
День битвы
Теперь, когда мы знаем, как обучались, строились и маневрировали батальоны, эскадроны и батареи, посмотрим, как различные рода войск взаимодействовали между собой на поле сражения.
В отношении изучения боевого применения всех родов войск нам так же, как в вопросе о тактике пехоты, будут весьма небесполезны некоторые полуофициальные документы той эпохи, в частности уже упомянутое «Наставление» маршала Нея. «В день битвы, - советовал Ней, - все гренадеры бригад, дивизий или армии (здесь подразумевается армейский корпус) будут собраны вместе, чтобы составить резерв, который должен будет решить исход дня мощным ударом... Все войска будут тщательно проинструктированы перед боем, и, если обстоятельства позволят, генералы обратятся к солдатам с призывом исполнить свой долг, они не забудут упомянуть, что храбрецов ждет награда, и объяснят справедливость дела, за которое будут биться войска и необходимость победить врага.
Генералы и командиры частей будут оставаться на своих местах, чтобы исполнить все движения и маневры, которые прикажет осуществить главнокомандующий. Генералы имеют право в этот день увеличить количество персонала своих штабов, взяв себе для этого по одному офицеру или унтер-офицеру из кавалерийских полков, а также по одному конному полковому адъютанту или конному старшему унтер-офицеру от полков пехоты, чтобы передавать приказы подчиненным и рапорты начальникам. Важные рапорты необходимо передавать главнокомандующему через штатных офицеров штаба...
Багажи, экипажи, фургоны с провиантом и т. п. необходимо собрать позади резервов на все время, пока будет длиться бой, все ранее выделенные в их распоряжение отряды должны вернуться к своим частям - резерв их заменит. Артиллерийский и понтонный парк, прочие воинские обозы останутся в расположении резерва, но если последний должен будет перейти в наступление, командующий резервом должен оставить батальон пехоты и эскадрон кавалерии для охраны парков, о чем он обязан предупредить главнокомандующего...»61
Указывая, какие подготовительные действия необходимо выполнить перед боем, Ней, однако, не описывает, как, по его мнению, должен выглядеть «нормальный» боевой порядок армии (корпуса), а также ничего не говорит о взаимодействии родов войск в ходе боя. На этот вопрос отвечает генерал Преваль в своем проекте полевого устава: «Когда войска окажутся вблизи от неприятеля, они будут построены в несколько линий, если это позволяет их количество. Если же возможно будет выстроить лишь две линии, необходимо поставить несколько батальонов за крылья второй линии. Каждая линия может состоять из войск, построенных в колонны или в развернутых строях, в зависимости от условий местности и обстоятельств...
Резерв следует располагать позади центра или важных пунктов позиции, он должен быть, насколько это возможно, составлен из элитных частей пехоты и кавалерии, ибо его цель - либо довершать разгром врага, либо восстанавливать ход неудачно разворачивающегося боя, либо прикрывать отступление. Возможность быстрого ввода резерва в бой - одно из его важнейших качеств.
Кавалерия должна быть распределена поэшелонно на крыльях, если условия местности позволят ей там сражаться, ибо ее главная сила в атаке. Кавалерия обязана действовать с отвагой и стремительностью, стараясь охватить врага, никогда не ждать неприятельской атаки, а самой бросаться вперед, но самое главное - всегда сохранять сомкнутость рядов и потому переходить в галоп лишь в ста шагах от противника...
В боях и операциях необходимо стараться захватить инициативу, принуждая врага к обороне. Так как в бою всегда есть ключевой пункт, нужно подготовить все к тому, чтобы атаковать его внезапно и превосходящими силами...
Император предполагает, что корпуса, дивизии и бригады будут взаимно помогать друг другу. Его Величество не рассматривает как удачу, и более того, считает вредным успех, достигнутый генералом на одном пункте за счет неудачи другого, которому первый мог бы помочь...» 62
Текст Преваля хорошо резюмирует боевую практику наполеоновской армии. Почти слово в слово с ним совпадают и тактические рекомендации генерала Тьебо в его известном «Генеральном учебнике штабной службы» (1813). Единственным дополнением последнего источника в отношении боевых порядков является то, что «...изолированная дивизия, имея хороший резерв, может сражаться в одной линии, потому что редко поле боя бывает столь узким, что можно (без опасности охвата) построить ее в две линии»63. Тьебо добавляет также, что при построении нескольких линий они должны находится на расстоянии 300 шагов одна от другой.
Дж.-П. Баджетти. Панорома битвы при Ваграме 5 июля 1809-го года, 8 часов утра. Акварель. © Photo RMN. Итальянский художник Баджетти является автором многочисленных акварелей, изображающих битвы Наполеоновской эпохи. В 1809-ом году он был включен в корпус инженеров-географов в чине капитана и принял участие в Австрийской кампании. Данная акварель, созданная по наброскам, сделанным в ходе этого похода, очень точно изображает процесс развертывания колонн французской армии утром первого дня битвы при Ваграме.
А. Адам. Бой под Островно 26 июля 1812 г.
В русской литературе этот бой называется сражением под Какувячино. Слева на переднем плане - Евгений Богарне со штабом, справа - французская пехота и кавалерия, идущие в атаку.
Еще раз подчеркнем, что, говоря о линиях, генералы Преваль и Тьебо совсем не обязательно имеют в виду развернутые строи, напротив, речь идет, скорее, о выровненных между собой на одном «уровне» батальонных, реже полковых, колоннах.
Бой обычно завязывали цепи батальонов легкой пехоты или выделенные роты вольтижеров. Одновременно артиллерия выдвигалась на позиции и открывала мощный огонь: «Задачей артиллерии при подготовке атаки является подавление неприятельских батарей. В обороне же необходимо вести огонь по тем войскам противника, которые двигаются в атаку. В обоих случаях артиллерия должна концентрировать свой огонь, ибо он эффективен лишь при условии его максимального массирования» 64.
Под прикрытием огневой завесы в пороховом дыму продвигались вперед линии пехоты в батальонных колоннах. В кампаниях 1805-1807 гг. при приближении к врагу на дистанцию действительного ружейного огня колонны, шедшие с большими интервалами по фронту, нередко развертывались в линии. Стрелки тогда отходили к флангам или за фронт линий, а батальоны открывали огонь «рядами». Впрочем, и в эту эпоху французская пехота не особенно долго занималась пальбой. «...Огонь пехоты - лишь вспомогательное средство и не составляет ее единственную силу, - писал генерал Тьебо, - особенно в нашей армии, где он только сдерживает порыв, который нужно стараться усилить; поэтому нужно стрелять как можно меньше и лишь в тех случаях, когда надо остановить неприятеля, выиграть время, чтобы оценить его позиции и маневры... Выполнив эти задачи, необходимо построить колонны и идти на врага. Это движение, поддержанное самым жарким артиллерийским огнем, должно начинаться медленно, постепенно его нужно ускорять, но не теряя слаженности и порядка, твердо сохраняя заданное направление; нужно, чтобы войска шли прямо вперед, поддерживая равнение колонн, которые должны обрушиться на врага... одновременно в максимально возможном количестве пунктов... В ста шагах от неприятеля колонны удвоят шаг и в двадцати пяти бросятся на него бегом»65.
«Учебник» Тьебо дает и отвечающие реальным условиям боя практические рекомендации для развития успешной атаки: «Когда враг будет опрокинут... только легкая пехота и гренадеры будут его преследовать, впрочем, не слишком увлекаясь и держась в связи с войсками первой линии. Что же касается тех частей, которые осуществили атаку, они тотчас же приведут себя в порядок и снова двинутся обычным шагом, стараясь, чтобы он был неторопливым и укороченным, а порядок был как можно быстрее восстановлен до того, как артиллерия, которая во время атаки оставалась позади для ведения огня, не войдет в новую боевую линию.
Если атака была произведена вместе с кавалерией, то только несколько эскадронов драгун, егерей или гусар, назначенных с самого начала для этой цели, займутся преследованием неприятеля, все остальные соберутся и двинутся вперед в самом строгом порядке на тех участках фронта, где позволяют условия местности и обстоятельства.
Действительно, можно предположить, что опрокинутая первая линия неприятеля отхлынет через интервалы второй и что войска этой второй линии двинутся вперед, чтобы отбить потерянное пространство и попытаться вырвать победу из наших рук. Поэтому наши войска, добившиеся первого успеха, не должны его переоценивать, а сделать все, чтобы новый натиск был удачным.
Этот новый бой будет происходить по тем же правилам, что и предыдущий... но нужно, чтобы войска были вовремя поддержаны или заменены свежими, для этого вторая линия и резерв будут следовать за первой... Если воинская удача будет благосклонна, останется лишь получить от победы все, что она может дать... Кавалерия, поддержанная некоторой частью пехоты и легкой артиллерией, может сыграть тогда самую блестящую роль... Если же, напротив, сделав все усилия, чтобы победить, вы будете принуждены к необходимости уступить числу врага... или непредвиденному случаю, порой решающему участь битв, не следует пытаться собрать войска под сильным огнем неприятеля, ибо это невозможно... и приведет лишь к тому, что увеличит испуг солдат; их надо остановить и построить лишь там, где они будут укрыты от огня и откуда их снова можно будет повести в атаку... Если же неприятель одержит успех по всему фронту, необходимо провести отступление в шахматном порядке... Причем, если это отступление неминуемо, необходимо отдать приказ о нем, не колеблясь, и совершить, двигаясь "проходом линий" ("par un passage des lignes" - то есть когда вторая линия пропускает сквозь свои интервалы батальоны первой, а затем, задержав на некоторое время неприятеля, отступает сквозь интервалы вновь построившейся позади первой линии и так далее..) или же сомкнув батальоны в плотные "массы", если со стороны неприятеля угрожает лишь кавалерия, или в каре, если враг может бросить на вас кавалерию, поддержанную артиллерией.
Важно, чтобы командующие всех рангов помнили, что в критические моменты боя, особенно когда судьба должна склонить чашу весов успеха в ту или иную сторону, необходимо, чтобы они показывали войскам пример личным мужеством; что одно дело приказать солдатам двинуться на врага и совсем другое - лично повести их вперед; что в такие моменты пример... делает во сто крат больше, чем приказы и диспозиции и что битвы выигрывают самые упорные»66.
Приведенные выдержки из малоизвестных наставлений, составленных практиками войны, очень хорошо демонстрируют нам обобщенную картину боя эпохи Империи (отметим еще раз, что все процитированные в этом разделе источники не являются официально введенными в войсках регламентами). Они были написаны в те годы и резюмируют реальный боевой опыт. По сути дела, эта картина оставалась практически неизменной на протяжении всего описываемого нами периода, за исключением некоторых небольших изменений, например, постепенной утраты легкими полками особой роли или употребления в цепи застрельщиков вольтижеров всех полков, а позже и не только вольтижеров.
Возможно, читатель будет несколько удивлен, не найдя в этой картине боя образа Императора-полководца. Мы вполне сознательно временно оставляем его в тени. Часто описание тактики эпохи Империи сводится лишь к анализу битв, где командовал Наполеон. Но, во-первых, на десятки сражений, данных великим полководцем, приходятся тысячи мелких, средних и крупных боевых столкновений, где он отсутствовал. Среди них есть и крупномасштабные, повлиявшие, а иногда и определившие судьбу кампаний: Кальдиеро в 1805 г., Ауэрдштедт в 1806 г., Гейльсберг в 1807 г., Медина дель Рио Секо в 1808 г., Сачиле, Рааб, Талавера, Оканья в 1809 г., Бусако в 1810 г., Фуэнтес д'Оньоро в 1811 г, Арапилы, Полоцк в 1812 г., Виттория, Денневиц в 1813 г., Минчио, Тулуза в 1814 г...
Во-вторых, еще раз напомним, что Император почти не занимался «базовой» тактикой на уровне батальона, полка и даже дивизии. Область применения его талантов - прежде всего стратегия и оперативное искусство. Закономерно поэтому рассмотрение действий подразделений в бою, даже когда в нем участвовали все три рода войск, вне полководческой деятельности Наполеона. Это ни в коей мере не означает недооценку роли величайшего полководца. Наоборот, мы, как никто другой, уверены, что если полки Великой Армии совершали подвиги и побеждали под Эльхингеном, Ауэрдштедтом или Оканьей, то, прежде всего, не потому, что ими командовали конкретные маршалы, а потому, что их создал, организовал, подобрал для них выдающихся командиров, заставил поверить в свои силы Наполеон. Император одухотворял армию своим появлением в ее рядах, при необходимости, не колеблясь, подставляя себя опасностям, он пронизывал армию своей волей и силой духа, он вовремя и в нужном месте вводил в бой корпуса п дивизии, реже бригады и полки, но почти никогда не интересовался, в какие именно тактические формы выльется их участие в бою.
Именно поэтому мы будем говорить о Наполеоне- тактике в главе, где пойдет речь о стратегических и оперативных комбинациях. Тем не менее на одной детали необходимо остановиться здесь. В исторической литературе (особенно в русской и советской) сложилось непоколебимое мнение, что с годами тактика наполеоновских войск претерпела существенные изменения. «Желание Наполеона действовать массами сделалось после 1807 г. своего рода манией... Он придумывал чудовищные построения в колонны, которые составлялись из целых дивизий пехоты или кавалерии, располагая развернутые батальоны и полки один за другим. Случайный успех таких колонн в 1809 г... привел к тому, что Наполеон упорно применял их в дальнейшем»67. Французские историки, хотя и с меньшей долей уверенности и обобщения, также высказывают подобную мысль. Жак Гарнье, автор, ответственный за военную тему в монументальном «Наполеоновском словаре» Тюлара, пишет: «Для Императора стало характерным употребление больших маломаневренных колонн» 68.
Трудно, да и нет необходимости, сейчас устанавливать, с чьей легкой руки эта «мудрая мысль» принялась гулять из одной исторической работы в другую, но яс но одно: историки переписывали ее друг у друга, мало вдумываясь в значение. В качестве базы для столь глобальных выводов приводятся два примера, всегда одни и те же: «колонна» Макдональда под Ваграмом и построение дивизий Друэ д'Эрлона под Ватерлоо (Строков упоминает еще Экмюль, впрочем, скорее по ошибке, так как в этом бою построение французских войск было самым обычным - батальонные колонны и линии). Уже тот факт, что речь идет лишь о двух примерах, должен заставить задуматься о правомерности далеко идущих выводов. Но внимательное рассмотрение данных эпизодов фактически сводит и их значение на нет.
Ж. Л. Давид. Этюд к портрету маршала Макдональда.
Действительно, под Ваграмом Макдональд, которому Император поручил атаковать центр австрийской армии, избрал для построения своих войск достаточно своеобразную форму: «Я выдвинул вперед бегом четыре батальона, за которыми последовали четыре других, - рассказывает в своих мемуарах Макдональд, - развернув их в две линии. И в то время, пока артиллерия вела огонь, а гвардейские батареи вставали на свои позиции... две мои другие дивизии готовились построить колонны к атаке (это были часть дивизии Бруссье и дивизия Ламарка, двигавшиеся в батальонных колоннах, одна за левым, другая за правым флангом развернутой линии.)... В этот момент, увидев, что неприятельская кавалерия выдвигается, чтобы меня атаковать, я приказал, так как времени было мало, второй линии развернутых батальонов примкнуть к первой. Две дивизии, шедшие по флангам, остались на местах. И это каре было прикрыто с тыла кавалерийской дивизией генерала Нансути...»69 В результате получилось некое гигантское каре, которое, отбив атаки кавалерии, затем двинулось вперед практически в том же порядке. Из мемуаров Макдональда ясно видно, что 1) подобное построение было предпринято им по личной инициативе; 2) оно получилось таковым вследствие перипетий сражения и никоим образом не было какой-либо заранее обдуманной боевой формой. Наконец, нужно добавить, что «время жизни» этого построения было недолгим в самой битве под Ваграмом и никогда более не повторялось. Нигде в документах, исходящих из главной квартиры Императора в это время ничего не говорится о каком-либо тактическом эксперименте с корпусом Макдональда, тем более о каком- то опыте, который надо использовать. Таким образом, совершенно очевидно, что знаменитая «колонна Макдональда» не имеет никакого отношения к эволюции тактических приемов Наполеона. Ее построение произошло случайно и никак не отразилось на тактике наполеоновской армии в многочисленных последующих боях и сражениях.
Несколько сложнее обстоит дело с колоннами Друэ д'Эрлона под Ватерлоо. Действительно, дивизии Донзело и Марконье 1-го корпуса Северной армии построились для атаки на плато Мон-Сен-Жан довольно странным образом*. Батальоны этих дивизий были развернуты в линии и поставлены в затылок друг за другом на дистанции 15-20 метров. В результате получились две гигантские неповоротливые колонны (примерно 120 метров по фронту и 200 метров в глубину каждая), несшие огромные потери от огня вражеской артиллерии. В этих колоннах батальоны фактически были лишены возможности маневрировать независимо, так как слишком близко были прижаты друг к другу, и поэтому не смогли построить каре в момент контратаки английской кавалерии. Неизвестно точно, кто приказал построиться в эти неприемлемые для боя «фаланги». Существует точка зрения, согласно которой д'Эрлон неправильно понял распоряжение Императора и вместо батальонных колонн подивизионно построил колонны по дивизиям (по-французски «дивизия» и «дивизион» обозначаются одним словом «division», соответственно, «colonnes par divisions» может означать и обычные батальонные колонны, и колонны по дивизиям - построения, применяемые для больших смотров, которые и были использованы д'Эрлоном ).
Но даже если построение чудовищных колонн 1-го корпуса было неслучайным, то, зная, что Император всегда оставлял тактические детали на усмотрение подчиненных, приходится сомневаться в том, что эта идея исходила от него. В любом случае - была ли это ошибка в понимании приказа или неуместная и неудачная инициатива маршала Нея или генерала д'Эрлона - и здесь никоим образом нельзя говорить о какой-либо продуманной эволюции тактики, тем более, что все остальные дивизии и корпуса действовали под Ватерлоо в своих обычных боевых порядках.
* В 1-м корпусе Друэ д'Эрлона было 4 дивизии, однако правофланговая дивизия Дюрютта была выслана к ферме Паплот, чтобы воспрепятствовать движению пруссаков, левофланговая дивизия Кио была назначена для атаки фермы Ла-Э-Сент. Обе эти дивизии действовали в обычных боевых порядках.
Подводя итог, можно совершенно уверенно сказать, что нет никакого основания на базе двух примеров кор - пуса Макдональда под Ваграмом и Друэ д'Эрлона под Ватерлоо заявлять о каком-либо направлении в эволюции тактики Наполеона.
Однако определенные изменения все же имелись. Частично они были связаны с имевшим место ухудшением качества пехоты в кампаниях 1809-1815 гг. по сравнению с батальонами 1805-1807 гг., прошедшими школу Булонского лагеря, частично - с увеличением размаха боевых действий. Судя по рапортам, письмам, мемуарам современников в этих кампаниях все реже стал применяться развернутый строй батальона. Дело в том, что само по себе несложное перестроение из батальонной колонны в линию и обратно все же не было столь простым, чтобы молодые солдаты могли уверенно проделать его не на учебном плацу, а под огнем неприятеля. Однако если вплоть до кампании 1812 г. включительно наличие старых кадров еще позволяло совершать подобные маневры, то, судя по всему, новобранцы 1813-1814 гг. часто оказывались к этому неспособны. Наконец, в таких грандиозных битвах, как Бородино, Люцен, Бауцен, Дрезден и Лейпциг зачастую не было и места для того, чтобы прибегать к маневрам линий. В результате в тактике последних войн Империи преобладает построение пехоты в батальонные колонны. Дивизии почти всегда строятся в две линии батальонных колонн, каждая либо в шахматном порядке, либо батальоны второй линии в затылок батальонам первой (но на расстоянии 200-300 метров). Вольтижеры прикрывали фронт спереди и с флангов стрелковой цепью. Как видно, это то же построение, которое использовали и армии Республики в революционных войнах, и войска Великой Армии под Иеной и Фридландом, а следовательно, нельзя говорить о появлении каких-то новых, небывалых чудовищных колонн. Тем не менее с «отмиранием» линий тактика становится более «жесткой», рассчитанной на натиск и штыковой удар. Это характерно и для сражений, где командовал сам Император, и для боев меньшего значения, где распоряжались его подчиненные.
Колонна Макдональда в битве при Ваграме (6 июля 1809 г.).
Л.-Ф. Лежен. Бизва при Чиклана-Баросса 5 марта 1811 г. © Photo RMN- Arnaudet /J. Schormans.
На картине изображена атака французской пехоты (дивизий Леналя и Рюффена) на английскую пехоту.
Художник изобразил редкий в боевой практике случай, когда два батальона в развернутых линиях столкнулись в рукопашной схватке. Слева на переднем плане англичане захватывают в плен тяжело раненого генерала Рюффена. В центре на переднем плане маркитантка Катрин Балан угощает водкой карабинеров прямо в ходе боя.
Среди распространенных в литературе мнений о тактике наполеоновской армии есть еще одно, на котором нам хотелось бы остановится. Успешность применения английскими войсками под командованием Веллингтона в ходе войны на Пиренеях огня из развернутых батальонных линий, а также победа «железного герцога» при Ватерлоо заставили многих историков задаться вопросом: а так ли уж выгодна была тактика колонн и рассыпного строя, не является ли она лишь ненормальным отклонением от общего процесса эволюции тактических форм, связанным со спецификой революционных войн? Тем более что позже, с усовершенствованием оружия, тактика, хотя и на ином уровне, вернулась к приоритету стрелкового боя над штыковым ударом.
Что касается битвы при Ватерлоо, то она произошла при столь невыгодном для французов соотношении сил, что из ее результата трудно делать какие-либо выводы (в самом начале сражения у Наполеона было 72 тыс. солдат против 67 тыс. англо-голландцев, но через три часа к Веллингтону на помощь прибыли 30 тыс. пруссаков Бюлова, а спустя еще несколько часов - более 50 тыс. солдат Пирха и Цитена. В результате 72 тыс. французов сражались против приблизительно 150 тыс. неприятельских солдат, часть которых атаковала с фланга и тыла). Иное дело - война на Пиренейском полуострове. В ходе боевых действий в Испании и Португалии английские войска не раз отражали атаки французов, построенных в колонны. Французские маршалы не смогли сбить британскую армию с позиций под Тала- верой (в июле 1809 г.), под Бусако (в сентябре 1810 г.), при Фуэнтес д'Оньоро и Альбуэре (в мае 1811 г.). Наконец, Веллингтону удалось выиграть два крупных сражения - под Арапилами и при Виттории. В общем, до статочно очевидно, что в сражениях испанской войны англичане гораздо чаще добивались успеха, чем их противники. Этот факт неоспорим, но его нельзя рассматривать в отрыве от общей стратегической обстановки. В Испании французская армия оказалась в тяжелейшем положении, против нее было все: время, пространство и люди. Объятая пламенем народной войны, Испания выставила сотни тысяч ополченцев и солдат регулярных войск, которые с героизмом, граничащим с фанатизмом, дрались за каждый город, за каждую мало-мальски значимую крепость; десятки тысяч партиpан-гверильясов постоянно наносили удары по тылам французов. Императорская армия не могла разорваться на тысячу частей, не хватало сил действовать по всем направлениям: прикрывать занятые города, дороги, форты, базы, осаждать неприятельские крепости, отражать наступление регулярных сил испанцев и в то же время сражаться с крупными силами англо-порту- гальцев. Веллингтон гениален в том, что он понял и твердо проводил до конца одну-единственную стратегическую идею: ни в коем случае не участвовать ни в одной рискованной операции против французской армии, так как время работало на него. Конечно, для того чтобы реализовать эту идею на практике, несмотря на давление со стороны испанцев, непонимание своего правительства и недовольство подчиненных, требовалось много твердости, воли, настойчивости; и никто не собирается отнимать у английского полководца его заслуженных лавров. Однако в тактическом смысле это означает, что Веллингтон давал сражение только тогда, когда у него были все шансы на успех. Если у англичан было меньше сил, чем у их противника, они просто отступали сколь угодно далеко, с полным безразличием бросая на произвол судьбы испанские гарнизоны или португальские города, превращая все в выжженную равнину. Земля была чужая, и джентльменам с туманного острова было нисколько ее не жалко. Если же силы были примерно равны с французами, то Веллингтон занимал такую позицию, атаковать которую мог либо безумец, либо человек, у которого не было другого выбора. И французские маршалы, у которых подчас такого выбора не было, атаковали. Предвидеть результат было нетрудно. Волна французского натиска разбивалась об английские линии, которые с высоты горных круч почти безнаказанно расстреливали приближающиеся батальоны...
Колонны дивизий Донзело и Марконье в битве при Ватерлоо (18 июня 1815 г.).
Умелая организация борьбы, в результате которой удачно использовались лучшие стороны английских войск - хладнокровие и точность огня, - конечно, делает честь их полководцу, но никак не говорит о возможности применения подобной тактики вне тех исключительных условий, которыми располагали англичане на Пиренеях. Интересно, что делал бы «железный герцог» со своими мастерами по пальбе из- за укрытий, если бы ему пришлось, как австрийцам под Ваграмом или русским при Бородине в открытой равнинной местности Центральной Европы, имея позади себя стратегически важные пункты своей страны, дать генеральное сражение, удерживая натиск настоящей Великой Армии, ведомой Наполеоном. Нет сомнения, что знаменитая «thin red line» («тонкая красная линия») была бы сметена ураганом артиллерийского огня, раздавлена натиском пехотных колонн, растоптана шквалом кавалерийской атаки. Для того чтобы сдержать этот напор, нужны были не только линии, но и глубокие построения и та же решимость погибнуть, но не отступить. И австрийцы, и русские стояли в густых колоннах, бросая навстречу пешим и конным массам французов такие же плотные массы своих войск.
А. Адам. Битва на Москва-реке 7 сентября 1812 г. Войска IV-го корпуса Великой Армии выдвигаются для атаки батареи Раевского. Батальоны, изображенные на рисунке, построены в линии.
Наконец, вне обороны маневры в английском стиле вообще очень сомнительны. «Возможно ли вести в атаку огромную линию в развернутом боевом порядке и к тому же вести огонь? - писал по этому поводу генерал Жомини, - Я думаю, что каждый скажет, что это абсурд. Повести вперед двадцать или тридцать батальонов, ведущих огонь повзводно или рядами с целью занять хорошо защищенную позицию - это значит подойти к ней как стадо баранов или, точнее, вообще никогда к ней не подойти»70.
Именно поэтому основные тактические методы французской армии как наиболее рациональные были переняты всеми европейскими армиями. Австрийский устав 1806 г., прусский 1809 г., русский 1811г. взяли на вооружение колонну к атаке и стрелковую цепь. Что же касается общего управления войсками в бою, то стоит лишь обратиться к планам сражений 1812, 1813, 1814 гг. на основном театре военных действий, чтобы увидеть, насколько идентичными стали боевые формы, употребляемые войсками противоборствующих сторон. Это ли не самое лучшее доказательство того, что тактика, доведенная до совершенства армией Наполеона, была тактикой наиболее гибкой, отвечающей степени развития вооружения, особенностям массовых армий и позволяющей использовать ее в самых различных обстоятельствах.
1. Клаузевиц К. О войне. М., 1936, т. 1, с. 253.
2. Вейдер Б. Блистательный Бонапарт. М„ 1992, с. 91.
3. Blond G. La Grande armée. P., 1979, t. 1, p. 194.
4. CorvisierA. Louvois P., 1983, p. 514-516.
5. Meyer J. La France Moderne de 1515 a 1789 // Histoire de France sous la direction de Jean Favier. P., 1985, t. 3, p. 277.
6. Chaunu P. La civilisation de l'Europe des Lumieres, P., 1982, p. 119.
7. Ibid.
8. Guibert J.-A.-H. de. De l'etat actuel de la politique et de la science militaire en Europe.//Bibliotheque historique et militaire. P., 1844, t. 5, p. 421.
9. Frederic II. Instruction militaire du roi de Prusse pour ses generaux. // Bibliotheque historique et militaire. P., 1844, t. 5, p. 219.
10. Ibid., р. 216.1
11. Ibid., p. 262.
12. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938, т. 4, с. 254.
13. Folard J.-C. de. Nouvelles decouvertes de la guerre, dans une disserta tion sur Polybe. P., 1724.
14. Mesnil-Durand F.-J. de. Projet d'un Ordre Francois en tactique ou la Phalage coupee et doublee. P., 1755.
Mesnil-Durand F.-J. de. Fragments de Tactique. P., 1774.
Mesnil-Durand F.-J. de. Collection de diverses pieces et memoires, necessaires pour achever d'instruire la grande affaire de Tactique... Amsterdam, 1780.
15. Colin J. L'education militaire de Napoleon. P., 1900, p. 104, 106.
16. Bertaud J.-P. La revolution armée. Les soldats citoyens et la Revolution française. P., 1979, p. 230.
17. Foy M.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Braxelleq 1827,1.1, p. 85.
18. Ibid., p. 85-86.
19. Colin J. La Tactique et la discipline dans les armées de la Revolution. Correspondance du general Schauenbourg du 4 avril au 2 aout 1793. P., 1902.
20. Lynn J. Esquisse sur la tactique de l'infanterie des armées de la Republique // Annates historique de la Revolution franchise, novembre 1972.
21. Preval C.-A. de. Projet de reglement de service pour les armées françaises P., 1812, p. 4-5.
22. Foy M.-S. Op. cit., p. 124.
23. Las Cases. Memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p. 573.
24. Reglement concernant l'exercice et manoeuvres de l'infanterie du I" aout 1791. P., 1809, p. 13.
25. Ibid., p. 18-19.
26. Ibid., p. 19.
27. Ibid., p. 82.
28. Ibid., p. 24.
29. Foy M.-S. Op. cit., p. 90.
30. Материалы Военно-Учетного Архива Главного Штаба. Отечественная война 1812 г. Отдел 11. Бумаги, отбитые у противника. СПб, 1903, т. 1.
31. Ney M. Memoires du marechal Ney, due d'Elchingen, prince de la Mos- kowa, publie par sa famille. Braxelles 1833, t. 2, p. 354.
32. Ibid., p. 407Л108.
33. Ibid., p. 408Л109.
34. Marmont A.-F.-L.-V. Memoires de 1792 a 1841. P., 1857, t. 2, p. 140-141.
35. Fezensac. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 31.
36. Foy M.-S. Op. cit., p. 91-92. ,
37. Caulaincourt A.-L.-A. de. Memoires du general de Caulaincourt, due de Vicence, grand ecuyer de l'Empereur. P., 1933, t. 2, p. 367.
38. Материалы Военно-Учетного Архива Главного Штаба. Отечественная война 1812 г... т. 1, с. 9.
39. Ibid., p. 58.
40. Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manoeuvres de la cavalerie. P., 1808, p. 184.
41. Godart R. Memoires du general baron Roch Godar. P., 1895, p. 151.
42. Correspondance de Napoleon... t. 16, p. 22.
43. Ibid., t. 13, p. 465.
44. Martin R. Les chevaux sous le Premier Empire. // Le Souvenir Napoleonien, 1994, № 395.
45. Gonnevile A.-O. de. Souvenirs militaires, publies par la comtesse de Mirabeau. P., 1875, p. 255-257.
46. Brack F. de. Avant-postes de cavalerie legere. P., s d., p. 165.
47. Ibid., p. 164, 166.
48. Jomini A.-H. de. Precis de l'art de la guerre. // Bibliotheque historique et militaire. t. 5, P., 1844, p. 920.
49. Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors generaux et divisionnaires. P., 1813, p. 418.
50. Brack F. de. Op. cit., p. 185-186.
51. Ibid., p. 195.
52. Gassendi J.-J.-B. Aide-memoire a l'usage des officiers d'artillerie de France, attaches au service de terre.P, 1809, t. 1, p. 872.
53. Ibid.
54. Ibid., p. 873.
55. Guibert J.-A.-H. de. Essai general de Tactique. P., s. d., p. 209.
56. Ibid., p. 214. Ibid., p. 214.
57. Lauerma M. L'Artillerie de campagne française pendant les guerres de la Revolution. Evolution de l'organisation et de la tactique. Helsinki, 1956, p. 193-194.
58. Marmont A.-F.-L.-V. Op. cit., t. 1, p. 128-129.
59. Цит. по: Girod de l'Ain. Vie militaire du general Foy. P., 1900.
60. Lespinasse A. de. Essai sur l'organisation de l'arme de l'artillerie. P., an VIII (1800), p. 58.
61. Ney M. Op. cit, p. 390-392.
62. Preval C.-A. de. Op. cit., p. 124-128.
63. Thiebault D.-P.-C.-H. Op. cit, p. 290-291.
64. Preval C.-A. de. Op. cit, p. 125.
65. Thiebault D.-P.-C.-H. Op. cit, p. 294-295.
66. Ibid., p. 295-299.
67. Строков А. А. История военного искусства. СПб, 1994, т. 4, с. 235.
68. Gamier J. Tactique. // Dictionnaire Napoleon. P., 1987, p. 1617.
69. Macdonald J. Souvenirs du marechal Macdonald due de Tarante. P., 1892, p. 156.
70. Jomini A.-H. de. Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre, et de leurs rapports avec la politique des etats. P., 1830, p. 205.
Глава VIII. СТРАТЕГИЯ И ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО НАПОЛЕОНА
Концентрация сил, энергия и твердая решимость победить или умереть со славой - вот три великих принципа военного искусства.
Наполеон
Эпоха Революции и Империи была отмечена не только переворотом в тактических формах боя. Не в меньшей, а пожалуй, в значительно большей степени она означала и глобальную ломку самой концепции войны, а следовательно, и стратегических форм и сопряженного с ними оперативного искусства. Именно в этой области раскрылось необыкновенное военное дарование Наполеона Бонапарта, именно в этой сфере искусства он стал поистине мэтром и оставил свой неизгладимый след в истории войн. И если, как мы уже упоминали, Наполеон практически не внес серьезных изменений в базовую тактику войск (так что описывая тактические приемы его армии вплоть до уровня дивизии, можно было временно оставить образ Императора-военачальника в стороне), то в области стратегии грандиозная фигура Наполеона доминирует настолько, что вообще невозможно говорить о войне и армии в эту эпоху, не обращаясь практически постоянно к наследию этого великого полководца.
Чтобы правильно понять роль Наполеона в мировой истории войн, необходимо опять вспомнить те условия, которые определяли облик вооруженной борьбы между европейскими державами накануне Великой французской революции. Как нами уже было отмечено, они обуславливали не только специфику тактических приемов, но и образ всего стратегического и оперативного искусства. Ограниченные задачи войн, отсутствие глобальных идеологических противоречий между государствами и относительная слабость машины традиционных западноевропейских монархий в соединении с отмеченной в предыдущей главе характеристикой - низким качеством солдатского материала - самым естественным образом породили стратегию, которую выдающийся немецкий военный историк Дельбрюк назвал «стратегией измора». Основными чертами такой стратегии являются крайняя осторожность всех военных действий, стремление избегать сражений, добиваясь положительных результатов маневрированием, осадами, небольшими мероприятиями на коммуникациях противника и, как следствие, распыление сил, долгие топтания вокруг мало-мальски важных позиций или стратегических объектов, медлительные марши и т. д.
Действительно, если целью войны являлось овладение небольшой провинцией соседнего государства (а иногда всего лишь одним городом) или решение династических проблем в какой-либо третьей державе, напряжение всех сил страны для решения такой задачи было не только невозможным, или, по крайней мере, очень трудно достижимым по причине, как уже не раз отмечалось, слабости государственной машины, но и просто ненужным. Потеря многочисленной армии могла лишить монарха больших средств, чем достигнутое завоевание дать в его руки. Отсюда столь частые в XVII-XVIII вв. требования со стороны правительств к полководцам стараться избегать рискованных решений на театре военных действий. Штатгальтер Фрисладии Вильгельм Людвиг Оранский наставлял своего двоюродного брата, известного полководца Морица Оранского: «Мы должны так вести свои дела, чтобы они не были подвержены случайностям сражения... Вступать в бой не иначе как под давлением крайней необходимости»1. То же советовали и военные теоретики. Диллих в «Военной книге» пишет: «Никогда не подвергай себя без крайней нужды и полной уверенности в успехе случайностям сражения, как исходу неизвестному и сомнительному, ибо лучше ничего не завоевать, чем потерпеть урон и что-нибудь утратить»2.
Великая французская революция взорвала все казавшиеся незыблемыми принципы. Отныне речь шла не о борьбе за польское наследство или крепость Филипсбург, а о существовании самого государства, по крайней мере, в той форме, в которой его создала революция. Идеологическая рознь бросила в огонь сотни тысяч людей, готовых победить или умереть за свои идеалы, за Отечество, за Республику или за короля - неважно. Как уже нами не раз отмечалось, резко возросла не только напряженность и интенсивность борьбы, но и численность войск, а следовательно, и стратегические задачи, которые можно и нужно было решать этими массами, стали совершенно иными...
Гро Ж,-А. Генерал Моро. Рисунок углем.
Казалось бы, облик войны должен был резко измениться именно в этот момент, в 1793 г., с установлением якобинской диктатуры и созданием массовой армии Французской республики. Но, даже бросив беглый взгляд на операции этого периода, можно увидеть, что, несмотря на ряд важных изменений частного порядка, глобальные стратегические концепции остались во многом схожими с таковыми периода «войн в кружевах». Армии растягиваются огромным кордоном вдоль границ, основная борьба идет вокруг отдельных крепостей и укрепленных линий.
Секрет этого кажущегося парадокса очень прост. Люди, стоявшие во главе французских войск в эту эпоху, были воспитаны в XVIII веке. Они, конечно, прекрасно видели те огромные политические и идеологические изменения, которые принесла с собой французская революция, они понимали, что она дала им в руки совершенно иное оружие, чем то, что было раньше, но на театре военных действий они привыкли мыслить старыми категориями. Сознательно или бессознательно, они пытались применить привычные методы к новой армии. И это ничуть не противоречит сказанному в первой главе. Полководцы Республики отныне заставляли солдат совершать форсированные марши, терпеть лишения, обходиться без палаток и большого обоза; в бою солдаты сражались как одержимые, а молодые генералы, не задумываясь, жертвовали собой... Но при этом те же люди, оказавшись один на один с картой театра военных действий и чистым бланком приказа, составляли план в привычном стиле: осада той или иной крепости, прикрытие той или иной территории, обеспечение коммуникаций - сопровождаемый рассуждениями о естественных барьерах, реках, горах, плато и водоразделах...
Первым, кто понял, что история перевернула страницу «войн в кружевах» и дала в руки полководцу титанические силы, был Наполеон Бонапарт. Он первый осознал, что, раз уж страшный меч массовой войны вынут из ножен, им нужно наносить под стать его богатырской силе смертельные удары, что, раз уж начата война «на сокрушение», то просто неразумно и даже опасно пытаться оставаться в рамках действий стратегии «измора». В этом, собственно говоря, самое главное, что составляло величие Наполеона как полководца. Он первый понял до конца природу новой войны и первый взял на себя ответственность последовательно проводить систему «сокрушения», то есть такой стратегии, при которой полководец максимально концентрирует свои усилия с целью разгрома армии врага и достижения полной победы над противоборствующим государством. Мы полностью солидарны с Клаузевицем, который писал: «Первый, самый великий, самый решительный акт суждения, который выпадает на долю государственного деятеля и полководца, заключается в том, что он должен правильно опознать... предпринимаемую войну; он не должен принимать ее за нечто такое, чем она при данных обстоятельствах не может быть, и не должен стремиться противоестественно ее изменить»3. Именно этот «великий акт суждения» и был совершен Наполеоном. После него понимание новой природы войны превратилось в общее место и тривиальность. Но для того чтобы первым осознать это и взять на себя гигантскую ответственность реализовать на практике соответствующие данной природе борьбы методы, нужен был великий талант и гигантская сила духа.
Как только основная задача была решена, все остальное вытекало из этого решения со всей очевидностью: необходимость максимально сосредотачивать силы на решающем театре боевых действий, наносить стремительные удары по врагу, стараясь бить его по частям, уничтожать прежде всего его живую силу, а не заниматься осадой крепостей и бесполезными маневрами; подавлять волю врага к сопротивлению всеми силами, не считаясь с усталостью войск и отдельными потерями; не избегать сражений, а наоборот, стремиться к кровавой развязке, предприняв, естественно, все зависящее от полководца, чтобы эта развязка была осуществлена при максимально благоприятных для своей армии обстоятельствах.
Дельбрюк очень верно отметил (говоря о кампании 1800 г.): «Современники не могли еще установить различие в существе достижений Моро и Бонапарта. Правда, говорили о какой-то итальянской и какой-то немецкой "школе" стратегии* - там Бонапарт, здесь Моро - однако не могли еще распознать ни истинной природы противоречия между ними, ни абсолютного превосходства одной "школы", т. е. личности, перед другой»4. Действительно, «итальянская школа», или, иначе говоря, система Бонапарта, означала решительный поворот к методам войны, соответствующим ее новой природе, «школа Моро» - не что иное, как более или менее удачная попытка воевать старыми методами в совершенно иной политической, социальной и моральной обстановке. Самое забавное состоит в том, что этого не поняли и многие позднейшие историки. Например, некто Лор де Сериньян в опубликованной в 1914 г. книге «Наполеон и великие генералы Революции и Империи» вполне серьезно сравнивает, как и сто четырнадцать лет назад, «итальянскую» и «немецкую» школы военного искусства и даже ставит Моро если не выше, то, по крайней мере, на уровне Бонапарта. Историки, подобные Сериньяну, не смогли подняться до осознания того, что стратегия Наполеона отличается от стратегии Моро не столько частными деталями исполнения маневров, сколько глобальным принципом. Что, более того, основополагающие стратегические идеи Наполеона фактически полностью сохраняют значение вплоть до сегодняшнего дня. В частности, не является ли катастрофа Франции в 1940 г. следствием забвения этих принципов, когда методами ограниченной войны пытались сражаться против противника, исходившего из стратегии тотальной войны, направленной на сокрушение?
* Намек на то, что Бонапарт командовал Итальянской армией, а Моро - армией на территории Германии.
Заметим в очередной раз, что Император французов был практиком войны, а не ее теоретиком. Им нигде не была последовательно сформулирована ни его стратегическая доктрина, ни, тем более, какая- либо концепция операций на театре военных действий. Более того, высказывания Наполеона о правилах военного искусства не лишены противоречий.
Человеком, который облек его систему войны в стройную ясную концепцию, стал уже не раз упомянутый нами выдающийся военный теоретик Карл Клаузевиц. В своем монументальном труде «О войне» он фактически подвел итог наполеоновским войнам и с необычайной ясностью раскрыл суть войны «на сокрушение». Клаузевиц был первым, кто по-настоящему осознал связь форм стратегии с политикой («война есть только продолжение политики другими средствами»), он же убедительно изложил огромное влияние моральных сил на вооруженную борьбу.
Это понимание необычайной важности моральных сил было, без сомнения, в полной мере уже присуще Наполеону и составляло важнейшую сторону его полководческого гения: «На войне, - говорил Император, три четверти всего - это моральные силы» 5.
Можно было бы отметить, что Наполеон не жалел ничего, чтобы добиться высокого морально-боевого духа своих войск, но это означало бы не сказать ничего. Вернее сказать, что он обладал столь мощной силой духа, силой воли, столь мощным умением воздействовать на массы, что ему удавалось передавать эти энергию и волю к победе тысячам и сотням тысяч людей. Он заставил поверить своих солдат в их непобедимость, он словно незримо присутствовал в каждом, даже малозначительном бою, удесятеряя силы каждого воина, парализуя силы врага ощущением невозможности противостоять напору императорских полков. Император одухотворял свои войска - и это, без сомнения, вторая важнейшая составляющая наполеоновского военного гения.
К этим главным «секретам» полководческого искусства Императора добавлялась, разумеется, и высокая техника исполнения деталей стратегического замысла, иными словами, совершенное оперативное искусство. Впрочем, мы уверены, что хотя оно и играло немаловажную роль в победах Великой Армии, но по своему значению явно уступало двум вышеозначенным составляющим этих побед. Техника осуществления Наполеоном маневров на театре войны не раз служила объектом тщательного разбора ряда крупных специалистов военного дела: этим занимались Камон («Наполеоновская война», 1907-1910 гг.), Колен («Великие полководцы. Наполеон», 1914), Бонналь («Иенский маневр», 1904 г.), Аломбер и Колен («Кампания 1805 года», 1902-1908 гг.), Фукар («Прусская кампания 1806 года», 1887-1890, «Бауцен», 1901 г.) и др. В этом вопросе трудно сказать что-либо принципиально новое. Большинство авторов согласны с тем, что Император применял два основных вида маневра, а именно: когда он превосходил неприятеля в численности своих войск или, по крайней мере, не уступал ему в таковой, он совершал широкий стратегический обход неприятельской армии с выходом на ее тылы. Подобный маневр, лучшим примером которого является Ульмская операция 1805 г. и Иенский маневр 1806 г., позволял стремительным движением деморализовать неприятеля, нарушить его замыслы, перехватить полностью инициативу в свои руки и, выйдя на коммуникации врага, отрезав его от основных баз, либо навязать сражение с перевернутым фронтом (Маренго, Иена), либо, в случае особо удачного развития маневра, пленить неприятельскую армию (Ульм). И то и другое давало в руки Наполеона возможность максимального сокрушения вражеских сил. Ясно, что описанный маневр был не лишен риска: ведь не только неприятель сражался с перевернутым фронтом, но и войска Наполеона оказывались в весьма «деликатном» положении. Впрочем, не следует забывать, что Император действовал подобным образом лишь тогда, когда был уверен если не в численном, то в полном моральном превосходстве своей армии, не сомневаясь в том, что временное рискованное положение французских корпусов неминуемо приведет к успеху. Наконец, блистательная техника осуществления обходного маневра позволяла в большинстве случаев сбить с толку врага, вызвать его беспорядочные неслаженные действия, которые приводили к тому, что в день решающего столкновения Наполеон уже обладал на поле боя подавляющим превосходством физических и моральных сил.
Ш. Тевенен. Битва под Иеной 14 октября 1806 г. Музей замка Гробуа.
В ситуации, когда Император уступал в численности неприятелю, он применял прием, который позднее Жомини назвал «маневром на внутренних операционных линиях». Это означает, если выразиться на языке, свободном от намеренного усложнения, стремление, заняв центральную стратегическую позицию, бросаться по очереди на отдельные группировки врага и бить его тем самым по частям. «Когда с малыми силами я оказывался перед многочисленной вражеской армией, - рассказывал якобы молодой Бонапарт на ужине у одного из членов Директории, - я обрушивался на одно из ее крыльев и опрокидывал его, я использовал беспорядок, который этот маневр сразу вносил в ряды вражеской армии, и затем атаковал другую ее часть моими основными силами. Так я бил врага по частям, и победа в результате оставалась, как вы видите, триумфом многочисленных войск над малочисленными»6. Подобное действие столь просто по своей сути, что можно изумиться: неужели для того, чтобы применять столь элементарный прием, надо быть великим полководцем? Увы, опыт показывает, что это именно так, ведь военное искусство, как уже отмечалось, это область деятельности, где основные трудности сопряжены прежде всего не с замыслом, а с его исполнением. Опасность, физическая усталость, неизвестность, «трение» всех частей военной машины -все это делает исполнение самых простых идей на практике чрезвычайно сложным делом. В данном же конкретном случае полководец должен решить очень непростую задачу, а именно суметь так организовать маневр, чтобы в то время как он с основными силами бросается на одну из частей вражеской армии, не дать другим группировкам неприятеля нанести непоправимый урон его собственным силам. Для этого оставшиеся не атакованными корпуса неприятеля должны быть временно скованы действиями совсем незначительных отрядов. Данная задача необычайно сложна, она требует от полководца поистине непоколебимой решительности, стремительности в маневре основных сил, слаженности и четкой координации действий вспомогательных отрядов. Наполеон был одним из немногих, кому на практике удалось разрешить все эти сложнейшие проблемы и с успехом реализовать столь простой по своей идее прием. В классической форме «маневр на внутренних операционных линиях» был осуществлен им при разгроме армии Вурмзера в августе 1796 г., а также в ряде блестящих операций кампании 1814 г.
Будучи излюбленными приемами великого полководца, маневр на тылах неприятеля и действия с опорой на центральную стратегическую позицию не были для него догмами и единственными способами достижения победы. При необходимости Наполеон прибегал к стратегической обороне, всегда, впрочем, имея конечной целью контрнаступление (операции вокруг Варшавы в 1807 г., маневры с опорой на центральную позицию у Герлица, а затем у Лейпцига в 1813 г.). Наконец, бывали случаи, когда Император по той или иной причине прибегал к простому фронтальному наступлению. Так, например, в 1808 г. в Испании силы неприятельской регулярной армии были столь слабы (не в численном отношении, а, прежде всего, с точки зрения боевого духа и обученности) по отношению к французам и столь рассеяны, что Наполеон избирает основной своей целью не уничтожение той или иной части неприятельской армии, что было бы лишь потерей времени в данной политической и стратегической обстановке, а стремительное движение напролом вперед с целью занятия столицы Испании. Сминая на своем пути все попадающиеся войска врага, он овладел Мадридом и, возможно, закончил бы победоносно испанскую войну, если бы неожиданное выступление Австрии не заставило его покинуть Пиренейский полуостров и оставить маршалам завершать неоконченное предприятие.
Какой бы метод ни избрал Наполеон для осуществления операции против вражеской армии, его действиям всегда предшествовала тщательная подготовка маневра: внимательное изучение будущего театра военных действий, сбор сведений о неприятеле, умелая маскировка своих намерений, неустанная подготовка материального обеспечения действий армии. Наконец, за достижением победы следовало, как плавило, грандиозное стратегическое преследование с целью окончательного разгрома врага.
В данной книге, ставящей задачу дать характеристику армии Наполеона в целом, по понятным причинам нет возможности привести разбор всех операций, проведённых великим полководцем. Мы возьмем лишь одну из них, чтобы на ее основе выявить основные черты, присущие его военному искусству.
Среди всех операций Наполеона мы решили остановиться на Ульмском маневре в октябре 1805 г. как наиболее характерном образце его полководческого искусства.
Летом 1805 г. 150-тысячная французская армия, собранная на берегу Ла Манша, ожидала сигнала к посадке на корабли, чтобы, переправившись через пролив, решить участь многолетнего англо-французского соперничества. Однако, благодаря нерешительности командующего флотом адмирала Вильнева, союзные франко-голландско-испанские эскадры не смогли собраться в Ла Манше. Одновременно англичанам удалось, побудив континентальные державы к войне с Францией, сколотить против Наполеона новую коалицию, третью по счету со времен начала революционных войн. В нее вошли Австрия, Россия, Неаполитанское королевство и Швеция, душой же коалиции, ее главным организатором и «финансистом» была Англия. Войска союзников готовили комбинированный удар по Империи Наполеона с различных направлений. Восьмидесятитысячная австрийская армия под командованием генерала Мак-ка (формально ее командующим был юный эрцгерцог Фердинанд) должна была двигаться к границам Франции через территорию Баварии, тогда как через территорию Италии должна была наступать другая мощная группировка австрийцев - 95-тысячная армия эрцгерцога Карла. Наступление двух этих масс должно было быть связано действиями австрийских войск в Тироле (около 35 тыс. человек). Вслед за первой волной вторжения двигалась русская армия Кутузова (около 50 тыс. человек), а также, позади нее, вторая русская армия генерала Буксгевдена (также около 50 тыс. человек). Около 20 тыс. русских и английских войск должны были высадиться в южной Италии, чтобы поддержать 40-тысячную армию неаполитанцев. Наконец, союзная шведско-англо-русская группировка должна была идти из Померании на Ганновер и Голландию. Английскому флоту поручалось обеспечить тесную блокаду французских берегов. Всего же со всеми вспомогательными контингентами, отдельными отрядами и корпусами сухопутные союзные силы, предназначавшиеся для операций против Франции, насчитывали около полумиллиона человек.
К концу августа 1805 г. подготовительные мероприятия союзников не оставляли более сомнений: война неизбежна. Однако Император не стал дожидаться, пока неприятель сожмет вокруг Франции стальное кольцо своих армий, а решил нанести немедленный контрудар.
С точки зрения военного искусства интересен выбор цели для нанесения этого удара. Наполеон безошибочно определяет наиболее важный и одновременно наиболее удобный объект воздействия. Проанализировав противоречивые сведения, полученные из дипломатических источников, от тайных агентов и из иностранной прессы, а также оценивая привычки своих врагов, он приходит к пророческим выводам: первый удар австрийская армия нанесет в Баварии с целью попытки вовлечения последней в антифранцузскую коалицию, нападающая армия окажется сильно оторванной от следующих за ней на большом расстоянии русских войск. Отсюда вытекал соответственно стройный и логичный план: не рассеивая внимание на второстепенных операциях врага, первым могучим ударом выбить из игры неосторожно выдвинутую армию и тем самым захватить в руки стратегическую инициативу, добиться морального, а возможно, и численного превосходства над противником. (Необходимо отметить, что у Наполеона было под ружьем в общем не более 450 тыс. человек, из которых для активных боевых действий на германском и итальянском театре не могло быть выделено более 250-280 тыс., т. е. союзники обладали немалым численным перевесом). В письме Бернадотту от 2 октября 1805 г. Наполеон указывал: «Не обращайте внимания на то, что может сделать неприятельская армия в Ганновере и в других местах... Когда мы разделаемся со ста тысячами австрийцев, которые сейчас перед нами, у нас будет возможность заняться и другими делами»7.
Предвидение Императора оказалось абсолютно верным. 8 сентября австрийские войска, форсировав пограничную реку Инн, отделяющую Австрию от Баварии, не встретили сопротивления: баварские войска, не пожелав присоединяться к австрийцам, не могли в то же время остановить превосходящего в численности неприятеля, а потому отходили в северном направлении. В скором времени почти вся Бавария была оккупирована частями армии Макка. В это время русская армия Кутузова находилась в районе городка Радзивиллов, более чем в тысяче километров позади своих союзников (!), а сам русский полководец даже не прибыл к вверенным ему войскам.
Предвосхищая подобную ситуацию, Наполеон посылает в конце августа своих близких помощников Мюрата, Бертрана и Савари с разведывательной миссией к австрийским границам. Высокопоставленные разведчики должны были под вымышленными именами проехать по возможным путям будущих маршей, осмотреть дороги, мосты, укрепления, города, возможные оборонительные позиции и т. д. В маршрутах следования доверенных лиц Императора уже прослеживаются, хотя еще весьма туманно, идеи будущей операции: все трое должны были исследовать районы как севернее, так и позади предполагаемого фронта развертывания австрийцев. Исходя из этого, можно предположить, что уже тогда, в Булони, Наполеон принял решение об осуществлении «маневра на тылах неприятеля». Тем не менее следует категорически отбросить версию ряда вульгаризаторов истории, согласно которой Император, находясь в Булонском лагере, в порыве вдохновения продиктовал однажды весь план австрийской кампании, план, которому было суждено осуществиться во всех его деталях, чуть ли не минута в минуту, план, в котором предполагалось пленение армии Макка в Ульме и даже указывался день вступления в Вену. Наполеон даже не предвидел тогда, да и не мог предвидеть, что Макк расположится в Ульме, ибо в наставлениях Мюрату этот город назван «естественным депо армии (французской)».
Операция началась 26 августа, когда «Армия берегов океана», т. е. войска, собранные на побережье Ла Манша, выступила из Булонского лагеря и, повернувшись спиной к коварным морским просторам, устремилась на восток навстречу армиям коалиции. В эти же дни Наполеон отдал распоряжение, согласно которому все эти движущиеся в поход массы войск получили название Великая Армия, а ее отдельные соединения отныне стали называться армейскими корпусами (см. главу «Организация армии»). Общая численность предназначенной для действий в Германии Великой Армии вместе со всеми вспомогательными контингентами достигала 210-220 тыс. человек, из которых 170 тыс. солдат приняли непосредственное участие в начинавшейся операции.
Ж. Шабор. Наполеон I, Император французов, король Италии. На этом парадном портрете Император представлен в мундире гвардейского конного егеря (см. Приложение II).
Обращает на себя внимание замечательная организация марша наполеоновских войск по территории Франции. Благодаря четко действовавшей в пределах Империи системе интендантской службы, солдаты исправно получали рационы и имели возможность располагаться на ночлег большей частью в удовлетворительных условиях. Армейские корпуса двигались по параллельным дорогам, строго соблюдая намеченные маршруты и этапы, так что, несмотря на многочисленность колонн, они не создавали друг для друга осложнений во время марша. «Имею честь донести Вам, что дивизия прибыла вчера вечером в Лилль, - сообщал генерал Гюден, командир 3-й дивизии 3-го корпуса, военному министру 5 сентября 1805 г. - Войска двигались в величайшем порядке, и я не получил ни одной жалобы (со стороны населения) со времени нашего выступления из Амблетеза. Солдаты наполнены воодушевлением, и, несмотря на дождь, который шел почти каждый день, бодры и довольны...»8 Рапорты, исходящие от командиров самых различных соединений, совершавших этот марш, подобны приведенному нами, и их можно в изобилии найти в военно-историческом архиве Франции. Они, без сомнения, отражают реальное положение дел. Великая Армия была переброшена на театр военных действий в самом образцовом порядке и в короткие сроки. Спустя ровно месяц после выступления с берегов Ла Манша французские полки форсировали Рейн.
К этому моменту австрийцы только завершали свое хаотичное выдвижение в район Ульма, Бургау и Гюнцбурга, о чем своевременно был проинформирован Император. Отныне его план операции четко оформился. Развернутые на широком фронте корпуса должны были обойти правый фланг австрийских войск и сконцентрироваться в районе Донауверта. «Его Величество желает перейти Дунай между Донаувертом и Ингольштадтом до неприятеля, а если последний будет очищать Баварию, атаковать его во фланг во время марша»9, - говорилось в инструкции Бертье, направленной им маршалу Бернадотту 28 сентября 1805 г. Для того чтобы хотя бы на время скрыть от врага этот грандиозный маневр, Император прибег к стратегической завесе: прямо в направлении Ульма двинулась часть резервной кавалерии Мюрата. Эти отряды должны были создать видимость приближения крупных масс французов с запада, в то время как основная масса войск производила широкий обход с севера.
В 3 часа утра 25 сентября гусарская бригада Фоконне и гренадеры Удино первыми форсировали Рейн и двинулись вглубь Германии, за ними широким потоком хлынули остальные соединения Великой Армии.
Необходимо отметить, что Император мастерски сочетал действия на театре войны с политическими маневрами. Ему удалось привлечь к союзу с Францией не только баварского электора, территория которого стала жертвой австрийской агрессии, но и заставить присоединиться к этому союзу другие германские государства. 1 октября 1805 г. в Луисбурге был подписан договор с электором Баденским, а на следующий день - оборонительно-наступательный союз с электором Вюртембергским. Хотя вследствие скромных размеров армий этих небольших государств они мало что могли прибавить к наступательной силе армады Наполеона, но все же способствовали обеспечению коммуникационных линий и позволили сэкономить императорские полки для выполнения основных задач.
Великая Армия двигалась по раскисшим от грязи дорогам Германии с точностью часового механизма. Сжимая операционный фронт в соответствии с планом кампании, французские корпуса безостановочно шли к Дунаю.
Здесь небесполезно будет упомянуть об огромной работе, проделанной Императорским генеральным штабом в эти дни. Корпусные командиры постоянно получали не только точные указания к действиям, причем адъютанты из главной квартиры прибывали по несколько раз в день, но и, благодаря усилиям неутомимого Бертье, ежедневно подробно информировались о всей обстановке на театре военных действий, им сообщались все возможные данные о расположении и действиях других корпусов Великой Армии. Громада войск, развернутая на широком фронте (около 200 км в момент перехода Рейна и около 60 км при форсировании Дуная), двигалась так, что каждый корпус, каждая дивизия чувствовали справа и слева локоть товарищей по оружию, готовых при первой тревоге прийти на помощь. Это еще одна характерная черта наполеоновской системы ведения войны: точность и ясность приказов, постоянное единство действий, моральная и материальная монолитность армии.
Ульмская операция (октябрь 1805г.).
Что же касается австрийского командующего, то до самого последнего момента перед соприкосновением армий он ожидал подхода французов с западного направления, через Шварцвальд. Обходной марш Наполеона по равнинам Баварии остался незамеченным для австрийцев, так что, когда 7 октября французские авангарды вышли к Дунаю у городка Донауверт и начали переправу через реку, им не пришлось преодолевать серьезного сопротивления. Здесь были лишь аванпосты отряда Кинмайера, которые при первом столкновении с французскими передовыми частями отошли на восток, предоставив саперам корпуса Сульта спокойно делать свою работу.
8 октября войска Наполеона уже наводнили правый берег Дуная, и шедшие во главе армии драгунские дивизии Мюрата в первом серьезном бою под Вертингеном разгромили австрийский отряд генерала Ауффенберга, потерявшего несколько сот человек убитыми и ранеными, около двух тысяч пленными, знамена и пушки.
Великая Армия выполнила тем самым первую часть своей задачи. Мощным клином она врезалась в расположение правого фланга австрийцев и вышла на тылы армии Макка. Однако здесь началось непредвиденное. Дело в том, что Наполеон, оценивая возможные ответные действия неприятеля, исходил из соображений разумной логики. Поэтому, проигрывая в уме варианты ходов противника, он мысленно ставил себя на его место и соответственно предполагал, что сделал бы сам, оказавшись в положении врага. Для Императора было почти очевидно, что австрийцы будут действовать по наиболее разумному алгоритму, а именно, узнав об обходе наполеоновской армии, Макк соберет свои полки в кулак и попытается прорваться назад, в восточном направлении, сминая на своем пути отдельные противостоящие ему колонны. «Вероятно, переход через Лех и занятие Аугсбурга, которые произойдут сегодня, отрезвят неприятеля, - писал начальник штаба маршалу Нею по поручению Императора. - Невозможно, чтобы противник, узнав о переходе Дуная и Леха, а также о страхе и беспокойстве, которые охватили его войска на Лехе, не решился отступать» 10.
Наполеон не исключал, хотя и считал маловероятным, отступление австрийцев в южном направлении по пути в Тироль. Дело в том, что при действии по данной схеме армия Макка хотя и уходила почти наверняка из-под удара, в то же время надолго оказывалась совершенно бесполезной для дальнейшего ведения войны, безнадежно теряя связь с русскими войсками и открывая французам дорогу на Вену.
Наконец, менее всего Император предполагал третий, последний более или менее логичный метод действий Макка: отступление его армии по левому берегу Дуная в северо-восточном направлении. Впрочем, Наполеон считал, что такое решение может принять разве что очень самоуверенный командующий, ибо оно означало бы для австрийцев готовность идти на прорыв сквозь массу двигавшихся еще по левому берегу французских войск и риск быть прижатыми к Дунаю и полностью уничтоженными. «Его Величество не думает, что неприятель будет столь безумен, чтобы перейти на левый берег Дуная...» - писал по этому поводу Бертье в другом своем письме, обращенном к Нею.
Так как другого реального пути отхода для вражеской армии не было, а оставаться на месте было, по мнению Императора, настоящим безумием со стороны Макка, естественно было предположить, что австрийцы будут действовать одним из перечисленных способов, а именно:
1) наиболее вероятный - прорыв на восток через Аугсбург на соединение с русской армией;
2) менее вероятный - отступление на юг, в Тироль;
3) очень мало вероятный - отход по левому берегу Дуная на северо-восток.
Соответственно, главной задачей на новом этапе маневра Наполеон видел как можно более скорую концентрацию французских дивизий в районе Аугсбурга, чтобы преградить австрийцам главный путь отступления. Параллельно с этим один из корпусов (4-й корпус Сульта) был брошен форсированными маршами на Мемминген с целью отрезать дорогу в Тироль. На левом берегу Дуная оставались лишь часть корпуса Нея и дивизия пеших драгун Бараге д'Илье.
Однако беспорядочные неразумные действия Макка на некоторое время сбили с толку французских маршалов, да и самого Императора. Дело в том, что австрийский военачальник не только не пошел на прорыв в районе Аугсбурга, но и вообще не понял необходимости спасать свою армию.
Часто путаные «маневры» Макка, предпринятые им 8-14 октября 1805 г., историки называют «попытками отступить» в том или ином направлении. Увы, это было не так. Австрийский командующий считал, что он наступает (!) на французов и целью своей ставил не более или менее удачный выход из-под удара Великой Армии, а победу над ней! Успех, достигнутый 11 октября под Хаслахом в бою с дивизией Дюпона на левом берегу Дуная укрепил Макка в его заблуждении. Его армия осталась большей частью сконцентрированной под Ульмом.
Однако мгла, которая окутывала для французского командования действия неприятеля, рассеялась очень скоро. Уже рано утром 13 октября, прибыв на аванпосты Мюрата в Гюнцбург, Наполеон безошибочно оценил ситуацию. Отныне целью маневра становится не просто разгром неприятельской армии, а ее полное уничтожение или пленение. В воззвании к войскам Император открыто изложил задачи операции: «Вражеская армия, обманутая нашими маневрами, быстротою наших маршей, полностью обойдена. Она отныне сражается лишь за свое спасение, она хотела бы вырваться из окружения и возвратиться восвояси... но поздно!»11
Император заблуждался только в одном пункте: Макк так и не понял до сих пор, что он окружен!
14 октября на рассвете, когда французские полки, ведомые неустрашимым Неем, штурмом брали Эльхингенскую позицию, опрокидывая колонны австрийского генерала Риша, и замыкали тем самым кольцо окружения, Макк отдал генеральный приказ, где говорилось, что французы отступают за Рейн и что их необходимо преследовать «шпага в спину»!
Широкое обходное движение Сульта на Мемминген и наступление Нея на Эльхинген Макк принял за отход! Но дни его армии были сочтены. После победы 14 октября над отрядом Риша французские дивизии двинулись прямо на Ульм, и 15 октября крепость была окружена. «Макку донесли о катастрофе, - рассказывает очевидец, - он утверждал, что это невозможно, что это ничего не значит... Со шляпой, одетой поверх ночного колпака... поддерживаемый своим слугой под руку, он ковылял вдоль городских укреплений, убеждая всех, кто хотел его слушать, что это только ложная атака и что неприятель отступает... Крыши, которые от пальбы рушились над нашими головами, были слишком веским доказательством обратного...»12
Маневр Императора увенчался полным успехом. В небольшой, малопригодной для серьезной обороны крепости были зажаты главные силы врага. Лишь ночью накануне полного окружения эрцгерцог Фердинанд, не подчинившись Макку, ускользнул из крепости с 11 эскадронами кавалерии, да слабый корпус генерала Верне ка (около 10 тыс. человек), выдвинутый 13 октября по дороге на Хайденхайм, остались в результате вне кольца окружения. Однако на преследование этих отрядов Наполеон бросил неутомимого Мюрата с драгунскими дивизиями Клейна и Бомона, гусарской бригадой Фоконне и частью гвардейских конных егерей. За несколько дней бешеной погони колонна Вернежа была полностью разгромлена, и 17 октября ее остатки сложили оружие под Трохтельфингеном. Так же безостановочно французы преследовали и эрцгерцога Фердинанда. Последнему лишь с жалкими остатками своей кавалерии удалось добраться до крепости Эгер в Богемии.
20 октября на равнине перед крепостью Ульм состоялась одна из самых пышных и драматических церемоний военной истории. Вдоль по склонам холмов, окружающих крепость, в полной парадной форме встали полки корпусов Нея, Мармона и Императорской Гвардии. Как будто специально для такого дня вышло яркое солнце, заигравшее тысячами огоньков на сверкающих штыках, начищенных касках и жерлах орудий. Впереди своих победоносных легионов на небольшом возвышении стоял Император, окруженный пышным штабом, блиставшим золотом эполет, шитьем генеральских мундиров, галунами шляп, увенчанных целым лесом колышущихся плюмажей.
Ровно в два часа забили барабаны, заиграла военная музыка. По этому сигналу ворота Фрауэнтор распахнулись, и оттуда появилась длинная колонна австрийских войск, во главе с восемнадцатью генералами. Австрийские полки, выйдя из города, проходили вдоль всего амфитеатра французских войск и складывали оружие неподалеку от возвышения, где стоял Император. Артиллеристы передавали свои орудия и упряжки французским артиллеристам, кавалеристы отдавали своих коней французской кавалерии. Затем австрийские солдаты, уже без оружия и почти без строя, возвращались в Ульм через Новые ворота... Церемония длилась три часа! «Подобное зрелище невозможно передать, - рассказывает Мармон, - и чувства от него я ощущаю до сих пор. В каком счастливом опьянении находились наши солдаты! Какая награда за месяц их лишений! Какой пыл, какое доверие возбуждали в войсках подобные результаты. Не было ничего, что невозможно было бы предпринять с этой армией, ничего, что невозможно было бы совершить...» 13
В Ульме капитулировало 25 365 австрийских солдат и офицеров, перед Императором было сложено сорок знамен, также было взято 63 пушки, 2 гаубицы, 42 зарядных ящика, 13 600 ружей сверх сданных войсками... Общее же число пленных, взятых во время Ульмской операции (учитывая бои под Вертингеном, Гюцбургом, Эльхингеном и т. д.) было около 50 тыс. человек. Таким образом в ходе Ульмской кампании Императору удалось в короткие сроки и с минимальными потерями уничтожить австрийскую армию в Германии как организованную боевую силу. В этом образцово проведенном маневре проявились все типичные черты полководческого искусства Наполеона. При его подготовке обращает на себя внимание ясный и твердый выбор цели операции, умелая организация ее материального обеспечения, правильно налаженная разведка, хорошо поставленная дезинформация неприятеля. В ходе исполнения - решительность, целеустремленность, удивительная спаянность всех частей и соединений, прекрасно организованная работа штаба. Наконец, завершилась операция не только пленением главных сил австрийцев, но и неустанным преследованием всех спасшихся от Ульмской катастрофы войск.
Эта операция, завершившаяся почти бескровным уничтожением целой армии, заставила ряд историков, в частности Камона, автора исследования «Наполеоновская война», высказать мысль, что Наполеон не стремился в своих походах к достижению успеха с помощью кровавой развязки в генеральном сражении. «Напрасно пишут, что Наполеон искал прежде всего генеральных боев, его желанием было "застигнуть неприятеля при отходе", чтобы разделаться с ним без общей битвы»14. Подобное высказывание, хотя ему в значительной степени противоречат приведенные самим Наполеоном примеры, может навести читателя на мысль о том, что Император изобрел какой-то тайный способ уничтожать неприятеля без кровопролития, без поиска решения стратегической задачи с помощью боя. Нет ничего более противоречащего общей системе наполеоновской стратегии. Если в ходе Ульмской операции и не произошло генерального сражения, то это не потому, что французский полководец избегал битвы и искал каких-то обходных путей в выполнении задачи в стиле «стратегии измора». Напротив, с самого начала вся цель операции сводилась к тому, чтобы, обойдя австрийскую армию, навязать ей генеральное сражение с перевернутым фронтом. Обход правого фланга Макка был сделан не для того, чтобы избежать боя, а прежде всего для того, чтобы поставить его в такое положение, когда он будет вынужден пойти на генеральное сражение, чтобы усилить эффект от предполагаемого разгрома неприятеля и плюс к тому по возможности создать наивыгоднейшие условия для битвы, а именно дезориентировать врага, лишить его возможности сконцентрировать все свои силы и тем самым еще более усилить численный и моральный перевес в свою пользу на решающем пункте в решающий момент времени. Впрочем, молниеносность маневра привела к тому, что противник совершенно растерялся, и создались условия для полного окружения его главных сил и их пленения без кровопролития. Тем не менее даже в этот момент, когда австрийцы были заперты в Ульме и решали вопрос о том, что можно предпринять в безвыходной ситуации, Наполеон ни секунды не сомневался в том, что в случае отказа Макка от капитуляции необходимо будет произвести грандиозный штурм крепости с целью полного уничтожения армии врага. Именно то обстоятельство, что Император не просто угрожал австрийцам, а был твердо намерен осуществить этот решительный акт, заставило врага положить оружие. Таким образом, и в Ульмском маневре Наполеон полностью действовал в духе стратегии сокрушения. Он искал решение в грандиозном столкновении, но как нормальный человек, разумеется, предпочитал, чтобы противник сложил оружие без боя. Подобная ситуация была реализована, впрочем, лишь в Ульмском маневре - поистине вершине полководческого искусства, все же остальные удачные операции Наполеона заканчивались решительными битвами.
Ш. Тевенен. Капитуляция Ульма 20 сентября 1805 г. © Photo RMN.
Грандиозное полотно (248x382см) Тевенена «Капитуляция Ульма» была исполнено уже в самом конце эпохи Империи. Все на картине изображено очень точно: пейзаж, построения войск, униформы, однако, т. к. это произведение было написано через 10 лет после событий, оно не свободно от некоторых неточностей. Так, в глубине картины можно видеть построенных в линию гвардейских польских улан - полк, который был создан двумя годами позже описываемых событии. Среди свиты Наполеона присутствует офицер карабинеров в мундире образца 1810 г. и офицер гвардейских драгун - полка, еще не существовавшего в 1805 г. и т. д.
Нет нужды доказывать, что на полях сражений, венчавших стратегические комбинации, Наполеон также зарекомендовал себя как гениальный полководец. Напомним, однако, мысль, уже высказанную нами ранее: Император, уверенно управлявший массами войск на полях генеральных битв, практически не занимался тактикой на уровне батальона и даже дивизии. Сфера применения его талантов была четко очерчена общим руководством взаимодействия соединений и моральным воздействием на войска. Опираясь на описанные в предыдущей главе тактические формы, он выработал свой стиль ведения генерального сражения.
Уже исходя из того, что было сказано об общих стратегических концепциях Императора, ясно, что одним из первейших его принципов в деле подготовки сражения была максимально возможная концентрация всех сил к полю боя. «Первый принцип на войне - давать битву только со всеми силами, собранными на пространстве операционного театра... - писал Наполеон. - Общее правило: когда вы собираетесь давать битву, соберите все силы, не пренебрегайте ничем, иногда один батальон решает участь боя»15.
В самой же битве Наполеон решительно брал инициативу в свои руки. В подавляющем большинстве случаев именно он атаковал на поле сражения, даже если на театре военных действий он оборонялся. Император старался навязать противнику свою игру, за счет активных действий сконцентрировать в решающем месте превосходство материальных сил и добиться победы, даже если во всех прочих пунктах поля боя его войска оборонялись или терпели частные неудачи. «В боевых действиях дело обстоит так же, как и в осаде крепостей, - писал двадцатипятилетний Бонапарт, предвосхищая совершенное им впоследствии. - Соединить всю силу огня против одной точки, пробить брешь и тем самым нарушить равновесие, тотчас все укрепления станут бесполезными - крепость будет захвачена»16.
В этом, собственно, и состоит стиль наполеоновского сражения. Что же касается конкретной реализации на практике этих достаточно ясных положений, у Императора не существовало заранее заготовленных рецептов. Однако в бесконечном многообразии сражений, данных великим полководцем, прослеживаются все же некоторые общие черты техники исполнения.
Одним из излюбленных приемов Наполеона было нанесение решающего удара мощными резервами в сочетании с охватом одного из неприятельских флангов. При этом сражение делилось на несколько ясно выраженных этапов. На первом из них завязывался бой на широком фронте. Его целью было сковать как можно большее количество неприятельских сил, заставить полководца противной стороны ввести в бой часть резервов. Со своей стороны Император стремился действовать с максимальной экономией усилий, заботясь о том, как рассказывал маршал Сен- Сир, чтобы не уступать требованиям о помощи со стороны частных командиров17. Это позволяло сохранить свежие войска для решающего момента. На втором этапе сражения Наполеон предпринимал заранее подготовленной частью войск обход неприятельских линий с целью нанесения удара во фланг армии врага. Однако весь «секрет» наполеоновской тактики заключался в том, что этот фланговый удар опять-таки не был главным. Его задачей было лишь внести смятение в действия неприятеля, заставить его забеспокоиться о путях возможного отступления. Обычно подобный фланговый удар вызывал перегруппировку вражеских войск, которая, конечно же, не могла происходить с невозмутимым спокойствием, ведь неприятельские генералы не могли сразу дать себе отчет в том, насколько серьезна была фланговая атака. Смятение во вражеском стане и неизбежные ошибки в маневрах противника - вот та цель, которую преследовало выделение охватывающей группировки. Наполеон называл подобную ситуацию «evenement» (дословно: «событие»), имея в виду обстоятельства, благоприятствующие дальнейшим действиям. «Событие» давало знак для начала третьей, решающей фазы сражения. На этом главном этапе битвы Император бросал в дело все силы, тщательно сберегаемые до сего момента, подчас за счет нечеловеческих усилий других корпусов. Массы свежих французских войск устремлялись во фронтальную атаку на то крыло неприятеля, которое пришло в смятение вследствие флангового маневра. Теперь уже, не считаясь с затратами сил и потерями, нужно было любой ценой прорвать линии врага, вклиниться в его боевое расположение. Наконец, когда обозначился успех таранного удара основных сил, и армия противника приходила в беспорядок, начиналась четвертая фаза боя - общее наступление французской армии по всей линии. Отныне «брешь была пробита» и «равновесие нарушено», поэтому число вражеских войск, противостоящих тому или иному корпусу, не имело значения. Противник был морально сломлен, ощущение поражения охватывало его полки, части же Наполеона наступали по всему фронту с уверенностью победителей. С этого момента победа не вызывала сомнений, враг был разбит, и начинался новый этап кампании - стратегическое преследование.
Этот алгоритм победы нигде не был описан самим Наполеоном, и впервые его вывел на основе тщательного анализа сражений, данных великим полководцем, уже упоминавшийся нами историк начала XX века Камон в своей монографии «Наполеоновская война». Камон даже назвал эту схему боя «нормальным планом» Наполеона. Действительно, ряд сражений был выигран Императором точно в соответствии с описанной схемой. Классическим примером ее стопроцентной реализации является битва при Кастильоне, где молодым генералом Бонапартом были в точности выполнены все четыре фазы «нормального плана». Очевидно также, что при подготовке грандиозного сражения при Бауцене (1813 г.) Император совершенно сознательно предусматривал обходной маневр Нея именно как непременное условие для подготовки главного удара. Впрочем, вследствие нерешительных действий Нея победа при Бауцене не стала повторением Кастильоне, а имела лишь весьма ограниченные результаты. Схема битвы, подобная описанной нами, прослеживается и в сражении при Ваграме (1809 г.), где она, подобно Бауцену, принесла победу, не полностью отвечавшую ожиданиям французского полководца. Этот же маневр лежал в основе планов Эйлау, Бородина и Линьи, хотя во всех этих случаях он либо не был осуществлен по тем или иным причинам, либо не принес ожидаемого успеха.
Несмотря на повторяемость описанной схемы, нельзя, по-видимому, согласиться с Камоном, рассматривающим ее как некий шаблон, которому Наполеон следовал во всех своих наступательных битвах, а именно они, как уже отмечалось, составляли подавляющее большинство в карьере великого полководца. «Военное искусство - это простое искусство, где все заключается в исполнении, - писал Император на Святой Елене, - здесь нет ничего умозрительного, только здравый смысл и никакой идеологии»18. («Идеологией» Наполеон не без основания называл все схоластические построения, всякое заумное теоретизирование). «Нельзя и не должно ничего предписывать абсолютно. На войне не существует никакого "естественного" боевого порядка, - писал он также. - ...существует множество способов занять армией данную позицию, военный глазомер, опыт и гений главнокомандующего должны это решить, в этом его основное дело...»19
Пятьдесят больших и малых битв, данных Наполеоном - лучшее доказательство его слов. В каждой из них великий полководец исходил только из реалий данного момента: из численности своих и чужих войск, их морального и физического состояния, из стратегических императивов и свойств местности. В ответ на слова Сен-Сира, который заметил в разговоре с Императором, что «"его манера» сражения заключается в атаке на центр неприятеля, Наполеон ответил, «что он не оказывает никакого предпочтения ни атаке на центр, ни атаке на крылья, что его главный принцип это атаковать врага с максимально возможными силами...» 20
Действительно, в сражении при Риволи молодой генерал Бонапарт дает оборонительный бой на центральной позиции, в сражении при Тальяменто атакует неприятеля простой фронтальной атакой, в битве при Пирамидах строит всю армию в огромные дивизионные каре для отражения атак конницы мамелюков. Наполеон атакует при Фридланде правым крылом без всякого намека на обход, неожиданно выдвигает массы гвардейской артиллерии при Вахау, а в бою под Сомо-Сьеррой бросает в головокружительную атаку героических польских кавалеристов на вражеские батареи, расположенные на горной дороге! Практически всякий раз он ошеломляет врага каким-нибудь новым внезапным маневром, руководствуясь лишь требованиями момента и своими полководческим чутьем и интуицией. «Начинаем повсюду и потом посмотрим» (on s'engage partout et on voit), - якобы как-то сказал Император, характеризуя свою манеру вести сражения. Эта фраза требует пояснения, потому что сказана она для людей, имевших командный опыт в эпоху Первой Империи. (Для русского издания мы должны также отметить, что это изречение Наполеона при переводе часто переиначивают до неузнаваемости. «Главное ввязаться в бой, а там посмотрим», - вот наиболее частый вариант искаженного перевода, превращающего довольно разумную тактическую рекомендацию в самоуверенное бахвальство.) «Начинаем повсюду и потом посмотрим» означает, что сражение более не мыслится, как это было, скажем, в середине XVIII в., в качестве единого акта, а состоит из нескольких фаз, первая из которых, как уже говорилось, - это бой, завязываемый на максимально широком фронте частью войск с целью истощения сил неприятеля и выявления слабых мест его боевого порядка.
«Что теперь обычно делают в большом сражении? - словно специально поясняя, писал Клаузевиц. - Спокойно размещают большие массы рядом и в затылок друг другу, в правильном порядке развертывают сравнительно небольшую часть целого и дают этой части истощаться в огневом бою, прерываемом время от времени и несколько подталкиваемом отдельными небольшими ударами, штыковыми атаками и кавалерийскими налетами. После того как выдвинутая часть войск постепенно истощит таким путем свой боевой пыл и от нее останется один перегар, ее отводят назад и заменяют другой»21.
Л.Ф. Лежен Битва у Пирамид 21 июля 1798 года, © Photo RMN - Arnaudet / J. Schormans,
Одно из самых замечательных полотен Луи-Франсуа Лежена, которое он написал в перерыве между своими военными походами и деятельностью офицера штаба. На картине в точности изображены особенности построения французских дивизии для отражения атак мамелюков. Так, вместо обычного трехшереножного строя Бонанарт распорядился построить пехоту в каре, где каждый фас имел шесть шеренг в глубину.
Формула "начинаем повсюду и потом посмотрим» предполагает, что только в результате такой достаточно продолжительной фазы боя на истощение должно было приниматься решение о нанесении решительного удара. Однако, как мы уже показали, многие из наполеоновских сражений развивались исходя из плана принятого заранее, и следовательно, никак не вписываются в расхожую фразу. С другой стороны, не вызывает сомнения, что в ряде боев такого априорного плана вообще не существовало, а иногда он подвергался серьезным изменениям в соответствии с обстановкой.
Прежде чем поставить точку в краткой характеристике полководческого искусства Наполеона, необходимо коснуться еще одного вопроса - конечной катастрофы Великой Армии и Империи. Не перечеркивают ли поражение в России, Лейпциг и Ватерлоо все блестящие победы Императора, не доказывают ли они, что Блюхер, Кутузов, Шварценберг и Веллингтон стоят если не выше его по своим дарованиям, го, по крайней мере, на одном уровне?
Разумеется, в этой книге, посвященной армии, нет возможности подробно проанализировать все крупные события европейской истории этого периода, однако без их рассмотрения, хотя бы достаточно конспективного, от нет на поставленный вопрос дать невозможно.
Первым и, по всей видимости, главным внешнеполитическим просчетом Наполеона явилась его попытка использовать внутри династический конфликт в испанской королевской семье с целью поставить на престол этой страны своего брага Жозефа (весной 1808 г.). Неуклюжее вмешательство во внутренние дела Испании вызвало народное восстание, охватившее всю страну. Император был уверен, что он, принеся испанцам новые прогрессивные законы, реформировав обветшалую администрацию, отменив казавшуюся чудовищным анахронизмом инквизицию, сможет найти поддержку среди основной массы населения Испании. Что из страны отсталой и нищей Испания может стать сильной и процветающей державой... разумеется, в орбите политики Французской Империи. Но эта надежда оказалась несбыточной. Испанцы отвергли все самые логичные и рациональные нововведения только потому, что они были принесены на острие иностранных штыков. Вся страна была охвачена небывалой по ожесточению народной войной. В этой борьбе, руководствуясь своими корыстными интересами, испанцам оказало помощь английское правительство. Британские войска, высадившиеся на Пиренеях, стали тем ядром, вокруг которого могли сплотить свои силы разрозненные отряды испанской армии, ополчения и партизан. Вместо короткой полицейской операции, как мыслил себе испанскую кампанию Император, началась война затяжная, кровопролитная, стоившая огромных человеческих жертв и средств.
Крупнейший современный исследователь истории Франции эпохи Первой Империи Жан Тюлар в своих работах убедительно доказал, что именно испанская авантюра дала начало росткам недовольства среди невоенных элит наполеоновской Франции. «Кампании 1805 и 1806 гг. были ему навязаны, они вписывались в логику революционных войн и поэтому находили поддержку общественного мнения. Совсем иначе дело обстояло в отношении Испании. Французское общество... если верить рапортам префектов о настроении масс, холодно встретило испанскую авантюру... Отныне пришлось сражаться не с деспотом или аристократической кастой, а со всем народом, поднявшимся против "Антихриста", народом, одушевленным патриотической гордостью»22. Испанская кампания была непопулярна и в армии, которая, хотя и без колебаний выполняла свой долг, не испытывала восторга от малоперспективной борьбы с гордым и озлобленным народом нищей страны. Эта война стала губкой, высасывавшей силы и деньги Империи, но не только. Начало кампании на Пиренеях стало рубежом, перейдя который, Наполеон фактически должен был оставить надежду пресечь адскую цепь бесконечных войн между Францией и старой Европой. После Тильзита можно было надеяться, что союз двух великих империй, Российской и Французской, позволит принести мир на континент и поставить Англию в положение, когда она вынуждена будет рано или поздно сложить оружие. Теперь такая надежда была утрачена. Англичане совершенно не могли допустить гигантского усиления мощи Французской Империи, которое дала бы Наполеону власть над Пиренеями. Этого боялись в Вене и абсолютно не принимали в Петербурге. Ряд неудач французских генералов в Испании и прежде всего печально знаменитая Байленская капитуляция (июль 1808 г.), значение которой было раздуто до чудовищных размеров испанскими патриотами и английской пропагандой, разрушили в глазах европейского общественного мнения ореол непобедимости Великой Армии. Они ослабили узы русско-французского союза, возродили при дворах старой Европы угасшие было надежды на победоносную войну против Франции.
В начале 1809 г. австрийские политики, уверенные, что силы Наполеона безвозвратно подорваны испанской экспедицией, предприняли попытку взять реванш за свои бесконечные поражения в предыдущих войнах. Известие о подготовке нападения на Францию застало Наполеона 2 января 1809 г. неподалеку от испанского местечка Асторга. Император, только что лично появившись на Пиренейском полуострове, как всегда, громовым ударом ошеломил всех врагов. Испанские регулярные войска были рассеяны в нескольких сражениях, а англичане поспешно отступали к своим кораблям в порту Корунья. Оставалось лишь нагнать бегущую уже в панике армию сэра Джона Мура, прижать ее к морю и разгромить так, чтобы навсегда отбить у джентльменов с туманного острова желание нарушать спокойствие континента... Увы, тревожные новости из Германии заставили Императора бросить почти завершенную победоносную операцию и срочно отбыть в Париж, чтобы готовить новые полки для отражения австрийского удара. Вероятно, это решение великого полководца было не слишком удачным. Ему оставалось лишь несколько дней до того момента, когда французская армия, одушевленная его присутствием и одержанными победами, должна была прижать английские полки к скалистым берегам и сбросить их в море. Задержка возвращения Наполеона в столицу Франции на 8-10 дней, вероятно, не явилась бы трагедией для подготовки нового похода в Австрию. Зато его отсутствие в рядах войск, преследовавших армию Мура, оказалось решающим. Если солдаты и младшие офицеры все так же жаждали схватиться с вечно ускользающим врагом, то у высшего командования и прежде всего у ответственного за продолжение операции маршала Сульта словно опустились руки. Преследование стало осторожным, неторопливым, вялым... В результате, хотя британские войска и понесли немалые потери - в бою под Коруньей погиб даже генерал Мур, - однако англичане сумели погрузить на корабли свои главные силы. В общем, можно сказать, что солдаты туманного Альбиона отделались легким испугом по сравнению с той катастрофой, которая неминуемо настигла бы их в случае присутствия Наполеона в рядах преследующей армии. Эта ограниченная неудача не могла серьезно повлиять на дальнейшую политику британского кабинета, и армия, погрузившаяся на суда в Корунье, усиленная подкреплениями и снабженная всем необходимым, вскоре появится в другом пункте Пиренейского полуострова - в Лиссабоне. Во главе ее будет стоять новый полководец - лорд Уэллесли, будущий герцог Веллингтон, которому будет суждено сыграть в истории наполеоновской Империи роковую роль...
Но это было еще далеко впереди, а пока события показали австрийским генералам, что они слишком рано хоронили льва. В блистательном с точки зрения военного искусства походе 1809 г. Император разгромил силы габсбургской монархии. Более того, Шенбруннский мирный договор не только юридически оформил поражение Австрии, но и фактически включил ее в орбиту политики Великой империи Запада.
Однако новая славная кампания явственно показала трудности войны на два фронта, ставшей фатальной. Хотя не стоит, очевидно, драматизировать ухудшение боевого потенциала французской армии по сравнению с несколько идеализируемыми «аустерлицкими солдатами», нет сомнения, что присутствие на Пиренеях части лучших полков не могло хотя бы в известной степени не обескровить главные силы. А армия в Испании требовала все новых и новых подкреплений. Вот что писал в это время один из офицеров уже знакомого нам 32-го линейного полка: «Каждый день мы теряем отборных солдат, которых так сложно заменить. Наши батальоны редеют в бесконечных мелких экспедициях и эскортах, а когда солдата не находит смерть от пули, их настигают голод и лишения... 32-й похож на бездонную бочку. Наполеон вливает туда новых и новых солдат, но никак не может ее наполнить» 23.
Особенно важно, что события на Пиренеях изменили и русско-французские отношения. Хотя в 1809 г. Россия и выполнила символически свой союзнический долг, выставив 30-тысячный корпус против австрийцев, с каждым месяцем отношения между державами становились все более и более прохладными.
А.-Э.-Г. Роэн. Встреча Наполеона I и Александра I на Немане 25 июня 1807 г. Версальский музей.
У нас нет возможности анализировать здесь весь сложный спектр русско-французских отношений в 1809-1812 гг., однако необходимо отметить, что именно война в Испании, сделавшая окончательно непримиримым британский кабинет и спровоцировавшая войну 1809 г., во многом повлияла на позицию Александра I по отношению к Наполеону. Известно, что царь испытывал неприязнь к коронованному солдату, славе которого завидовал черной завистью. Война отца Александра, Императора Павла I, против Франции Директории еще полностью вписывалась в линию войн монархических государств против революционной заразы. Более того, Император-рыцарь выступал как самый искренний и последовательный проводник этой линии. Поняв, что английским и австрийским кабинетами руководят больше корыстные соображения, чем стремление спасти монархические принципы, Павел вышел из игры, не позволив проливать более кровь русских солдат за чуждые стране интересы. Напротив, Александр сражался во имя очень странных принципов, далеких от интересов русского народа и даже русской монархии. Нам кажется, никто не смог так точно сформулировать мотивы его поведения, как выдающийся русский историк Николай Иванович Ульянов: «В исторической литературе давно отмечен фанатизм этой загадочной ненависти и существует немало попыток ее объяснения. Самое неудачное то, которое исходит из экономических и политических интересов России. У России не было реальных поводов для участия в наполеоновских войнах. Европейская драка ее не касалась, а у Наполеона не было причин завоевывать Россию. Веди себя спокойно, занимайся собственными делами, никто бы ее пальцем не тронул.
Не более убедительна и другая точка зрения, объясняющая войны России с Директорией и бонапартистской Францией реакционными склонностями русских царей. Только война Павла I могла бы подойти под такое толкование, да и то с трудом. Александр же меньше всех походил на борца с революционной заразой, он еще до вступления на престол поражал иностранцев негодующими речами против "деспотизма" и преклонением перед идеями свободы, закона и справедливости. Конечно, цена его либерализму известна, и вряд ли приходится возражать тем историкам, которые считали его маской, но такая маска годится для чего угодно, только не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у него не было никаких принципов и убеждений»24.
Роковая война в далекой Испании, где погибал цвет наполеоновской армии, дала надежду Александру взять реванш за Аустерлицкий разгром, поражение под Фридландом и Тильзитский мир. Последний не лишил Россию ни пяди земли, напротив, дал ей сильного и могущественного союзника, позволил оккупировать Финляндию, Молдавию и Валахию, но тем не менее рассматривался аристократическим Петербургом как позорный. Начиная с 1810 г. в высших слоях российского руководства появляются планы превентивной войны против Французской Империи. Вот как, абсолютно согласуясь с нашей концепцией ситуации, излагал в феврале 1811 г. подобный план генерал Беннигсен в проекте, адресованном Александру I: «Не лучше ли ей (России) предупредить своих неприятелей наступательной войной... Наиболее полезно овладеть Варшавою (коей потеря поразила бы и обезоружила часть поляков, не благорасположенных к России)... Итак, ясно видно, что Наполеон на первый случай не может иметь более как 90 тысяч французов в своем распоряжении на войну с русскими... прибавим к сему, что, оставаясь в оборонительном положении, дадим мы полякам увеличить их войска, между тем как наступательными действиями, если не успеем мы истребить или рассеять польской армии, то по крайней мере уменьшим ее гораздо, обезоружа оную хотя бы частью... Ко всему этому, что изъяснил я, кажется мне, что власть Наполеона никогда менее не была опасна для России (sic!), как в сие время, в которое он ведет несчастную войну в Гишпании и озабочен охранением большого пространства берегов...»25
В не менее двусмысленном тоне составлен и другой документ, направленный Александру I. Это «Политический мемуар» одного из его советников, некоего Д'Аллонвиля. Здесь прямо говорилось, что необходимо «...начать наступление, вторгнувшись в герцогство Варшавское, войдя по возможности в Силезию, и вместе с Пруссией занять линию Одера, чтобы заставить выступить германских князей и возбудить восстание на севере Германии. 2. Расформировать польское правительство, рассеять его вооруженные силы... и безжалостно разорить герцогство (!), если придется его оставить... 9. Нападать только с подавляющим превосходством сил и выгодой ситуации... Нельзя терять из виду, что человек, с которым мы воюем, соединил силы старой Франции с завоеваниями новой Франции и силами организованного якобинизма, который составляет сущность его власти. Мало поэтому поставить препятствие на пути столь большой мощи, но необходимо ее уничтожить»26.
Уже в начале 1811 г. эти теоретические соображения перешли в область практических действий. К западным границам Российской империи двинулись колонны пехоты и кавалерии, потянулись вереницы артиллерийских обозов. Разумеется, приготовления русских не остались незамеченными. Маршал Даву, командующий Эльбским обсервационным корпусом (т. е. силами наполеоновской армии, расквартированными на территории Германии), направлял Императору один рапорт тревожнее другого. «Нам угрожает скорая и неизбежная война. Вся Россия готовится к ней. Армия в Литве значительно усиливается. Туда направляются полки из Курляндии, Финляндии и отдаленных провинций. Некоторые прибыли даже из армии, воевавшей против турок... В русской армии силен боевой дух, а ее офицеры бахвалятся повсюду, что скоро они будут в Варшаве...» (3 июля 1811г. из Гамбурга).
Спустя всего несколько дней Даву снова писал: «Сир, я имею честь адресовать Вашему Величеству последние рапорты из Варшавы. В ближайшие дни вышлю расписание четырех корпусов русской армии, а также местонахождение их полков, согласно различным рапортам... Вероятно, эти рапорты сильно преувеличены, ибо согласно им в Ливонии и Подолии собрано более двухсот тысяч солдат, но ясно, что силы русских там очень значительны...» 27
Император выжидал. 15 июля он пишет министру иностранных дел: «Господин герцог де Бассано, пошлите курьера в Россию, чтобы ответить на присланные графом Лористоном депеши... скажите, что я готов уменьшить данцигский гарнизон и прекратить вооружения, которые мне дорого стоят, если Россия со своей стороны сделает нечто подобное; мои приготовления имеют оборонительный характер и вызваны вооружением России...»28
Но навстречу шли только новые тревожные донесения:
«Князь Экмюльский (Даву) Императору
Гамбург.
Сир, я имею честь передать Вашему Величеству рапорты из Варшавы.
Князь Экмюльский...
Августово, 27 июня 1811 года. Раньше повсюду говорили, что приготовления на границах герцогства - это лишь мера предосторожности русских, вызванная перемещением польских войск, теперь русские открыто говорят о вторжении в герцог - ство по трем направлениям: через Пруссию из Гродно на Варшаву и через Галицию...
(Интересно, что именно эти направления наступления указывались во многих проектах русского командования.)
Рапорт Лужковской таможни (на Буге) 6 июля 1811 года. Три офицера из дивизии Дохтурова осматривали границу по Бугу... Русские жители и казаки уверяют, что эти офицеры приехали выбирать место для лагерей и что скоро русская армия вступит в герцогство.
Рапорт изХрубешова 27 августа 1811 года. Письма, полученные из России, возбуждают разговоры о приближающейся войне... Повсюду в окрестностях ожидается прибытие новых войск (русских), для которых приготовляются запасы...
Рапорт генерала Рожнецкого из Остроленки 31 августа 1811 года...Новости с северной границы Ломжинского департамента подтверждают то, что уже много раз говорилось: большое количество повозок циркулирует между Пруссией и Россией. Ни от кого не скрывают, что речь идет о боеприпасах»29.
Необходимо отметить, что в то время, когда силы русской армии на границе достигли уже двух сотен тысяч человек, вся группировка Даву насчитывала не более 70 тыс. К этим силам надо приплюсовать примерно 50 тыс. солдат войска герцогства Варшавского.
Для Наполеона не оставалось более сомнений - русский царь готовится к нападению. 15 августа на торжественном приеме в Тюильри по случаю своего дня рождения Император французов обратился к русскому послу Куракину с угрожающей речью: «Я не хочу войны, я не хочу восстановить Польшу, но вы сами хотите присоединения к России герцогства Варшавского и Данцига... Пора нам кончить эти споры. Император Александр и граф Румянцев будут отвечать перед лицом света за бедствия, могущие постигнуть Европу в случае войны. Легко начать войну, но трудно определить, когда и чем она кончится...»
Этот разговор был воспринят многими как объявление о разрыве с Россией, и действительно, с этого момента Наполеон принимает решение готовиться к войне и в январе 1812 г. отдает распоряжение о концентрации дивизий Великой Армии.
Если решение Наполеона о вмешательстве в испанские дела вполне можно рассматривать как грубую политическую ошибку и как несправедливый акт насилия, подготовку к русскому походу сложно квалифицировать подобным образом. Император французов не мог избежать этой войны, т. к. ее готовил и страстно желал Александр I. Единственное, что мог выбирать Наполеон в начале 1812 г., это либо пассивно ожидать нападения, которое без сомнения произошло бы в самый неподходящий для него момент, либо попытаться упредить своего противника.
Мысль о том, что Наполеон ни за что ни про что ворвался в пределы России, быть может, подходит для учебника начальных классов, но никак не выдерживает ни малейшего сопоставления с очевидными фактами. Любой объективный историк, изучающий политические и военные события этого гигантского противостояния, не сможет уйти от того обстоятельства, что в русском штабе в 1810-1811 гг. постоянно обсуждались планы нападения на герцогство Варшавское с дальнейшим привлечением на свою сторону Пруссии и возбуждением и поддержкой националистических движений в Германии с конечной целью полного разгрома наполеоновской Империи. Невозможно уйти от того факта, что русские войска сконцентрировались на границах почти на год раньше Великой Армии, а характер дислокации русских корпусов не допускает никакого двоякого толкования - армия Александра готовилась к наступательным операциям. Русские полки стояли, буквально уткнувшись носом в пограничные рубежи, что было бы совершенно немыслимо, если бы они готовились к действиям в рамках стратегической обороны, пусть даже активной.
Достаточно открыть том корреспонденции Наполеона, относящейся к началу 1812 г., чтобы абсолютно однозначно заключить: чуть ли не до самого июня 1812 г. Наполеон был уверен, что русские войска будут наступать. 16 марта 1812 г. Наполеон излагал свои соображения Бертье по поводу предполагаемого русского наступления: «Первый корпус выдвинется на рубеж реки Алле и будет угрожать флангу армии (русской), наступающей на Варшаву через Гродно»30. Ни в марте, ни в апреле 1812 г. русская армия не перешла границ, но военная машина империи Наполеона, запущенная в дело, уже не могла остановиться. Из Италии и Испании, с берегов Северного моря и Адриатики шли сотни тысяч солдат, катились пушки, поднимали пыль на дороге тысячи лошадиных копыт. Обратного пути уже не было... Император отныне сделал ставку на быстрые и активные действия, теперь он видел целью кампании короткий стремительный удар по русским войскам, сосредоточенным на границе, их разгром и заключение победоносного выгодного мира. Ни о каком походе в глубь страны, а тем более движении на Москву, нет ни слова в самых секретных его приказах маршалам и генералам.
«Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги, если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце», - якобы сказал Наполеон накануне похода. Увы, весь этот анатомический театр с хватанием за голову, ноги, руки, сердце, желудок и т. д. появился под пером позднейших мемуаристов, отражавших собственные взгляды и политические реалии совсем других времен. Ни в одном приказе того времени, а их было великое множество, не упоминается никакая «часть тела» Российской империи, зато постоянно присутствуют такие географические названия, как Висла, Варшава, Торн, Данциг, Мариенвердер и т. д. А ведь эти приказы писались не для прессы, не для пропагандистских листовок и не для позднейших исторических сочинений, а служили секретными руководствами к действию для командования Великой Армии.
К началу июня 1812 г. Император уже не сомневался, что ему придется первому форсировать Неман, но даже в это время, в письмах от 26 мая и 5 июня брату Жерому он излагает концепцию будущих боевых действий следующим образом: «Я поручаю вам защиту мостов в Пултуске и Сироцке, на Нареве и Буге, потому что в моем выдвижении я дам неприятелю возможность наступать до Варшавы...»31 Еще яснее Наполеон выражается в следующем письме, где он рекомендует брату «заставить всех предполагать, что вы будете двигаться на Волынь и приковать противника как можно дольше к этой провинции, в то время как я обойду его правый фланг... Я перейду Неман и займу Вильну, которая будет первой целью кампании... Ког да этот маневр будет замечен неприятелем, он будет либо соединяться... чтобы дать нам битву, либо сам начнет наступление... Во втором случае, когда... враг будет под стенами Праги (предместье Варшавы) и на берегах Вислы, ...я охвачу его... и вся его армия будет сброшена в Вислу...»32 Наконец, даже 10 июня в письме, адресованном Бертье, Император выражает уверенность, что русские вторгнутся на территорию герцогства Варшавского с целью овладеть его столицей: «В то время, как враг углубится в операции, которые не дадут ему никакого выигрыша, ибо по здравому рассуждению он упрется в Вислу и проиграет нам несколько маршей, левое крыло нашей армии, которое должно перейти Неман, обрушится на его фланг и на тылы раньше, чем он сможет отступить...» 33
Рапорты Рожнецкого, Сокольницкого и других не прошли бесследно. В первых числах июня (всего за несколько дней до вторжения!) он уверен, что русская армия будет контратаковать. Впрочем, так уж ли он заблуждался? Буквально в эти же дни (20 июня) князь Багратион писал Александру I: «Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь... Прикажи, помолясь Богу, наступать...» 34
Часто к числу самых серьезных военно-политических просчетов Наполеона относят его поход на Москву. Однако все вышесказанное подводит нас к следующему выводу: Император не желал войны с Россией, когда же вынужден был ее начать, он мыслил операцию лишь только в качестве грандиозного пограничного сражения, будь то на территории Польши, будь то на территории Литвы. Он нисколько не сомневался в том, что русские войска не только не будут отступать, а наоборот, скорее попытаются предпринять активные действия. Чтобы сокрушить противника, Наполеон сосредоточил армию, численно почти что двукратно превосходящую русские войска и имел полные основания надеяться, что у него есть 90% шансов на успех...
Однако события стали развиваться по совершенно иному сценарию. Вместо того, чтобы ринуться навстречу французам или оборонять рубежи Литвы, русские начали стратегическое отступление. Это движение армий Барклая и Багратиона расстроило план французского полководца. Война приобретала совершенно иной характер.
Концепция Наполеона была построена на недостаточно полных сведениях его разведки, не отражавших существовавшие в русском штабе другие варианты ведения войны, в частности возможность стратегического отступления. Таким образом, план Императора был просчетом, однако его мотивы вполне понятны. Наполеон исходил из имеющейся у него информации и действовал так же, как в кампаниях, где он добивался блестящих побед.
Многие авторы, рассказывая о безрезультатных маневрах Великой Армии в первый период кампании, обращают внимание прежде всего на безуспешную попытку французского командования отрезать и разбить армию Багратиона. Нам кажется, что преследование 2-й Западной армии было для Наполеона лишь попыткой добиться хотя бы частичного успеха в обстановке, когда главная задача не была решена. Вероятно, Император понял, что просчитался уже 28 июня, в момент вступления в Вильну, которую Великая Армия заняла почти без боя. Не случайно поэтому Наполеон оставался в Вильне почти три недели (19 дней) -факт совершенно необъяснимый, если полагать, что целью похода было вторжение в глубь России и занятие ее столицы. Напротив, эта странная апатия Императора как нельзя лучше объясняется абсолютно неожиданным для него поведением русских. Без сомнения, в Вильне он понял, что все его планы строились на недостаточно полной информации и что война приобретает совершенно иной оборот. Очевидно, что в подобной обстановке ему очень непросто было принять решение, идущее вразрез с его первоначальной концепцией.
С этого момента начинается погоня за миражом, за исчезающей каждый день надеждой заставить основные силы русских дать генеральное сражение. Как известно, у русского командования нашлось достаточно здравого рассудка, чтобы не быть втянутым в решающую битву поблизости от границ. Наполеон вынужден был продолжать наступление, которое с каждым днем становилось все более рискованным и в конечном итоге обернулось катастрофой.
Часто Императора критикуют за то, что он вовремя не остановился, не начал методичную войну, последовательно оккупируя территорию, подготавливая каждый шаг вперед, за то, что он не перешел к тотальной войне против Александра, провозгласив освобождение крепостных крестьян, решительно декларировав независимость Польши и т. д. Нам кажется, что из приведенных выше фактов очевидно, что именно такую войну Наполеон вести не хотел, психологически не был готов и просто-напросто не мог, имея где-то далеко позади пылающую Испанию. Ему необходимо было стремительно разрубить гордиев узел русско-французских противоречий, иначе бездна разверзлась бы под его ногами. Вторжение в глубь России, поход на Москву были без сомнения авантюрой, но другого выхода у Наполеона практически не оставалось...
Гибель Великой Армии в России, поражения на испанском театре военных действий, связанные в частности с тем, что в период подготовки русской кампании многие полки были переброшены из глубины Пиренейского полуострова на поля России - все это в корне изменило соотношение материальных сил противоборствующих сторон на континенте. Изменился также и баланс моральных величин (см. гл. XI и гл. XII). Отныне силы, противостоящие армии Наполеона, были слишком велики, а в 1814 г. их соотношение стало просто удручающим для Императора французов (в начале 1814 г. на главном театре военных действий менее 60 тыс. французских солдат должны были сдерживать вторжение 250-тысячной армии союзников). Франции как в 1793 г. противостояла вся Европа: Англия, Россия, Пруссия, Австрийская империя, Испания, Швеция, Португалия... Однако, если в 1793 г. в рядах коалиции не было абсолютного единодушия, в 1813-1815 гг. союзники твердо знали свою цель. Если в период революционных войн неприятельские армии были архаичными структурами века минувшего, а их солдаты были глубоко безразличны к делу, за которое они сражались, то теперь полки союзников, перестроенные и реформированные на новый манер, вел в бой патриотический порыв, а то и просто яростная ненависть к французам.
Неудивительно, что в этой ситуации все проблески гения Императора, вся его гигантская сила воли и работоспособность оказались бессильными. Однако Лейпциг, вступление союзников в Париж и Ватерлоо не перечеркивают достоинства Наполеона-полководца, они лишь показывают, что даже у титанического гения есть свои пределы. Причинами поражения наполеоновской армии и гибели Империи являются не несостоятельность полководца, а глобальный просчет политика. Ввязавшись в 1808 г. в испанские дела, Наполеон и не подозревал, какие спящие силы он разбудил, в какую бездну вверг свою Империю. Среди его высказываний на Святой Елене, к которым, как мы уже не раз отмечали, надо относиться более чем критически, есть тем не менее одно, указывающее на корень и первопричину его конечного падения лучше, чем многие сотни томов позднейших исторических сочинений: «Вся причина моих катастроф заложена в этом фатальном узле. Испанская война подорвала мой престиж в Европе, увеличила мои затруднения, послужила школой для английских солдат... Самая большая ошибка, которую я когда-либо допустил - это испанский поход» 35.
1 Цит. по: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М, 1938, т. 4, с. 289.
2 Ibid.
3 Клаузевиц К. О войне. М., 1936, т. 1, с. 56.
4 Дельбрюк Г. Op. cit., т. 4, с. 423.
5 Цит. по: Camon. La guerre napoléonienne. P., 1907, p. 5.
6 Ibid., p. 141-142.
7 Correspondance... t. 11, p. 275.
8 S. H.A. T. C217.
9 Alombert P. C, Colin J. La campagne de 1805 en Allemagne. P., 1902-1908, t. 2, p. 350.
10 Ibid., t. 3, p. 299.
11 Correspondance... t. 11, p. 324.
12 Extraits de la relation de la prise d'Ulm, sur le manuscrit original de M. D..., capitaine d'etat-major au service d'Autriche. // Journal des sciences militaires des armées de terre et de mer. 1827, t. 8, p. 79-80.
13 Marmont A.-F.-L.-V. Memoires de 1792 a 1841. P., 1857, t. 2, p. 193.
14 Camon. Op. cit., p. 11.
15 Correspondance... t. 31, p. 210-227.
16 Цит. по: Napoleon Bonaparte, l'ceuvre et l'histoire. Sous la direction de Jean Massin. P., 1969, t. 4, p. 148.
17 Gouvi on Saint-Cyr L. de. Memoi res pour servir a l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. P., 1831, t. 4, p. 41.
18 Correspondance... , t. 30, p. 263.
19 Correspondance..., t. 31, p. 380, 413.
20 Gouvion Saint-Cyr L. de. Op. cit., p. 41.
21 Клаузевиц К. Op. cit., t. 1, p. 252.
22 Tulard J. Napoleon. P., 1977, p. 448.
23 Souvenirs d'un sous-lieutenant (MaignalB.H.) II Histoire d'un regiment. La 32еdemi-brigade (1775-1890), p. 188-189.
24 Ульянов Н. И. Александр I - Император, актер, человек. // Ро дина. 1992, № 6-7, с. 144.
25 Материалы Военно-Учетного Архива Главного Штаба. Отечественная война 1812 г. Отдел I. Переписка русских правительственных лиц и учреждений, т. 2, с. 86-93.
26 Fabry G. Campagne de Russie. P., 1900-1903, t. 1, p. IV, VII.
27 Margueron. Campagne de Russie, 1810-1812. P., s d., t, p. 22, 29.
28 Correspondance... t. 22, p. 327.
29 Margueron. Op. cit., p. 50, 51, 187, 188.
30 Correspondance..., t. 23, p. 314.
31 Correspondance... t. 23, p. 435.
32 Ibid., t. 23, p. 470-471.
33 Ibid., t. 23, p. 480.
34 Цит. по: Дубровин Н. Э. Отечественная война в письмах совре менников, 1812-1815 гг. СПб, 1882.
35 Correspondance... t. 32, p. 330.
Глава IX. ШТАБЫ И КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСКАМИ. ИМПЕРАТОР ВО ГЛАВЕ АРМИИ
Для сотрудников штаба нет рабочего и нерабочего времени. Каждый должен отдавать работе все свои силы и все свое время. Когда дел много, надо проводить ночи напролет за работой, отдых будет лишь тогда, когда позволят обстоятельства. Единственное, о чем нужно думать, - это благо службы.
Бертье
«Только хорошо налаженная работа штабов обеспечивает в армии четкое функционирование всех ее элементов, только она может спасти от путаницы, упорядочить, расставить все на свои места и пролить благодатный свет на ансамбль сложных военных операций»1, - таким высоким стилем генерал Тьебо предваряет свою знаменитую в эпоху Империи книгу, посвященную организации штабной работы.
Действительно, без огромной слаженной машины генерального штаба, без напряженной работы штабных офицеров всех рангов в корпусах и дивизиях невозможно было бы реализовать ни один из маневров, описанных в предыдущих разделах. Как был устроен штаб, каковы были функции основных составляющих его звеньев, как жила на походе и в боях ставка Великой Армии? На все эти вопросы мы попытаемся дать ответ в данной главе.
Обычно описание работы штаба наполеоновской армии начинают с генерального штаба и императорской ставки, и это вполне понятно ввиду их первостепенной значимости. Однако необходимо заметить, что генеральный штаб в эпоху Наполеона представлял собой необычайно сложный организм, который был в основном составлен из элементов, присущих штабам всех рангов. Но здесь они находились в весьма непростой взаимосвязи, а кроме того, к ним были добавлены члены, совершенно отсутствовавшие в прочих штабах. Все это делало структуру генерального штаба крайне сложной, кажущейся безнадежно запутанной для неискушенного человека. Поэтому, хотя с точки зрения иерархии было бы правильно начинать наше описание с головы армии, для понимания механизма штабной работы такой порядок был бы трудно приемлем. Читатель, перегруженный бесконечным перечислением чинов, должностей и функциональных обязанностей лиц, составлявших главную квартиру Великой Армии, рискует окончательно запутаться. В худшем случае он отложит главу в сторону, а в лучшем - сохранит в памяти небольшую часть из груды информации, так и не получив представления о том, чем же занимались в штабах императорской армии.
Поэтому мы решили поступить иначе. Начнем с организации работы штаба на более низком уровне - армейского корпуса или, ещё лучше, небольшой армии (примерно соответствующей по численности корпусу), оперирующей отдельно. Уяснив себе структуру и принципы работы этого органа, легко будет, добавив некоторые звенья, представить и функционирование самого генерального штаба.
Для начала охарактеризуем само понятие штаб. Упомянутый нами генерал Тьебо в своем «Генеральном учебнике службы армейских и дивизионных штабов» так определяет штаб в широком смысле этого слова: «Совокупность всех военнослужащих и военных чиновников, не входящих в состав частей» 2. Согласно этому определению к штабу относился весь генералитет, офицеры и унтер-офицеры, не приписанные к конкретным частям, а также административный персонал. В более узком смысле штаб - это «все офицеры и унтер-офицеры, которые по природе своих функций обязаны передавать приказы вышестоящего начальства, при котором они состоят, проверять их исполнение, исполнять их сами, а также поддерживать во всех ветвях службы установленный порядок соблюдения законов и регламентов»3.
Для осуществления этих задач Законодательная ассамблея постановлением от 29 октября 1790 г. провозгласила создание специального отряда офицеров, предназначенных для штабной работы. Эти офицеры получили наименование «adjudants-generaux». Так как перевод этого словосочетания важен для понимания данной главы, мы не выносим его в примечание, а даем непосредственно в тексте. «Adjudant-general» обычно переводят словосочетанием «генерал-адъютант», что абсолютно неправильно. Этот термин является не столько обозначением звания, сколько определением функциональных обязанностей, дословно его можно перевести как «генеральный помощник». Напомним, что во французской армии эпохи Революции и Империи не существовало еще четкого различия между званием и должностью, что составляет основу иерархий большинства армий XX в. Так, например, полковник в современных французских или российских вооруженных силах может командовать полком или бригадой, работать при штабе или в военном министерстве, заведовать госпиталем, музеем или архивом, сохраняя при этом одно и то же звание. Несколько по- другому обстояли дела в описываемую нами эпоху. Офицеры, служившие при штабе, носили специфические звания. В частности, упомянутый нами термин обозначал в большинстве случаев, что его носитель является штабным офицером в звании полковника, если после слова «adjudant-general» не было дополнительного термина. Реже, когда после «adjudant-general» стояло «chef de bataillon», это означало, что данный офицер является штабным работником в звании командира батальона. Последний пример подтверждает, казалось бы, что речь идет о должности, ведь к термину «adjudant-general» добавлено еще название чина данного офицера. Однако это не так. Штабного полковника в эпоху Империи никогда не называли «colonel», также как остальных офицеров его ранга, командовавших полками. Adjudant-general (а позже adjudant-commandant) было и званием, и должностью. Мы привели это пространное пояснение, чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Запомним лишь, что правильный перевод термина «adjudant- general» - «полковник штаба». Позже, в IX году Республики, была создана новая когорта штабных офицеров меньшего ранга - adjoints a l'etat-major - капитанов штаба. Понятие adjoints a l'etat-major, или дословно «помощники при штабе», означает, если оно не сопряжено с наименованием особого чина, «капитан штаба». В случае, если к словосочетанию «adjoints а l'etat-major» добавляется то или иное звание, как-то: chef de bataillon или lieutenant, оно означает офицера данного звания, состоящего при штабе. Означенные офицеры продолжали существовать и в эпоху Империи, с той лишь разницей, что adjudant-generaux были переименованы в adjudant-commandant. Переименование не коснулось никоим образом ни положения этих людей в армейской иерархии, ни круга их обязанностей, а было сделано исключительно в психологических целях. Первый консул, а затем Император, не желал, чтобы штабные полковники использовали созвучие своего наименования adjudant-general со словом генерал (general) в целях престижа, что нередко практиковалось штабными офицерами, особенно на территории завоеванных стран или союзных государств, где государственные служащие или персонал муниципалитетов часто не имели никакого понятия о иерархии званий во французской армии. Полковники штаба, пользуясь своим богато расшитым мундиром и подчеркивая лишь вторую часть наименования своего чина-должности, нередко представлялись генералами, требуя от муниципалитета какого-нибудь итальянского городишки соответствующих почестей, расположения на постой в шикарных особняках, а то и просто щедрых подношений. Наполеон же не только не желал, чтобы штабные офицеры в равном звании с командиром кавалерийского или пехотного полка пользовались большими почестями, чем последние, но, напротив, всеми силами стремился поднять престиж командиров части и по возможности уменьшить выгоды положения штабных офицеров, имевших, как нетрудно догадаться, по роду своей службы тесный контакт с самыми высокопоставленными лицами военной иерархии.
Персонал штабов не ограничивался этими офицерами - специалистами по штабной службе, которых в армии насчитывалось несколько сотен (число adjudants-commandants варьировалось от 118 в 1805 г. до 153 в 1813 г., a adjoints a l'etat-major насчитывалось около двухсот). Наряду с ними имелись многочисленные категории офицеров, чиновников военной администрации и обслуживающего персонала, состоящих при главной квартире корпуса (армии).
Перечислим их всех по порядку.
Главнокомандующим корпуса или отдельно действующей армии был обычно маршал Империи, который, как ясно из вышесказанного, формально входил в число офицеров штаба, хотя, конечно, собственно штабным работником не являлся. Зато его адъютанты в количестве до десяти составляли одну из важнейших частей этого аппарата.
Начальником штаба корпуса и, следовательно, действительным руководителем всех штабных служб был обычно дивизионный или бригадный генерал, его заместителем - либо бригадный генерал, либо.полковник штаба.
Под командой начальника штаба состояло от двух до четырех штабных полковников, руководивших тем или иным отделом, а в их распоряжении - примерно двойное количество капитанов (adjoints a l'etat-major).
Параллельно с основным штабом корпуса (армии) в распоряжении главнокомандующего состоял командир артиллерии в чине генерала со своим штабом (обычно под командованием штабного полковника), а также начальник инженерных войск, также с подчиненным ему штабом.
Необходимо отметить, что у каждого из генералов, служивших в главной квартире корпуса (армии), были свои адъютанты: трое у дивизионного генерала и двое - у бригадного. Эти адъютанты не только исполняли поручения своих начальников, но и принимали участие в общей работе штаба.
При штабе состояло обычно значительное количество сверхштатных офицеров (officiers a la suite). Эти военнослужащие, в числе которых могли находиться и генералы, предназначались как для замещения вакансий, открывавшихся вследствие смерти, ранений или болезни штабных офицеров, так и для того чтобы выполнять поручения маршала, связанные с командованием отдельно действующими частями и подразделениями. Им также поручалось возглавлять посылаемые в сторону от корпуса отряды, быть комендантами занятых армией и остающихся на ее коммуникациях городов, возглавлять гарнизоны крепостей и фортов. Одновременно все сверхштатные офицеры в напряженные периоды операций могли привлекаться к штабной работе, особенно в момент боя.
Немаловажную часть всех штабов составляла группа так называемых инженеров-географов, ответственных за составление карт и планов местности, где разворачивались боевые действия. Учрежденные еще при Старом Порядке, упраздненные в эпоху Революции и воссозданные в качестве специальных военных служащих декретом Конвента 22 февраля 1793 г., инженеры-географы в эпоху Империи были окончательно приравнены к офицерам штаба (30 января 1809 г.). Наряду с чисто топографической работой инженерам-географам поручались и художественные задания. Так как практически все они были отличными рисовальщиками, ими не раз выполнялись зарисовки местности, где велись бои, и неоднократно, порой под пулями и ядрами неприятеля, они делали карандашные наброски и самих сражений, по которым позже делались акварели и картины маслом, воспроизводящие с высокой точностью исторические события и выполненные с тонким художественным вкусом. Эти работы инженеров-географов стали сейчас поистине сокровищницей знаний о Наполеоновской эпохе. Произведения инженеров-географов Бакле д'Альба (начальника личной топографической службы сначала Первого консула, а впоследствии Императора), Баджетти и Адама украшают страницы и этой книги.
В число штабных офицеров входил комендант главной квартиры, ответственный за порядок в штабе. В этой деятельности коменданту главной квартиры помогал отряд жандармерии, состоявший при штабе и находившийся под командой жандармского офицера.
Наконец, в распоряжении начальника штаба была целая группа военных чиновников, ответственных за различные отрасли административных служб. Это были чиновники, занимавшиеся снабжением провиантом, фуражом, чиновники, ответственные за госпитали, чиновники почтовой службы, корпусный (армейский) казначей и т.д., а также военные медики и фармацевты. За многочисленные обозы как штаба, так и самого корпуса (армии) отвечал вагенмейстер с подчиненными ему офицерами.
Безопасность штаба обеспечивал эскорт - отряды, составленные чаще всего из элитных рот кавалерийских, а иногда и пехотных полков, входящих в данный корпус.
Планшет 5. Офицеры штаба: справа - полковник штаба (adjudant-commandant), слева - капитан штаба (adjoints a l'etat-major). Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Структура штаба корпуса.
Кроме того, штаб дополняли ординарцы: младшие офицеры, унтер-офицеры, а иногда и рядовые, отряженные в распоряжение штаба из различных частей. Им поручалась передача не очень важных пакетов, обычно в пределах расположения данного корпуса (армии).
Таков основной перечень офицеров, унтер-офицеров, рядовых и чиновников, составлявших корпусной штаб, насчитывавший обычно в общей сложности 50-60 офицеров, полтора десятка чиновников и сотни унтер-офицеров и рядовых. Разумеется, численность штаба зависела от численности и значимости самого корпуса и могла варьироваться в довольно широких пределах. В качестве примера в приложении можно ознакомиться с точными списками ряда корпусных штабов Великой Армии 1805 г.
Вероятно, внимательно ознакомившись с этим перечнем офицеров и чиновников штаба, читатель может решить, что большая часть этих господ предавалась блаженному безделью, а их служба была бесполезной синекурой. Реальность, однако, была совершенно иной. Если не считать того, что, несмотря на все императорские распоряжения, близость к командованию открывала для ряда офицеров хорошую возможность быстро выдвинуться, работой эти люди не были обделены. Это легко можно понять, ознакомившись с обязанностями офицеров и вообще сотрудников штаба*.
* В данной главе мы рассматриваем работу только офицеров штаба. Деятельности военной администрации и медицинской службы посвящена гл. XIV.
Всю деятельность офицеров штаба можно разделить на две части: канцелярская работа в штабных бюро (travail du bureau) и «активная служба» (partie active).
Рассмотрим сначала канцелярскую работу. Для ее выполнения штабные офицеры (adjudants-commandants и adjoints a l'etat-major) подразделялись на несколько отделов (бюро), распределение на которые варьировалось от одного штаба к другому. Мы приведем в качестве примера то членение на бюро, которое приводит в качестве образцового генерал Тьебо в учебнике штабной службы. Согласно Тьебо штаб должен подразделяться на пять отделов:
1. Общее бюро, чаще всего под руководством начальника штаба.
2. Административное бюро.
3. Бюро состояния войск и финансов.
4. Полицейское бюро.
5. Топографическое бюро (состояло из инженеров-географов).
Лишь одно перечисление и пояснение функций этих отделов составило бы целую книгу, поэтому мы только вкратце осветим основные направления их работы и относительно подробно перечислим функции только первого отдела, а именно Общего бюро, являющегося одновременно и личной канцелярией начальника штаба. Общее бюро занималось следующими вопросами:
1. Организация корпуса (армии), назначение на те или иные посты всех генералов, старших офицеров и офицеров штаба, формирование гарнизонов, отдельных отрядов и постов на коммуникационной линии.
2. Редакция приказов, касающихся маршей и перемещений для всех воинских частей, составляющих корпус, редакция приказов для боевых операций, инструкции к этим приказам. Бюро было также ответственно за доставку приказов.
3. Расположение армии по квартирам, в частности на зимние квартиры.
4. Назначение дежурных генералов и офицеров, а также лагерных постов.
5. Рассылка пароля и лозунга.
6. Редакция и рассылка генеральных приказов по корпусу (армии) или приказов на день (ordres du jour).
7. Переписка с военным министром.
8. Переписка с главнокомандующим.
9. Переписка с генералами, командующими артиллерией, кавалерией и инженерными войсками, а также с генералами, командующими дивизиями, отдельными соединениями, военными губернаторами провинций, комендантами городов, находящихся в зоне действий корпуса (армии), рассылка им приказов и инструкций.
10 Редакция специальных приказов для артиллерии и инженерных войск.
11. Организация депо для выздоравливающих, организация кавалерийских депо.
12. Редакция приказов для особых миссий: рекогносцировок, разведок и групп, предназначенных действовать в тылах неприятеля (партий). Выбор места для лагеря.
13. Предложения к повышению.
14. Редакция приказов для отрядов, покидающих корпус (армию).
15. Редакция приказов по поводу выдачи оружия и боеприпасов со складов для замены испорченных образцов и пополнения боезапаса.
16. Редакция бюллетеней и исторического рапорта.
17. Рассылка войскам законов, указов и других актов правительства и министерских циркуляров, касающихся армии.
18. Распределение различных служебных задач между дивизиями и отрядами.
В этом же бюро должна была сосредотачиваться и распределяться вся корреспонденция, приходящая в штаб. Здесь же должен был составляться так называемый «Итог работы штаба за 24 часа».
Л. Руссело. Генерал Лассаль дает указания командиру отряда из 5-го гусарского полка, отправляющемуся на рекогносцировку. Акварель.
Позади в мундирах с голубыми нарукавными повязками адъютанты генерала, справа на втором плане - гусары 7-го полка.
Как видно из этого перечня, только Общее бюро должно было ежедневно составлять не один десяток бумаг, многие из которых имели большое значение для армии и редакция которых налагала на составляющих их офицеров большую ответственность.
Обязанности других бюро были столь же обширны, но мы приведем перечень лишь наиболее важных вопросов, которыми они занимались.
Административное бюро:
1. Переписка с генерал-интендантом и поставщиками.
2. Контроль за обеспечением войск продовольствием, фуражом, амуницией, обмундированием и т.д.; наблюдение за состоянием магазинов, госпиталей и казарм.
3. Рассмотрение всех заявок на выдачу предметов обмундирования и экипировки.
4. Контроль за проведением реквизиций.
Бюро состояния войск и финансов:
1. Переписка с инспектором по смотрам.
2. Выработка ежедневного краткого рапорта о состоянии войск и подробного отчета один раз в 15 суток.
3. Связь с главным казначеем, контроль за всем, что относится к финансам; получение денежных контрибуций, секретные расходы начальника штаба, экстраординарные расходы, конфискации и т. д.
Полицейское бюро:
1. Связь с агентурной разведкой, наем проводников и контроль за ними.
2. Контроль за содержанием военнопленных и дезертиров, их конвой, обмен и т. д.
3. Контроль за дисциплиной и порядком в корпусе (армии), организация полицейской службы на территории расположения войск.
4. Арест и проверка всех подозрительных лиц.
5. Сбор и употребление разнообразных трофеев: лошадей, ручного холодного и огнестрельного оружия, пушек - и их выдача войскам или продажа.
6. Контроль за экипажами, используемыми чинами армии.
7. Прием жалоб от населения на поведение военнослужащих.
8. Отправка осужденных в места лишения свободы.
9. Выдача охранных грамот для лиц и учреждений и назначение войск для охраны объектов, взятых армией под защиту.
10. Контроль за маркитантками и торговцами, которым разрешено находиться при армии.
Топографическое бюро:
Съемка карт и планов местности, на которой разворачиваются действия корпуса (армии).Съемка планов и зарисовка позиций, полей сражений, фортов, крепостей и т. д.
О работе всех этих отделов начальник штаба ежедневно должен был рапортовать главнокомандующему. Обычно за два часа до этого рапорта, будь то на постое или среди лишений похода, начальник штаба собирал всех руководителей бюро. Эти офицеры должны были представить ему отчет о работе за истекшие сутки со всеми подготовленными ими документами. На каждом из этих документов стоял гриф «Генеральный штаб», а ниже было помещено название бюро, в котором он был составлен. Все приказы и исходящая корреспонденция, подготовленные в различных бюро, представлялись на утверждение начальника штаба, который после внимательного прочтения документа, в случае если он был с ним согласен, ставил пометку «collatione» («сверено») и подпись. В соответствии с результатами этой работы начальник штаба отдавал распоряжение руководителям отделов на ближайшие 24 часа. Однако после визита к главнокомандующему он снова собирал подчиненных для того, чтобы дополнить или изменить при необходимости свои распоряжения. И так каждый день: в стужу и в зной, в роскошных венских особняках и в грязи польских дорог, в снегах России и под палящим солнцем на равнинах Португалии... Генерал Лежен вспоминал о том, как ему пришлось исполнять штабную работу в корпусе маршала Даву в самые тяжелые дни отступления из России: «Князь Экмюльский, человек с твердым характером и волей... был строгим начальником и требовал, чтобы все штабные документы составлялись так же аккуратно, как и в мирное время»4. Пример, впрочем, задавался свыше. Еще в инструкциях, данных штабным офицерам генералом Бертье, начальником штаба армии молодого Бонапарта в Италии, говорилось: «Для сотрудников штаба нет рабочего и нерабочего времени. Каждый должен отдавать работе все свои силы и все свое время. Когда дел много, надо проводить ночи напролет за работой, отдых будет лишь тогда, когда позволят обстоятельства. Единственное, о чем нужно думать - это благо службы»5. О том, что эти слова не оставались лишь пожеланием, высказанным на бумаге, свидетельств более чем достаточно. Сен-Шаман, адъютант Сульта, вспоминал о своей работе в штабе: «Часто после дня, проведенного в скачке галопом, я проводил ночь за написанием бумаг под диктовку маршала Сульта или в подготовке рапортов или приказов на следующий день, или же в копировании важных перехваченных документов» 6.
Как ясно из последней цитаты, работа в бюро была далеко не единственным занятием штабных офицеров. Для них при всей ее значимости и тяжести она едва ли была самым трудным делом.
Второй ответственнейшей частью работы офицеров штаба было то, что генерал Тьебо назвал в своем учебнике «активной службой». Активная служба, или боевая деятельность, была самых разных видов, и об основных из них мы расскажем в этой главе. Самым же важным в боевой деятельности была передача приказов от вышестоящего командования нижестоящему, и наоборот, доставка рапортов от нижестоящих командиров вышестоящим. Современный человек, привыкший к иным средствам связи, чем те, которые были в распоряжении людей начала XIX в., не сразу сможет оценить в полной мере значимость этой работы и необходимость ее выполнения офицерами штаба, часто довольно высокопоставленными.
Казалось бы, вся суть ее состоит в том, чтобы быстро и без задержек перенести пакет с приказом или рапортом из пункта А в пункт Б. Зачем же для этого использовать командира эскадрона или, тем более, полковника? Молодой, здоровый, закаленный солдат, хорошо владеющий искусством верховой езды, казалось бы, мог сделать это ничуть не хуже, если не лучше, чем человек в густых золотых эполетах, но, возможно, более старший по возрасту. Действительно, в пределах расположения войск данного корпуса так и делалось. Для передачи не особенно важных бумаг использовались ординарцы из числа младших офицеров, унтер-офицеров и даже рядовых, о присутствии которых при штабе уже упоминалось. Однако когда речь шла о передаче важного приказа или рапорта, особенно на дальнее расстояние, дело обстояло совершенно иначе. Ибо, как бы ясно ни был написан приказ, как бы всеобъемлюще ни был составлен рапорт, всего предусмотреть было невозможно. Послать же гонца за новыми сведениями уже не было никакой возможности. Например, изменения обстановки могли быть таковы, что приказ уже не мог быть буквально исполнен подчиненными главнокомандующему войсками, требовалась его неизбежная модификация. Хотя, конечно, в данном случае окончательное решение оставалось за частным начальником, но огромное значение имела и позиция самого адъютанта, ведь он отныне выступал как полномочный представитель высшего начальства, который был толкователем не буквы, а сути распоряжения.
То же самое и в отношении рапортов. Главнокомандующему могла срочно понадобиться дополнительная информация, которая изначально не должна была быть предметом рапорта. Разумеется, что ее мог дать только офицер, находившийся в курсе всех дел своего соединения. Яркий пример подобной ситуации приводит в своих мемуарах уже хорошо известный нам генерал Тьебо. Дело было еще в период первой итальянской кампании Бонапарта, когда автор, молодой офицер, только что поступил на службу в штаб дивизии Массена. Одним из первых поручений, которое он получил от своего начальника, было доставить рапорт генералу Бонапарту. «Я думал, что самое главное - это быстрота доставки депеши, - рассказывает Тьебо, - но я ошибался. Действительно, вместо того чтобы получить рапорт через дежурного адъютанта, главнокомандующий пригласил меня в свой кабинет, принял депешу из моих рук и после непродолжительного ознакомления с ней обрушил на меня поток вопросов, число которых и скорость, с которой они были заданы, превзошли все, что я мог вообразить: Сколько человек под ружьем в дивизии Массена? Сколько в 20-й легкой полубригаде, сколько в 18-й, 25-й, 32-й и 75-й линейных? Сколько в 5-м драгунском и 1-м кавалерийском? Имеют ли части дивизии отряды в тылах? Какой численности эти отряды? Где они находятся? Когда они могут прибыть к дивизии? Когда ожидают их прибытие? В каком состоянии вооружение, обмундирование и обувь солдат дивизии? Какие есть возможности для пополнения этих предметов? Каково положение артиллерии? В каком состоянии ее материальная часть и конный состав?
Регулярны ли выдачи провианта в дивизии? Хорошего ли качества хлеб, мясо, вино и фураж? Сколько людей находится в госпиталях на месте, сколько в прочих госпиталях? Как содержатся эти госпитали? Какова там смертность? Что делать, чтобы ее уменьшить? На какой линии расположена дивизия? Как распределены ее войска? Какое они несут боевое дежурство? Как хорошо оно несется? Где находятся передовые посты неприятеля? На какой линии находится его квартирное расположение? Где находятся его главные силы? Каковы последние новости от него?., и т. д. и т.п.»7 Тьебо едва сумел ответить на часть этих вопросов. Главнокомандующий был крайне неудовлетворен, но еще больше неудовлетворен был молодой офицер. Этот эпизод заставил его задуматься над необходимостью теоретической подготовки штабных работников, чтобы начинающим офицерам не приходилось учиться работать в штабе по методу обучения плавать, когда начинающего просто бросают в воду. Так в конечном итоге родилась идея учебника для персонала штабов, идея, которая будет реализована Тьебо, уже опытным генералом, в годы Империи.
Но вернемся к передаче приказов и рапортов. Эта работа требовала от штабных офицеров, и прежде всего адъютантов — основных ее исполнителей, напряжения всех физических и моральных сил и постоянной готовности преодолевать любые препятствия и опасности. Маршал Ней так наставлял штабной персонал своего корпуса: «Основная задача офицера штаба - быть готовым с начала кампании переносить все ее тяжести и лишения, оставаться постоянно одетым и обутым, чтобы по первому выстрелу устремиться к полю сражения» 8.
В том, что эти инструкции маршала исполнялись, сомневаться не приходится. Фезенсак, прикомандированный в 1807 г. к штабу маршала в качестве офицера-ординарца, вспоминал: «Сколько сложностей, сколько трудностей приходилось испытывать нам, исполняя наши обязанности. Было мало того, что днем и ночью в любую погоду, несмотря на усталость, лишения и страдания, мы отправлялись в путь с пакетами; самое главное - то, что нас мучило сознание, что мы можем не исполнить задание... Нас не спрашивали, есть ли у нас лошадь, которая может скакать галопом, как этого требовало задание (в то время, как в действительности она едва могла передвигаться), знаем ли мы край, где нам нужно будет проехать, есть ли у нас карта (а у нас ее никогда не было). Приказ должен был быть исполнен, и никто не задумывался о средствах»9.
В других корпусах дело обстояло примерно также. Упомянутый нами ранее Сен-Шаман, адъютант Сульта, писал: «Сколько раз за восемь лет моей службы в качестве адъютанта я должен был проявлять полное самоотречение, чтобы лучше выполнять приказы маршала... Если бы можно было сосчитать, сколько раз и с каким неустанным и даже необдуманным рвением я расходовал свои физические и моральные силы... сколько дней и ночей провел без отдыха, чтобы лучше выполнить долг службы»10.
Генерал Тьебо (1769-1846).
Миниатюра исп. предположительно в 1804—1805 гг. Генерал Тьебо, автор известнейших мемуаров и учебника для офицеров штаба, представлен здесь в мундире бригадного генерала нерегламентированного образца.
Но, несмотря ни на что, эти люди в расшитых золотом доломанах, забрызганных грязью и иногда кровью, вихрем летели по слякоти польских дорог, по брусчатке аккуратных немецких шоссе, по цветущим итальянским лугам. «Что бы ни случилось - все равно! - восклицал молодой адъютант генерала Бертрана. - Надо нестись вперед! Это война... Пусть сбудется, что должно сбыться... и с Божьей помощью!»11 Но нигде не было столько опасностей, подстерегавших офицеров штаба, несших депеши, как в Испании. Адъютант генерала д'Авене капитан Гонневиль вспоминал: «В эту эпоху ситуация в Испании была такая, что было запрещено всем чинам армии, офицерам и солдатам удаляться более чем на ружейный выстрел от укрепленных постов, которые мы занимали... Каждый житель был нашим отчаянным, фанатичным врагом...»12 Эскортов на всех не хватало, да и перемещение с эскортом было не слишком быстрым, а командование требовало скорости. И отчаянные адъютанты бешеным галопом устремлялись навстречу неизвестности. «Маршал, вручая мне депеши, дал обычные советы, - пишет уже известный нам Сен-Шаман, - скакать побыстрее, постараться не быть убитым, ни в коем случае не попасть в плен да побыстрее возвращаться - задачи, которые были одна другой "легче" в этой проклятой стране»13. «Я боялся не смерти, а пыток, которым испанцы, и так по своей природе кровожадные, а тут еще распаленные религиозным и политическим фанатизмом, подвергали тех, кто попадался им в плен, - рассказывал о своих чувствах в момент скачки по дорогам Испании другой адъютант. - Мысль о том, что я могу быть распиленным заживо или распятым на кресте после жестоких пыток, была не самой веселой»14.
Как уже отмечалось, наряду с бесстрашием и умением не спасовать в самой, казалось бы, безвыходной ситуации, командование требовало от штабных офицеров скорости в выполнении поручений. «Я хочу, чтобы Ваши адъютанты и капитаны штаба без колебаний загоняли коней, если это потребуется. Расставьте их цепочкой по дороге на Вайсенхорн, чтобы у меня были сообщения от Вас как можно скорее»15, - рекомендовал Наполеон маршалу Сульту 12 октября 1805 г. в момент, когда Ульмская операция вступила в решительную фазу. В «Генеральном учебнике службы армейских и дивизионных штабов» говорится: «Если время вручения пакета строго определено, ничто на свете не может оправдать опоздание. Ничто не должно задержать отъезд офицера, ничто не должно остановить его скачку к цели... Он не должен останавливаться ни днем ни ночью. Жертва коня должна рассматриваться как ничего не значащая вещь в подобных случаях»16.
Ясно, что в таких условиях успех действий офицера штаба и нередко его жизнь зависели от надежности коня, ясно также, что потери конного состава в штабах были огромны. Согласно официальным регламентам адъютанты (ниже звания полковника) и штабные капитаны (adjoints a l'etat-major) должны были иметь по три лошади. Однако на практике этого количества не хватало. В дневнике Кастеллана, офицера, состоявшего в 1812 г. при генеральной квартире, мы находим следующую запись: «Я проскакал шесть лье от Вильны до Неменчина и вернулся в Вильну в 12.30. Я купил трех лошадей в Дрездене, они не прибудут. У меня есть десять других, но этого не достаточно для моей службы»17. Прошло несколько месяцев кампании, и Кастеллан пишет: «9 ноября... Мы вошли в Смоленск в час дня, в большинстве своем таща наших лошадей за собой на поводе через снега. У меня пала седьмая лошадь...»18 Лежен, прошедший за эпоху Консульства и Империи через многие штабы, рассказывает, что за время своей службы он потерял 30 лошадей, из которых четыре были убиты под ним в бою.
Однако на какие-либо централизованные раздачи коней для офицеров, подобные выдаче средств передвижения в современных войсках, в наполеоновской армии надеяться не приходилось. Иногда адъютантам выделяли деньги на пополнение конного состава, однако чаще всего приходилось решать этот вопрос, полагаясь на свои средства. Именно поэтому все мемуары штабных офицеров заполнены историями приобретения лошадей, на которых тратились огромные средства, ведь, как писал Лежен, «хороший, сильный конь - это жизнь и сердце высшего офицера». К счастью, тем, у кого были достаточные средства, после удачного боя нетрудно было добыть хороших лошадей: солдаты охотно по дешевке продавали офицерам захваченных в бою лошадей вражеских кавалеристов.
После передачи приказов и доставки рапортов ответственнейшей частью активной службы штабных офицеров было осуществление рекогносцировок. Если, находясь на аванпостах, в постоянном соприкосновении с противником, офицеры легкой кавалерии должны были доносить командованию о передвижениях и мероприятиях врага, а также докладывать о состоянии мостов, дорог и населенных пунктов, то для специальных миссий, сопряженных с глубоким проникновением в расположение неприятельских соединений, предназначенные для этого войска почти всегда сопровождались или возглавлялись офицерами штаба.
Рекогносцировки могли производиться как в период боевых действий (тогда они обязательно были сопряжены с выделением крупных воинских сил для осуществления прорыва передового охранения врага), так и в период подготовки военных операций. В последнем случае выполняющий рекогносцировку мог быть отправлен без сопровождения, ибо в его функции входила не разведка боем, а нечто отдаленно напоминающее деятельность секретного агента.
Впрочем, здесь сразу надо сделать важное замечание. Работа «агентурного разведчика», или, проще говоря, шпиона, в те времена продолжала считаться, как и в большинстве традиционных обществ, делом грязным и недостойным приличного человека. Переодеваться в чужую форму, чтобы проникнуть в расположение врага и, выдав себя за другого, собирать сведения, передавая их через связных, рассматривалось как занятие нечистоплотное и заслуживающее презрения. И если к захваченным в плен солдатам и офицерам неприятеля часто проявлялось, о чем будет рассказываться позже, гуманное и почти дружелюбное отношение, то на шпионов реакция была однозначная: их, по мнению офицеров того времени, надо было истреблять как поганых псов. Неслучайно поэтому «джеймсов бондов» начала XIX в. считалось даже слишком почетным расстреливать. Их либо вешали на ближайшем дереве, либо забивали штыками на месте. Поэтому для офицера штаба персонально заниматься агентурной разведкой в подавляющем большинстве случаев было бы делом немыслимым. Правда, при штабах, в частности при генеральном штабе, существовали офицеры, ответственные за поддержание связи с «разведчиками». Однако в миссию этих офицеров входил лишь сбор сведений от шпионов, оплата их работы и обработка полученной информации. В качестве же непосредственно «секретных агентов» выступали чаще всего торговцы, коммивояжеры, авантюристы всякого рода и т. п. В отсутствие резидентов, которые работали бы, скажем, в штабе армии противника и передавали сведения своему командованию, в отсутствие современных средств связи, с помощью которых подобные резиденты могли бы оперативно передавать информацию своему командованию, деятельность шпионов была малоэффективной. Сведения, которые они получали, были чаще всего либо слухами, либо разговорами подвыпивших офицеров в придорожной таверне, либо просто результатами визуального наблюдения перемещающихся вдали колонн неприятельских войск. Доставлялись же эти сведения крайне медленно, чаще всего пешком, так как приходилось использовать обходные тропы. В результате, хотя информацией, полученной от шпионов, и не пренебрегали, относились к ней с осторожностью и рассматривали ее большей частью как второстепенную. Подчеркиваем, что речь здесь идет о военной - тактической и оперативной - разведке. Разумеется, что на внешнеполитическом уровне ее значение и отношение к ней было иным. Посольства за границей, как всегда и везде, выполняли важную роль сбора информации о стране пребывания, что осуществлялось официальным и неофициальным путем. Сведения, полученные по дипломатическим каналам, разумеется, были основой для важных внешнеполитических решений. Однако этот сюжет выходит далеко за рамки нашего исследования.
Из вышесказанного становится ясно, что офицеры штаба не могли принимать персонального участия в том, что мы называем деятельностью секретного агента, да в этом и не было необходимости. Зато они могли получать задания, в известной степени напоминающие миссию подобного агента. Так, например, мораль того времени вполне допускала отправку Мюрата в сентябре 1805 г. под именем полковника Бомона произвести осмотр возможных путей марша Великой Армии. В данном случае храбрый командир резервной кавалерии не переодевался во вражеский мундир, не «внедрялся» в штаб австрийцев, а лишь за счет использования псевдонима уменьшал внимание к своей персоне.
Л. Руссело. Возвращение с рапортом из разведки. Гусары 7-го полка и офицеры линейной пехоты (кампания 1806 г.). Акварель.
Классическим примером подобной полувоенной- полуагентурной разведки и служит как раз миссия Мюрата, Савари и Бертрана, направленных в 1805 г. изучить театр предстоящих военных действий, миссия, о которой мы уже упоминали в предыдущей главе. Чтобы правильно понять суть задачи, стоявшей перед этими офицерами (Савари и Бертран были генералами, адъютантами Императора), необходимо вспомнить, что карты, использовавшиеся в начале XIX в., особенно те,которые были составлены до эпохи Наполеона, не давали такой же точной характеристики местности, как современные военные карты, планы и справочники. Сведения о проходимости и ширине дорог, ширине и глубине рек, густоте лесов, степени укрепленности городов и численности их населения, ресурсах того или иного населенного пункта и многом другом, что было важно при планировании операции, невозможно было получить без дополнительного осмотра. В инструкциях генералу Савари указывалось: «Он (Савари) даст отчет о каждом городе, каждой деревне, каждом мосте, каждом замке, холме, лесе и вообще о каждом примечательном объекте, который встретится ему на пути. Он проверит, каково расстояние, которое их отделяет, а также отметит те города, деревни и замки, которые могут служить для размещения войск. Река Энц в районе Вайхингена, река Некар в районе Канштадта должны стать объектом пристального внимания с его стороны, он отметит их ширину и трудности, с которыми могут встретиться войска при форсировании этих рек. Он также обратит внимание на ширину долин, отметит расстояния, на которых находятся все важные объекты на пути его следования... Он разузнает, какие наилучшие пути сообщения существуют между Гмюндом и Гингеном, будь то через Хойбах и Хайденхайм, будь то через Вассенштайн и Лангенау. Он проверит их лично, чтобы знать, какие из них лучше употребить для транспортировки материальной части армии...» 19
Понятно, что такое задание мог выполнить лишь очень опытный офицер, прекрасно знающий, какая именно информация и в какой именно форме поможет главнокомандующему в подготовке им плана операции, тем более, что наряду с топографическими и справочными данными, в подобных миссиях часто одновременно ставилась задача сбора сведений о неприятеле. Так, например, полковник Блейн, офицер генерального штаба, был послан маршалом Бертье накануне начала войны 1806 г. для рекогносцировки путей на Бамберг и Лейпциг. В инструкции отмечалось, что полковник должен отправиться в путь в своей форме (т. е. подчеркивалось, что речь идет не о том, что могло бы квалифицироваться как шпионская миссия) и что официальной задачей его поездки является закупка географических карт на Лейпцигской ярмарке. Блейн должен был пересечь в пути все расположения прусской армии и в ночь на 23 сентября прибыть в Лейпциг, где ему рекомендовалось встречаться и общаться с прусскими офицерами. Предполагалось, что в этом городе он узнает о том, что война объявлена, и тогда вернется назад вместе с французским послом. Свой рапорт об увиденном и услышанном полковник должен был лично представить Императору20.
Очевидно, что подобные полуразведывательные поездки были возможны только до начала войны. В момент же ведения боевых действий проехаться по расположению неприятеля, не снимая своей униформы (то есть не превращаясь в шпиона по морали того времени), по понятным причинам было невозможно. Оставалось либо тайно подкрасться к стану врага, либо проложить себе путь с оружием в руках, то есть провести разведку боем. Нужно заметить, что последним методом в наполеоновских войсках явно злоупотребляли: «В нашей армии слишком часто повторялась одна ошибка, связанная с предубеждением,., что нельзя проводить разведку, не сражаясь»21, - писал де Брак. Причина этого явления заложена прежде всего в психологической установке, характерной для французских офицеров и солдат того времени. Конечно, небольшая группа кавалеристов, незаметно приблизившаяся к неприятелю, могла увидеть и разузнать иногда не меньше, чем большой конный отряд, который прорывается сквозь вражеские заслоны, ни в чем не поступаясь моральными принципами, ведь форма, знаки различия, оружие при этом ни в коем случае не снимались. Однако подобный метод казался французам, пронизанным рыцарскими идеалами открытого боя - «иду на Вы», - если не предосудительным, то каким-то ущербным. Подкрадываться по-партизански втихомолку, наблюдать издалека, соблюдая меры предосторожности, казалось не вполне достойным. И поэтому разведывательные операции проводились почти с помпой. Сотня, три сотни, тысяча, а то и более кавалеристов, порой даже поддерживаемых пехотой и артиллерией, ведомых штабными офицерами, обрушивались на аванпосты врага и сминая их прорывались вглубь неприятельского расположения. Иногда это было оправдано, и другого выхода просто не было, иногда же это делали по привычке, и результатом подобной разведки являлся лишь лихой бой, десятки убитых и раненых и ни на грош информации. Как не вспомнить здесь средние века и мессира Голтье Раллара, главу полиции Парижа начала XV в., который «имел обыкновение никогда не делать обхода без того, чтобы ему не предшествовали три-четыре трубача, которые весело дудели в свои трубы, так что в народе говорили, что он словно предупреждает разбойников: "Бегите, мол, прочь, я уже близко!"»22.
Чтобы понять, что представляла собой массовая «разведывательная» операция, приведем лишь один типичный пример. 23 апреля 1809 г. в ходе австрийской кампании маршал Бессьер, герцог Истрийский, выслал рекогносцировку, чтобы узнать направление отступления и силы австрийцев на вверенном ему участке операционного пространства. Генерал Марюла, командир легко-кавалерийской дивизии, рапортовал маршалу: «23 апреля на рассвете дивизия двинулась вперед, чтобы поддержать рекогносцировку на Мюльдорф и Этинг. Полковник штаба Рансонне двинулся с 3-м конно-егерским полком на Эрхартинг, где он встретил первый вражеский пост, давший по нему сотню ружейных выстрелов; один конный егерь был ранен. Тотчас после этой пальбы неприятель продолжил отступление на Этинг, рекогносцировка последовала за ним до Крейцпонта... Гессенские шеволежеры были выделены под команду полковника штаба Рансонне, чтобы двинуться на Мюльдорф, осмотреть состояние моста в этом городе и разведать дороги на Мюнхен и Вассербург.
Мост в Крайбурге, который осмотрел полковник штаба Рансонне, был разрушен...
К семи часам вечера два полка неприятельских гусар, поддержанные четырьмя батальонами, выступили из Этинга и решительно атаковали 3-й конноегерский полк, который, потеряв 80 человек, был вынужден поспешно отступить к Эрхартингскому дефиле, где был поддержан 19-м конно-егерским. Это отступление было прикрыто также баварским батальоном, который постоянно действовал с отвагой и расстрелял до 60 патронов на человека.
Дивизия, преследуемая превосходящими силами пехоты и кавалерии, в порядке отступила на Ноймаркт» 23.
Как ясно из приведенного документа, эта «небольшая» разведка была осуществлена силами дивизии Марюла (3-й, 14-й и 19-й конно-егерские полки), поддержанной полком гессенских шеволежеров и баварской пехотой. Передовой отряд рекогносцировки как обычно возглавлялся офицером штаба. Что же касается ее результатов с точки зрения чисто информативной, видно, что они были весьма ограниченными, зато бой был на славу. Трудно сказать, сколько потеряли в нем австрийцы, но у французов только в 3-м конно-егерском было убито и ранено 8 офицеров, среди которых командир полка Шарпантье24, из чего можно предположить, что цифра потерь -80 человек убитых и раненых (офицеров и рядовых), приведенная Марюла, является никак не преувеличенной, а напротив минимально возможной.
Хотя, как мы уже говорили, целесообразность подобных рекогносцировок была далеко не всегда очевидной, ясно одно, что офицерам штаба не приходилось сидеть без дела ни на стоянке войск, Ни в момент, когда противоборствующие армии сближались и надвигалась кровавая развязка. Но, как бы ни была значима работа штаба в это время, самая напряженная часть активной службы его офицеров приходилась без сомнения на момент битвы.
В дни генеральных сражений на плечи начальника штаба и его подчиненных ложились десятки дополнительных забот:
1. Сбор войск, которые должны были принять участие в бою.
2. Подготовка войск к бою.
3. Расстановка их на поле будущего сражения в соответствии с указаниями главнокомандующего.
4. Непосредственное участие в бою.
Штаб должен был обеспечить своевременную концентрацию всех батальонов, эскадронов и батарей на месте битвы, позаботиться о немедленном возвращении к своим частям всех выделенных до этого для второстепенных целей отрядов, проконтролировать, чтобы во всех полках были проведены проверки состояния оружия и материальной части, проследить за тем, чтобы войска были по возможности отдохнувшими, чтобы солдаты успели поесть.
Офицеры штаба должны были также позаботиться о своевременной доставке боеприпасов к полю боя, о размещении парков с зарядами для ружей и пушек. Они должны были проверить готовность госпиталей, разместить их в наиболее удобных местах и своевременно проинформировать об их нахождении командиров соединений.
Когда же гром пушек возвещал о начале битвы, все офицеры штаба должны были собраться на командном пункте, неподалеку от главнокомандующего (напоминаем, что речь идет о штабе корпуса, а не о генеральном штабе Великой Армии).
Казалось бы, такое количество офицеров было чрезмерным для выполнения штабной работы в ходе боя, однако практика показывала, что их не хватало. Согласно уже хорошо известной нам инструкции маршала Нея, в день битвы «...генералы могут увеличить число офицеров штаба, взяв по одному офицеру и одному унтер-офицеру из кавалерийских полков, а также по одному полковому адъютанту и по одному старшему унтер-офицеру из полков пехоты для передачи приказов. Основные же рапорты должны быть переданы главнокомандующему через адъютантов и капитанов штаба»25.
Генерал Тьебо рекомендовал, чтобы «начальник штаба... держался вместе со всеми своими офицерами и офицерами инженерных войск во время всего боя поблизости от главнокомандующего, чтобы передавать его приказы, а также чтобы при необходимости выполнять ответственные миссии, как-то: заменить убитого или раненого генерала, повести ту или иную часть в атаку, собрать рассеянные отряды, произвести обходной маневр, срочно соорудить укрепление, разместить в необходимом месте батарею, снести мешающее здание, навести порядок на дороге...»26
Действительно, многочисленная гарцующая группа пышно разодетых адъютантов и офицеров штаба, облаченных в более скромную одежду, стоявших позади главнокомандующего, быстро редела, как только воздух наполнялся пороховым дымом и ядра начинали со свистом проноситься над головами тех, кто находился на командном пункте. Адъютанты, выстроившись цепочкой, по команде «officier a marcher!» (дословно: «офицера на движение!») по очереди приближались к начальнику и получали приказ. Молодецки салютуя маршалу, щеголи в расшитых золотом ментиках и доломанах с белой, обшитой золотом, повязкой на левой руке - знаком адъютанта командующего - лихо пришпоривали лошадей и с места в галоп уносились в самое пекло боя. Под градом ядер и картечи эти блистательные офицеры вихрем пролетали к указанному маршалом полку мимо идущих в бой батальонов и эскадронов, перемахивая через разбитые лафеты, изуродованные трупы, не затушенные и еще дымящиеся бивачные костры. Другие приносились на командный пункт и отдав рапорт снова вставали в конец цепочки, чтобы через миг опять устремиться в огонь. «Альбукерке, Ла Бурдонне и я выстроились перед маршалом и отдали рапорт об исполнении приказов, которые он поручил нам передать, - рассказывает о битве под Эсслингом генерал Марбо, тогда молодой капитан, адъютант маршала Ланна. - Ядро поразило Альбукерке в спину, и он, перелетев через голову своего коня, свалился замертво у ног маршала. Ланн воскликнул: "Вот и конец романа этого несчастного молодого человека! Но, по крайней мере, это красивая смерть!" ...Второе ядро прошло между седлом и хребтом лошади Ла Бурдонне... так что куски разбитого седла ранили его бедра... Оба моих товарища упали почти что в один момент, но едва я отъехал на несколько шагов в сторону, как адъютанту генерала Буде, который подскакал к маршалу, оторвало ядром голову на том самом месте, которое я покинул за миг до этого» 27.
А. Адам. Евгений Богарне и его штаб поблизости от реки Вопь 25 августа 1812 г.
Конечно, не ежеминутно подобные несчастья обрушивались на штабы, но тем не менее каждый час боя приносил новые и новые потери. Адъютанты и офицеры штаба теряли своих коней, падали раненые перед фронтом войск, которым передавали приказы, исчезали в вихре кавалерийских атак, так что иногда к концу боя из пышной свиты, окружавшей маршала, оставались лишь считанные единицы. «У моего друга де Вири плечо было разбито ружейным выстрелом, Лабедуайер получил картечную пулю в ногу, Ватвиль сломал плечо, упав с коня, убитого ядром, - продолжает Марбо свой рассказ о битве под Эсслингом. - Из всего штаба Ланна остались в строю только суб-лейтенант Ле Куте и я»28. Сам Марбо к этому моменту также получил ранение в ногу. «Отправляйтесь, перевяжите рану и, если Вы еще сможете сидеть на коне, скачите ко мне», - сказал своему адъютанту маршал. Наскоро сделав перевязку, заткнув рану комком грубой корпии, Марбо снова встал в строй. «Маршал опять посылал меня несколько раз в Эсслинг, где я снова очутился среди опасностей; я был столь возбужден, что не чувствовал боли от раны»29.
Всего же в битве под Эсслингом из десяти адъютантов Ланна восемь были убиты или ранены. Хотя, конечно, подобные потери не являлись характерными для нормального сражения, они не были и редкостью. «Я прошу у Вашей светлости (Бертье) полковников штаба и особенно младших офицеров штаба, потому что все, которые у меня были, убиты или ранены, - доносил командир 3-го корпуса Великой Армии маршал Даву после знаменитой битвы под Ауэрштедтом. - Полковник Эрво, заместитель начальника штаба, также как и его храбрый начальник Дольтан, особенно отличились. Полковник Эрво был ранен, но продолжает следовать за нами»30. Когда затихала канонада, и усталые, почерневшие от пороховой гари солдаты наконец опускались вокруг наспех разведенных бивачных огней, работа офицеров штаба, несмотря на всю их смертельную усталость, еще не кончалась. Тьебо наставлял: «По окончании битвы необходимо привести в порядок части, вернуть в ряды потерявшихся солдат... послать людей, чтобы подобрали оружие и обмундирование убитых, собрать трофеи, которые будут распределены впоследствии между дивизиями, бригадами и полками, принявшими участие в бою. Начальники штабов должны распорядиться о погребении погибших, позаботиться о том, чтобы были подобраны раненые, собраны все пушки, зарядные ящики, захваченные у неприятеля, равным образом как наши подбитые орудия, проконтролировать сбор военнопленных и отправку их в тыл...
Нужно позаботиться о том, чтобы раненые получили в госпитале всю помощь, которую возможно им оказать. Затем нужно позаботиться об эвакуации самих госпиталей...
Военнопленные должны быть собраны и классифицированы: необходимо подсчитать рядовых, переписать всех офицеров поименно с указанием части и звания. Офицеров надо отделить от солдат, составить конвой для военнопленных и направить их в пункт, указанный главнокомандующим...» 31
Офицеры штаба должны были позаботиться также и о размещении войск на биваке в соответствии с указаниями главнокомандующего, а инженерам-географам положено было снять точный план поля боя. Наконец, необходимо было подготовить рапорты об участии того или иного соединения в битве. «Чтобы ускорить их редакцию и сделать рапорты как можно более полными, каждый командир части, бригады или дивизии должен был направить вечером после боя свой отчет начальнику штаба корпуса, который с помощью полученных материалов и собственных замечаний составит общий рапорт»32.
Из всего вышесказанного читателю уже должно быть понятно, что офицеры штаба не прохлаждались в блаженном безделье и не отсиживались в течение боя в каком-нибудь «бункере». Однако перечисленные обязанности, являясь основными, не исчерпывали весь комплекс штабной работы. Офицеры штаба должны были также совершать периодические поездки в авангард армии во время наступления и в арьергард во время отступления и, приняв самое активное участие во всех происходящих там столкновениях, подробно информировать о них главнокомандующего; сопровождать колонны войск на марше; производить рекогносцировки мест для разбития лагерей и биваков; исполнять при необходимости обязанности парламентеров; руководить фуражировками; возглавлять различные специальные отряды, например группы, выделенные для действий на тылах неприятеля. Им же поручалась организация этапной линии армии, они выступали в роли комендантов занятых городов, помогали военным губернаторам оккупированных провинций, руководили действиями подразделений при осаде и обороне крепостей, вели сводные батальоны на штурм укреплений и т. д.
Планшет 4. Офицер-ординарец Императора. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Все, что было сказано о работе штаба корпуса, применимо и к штабу дивизии, только в сокращенном виде. При командире дивизии состояло три адъютанта, начальник штаба - обычно штабной полковник с двумя-тремя помощниками в чине капитана (adjoints a l'etat-major), командир артиллерии дивизии, командир инженерных войск и несколько чиновников военной администрации. Обязанности офицеров корпусного штаба, о которых мы говорили до сих пор, были общими и для офицеров штабов всех уровней: дивизионного, корпусного и генерального; разница состояла лишь в сфере их полномочий. Поэтому, зная обязанности офицеров штаба корпуса, нам гораздо легче будет понять и функционирование аппарата верховного командования Великой Армии.
Генеральный штаб, а точнее генеральная квартира Великой Армии, был, как нетрудно догадаться, куда более многочисленным, чем описанный нами корпусный, разница была почти на целый порядок: вместо нескольких десятков здесь было несколько сотен офицеров. Кроме этого, он представлял собой гораздо более сложную структуру (см. схему).
Прежде всего, из приведенной схемы видно, что над генеральным штабом стояла целая система, обеспечивающая работу лично главнокомандующего, то есть Императора - фактически это был его личный штаб. Не следует забывать, что по стилю своего командования Наполеон был в определенном смысле своим собственным начальником штаба. Многие его приказы были столь точны и подробны, что практически не требовали дополнительной обработки генеральным штабом. Чтобы подготовить подобные детальные распоряжения, необходим был немалый штат сотрудников. Основную роль в этом выполнял личный императорский кабинет. Штат секретарей, обладавших большим доверием Наполеона, составлял его основную часть и фактически исполнял обязанности основных штабных бюро.
К личному кабинету Императора относилось и то, что можно было бы назвать персональной разведывательной службой. В течение долгого времени этот отдел возглавлял адъютант Наполеона генерал Савари. В 1812 г. при императорском кабинете появился некто Лелорнь д'Идевиль, который официально занимал пост секретаря-переводчика. На самом же деле отныне он возглавлял секретную службу. В обязанности д'Идевиля входили обработка иностранной прессы, допрос пленных и связь с тайными агентами. Впрочем, как уже отмечалось, не стоит преувеличивать значение этой и подобной ей служб, которые с легкой руки вульгаризаторов истории превратились чуть ли не в ЦРУ XIX в. Их эффективность в военном смысле была весьма ограниченной.
Значение же другой службы императорского кабинета, напротив, трудно переоценить. Речь идет о личном топографическом бюро Наполеона, в течение долгого времени бессменно возглавляемом знаменитым инженером-географом Бакле д'Альбом (с 1804 по 1814 гг.). Полковник в 1807 г., бригадный генерал в 1813, Бакле д'Альб был блистательным картографом и замечательным художником. Снятые под его руководством карты Италии и Германии и по сей день удивляют своей точностью, подробностью и прекрасным художественным вкусом. Без сомнения, высокое качество карт топографического бюро Императора было немаловажной составляющей успехов Великой Армии.
Наличие разветвленного и компетентного кабинета позволяло сосредоточить в руках главнокомандующего, не прибегая к посредству довольно громоздкой структуры генерального штаба, всю необходимую информацию, выработать решение и оформить его в виде ясного, лаконичного, но одновременно и достаточно разработанного приказа. Передаваемые начальнику генерального штаба распоряжения Императора были подчас столь всеобъемлющими и самодостаточными, что Бертье, рассылая их на бланках генерального штаба, фактически лишь добавлял формулу «Император приказывает Вам...» и т.д.
Если работу штабных бюро выполнял при Императоре его личный кабинет, то активная штабная служба возлагалась на адъютантов и офицеров-ординарцев (officiers d'ordonnance). Здесь сразу необходимо сделать пояснение. Генералы, составлявшие блистательную плеяду тех, кто носил наименование «адъютант Императора», были слишком важными персонами, чтобы исполнять большую часть обычной адъютантской службы. Действительно, сложно было бы представить себе дивизионного генерала, скачущего во весь опор, чтобы передать приказ командиру какого-нибудь полка. Поэтому для исполнения подобных обязанностей и был создан декретом 1806 г. отряд офицеров под названием офицеров- ординарцев. Именно они выполняли девять десятых того, что обычно составляет адъютантская работа: передача приказов, осуществление контроля за их исполнением, проверка состояния той или иной воинской части или гарнизона, руководство рекогносцировками и т. д. - короче, все те виды деятельности, которые были указаны нами для офицеров штаба корпуса.
Структура генерального штаба и общая организация руководства Великой Армии.
В ряде исторических работ отмечается как нечто особенное то, что офицеры-ординарцы не были простыми переносчиками приказов Императора, но им поручались и миссии, требующие большой ответственности и знаний. Как уже указывалось, подобные задания были естественными (конечно, на определенном уровне) для любого адъютанта маршала и, уж тем более, были само собой разумеющимися для офицера, состоящего при личном штабе самого Императора. Поэтому мы не будем повторяться, описывая все возможные задачи этих офицеров, приведем лишь два небольших примера из корреспонденции Наполеона, показывающих степень доверия не только к верности, но и к компетентности императорских ординарцев.
Приказ капитану Хлаповскому, офицеру-ординарцу Императора, данный в Вальядолиде 15 января 1809 г.:
«Хлаповский отправится... в Кассель и вручит письмо Вестфальскому королю... Оттуда он отправится в Варшаву, где вручит письмо Саксонскому королю... Хлаповский останется на восемь дней в Варшаве и будет внимательно наблюдать за всем, что там делается, он разузнает, какие настроения сейчас в герцогстве, что говорят и делают в Галиции. Он вернется и найдет меня там, где я буду находиться.
Наполеон» .33
Император господину Талуэ, офицеру-ординарцу. Париж, 11 марта 1809 г.:
«Сударь, Вы отправитесь немедленно в Карлсруэ и вручите письмо великому герцогу Баденскому, оттуда Вы отправитесь в Штутгарт и вручите письмо королю Вюртембергскому... Повсюду Вы будете останавливаться у моих послов при различных дворах и дожидаться там ответов адресатов. Если с Вами будут беседовать о войне, Вы должны говорить в самом уверенном тоне. Вы объясните, что мои многочисленные войска идут со всех сторон к границам. Наполеон»34.
Согласно декрету об организации офицеров-ординарцев, последних должно было быть 12 человек.
Всего же за годы Империи через эту должность прошли 75 человек. Проводя политику слияния элит, Наполеон стремился пополнить ряды своих верных помощников представителями знатнейших семей старой Франции. В списке императорских ординарцев можно найти такие фамилии как де Монморанси, де Монако, де Тюренн, де Мортемар, де Шабрийан, де Караман... Рядом с ними - представители новой знати, сыновья выдающихся деятелей Империи: д'Опуль, де Ларибуазьер, де Лористон, Реньо де Сен-Жан д'Анжели, но также и люди, попавшие в императорский штаб благодаря личным талантам и заслугам. Среди них знаменитый Гаспар Гурго, отважный воин, талантливый офицер и верный соратник, последовавший после крушения Империи за Наполеоном в ссылку на остров Святой Елены.
Однако, если офицеры-ординарцы выполняли всю адъютантскую работу, зачем при Императоре состояли еще и генералы, называвшиеся адъютантами? Не проще ли было бы назвать офицеров-ординарцев адъютантами и ограничиться этими менее дорогостоящими офицерами?
Как уже говорилось, офицеры-ординарцы выполняли значительную часть адъютантской работы, но не всю. Если на уровне корпусов для особо важных миссий маршалу вполне хватало двух-трех адъютантов в старших офицерских чинах, то на уровне вооруженных сил всего государства для исполнения чрезвычайно важных поручений требовались офицеры куда более высокого ранга, а именно дивизионные и бригадные генералы, из которых и состоял штат адъютантов Императора.
Это была блестящая плеяда молодых, талантливых, энергичных и отважных воинов, которым можно было дать самые трудные и опасные задания, но что было особенно важно - это были люди, которым Император особо доверял. Их присутствие в том или ином пункте обширной Империи или на театре военных действий было почти равнозначно присутствию там самого Императора.
Вот одна из инструкций, данных Наполеоном его адъютанту генералу Савари 29 марта 1807 г., в то время как французские войска под руководством маршала Лефевра осаждали Данциг: «Отправляйтесь в Данциг. Ваша миссия имеет три цели: первое - Вы должны доложить, что там реально происходит, после того как Вы все подробно увидите и проверите; второе - Вы должны помочь этому несчастному (sic!) маршалу Лефевру, который беспокоится и нервничает сверх всякой меры, а это, как Вы понимаете, ничего не дает. Я не могу снимать полки из войск, которые прикрывают осаду... Ему повсюду мерещится прибытие свежих русских войск; объясните ему, что их число никоим образом не уменьшилось перед моим фронтом... Нужно, наконец, чтобы он правильно обращался с войсками (союзников), которые находятся в его распоряжении. Нельзя их обескураживать своими шутками и сарказмами. В любом случае я ничего не могу дать ему взамен, а обескураживать людей -это не самый лучший способ извлечь из них пользу...»35 Как видно из этого отрывка, адъютант Императора не только должен дать подробный отчет о происходящем, но даже ободрить маршала, которого Наполеон, уставший от бесконечных сетований, с иронией назвал «несчастным».
А вот как описывает свою миссию перед началом кампании 1806 г. другой адъютант Императора генерал Рапп: «Наполеон побеседовал со мной и поручил незамедлительно отправиться в Страсбург, возглавить Страсбургский военный округ, организовать маршевые батальоны и эскадроны, направлять их по мере формирования на Майнц и выслать туда как можно больше артиллерии... Я должен был переписываться непосредственно с Наполеоном, употребляя для этого курьеров, телеграф (оптический), в общем, все, что доходит как можно быстрее. Я не должен был двинуть вперед и сотню человек, переместить пушку или ружье, не предупредив тотчас же его...» 36
Л.-Л. Буальи. Дюрок, герцог Фриульский (1772-1813). Исп. в 18071809 гг. Государственный Эрмитаж. Генерал Дюрок был адъютантом Императора и одним из его ближайших друзей. Ему поручались важные военно-дипломатические миссии. С 1805 г. обер-гофмейстер двора. Смертельно ранен ядром 22 мая 1813 г. под Герлицем.
Ф. Жерар. Битва при Аустерлице, 2 декабря 1805 г. © Рhоtо RMN. Одно из самых знаменитых полотен Наполеоновской эпохи. На грандиозной картине Жерара изображен момент, когда генерал Рапп (на белом коне, залитом кровью) докладывает Императору о результатах блистательной атаки гвардейской кавалерии.
Из этих двух примеров ясно, что в сферу обязанностей адъютантов Императора входили задачи, которые невозможно было бы поручить людям в невысоких офицерских чинах. Для выполнения подобных миссий требовались генералы, и не просто генералы, а энергичные и преданные. Не следует также забывать, что адъютанты Императора могли исполнять не только военные поручения, но и важнейшие дипломатические и политические задания. Так, уже не раз упомянутый нами Савари накануне Аустерлица был отправлен в лагерь союзников с целью завязать переговоры с Александром I; он же был назначен впоследствии, правда, на короткое время, дипломатическим представителем французской Империи в Петербурге; наконец, за несколько лет до этого на его плечи легла тяжелая ответственность за арест герцога Энгиенского на Баденской территории.
Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно. Совершенно очевидно, что функции генералов - адъютантов Императора далеко выходили за рамки обычных обязанностей офицеров штаба. Наличие военнослужащих с подобными званиями и полномочиями при особе сколь угодно высокопоставленного генерала, не являющегося главой великого государства, было бы, разумеется, невозможно и не нужно.
Л. Эрсан. Штурм Лансхута, 21 апреля 1809 г. Версальский музей. В центре картины на мосту генерал Мутон, ведущий в атаку пехоту.
Тем не менее генералы - адъютанты Наполеона были не только полномочными представителями Императора, его «missi dominici», они все были настоящими боевыми офицерами и во всех сражениях были рядом с великим полководцем. Их роль в бою, однако, была несколько иная, чем та, которую выполняют обычно адъютанты: они не просто передавали приказы и контролировали их выполнение, а выступали в качестве непосредственных их исполнителей. Наверное, самым знаменитым заданием, которое получал адъютант Императора, вошедшим в историю в сотнях картин, мемуаров и литературных произведений, была миссия Раппа в битве под Аустерлицем. Наполеон поручил ему взять несколько свежих гвардейских эскадронов и устремиться в центр позиции, где, благодаря блестящей контратаке русской гвардейской кавалерии, обстановка на поле боя резко изменилась. «Я отправился в галоп и уже издалека увидел катастрофу, - рассказывает Рапп. - Русская кавалерия прорвала каре и рубила наших солдат направо и налево... Едва только враг заметил нас, он бросил свою добычу и двинулся нам навстречу. В мгновение ока выкатились четыре его пушки и были направлены на нас. Я продвигался, однако, в порядке, слева от меня был храбрый полковник Морлан, справа - генерал Дальмань. "Смотрите, - крикнул я солдатам, - там топчут наших друзей, наших братьев, отомстим же за них, отомстим за наши знамена!" Мы бросились вперед как ураган. Артиллерия врага была захвачена. Кавалерия, которая выждала на месте нашу атаку, была сметена тем же ударом и убежала в беспорядке... Вскоре, однако, на помощь русской гвардии прибыл резерв, а я был подкреплен эскадроном конных гренадеров. Мы начали снова. Атака была ужасной. Пехота не стреляла, так как нельзя было отличить своих от чужих, все смешалось, мы сошлись в отчаянной рукопашной схватке»37. Конные егеря, конные гренадеры и мамелюки Императорской Гвардии, ведомые Раппом, одержали победу в этом эпическом бою и тем самым окончательно решили участь великого сражения. «Эта атака кавалерии Императорской Гвардии, - сказал впоследствии Наполеон, - была одной из самых прекрасных, которые когда-либо имели место, и делает честь равным образом командиру, который ей руководил, и отборным войскам, которые ее исполнили. Какова бы ни была сила линий неприятеля, вставших на ее пути, будь то кавалерия, будь то пехота — ничто не смогло устоять под страшным ударом» 38.
Раненный ударом палаша, на коне, забрызганном кровью, с поломанной саблей, Рапп подлетел в галоп к штабу Императора и воскликнул: «Сир! Мы опрокинули, изрубили русскую гвардию, ее артиллерия взята!» Этот момент был увековечен впоследствии на знаменитом полотне Франсуа Жерара и вошел в легенду.
Не было крупного сражения, где адъютанты Императора не совершали какого-нибудь нового подвига. Под Иеной Рапп блистательно вел преследование разбитых саксонских батальонов. Под Эйлау в стремительной атаке пал смертью храбрых адъютант Императора генерал Корбино. Под Ландсхутом отважный Мутон во главе гренадеров 17-го линейного полка взял штурмом мост, отчаянно обороняемый австрийской пехотой, и восхищенный отвагой своего адъютанта Император приказал художнику Эрсану запечатлеть подвиг Мутона на картине, которая стала наградой за этот отважный поступок. Под Эсслингом снова знаменитые Рапп и Мутон ведут в бешеные штыковые атаки полки Молодой Гвардии. В восторге Наполеон воскликнул: «Мой Мутон - это лев!» (в переводе с французского «мутон» означает «баран»). Под Ваграмом адъютант Императора дивизионный генерал Лористон развернул знаменитую стопушечную батарею, своим ураганным огнем решившую участь знаменитой битвы...
Рассказывая об адъютантах Императора, нельзя не вспомнить и один курьезный момент. Так как все они, как уже указывалось, были генералами, то имели право, да и необходимость, иметь своих собственных адъютантов. По причине того, что словосочетание «адъютант адъютанта» звучит не очень благозвучно, в армии их называли «малыми адъютантами» (petit aide-de-camp). Кроме непосредственных обязанностей помогать своим начальникам, эти военнослужащие при необходимости могли выполнять функции, общие для всех штабных офицеров.
Кроме адъютантов в чине генерала, в свите Императора находились и другие, еще более высокопоставленные генералы. Это были лица, ответственные за нормальное функционирование императорской главной квартиры на походе. Обер-шталмейстер, дивизионный генерал Коленкур должен был постоянно сопровождать Императора, получая от него инструкции утром и вечером. В сферу обязанностей этого генерала входило руководство офицерами-ординарцами, а также обеспечение наилучшими лошадьми как Императора, так и наиболее ответственных чинов главной квартиры. Обер-гофмейстер, дивизионный генерал Дюрок, отвечал за размещение на походе Императора и его многочисленной свиты. Среди этих генералов был и гофмейстер пажей генерал Гарданн, распоряжавшийся, как можно понять из его титула, пажами, состоящими при главной квартире, а также генерал Корбино, обер-шталмейстер императрицы. Так как лошадей императрицы в походе, разумеется, не было, то генерал Корбино фактически осуществлял функции генерал-адъютанта.
Все перечисленные сановники имели под своим начальством по несколько офицеров и чиновников, а также располагали своими личными адъютантами, которые в ряде случаев использовались Императором в качестве офицеров-ординарцев.
Таким образом, хотя принципы организации командования отдельного корпуса и Великой Армии были схожими, структура самого высшего звена была куда более сложной. Вместо маршала с 6-10 адъютантами мы видим Императора, окруженного огромной свитой и личным штабом, обеспечивающим выработку приказов и контроль за их исполнением. Аналогично вместо довольно простого корпусного штаба здесь мы сталкиваемся с куда более сложной структурой - генеральным штабом, который, однако, в своей работе руководствовался теми же самыми принципами, что и уже известный нам штаб корпуса, и более того, обладал, хотя и в усложненной форме, теми же составными частями.
Во главе генерального штаба, как уже отмечалось, стоял его бессменный начальник - знаменитый маршал Бертье, великий коннетабль Империи, князь Невшательский и Ваграмский. Здесь и ниже мы называем Бертье на современный манер - начальник генерального штаба, в действительности же правильное название его должности - «major-general», что можно весьма условно перевести как «генеральный штабной начальник». Бертье занимал эту должность во всех походах сначала молодого генерала Бонапарта, а затем Императора Наполеона, кроме последнего - четырехдневной кампании 1815 г., неудача которой, кстати сказать, в значительной степени объясняется плохой работой штаба, неумело руководимого маршалом Сультом. Буквально все источники единодушно сходятся во мнении: Бертье был блистательным начальником штаба - неутомимым, точным и исполнительным. Уже в 1796 г., когда генерал Бонапарт должен был охарактеризовать правительству Директории подчиненных ему генералов, он дал такую лаконичную оценку своему начальнику штаба: «Талантливый, активный, храбрый, решительный -все за него»39. Впоследствии на острове Св. Елены Император сказал о Бертье следующее: «Он был необычайно активен, он следовал за своим командующим во всех рекогносцировках, во всех его поездках, не ослабляя ни на йоту свою канцелярскую работу... Он рассылал приказы с удивительной организованностью, точностью и быстротой... Он был одним из самых великих и ценных помощников Императора, никто другой не мог его заменить»40. Однако Наполеон отмечал также и то, что князь Невшательский был неспособен к самостоятельному руководству. «Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некоторые из них всегда оставались в подчиненном положении, таков был Бертье. Не было лучшего начальника штаба, чем он, но он был бы неспособен командовать и пятью сотнями солдат» 41. Впрочем, последнее свидетельство надо принимать с немалой долей осторожности. Известно, что в оценках, даваемых Императором на Св. Елене своим подчиненным, ясно проглядывает зависимость этих оценок от поведения того или иного человека в последние моменты существования Империи, и в частности в период Ста дней. Так как Бертье по ряду обстоятельств, хотя и объективного характера, не участвовал в последнем походе Наполеона, царственный узник не преминул отпустить в адрес своего бывшего соратника несколько уколов.
Зато все, кто был близок к Бертье, будь то его подчиненные, либо просто как высокопоставленные воинские чины, были практически единодушны. Уже не раз упомянутый нами Тьебо, опытный штабной работник и боевой генерал, но одновременно крайне желчный человек, который мало о кого вспоминал добрым словом в своих мемуарах, писал о Бертье: «У него были огромные знания и опыт штабной работы, замечательное понимание всего того, что относится к военному делу. Более чем кто либо другой, он мог держать в голове все отданные приказы и одновременно передавать их с быстротой и ясностью; ...наделенный редкой энергией, он был необычайно деятелен...» 42
«Никогда ни у кого не было большей точности в службе, подчинения командующему столь беспрекословного, преданности столь безграничной, - вспоминал о Бертье генерал Фезенсак, имевший возможность не раз наблюдать начальника штаба в действии. - Занимаясь канцелярской работой ночью, он отдыхал от напряженного дня. Часто среди ночи его будили и вызывали, чтобы переделать всю предыдущую работу, и как часто вместо награды он получал лишь несправедливые упреки... Но ничто не останавливало его рвения, никакая усталость тела, никакая канцелярская работа не были выше его сил, никакое испытание не могло быть выше его выносливости» 43.
Вообще, о работоспособности Бертье ходили легенды. Генерал-интендант Великой Армии Дарю ответил как-то на похвалу своей выносливости: «Князь Невшательский куда более силен: я не ложился спать только девять дней и девять ночей, а князь провел уже тринадцать суток без сна, на коне или в работе с бумагами»44.
Под руководством этого талантливого организатора находилось огромное количество офицеров, составлявших генеральный штаб. Однако указанная структура была столь обширна, что для удобства работы Бертье, подобно Императору, имел свой личный «штаб» - кабинет начальника генерального штаба (cabinet du major-general) и офицеров, предназначенных для активной службы.
Кабинет князя Невшательского, как и всякий настоящий штаб, состоял из нескольких бюро, разделение функций между которыми не было раз и навсегда зафиксированным, а менялось от кампании к кампании. Необходимо отметить также, что ряд бюро личного кабинета Бертье возглавлялись не офицерами, а чиновниками. Что же касается офицеров для активной службы, к их числу прежде всего относились адъютанты князя Невшательского - шестеро в 1805 г., девять в 1812, а также офицеры, «состоящие при генеральном штабе». В число последних обычно входило и несколько генералов (также со своими адъютантами), которые, в частности, могли возглавлять по поручению Бертье те или иные важные службы. Например, генерал Паннетье, которого мы видим в списке штаба в 1805 г., получил в 1807 г. ответственную миссию - быть комендантом главной квартиры, а генерал Рене (также фигурирующий в списке штаба 1805 г.) был назначен комендантом занятого французами Аугсбурга, важнейшего опорного пункта операционной линии Великой Армии.
Конечно, адъютанты князя Невшательского стояли рангом ниже генералов - адъютантов Императора однако и они не были в армии второстепенными персонажами. «Все адъютанты начальника генерального штаба были представителями самых знатных семей Франции, и то ли по случайности, то ли нарочно все мы были красиво сложены»45, - не без доли бахвальства вспоминает барон Лежен, адъютант Бертье с 1800 по 1812 гг. и одновременно известный художник, автор проекта униформы для адъютантов князя Невшательского. Эта униформа превосходила по блеску все вообразимое. Например, алый с белым и черным мундир фрачного покроя, который они носили, когда снимали свою шикарную униформу гусарского образца, был весь расшит золотыми дубовыми листьями. Данный тип шитья был привилегией исключительно генералитета, и никто из других офицеров (не генералов) армии и Гвардии не имел ничего подобного. С особым изяществом носил этот мундир в 1812 г. двадцативосьмилетний полковник де Сопранси, сын возлюбленной Бертье, итальянской графини Висконти...
Но вернемся к обязанностям адъютантов. Нет необходимости еще раз останавливаться на их активной службе. Читатель может легко догадаться, что при начальнике штаба, который, погрузившись в работу, мог не спать тринадцать суток, адъютанты не томились от безделья. Дел было столько, что штатных адъютантов хронически не хватало. Именно поэтому для несения активной службы использовались все находившиеся в штабе офицеры: штатные адъютанты, адъютанты генералов, состоящих при штабе, сверхштатные офицеры, прикомандированные к штабу. Наконец, по распоряжению Императора к генштабу были прикреплены офицеры - представители союзных войск: например, в кампанию 1806 г. это были офицеры Баденской, Баварской и Вюртембергской армий. Их знание языка и местности должно было способствовать успешному выполнению поручений командования. Этих офицеров употребляли прежде всего для рассылки приказов соответствующим союзным войскам.
При штабе также всегда находились польские офицеры на французской службе. Отважные и верные поляки выполняли все обычные обязанности французских офицеров, однако сверх того предполагалось, что они лучше знают специфику театра военный действий Германии, Польши, России; от них также требовалось свободное владение немецким языком и возможность объясняться по-русски.
В общей сложности в личный штаб Бертье в 1805 г. входило более 60 офицеров и чиновников, к которым необходимо добавить еще несколько десятков секретарей и прочих служащих. В обычном армейском корпусе этой структуре соответствовал скромный штаб из двух-трех адъютантов и одного- двух секретарей начальника штаба.
Познакомимся, наконец, и с генеральным штабом. Его структура, хотя и более разветвленная, была сходна с таковой же структурой корпусного штаба. Однако разделение обязанностей между подразделениями было несколько иным, чем то, которое мы приводили в качестве образцового. В 1805 г. офицеры генерального штаба были разделены на три больших отдела:
1. Общее управление штаба под начальством дивизионного генерала Андреосси - 27 офицеров*.
2. Оперативное управление под начальством дивизионного генерала Матье-Дюма - 8 офицеров.
3. Топографическая служба под начальством бригадного генерала Сансона - 10 офицеров (см. Приложение VI).
* Мы считаем только непосредственно находящихся при главной квартире офицеров.
Мы сознательно для большей наглядности переводим названия этих подразделений на современный военный язык. Буквальный же перевод должен озадачить любого, даже весьма искушенного в военной истории человека. Дело в том, что официально первый из этих отделов именовался просто генеральным штабом (etat-major general), а его начальник - генерал Андреосси - замысловато именовался «aide-major-general, chef de l'etat-major general» или «помощник генерального штабного начальника, начальник генерального штаба». На самом же деле, несмотря на столь запутанные термины, служба генерала Андреосси представляла собой лишь часть огромной штабной машины и никак не может, по крайней мере на языке XX в., называться генеральным штабом.
Общее управление штаба занималось почти всеми штабными делами, за исключением маршей и перемещений войск, их квартирного и лагерного расположения. Этот круг вопросов входил в полномочие оперативного управления, или, выражаясь русским военным языком начала XIX в., квартирмейстерской части. Позже общее управление штаба и оперативное слились в одну структуру, возглавляемую с 1809 г. дивизионным генералом Байи де Монтионом и подразделявшуюся на три отдела, самые основные сферы работы которых были следующими:
1. Приказы на день, пароль, рассылка приказов, письма и пакеты, порядок несения службы офицерами, перемещение войск, сведения по личному составу, сведения о неприятеле, функции комендантов крепостей, общая корреспонденция.
2. Расположение по квартирам, поддержание порядка, жандармерия,. провиант, раздача рационов,
3. Военнопленные, дезертиры, новобранцы, военно-полевые суды, законы и указы правительства.
Подобное подразделение обязанностей, как видно, отличается от образцового, приведенного нами для бюро штаба корпуса. Не следует, однако, забывать, что данное членение штабных отделов не было неизменным, а наоборот, было подвержено постоянным модификациям. Постоянным оставалось лишь выделение топографического бюро в самостоятельную службу, круг обязанностей которой был одинаков для штабов всех уровней.
Кроме военного персонала при генштабе имелся значительный штат чиновников интендантской, финансовой, медицинской, транспортной и почтовой служб. Служащие этих ведомств были разделены на две большие группы:
1. Общая администрация.
2. Административная служба.
Наконец, генштаб включал в себя штаб артиллерии Великой Армии и штаб инженерных войск. Главной квартире были также приданы войска, обеспечивающие ее безопасность (обычно не гвардейские, т.к. Гвардия несла охрану лично Императора и его свиты) и жандармерия. Последняя не только охраняла штаб, но и наводила порядок в самой главной квартире. Необходимость этого станет очевидной, если привести цифры общей численности ее персонала. Так, уже в 1805 г. главная квартира насчитывала в общей сложности 400 офицеров и около пяти тысяч прочего персонала: солдат охраны, чиновников, ординарцев, секретарей, медиков, фармацевтов, рабочих, форейторов, слуг. «Когда князь Невшательский провел смотр главной квартиры под Вильной, - вспоминал генерал Фезенсак о своей работе в генеральном штабе в 1812 г., - можно было подумать, глядя издалека, что это войска, построенные в боевые порядки»46.
«Теперь, если вы представите себе всех этих людей, которые расположились в какой-нибудь деревне, вы вообразите себе, наверное, страшный хаос; но вы ошибетесь, - рассказывал другой очевидец, секретарь Императора барон Фэн. - Конечно, в подобной толпе была бесконечная суета и движение, и неизбежны были отдельные частные беспорядки, но присутствие "хозяина", пунктуальность и собранность, которыми держали каждого на своем месте, привычка к подобной ситуации, в которой мы оказывались каждый день, и единение всех служб в одну большую семью великолепно заменяли то, чего нельзя было бы добиться никаким особым наведением порядка в подобном нагромождении. Инстинктивно мы группировались каждый вокруг своего начальника и, так или иначе, ночью оказывались под какой-нибудь деревенской крышей... Как в море у экипажа нет другого дома, кроме палубы корабля, так же и здесь: все, как единая корабельная команда, если это требовалось, были готовы по свистку боцмана... Будь то в городе или в деревне, мы были экипажем на палубе, и, когда в ночной тиши Император доходил до последнего слова в последнем послании, которое он диктовал, и из глубины кабинета раздавалась его команда "По коням!", все были в мгновение ока готовы. Свисток боцмана не бывал быстрее исполнен, чем этот приказ. "По коням! По коням!" -эти слова, точно электрический импульс, пробегали по всей массе людей, повторяясь на все голоса, вплоть до последнего штабного бивака, и едва Император, который первый вскакивал в седло, проезжал несколько шагов, как уже все были на своих местах в его свите»47.
А. Гро. Генерал Бертье на мосту под Лоди. Исп. в 1797 г.
Слова Фэна, описывающие порядок в этом огромном скопище генералов, офицеров, рядовых, лошадей, повозок, могли бы показаться слишком тенденциозными, если бы они не подтверждались многими источниками. Для нас, в частности, ценно свидетельство, исходящее от представителя армии противника, имевшего возможность наблюдать деятельность наполеоновского генерального штаба. Речь идет о русском офицере полковнике Левенштерне, который оказался в 1809 г. в Вене. В это время Россия и Франция находились не только в мире, но даже формально были союзниками, и поэтому Левенштерну представилась возможность побывать в качестве зрителя поблизости от генерального штаба Императорской армии на полях битвы под Эсслингом и Ваграмом. Вот что он рассказывал: «Он (Наполеон) следовал шагом за наступательным движением армии. Канонада загрохотала по всей линии. День был солнечным, и зрелище битвы незабываемым. Наполеон был спокоен и молчалив. Со всех сторон подскакивали адъютанты с рапортами. Он слушал их и отсылал обратно, отдавая приказы невозмутимо и точно. Если нужно было отправить кого- нибудь с приказом, он никогда не назначал адъютанта, этим занимался Дюрок, который делал это по заранее составленному списку... Все происходило без суеты и затруднений. Ложное рвение, которое так часто видишь в иных генеральных квартирах, отсюда было изгнано ...»48
Свидетельство русского офицера подтверждается другим очевидцем, имевшим возможность сравнить генеральную квартиру Великой Армии с учреждениями подобного рода в других войсках, поляком Романом Солтыком, который в 1812 г. служил во французском штабе: «Позже, в течение моей жизни, я имел возможность наблюдать и других главнокомандующих и видел организацию других штабов, но нигде я не находил столько организованности, предусмотрительности и быстроты работы, как в штабе Наполеона...»49
Деятельность сложной и в то же время, как свидетельствуют приведенные документы, хорошо отлаженной машины генерального штаба французской армии была направлена к достижению многих целей, но прежде всего она служила надежной связи верховного командования со всеми частями и соединениями, быстрой и эффективной передаче приказов Императора. Можно с уверенностью сказать, что ни в одной европейской армии той эпохи непременное правило руководства войсками - единоначалие - не было выражено так ярко, как в армии Наполеона. От Императора исходили не только все общие приказы и все основные решения, он был поистине мозговым центром армии, где обрабатывалась вся важная информация, как о своих войсках, так и о противнике. На основе огромной массы сведений Наполеон уверенно принимал необходимое решение, которое тотчас же оформлялось в виде приказов, диктуемых им в своем личном кабинете. Очень часто, для того чтобы минуть, все лишние передаточные ступени между Императором и штабом, маршал Бертье сам лично записывал все распоряжения великого полководца, именно поэтому практически всегда - на марше, на биваке, во дворце, где располагалась Императорская ставка - начальник генерального штаба был поблизости от своего главнокомандующего. Днем и ночью Бертье, несмотря на огромную занятость, был готов явиться по первому требованию Императора. Усталость не смущала князя Невшательского, более того, в какой бы час ни позвал его Наполеон, в каких бы сложных походных условиях ни находился штаб, Бертье появлялся всегда вовремя, в мундире, безукоризненно застегнутом на все пуговицы, в начищенных сапогах со шпорами, со шляпой, которую он почтительно держал в руке.
Полученные приказы тотчас обрабатывались в штабе и рассылались по назначению. Как уже отмечалось, ни слова в этих распоряжениях не менялось. Задача штаба состояла не в том, чтобы корректировать распоряжения полководца, а лишь в том, чтобы извлечь из приказа то, что относится к тому или иному лицу, и облечь этот приказ в необходимую форму (добавив вступление, форму вежливости в конце и т.п.). Наконец, штаб должен был дополнить эти основные распоряжения приказами, обращенными к различным вспомогательным службам, так или иначе задействованным в выполнении данного указания. Неслучайно поэтому полное название должности Бертье звучит следующим образом: «Генеральный штабной начальник, рассылающий приказы Императора» («major-general, expediant les ordres de l'Empereur»). В этом смысле штаб Наполеона принципиально отличался от, скажем, германского генерального штаба конца XIX в., занимавшегося самостоятельно планированием крупнейших военных операций.
А. Роэн. Бивак Наполеона на поле боя под Ваграмом в ночь с 5 на 6июля 1809 г. © Photo RMN - G. Blot. Эта картина была написана по свежим следам событий и выставлена в Салоне в 1810 г.
Император, как уже не раз указывалось, многое оставлял на волю частных начальников, но не допускал никакого проявления самовольства со стороны штаба, который был для него лишь мощной машиной управления. Ряд крупных военных и гражданских историков (Бонналь, Сорель, Дюмулен) видели в этом чуть ли не причину катастрофы Империи. Вот что писал Морис Дюмулен: «Этот метод командования, основанный на недоверии, эта узкая концепция роли штаба, сводящая роль офицеров, находящихся в генеральском окружении, к функциям писцов, разносчиков эстафет или просто рубак на поле боя... является, как кажется, большой организационной ошибкой Наполеона и одной из основных причин его падения» 50.
Здоровая логика никак не может согласиться с этим положением. Ведь, еще раз подчеркиваем, речь шла не об изъятии инициативы у частных командиров, а о том, чтобы приказы главнокомандующего были донесены до подчиненных быстро и наверняка. И если для полководцев типа маршала Блюхера, у которых железная воля не сочеталась с мощью интеллекта, инициатива штаба была необходима (вспомнить хотя бы знаменитое решение начальника штаба прусской армии генерала Гнейзенау об отступлении на Вавр, спасшее союзников в 1815 г.), то Императору Наполеону она только бы мешала в осуществлении его замыслов и нарушала бы принцип единоначалия.
Наш краткий очерк, посвященный организации штабной работы в войсках эпохи Первой Империи, был бы неполным, если бы мы не оставили в нем немного места для описания организации главной квартиры Великой Армии на марше и на биваке. И хотя слишком длинные беспрестанные цитаты из мемуаров зачастую говорят не столько об эрудиции автора, сколько о том, что ему нечего сказать самому, есть случаи исключительные. В частности, это относится к уже упомянутым мемуарам барона Фэна, личного секретаря Императора. Какие бы авторы ни писали о генеральной квартире Наполеона на походе, они так или иначе опирались на этот источник первостепенной важности и либо просто цитировали его, либо переписывали своими собственными словами, ибо Фэн сказал почти все, что рассказывали об этом все прочие мемуаристы. Равным образом точность и наблюдательность императорского секретаря делают его записки уникальным документом. Предоставим поэтому Фэну стать главным автором последних страниц этой главы: «На походе, находясь среди своих войск, Император использовал три различных способа передвижения: специальную карету, легкий экипаж или бригаду верховых лошадей.
Карета была желтого цвета, очень основательно сделанная, она служила для больших переездов. Наполеон мог отдыхать в ней, как в спальном экипаже, здесь был матрас, чтобы прилечь, бумага, перо и чернила, маленькая походная библиотека и туалетный прибор; множество специальных выдвижных ящиков, содержащих разного рода принадлежности, дополняли оборудование этого дома на колесах. Так как сам экипаж был довольно тяжелым, Утверждали, что он под внешней оболочкой дублирован пуленепробиваемым стальным листом. Когда Император выходил из этой кареты, чтобы ехать среди войск, ее оставляли в арьергарде с фургонами свиты - она относилась к тому, что рассматривалось как тяжелый обоз. Этот обоз находился в ведомстве шталмейстера и двигался в двух-трех переходах позади армии под эскортом гвардейской элитной жандармерии.
Легкий экипаж, запряженный сменными лошадьми, относящимися к свите, служил Императору, чтобы переезжать от одного армейского корпуса к другому или чтобы проехать за несколько часов то расстояние, которое войска проходили за день. Этот способ передвижения "скачками" давал ему возможность, следуя за маршем армии, отдохнуть и выполнить текущие дела, связанные с работой его личного кабинета и штаба.
Экипаж ("купе") имел лишь два места. Император обычно путешествовал в нем с князем Невшательским, начальником генерального штаба, порой там можно было видеть неаполитанского короля Мюрата, когда тот был при армии; в отсутствие князя Невшательского в экипаж также мог садиться гофмаршал (Дюрок) или обер-шталмейстер (Коленкур).
Мамелюк Рустан располагался на переднем сиденье. В нескольких шагах впереди экипажа скакали два конных егеря Императорской Гвардии и два офицера- ординарца. Рядом с правой дверцей держался дежурный шталмейстер — в последних кампаниях это обычно были барон де Салюс, либо де Монтаран, либо де Мериньи. У лев.ой дверцы скакал гвардейский генерал, командующий эскортом. Чаще всего я видел на этом месте генералов Гийо и Лиона из гвардейских конных егерей. Вокруг экипажа и позади него скакали тесной группой адъютанты Императора, офицеры-ординарцы и пажи...
Императору, сопровождаемому таким образом, достаточно было сделать лишь знак рукой, чтобы оказаться на коне во главе своей свиты. Рядом с экипажем всегда вели под уздцы одного коня для Императора, другого для князя Невшательского.
Дежурный паж нес подзорную трубу, подвешенную через плечо. Рядом с дежурным адъютантом скакал "конный егерь портфеля". Это был егерь эскорта, он нес через плечо кожаную сумку с картами, письменным прибором и циркулем, которыми должен был всегда располагать дежурный адъютант. Если Император произносил: "Карту!", это значило, что ему нужна карта местности, в которой он в данный момент находился.
Далее ехал взвод эскорта, состоящий приблизительно из двадцати четырех гвардейских конных егерей. Иногда за ними ехал второй экипаж для гофмаршала, обер-шталмейстера и дежурного адъютанта.
Кроме этого имелась еще группа экипажей, которая двигалась впереди, чтобы Император по приезде имел уже ставку, готовую, насколько это было возможно, с находящимися на своих постах секретарем, комнатным лакеем и т. д.
Третья группа экипажей двигалась в нескольких часах езды позади Императора и транспортировала остальную часть свиты.
Конюшни с упряжными лошадьми были распределены по станциям. На станции были лошади для трех упряжек.
Как только марши переставали быть обычными этапами дороги, а превращались в боевые операции или рекогносцировки, Император переставал путешествовать в экипаже. Тогда все садились на коней. Малое обслуживание ставки, которое двигалось впереди, также садилось на коней, в колясках оставались лишь те службы, которые следовали позади.
Верховые лошади императорской свиты были разделены на бригады, каждая, как я помню, состояла из девяти лошадей, включая лошадей форейтора и конюха.
В каждой бригаде были лошадь для Императора, для обер-шталмейстера, для дежурного шталмейстера, для секретаря, для хирурга, для пажа, последняя - для Рустана.
Сменные лошади группировались вокруг бригады. Это были кони князя Невшательского, адъютантов и офицеров-ординарцев..."'
Император предпочитал лошадей арабских кровей, небольшого роста, серо-белого цвета, послушных, легко переходящих в галоп, иноходцев...
Император скакал очень смело и даже, можно сказать, отчаянно, обычно слегка ссутулясь, небрежно держа поводья правой рукой, в то время как левая свешивалась вдоль туловища, которое раскачивалось в такт движению коня. Он как бы целиком полагался на своего скакуна, который, впрочем, привык следовать за двумя егерями и двумя офицерами-ординарцами, всегда скакавшими впереди.
Император скакал то шагом, то рысью, погруженный в свои размышления, то он переходил на галоп. Он не боялся двигаться по самым трудным тропам, по болотистым низинам, по откосам скал и оврагов. Мамелюк становился тогда комнатным слугой на коне. Он всегда скакал позади своего хозяина, неся на крупе своего коня чемодан с самой необходимой сменной одеждой, всегда держа в резерве знаменитый серый редингот, который Император надевал поверх мундира в плохую погоду...
Когда Император останавливался, чтобы дождаться каких-либо сведений от рекогносцировок или просто чтобы люди передохнули, он нередко сам спрашивал, как обстоят дела с кухней. Тогда подводили мула, несшего на себе провизию, на земле расстилалась кожаная скатерть, которая укрывала до этого корзины, поверх нее располагалась еда. Наполеон садился у подножья стоявшего поблизости дерева, усадив рядом с собой князя Невшательского и приглашая к столу всю свою военную семью. Лица были веселы, ибо каждый от пажа до генерала находил на столе все, что ему хотелось.
В холодное или туманное время, когда Император останавливался на открытом воздухе, конные егеря эскорта тотчас разводили для него большой костер, рядом с которым он и располагался. Дежурный адъютант держался в нескольких шагах от него, чтобы получить приказы и подозвать тех, с кем желал говорить Император. Свита держалась на расстоянии. Вскоре загорался второй костер - он был предназначен для генералов, а затем и третий - для офицеров, четвертый - для обслуживающего персонала и т.д. Эти костры были местом всеобщего сбора. "Бивак Императора там" - все останавливались неподалеку, а если солдаты должны были продолжать марш, то не без того, чтобы бросить дружеский взгляд на "серый редингот".
До того как Император завел этот серый сюртук, он накрывался на холодных биваках светло-синим плащом с небольшим полуистертым шитьем на воротнике. Это был его "старый друг" еще со времен итальянского похода, Наполеон носил его всегда, и теперь этот плащ служит ему последнюю службу. Наполеон спит в нем на Св. Елене.
Когда марши совершались в непосредственной близости от неприятеля, Император брал на себя личное руководство всеми действиями, и это было настоящим удовольствием - следить за ним. Часто было видно, как он скакал от одной высоты к другой, объезжал города и деревни, чтобы проделать рекогносцировку неприятельской позиции, и не упускал из внимания ни одну складку местности. Он отдавал распоряжения с редкой предусмотрительностью. Его приказы были всегда короткими и точными, они быстро передавались по назначению офицерами-орди- нарцами и исполнялись тотчас же - никому не требовалось дополнительных пояснений»51.
Прервем на время повествование секретаря Императора и обратимся к свидетельствам других очевидцев, а также к документам. Все источники единодушны во мнении, что в походе, а особенно непосредственно накануне битвы, Император проявлял необычайные активность и энергию, сообщая свою волю сотням тысяч людей. Сам он сказал как-то в разговоре: «Я проделываю 25 лье в день на коне, в экипаже, как угодно. Я ложусь спать в восемь часов вечера, а в полночь начинается мой рабочий день».
Не надо удивляться, что Император избрал столь странное время для отдыха. Дело в том, что ночь была обычным периодом для прибытия рапортов от командиров корпусов, и именно тогда начиналась особенно активная работа в генеральном штабе. Наполеон анализировал поступившие сообщения, и на их основе отдавались новые приказы, что могло продолжаться всю ночь. Не без юмора рассказывает об этом офицер штаба Кастелан: «Знаменитый топограф Бакле д'Альб сказал мне как-то днем: "Сейчас он отдыхает на своей кушетке и потягивает лимонад (это был его любимый напиток) - значит ночью он нас замучает"»52. Поясним, что, когда в армии, и уж тем более, в генеральном штабе, говорили «Он» без всяких пояснений, это значило, что речь идет об Императоре.
Среди характерных особенностей наполеоновского стиля руководства войсками в ключевые моменты кампании бросается в глаза еще одна деталь - обязательные личные рекогносцировки позиций неприятельских войск. Уже отмечалось, что рекогносцировки принадлежали к одной из важнейших областей активной службы офицеров штаба, однако накануне генерального сражения Император не довольствовался рапортами своих подчиненных, он должен был все видеть сам. Рассказами о личных рекогносцировках Наполеона пестрят мемуары всех его приближенных. Приведем для примера свидетельства, относящиеся к моменту, предшествующему Бородинской битве. Уже упоминавшийся нами польский офицер Роман Солтык рассказывал: «Прежде чем дать битву на Москве-реке, Наполеон решил провести тщательную рекогносцировку неприятельских позиций и употребил для этого большую часть дня 6 сентября. Окруженный многочисленным штабом, он выехал на аванпосты, и, так как я был в его свите, я мог убедиться, с каким неослабным вниманием он изучал позиции противника. Не раз он поднимался на небольшие возвышенности, спешивался и с помощью подзорной трубы обозревал все части русских линий, узнавая время от времени дополнительную информацию у своих генералов... Наполеон вернулся к закату на свой бивак, чтобы отдать последние приказы на следующий день. Он прилег на свою походную кровать лишь на два часа» 53.
С авантюрными подробностями рассказывает о рекогносцировке Наполеона в этот же день и другой уже известный нам персонаж, барон Лежен, в начале кампании 1812 г. полковник штаба Бертье: «Шестого сентября едва рассвело Император с князем Бертье, принцем Евгением, двумя офицерами и со мной без привычной свиты отправился вдоль фронта армии противника. Повсюду наши передовые посты были чуть ли не в пистолетном выстреле от неприятельских, однако никто не стрелял друг по другу, кажется, что усталость предыдущих дней усыпила гнев сражающихся. Император использовал это обстоятельство, чтобы в деталях и как можно более близко рассмотреть, каким образом лучше атаковать русских. Я не без беспокойства видел, что он подвергается опасности нападения вражеских солдат, которые могли скрываться где-нибудь в овраге... Наполеон, однако, скакал первым и вдруг лоб в лоб встретился с патрулем из двадцати казаков, которые оказались в четырех шагах от нас. Казаки подумали, очевидно, что их захватили врасплох, и начали было разворачивать коней, но, увидев, что мы сами были в малом числе и стали уходить от них в галоп, они бросились преследовать нас и проскакали несколько сотен шагов. Впрочем, быстрота наших лошадей и мешавшие преследованию заборы помогли нам выпутаться из весьма деликатного положения» 54. Заметим, однако, что в рассказе Лежена Наполеона сопровождали лишь маршал Бертье и три офицера (вместе с автором), а Солтык указывает: «...окруженный многочисленным штабом...». Мы оставляем читателю право выбирать: идет ли речь о двух разных рекогносцировках 6 сентября, об отдельном эпизоде большой рекогносцировки, не замеченном или не описанном Солтыком, или просто Лежен, как это уже можно видеть в его мемуарах, отдается воле своего воображения. Не вызывает сомнений лишь то, что в памяти всех, кто окружал Императора, оставались эти беспрестанные, часто сопряженные с немалым риском, разведки, проводившиеся перед каждой значительной битвой.
Э. Детайль. Император, генералы и офицеры штаба.
A. П. Монжен. Бивак Наполеона рядом с замком Эберсберг, 4 мая 1809 г. © Photo RMN. Arnaudet / J. Schormans. - Картина Монжена - одно из самых точных изображений походного лагеря Императора.
А. Адам. Бивак Императора перед Витебском 28 июля 1812 г.
Как видно из этого рисунка, сделанного с натуры, на биваке Императора присутствует только три палатки.
Получив всю необходимую ему информацию, Император, когда позволяли обстоятельства, собирал вокруг себя своих ближайших соратников, чтобы отдать последние устные распоряжения перед генеральным сражением. Так было на рассвете перед битвой под Аустерлицем, так было ночью перед Бородиным. Жиро де Л'Эн, адъютант генерала Дессе в кампании 1812 г., рассказывает: «Ночью Император собрал вокруг себя всех маршалов и главнейших из генералов, чтобы сообщить им свои инструкции на завтрашний день. Каждый, получив их, вернулся на свой бивак, и уже в письменном виде приказы были донесены до дивизий. Это было посреди ночи. Генерал Дессе получил распоряжение, касающееся его дивизии. Мы начали читать приказ при свете костра, вокруг которого мы, наполовину заснувшие, сидели, приткнувшись друг к другу, но это чтение... представляло для нас слишком большое значение, чтобы мы могли пропустить хоть слово из него» 55.
Обычно еще до первых лучей солнца все были на своих местах, и когда канонада, вдруг начинавшая грохотать по всему фронту, возвещала о начале новой великой битвы, Император неизменно находился на своем командном пункте, располагавшемся чаще всего за серединой фронта своих войск.
В регламенте от 14 января 1812 г. о размещении императорской свиты во время боя говорилось: «Когда Его Величество находится во главе своей армии перед неприятелем, он не желает, чтобы его сопровождал кто-либо, кроме лиц, ответственных за бригаду лошадей, и взвода охраны, с ним также должны находиться начальник штаба с одним из своих адъютантов и высшим офицером штаба, гофмаршал, два адъютанта Императора и два ординарца.
Все остальные адъютанты и офицеры-ординарцы Его Величества, офицеры его свиты, адъютанты, состоящие при свитах генералов, составляют вторую группу в 200 туазах (400 м) дальше от неприятеля, чем Император. С этой группой находится бригада верховых лошадей Его Величества.
Адъютанты начальника штаба, офицеры его штаба, которые ему наиболее необходимы, офицер с сумкой с документами через плечо, генерал, командующий артиллерией армии, генерал, командующий инженерными войсками, составляют третью группу, также находящуюся в 200 туазах дальше от неприятеля, чем Император, но левее второй группы.
Остальная часть штаба и все, что к нему относится, а также остальные верховые лошади располагаются, по крайней мере, в 600 туазах (1200 м) позади Его Величества и находятся под командованием штабного генерала.
Дежурный эскадрон располагается в зависимости от обстоятельств»56.
Впрочем, насколько исполнялся этот регламент, трудно сказать: «Когда Император слишком приближался к опасности, он отсылал всех своих офицеров и едва позволял оставаться с собой князю Невшательскому и герцогу Виченцскому (Коленкуру). Один паж имел привилегию не удаляться от него и подавал подзорную трубу, когда это было необходимо. Неоднократно я видел, как гофмаршал и обер-шталмейстер были обеспокоены тем, что многочисленная и блестящая кавалькада главной квартиры слишком привлекала внимание и вражеские ядра падали совсем близко от Императора. В этом случае Наполеон намеренно оставался на месте, стараясь отослать всю свиту назад, но подобные приказы всегда плохо исполнялись, столь трудно было убедить молодых людей, таких как наши, что какое-либо опасное дело могло обойтись без их участия»57. Эти строки принадлежат человеку, без которого, как мы уже сказали, трудно было бы представить себе эту небольшую экскурсию по императорской главной квартире, барону Фэну. Ему же принадлежит лаконичное описание бивака, который разбивали для императора и его свиты тогда, когда пушки смолкали, а в наступающих сумерках оркестры Гвардии играли «Победа за нами!»: «На поле боя палатки Императора ставили посреди каре Императорской Гвардии. Тогда гвардейские генералы пополняли собой его двор или, скорее, военную семью...
В императорской ставке было три главных палатки*: палатка Императора, палатка офицеров свиты и палатка начальника генерального штаба. Эти палатки были из холста с синими и белыми полосами, обрамленные бахромой из красной шерсти. Жилище Императора было разделено холщовой перегородкой на две соединявшиеся между собой комнаты.
* Регламент от 14 января 1812 г. говорит о 8 палатках (см. Приложение VIII), однако, как бы это ни было странно, мы больше доверяем в данном случае мемуарам. Из предыдущих глав читатель, видимо, уже хорошо понял, что к официальным предписаниям надо подходить очень осторожно, никогда без проверки не принимая их буквально. Практически все воспоминания современников, а также иконографические документы того времени указывают лишь на наличие двух-трех палаток в ставке Императора, в частности это относится и к периоду войны 1812 г.
Первая была его кабинетом. Здесь стоял небольшой письменный стол, кресло, отделанное красной кожей, предназначенное для Императора, и два табурета, один для секретаря, другой для дежурного адъютанта, стол и сиденье были складывающимися. Вторая комната служили спальней, здесь ставили небольшую складную металлическую кровать с ремешками посередине, поддерживающими матрас, и занавесями из плотного шелка зеленого цвета. У подножия кровати клали коврик, взятый с пола экипажа, кроме того, в комнате находился походный туалетный прибор.
Палатка была двойная, т. е. она состояла из внешней палатки, растянутой на колышках, и как бы вложенного в нее внутреннего тента. Промежуток между этими двумя палатками, представлявший собой служебный коридор, использовался как склад. Здесь же обычно находились комнатный лакей и мамелюк. Сюда складывали днем чемоданы, матрасы и чехлы от палаток.
Ночью, когда Император ложился на кровать, в "кабинет" вносили два тюфяка, которые дежурный адъютант и секретарь называли своими кроватями.
Палатка, мебель, стальная кровать, матрасы - все это складывалось, помещалось в кожаные чехлы и переносилось на спинах мулов.
Обслуживающий персонал ставки очень быстро ставил палатки - менее чем в полчаса, несмотря на то, что это делалось почти всегда глухой ночью, ибо очень часто Император принимал решение о том, где располагаться лагерем, в поздний час. Сначала очищали место, но, конечно, не так хорошо, как это могли бы сделать днем, в чем я однажды убедился и что никогда не забуду. Это было вечером после большой битвы, мы очень долго ждали, когда наконец будут расставлены палатки. Едва это было сделано, как я залез в коридор между тентами и, сморенный усталостью и сном, прилег, как мне показалось, на мягкий чемодан. Каково же было мое пробуждение! Моя кровать оказалась трупом погибшего во вчерашней битве! Horresco referens! До сих пор я содрогаюсь, вспоминая этот эпизод!» 58
Конечно, не всегда императорская ставка располагалась столь неуютно. Когда армия проходила через населенные пункты, главная квартира находилась чаще всего в доме: в крестьянской лачуге или роскошном дворце - это уже зависело от обстоятельств. Неизменными оставались только порядок, организованность и энергия всего персонала ставки от Императора до последнего штабного секретаря.
Эта безостановочная, слаженная и порой просто самоотверженная работа главной императорской квартиры и штабов соединений Великой Армии, без сомнения, еще один из «секретов» череды наполеоновских побед.
1 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors generaux et divisionnaires P., 1813, p. 5.
2 Ibid., p. 16.
3 Ibid., p. 15.
4 Lejeune L.-F. Memoires du general Lejeune. P., 1895, t. 2, p. 256.
5 Цит. по: Philip de. Etudes sur le service d'etat-major pendant les guerres du Premier Empire. P., 1910, p. 24.
6 Saint-Chamans A.-A.-R. de Memoires du general comte de Sant-Chamans, ancien aide de camp du marechal Soult (1802-1823). P., 1896, p. 50.
7 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P., 1893— 1895, t. 2, p. 26-27.
8 Ney M. Memoires du marechal Ney, due d'Elchingen, prince de la Moskowa. Bruxelles; 1833, t. 2, p. 358.
9 Fezensac R.-E.-P.-I. de Montesquiou, due de. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 139, 118.
10 Saint-Chamans A.-A.-R. de. Op. cit, p. 204.
11 Paulin I.-A. Souvenirs du general baron Paulin. P., 1895, p. 64.
12 Gonneville A.-O. de. Souvenirs militaires P., 1875, p. 140.
13 Saint-Chamans A.-A.-R. de. Op. cit., p. 168.
14 Gonneville A.-O. de. Op. cit, p. 120-121.
15 Correspondence... t. 11, p. 318.
16 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors... p. 256-257.
17 Castellane V.-E. Journal du marechal de Castellane (1804-1862). P., 1895-1897, p. 111.
18 Ibid., p. 184.
19 Correspondence... t. 11, p. 155-156.
20 Foucart P. Campagne de Prusse, 1806. P., 1887-1890, p...
21 Brack F. de. Avant-postes de cavalerie legere. P., s d., p. 141.
22 Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988, с. 47.
23 Saski. Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. P., 1899-1902, t. 2, p. 368-369.
24 Martinien A. Tableaux par corps et par batailles des officiers rues ou blesses pendant les guerres de FEmpire, 1805-1815. P., s d., p. 582-583.
25 Ney M. Op. cit, p. 391.
26 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors... p. 299-300.
27 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 1891, t. 2, p. 183-184.
28 Ibid., p. 197-198.
29 Ibid., p. 198-199.
30 Operations du 3ecorps 1806-1807. Rapport du marechal Davout, due d'Auerstaedt. P., 1896, p. 25.
31 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors... p. 300-301.
32 Ibid., p. 302.
33 Saski. Op. cit., t. l,p. 37-38.
34 Ibid., p. 129-130.
35 Correspondance... t. 14, p. 565-566.
36 Rapp J. Memoires du general Rapp, aide de camp de Napoleon, ecrits par lui-meme. P., 1895, p. 55-56.
37 Ibid., p. 49-50.
38 Цит. по: Journal des Sciences Militaires P., 1827, t. 8, p. 110.
39 Correspondance... t 1, p. 549.
40 Montholon C.-F.-T. de. Recits de la captivite de l'Empereur Napoleon a Sainte-Helene, par le general Montholon. P., 1847.
Las Cases Memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p. 99.
41 O'Meara B.-E. Napoleon en exil ou Гecho de Sainte-Helene... P., 1822.
42 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires..
43 Fezensac R.-E.-P.-I. de Montesquiou, due de. Op. cit., p. 211-212.
44 Lejeune L.-F. Op. cit.
45 Ibid., t 1, p. 116.
46 Fezensac R.-E.-P.-I. de Montesquiou, due de. Op. cit., p. 210.
47 Fain A.-I.-F. Memoires du baron Fain, premier secretaire du cabinet de l'Empereur. P., 1908, p. 241-244.
48 Lowenstern W. Memoires du general-major russe baron de Lowenstern. P., 1903, t. l,p. 123-124.
49 Soltyk R. Napoleon en 1812. Memoires historiques et militaires sur la campagne de Russie par le comte Roman Soltyk. P., 1836, p. 69.
50 Dumoulin M. Precis d'histoire militaire. Revolution et Empire (jusqu'a 1808). P., 1901, t. 2, p. 68.
51 Fain A.-I.-F. Op. cit, p. 230-231.
52 Castellane V.-E. Op. cit, p. 110.
53 Soltyk R. Op. cit, p. 211, 213.
54 Lejeune L.-F. Op. cit, t. 2, p. 205-206.
55 Girod de l'Ain J.-M.-F. Op. cit.
56 Margueron. Campagne de Russie (1810-1812). P., 1912, p. 544.
57 Fain A.-J.-F. Op. cit, p. 249-250.
Глава Х. АРМИЯ В ГАРНИЗОНЕ, НА МАРШЕ, БИВАКЕ И ПОСТОЕ
Те, кто воевал в эпоху Наполеона... знают, что на войне гораздо труднее свыкнуться с лишениями и усталостью, чем с опасностью, к которой привыкаешь и которую с каждым днем встречаешь все более хладнокровно…
Солтык
В этой главе нам предстоит спуститься с высот стратегических комбинаций на уровень вполне земной и вместо блеска императорского штаба увидеть грязь биваков и рутину казарменной жизни. Увы, великие битвы составляли лишь эпизод в жизни солдат и офицеров - основную часть своего времени эти люди проводили в бесконечных переходах и в прозаических заботах лагеря, казармы или бивака. Более того, как мы уже упоминали, даже основные потери армия несла вовсе не в огне сражений, а от лишений, которыми сопровождалась походная жизнь. Но все же с нашей стороны не было ошибкой начать описание наполеоновских войск с их боевой деятельности. Ведь эти люди в прожженных бивачными кострами, перепачканных шинелях и драных походных штанах, так часто холодные и голодные шли вперед и страдали именно ради великих битв; а в часы отдыха, вокруг наконец-то разожженного костра, на котором весело булькал котелок с долгожданным супом, в лагерном бараке или на постое в крестьянской избе основной темой их разговоров, шуток или хвастливых рассказов, смыслом их жизни был бой, грандиозные победы и удивительные подвиги.
Именно поэтому, только отдав должное великому, мы перейдем к малому. И начнем мы описание этой будничной жизни армии с самого начала, с того, с чем прежде всего приходилось сталкиваться новобранцу, - с казармы.
Несмотря на обилие мемуаров и дневников младших офицеров армии Наполеона и даже простых солдат, эта сторона военной жизни почти не нашла отражения в их произведениях. Объяснение данному факту найти нетрудно: во-первых, монотонность казарменной жизни не особенно предрасполагала к описанию ее на страницах мемуаров, а во-вторых, в эпоху Империи войска не засиживались в казармах - ведь шла практически непрекращающаяся война. Тем не менее не следует все же впадать в крайность, утверждая вслед за рядом авторов, что в Наполеоновскую эпоху солдаты не знали казарм. В короткие мирные передышки значительная часть полков располагалась в специально отведенных для них помещениях. Но нельзя также забывать, что каждая часть имела свое депо - пункт, где собирались и обучались новобранцы перед посылкой их в действующую армию, здесь хранился архив, часть полкового имущества, а в ряде случаев и знамена (например, в артиллерийских полках и в частях легкой кавалерии Орлы почти постоянно находились в депо). В общем же на основе анализа послужных списков рядовых (см. гл. II) можно предположить, что каждый солдат эпохи Империи провел в казарме не менее нескольких месяцев. Так что казарменные коридоры не были чем-то неизведанным для гренадеров и гусар Наполеона. Последуем же за ними на некоторое время внутрь этих помещений, название которых, увы, стало синонимом однообразия и ограниченности.
Большинство французских казарм того времени были построены при Старом Порядке в конце XVII и в XVIII вв. Это были прочные толстостенные каменные здания со сводчатыми потолками, так как располагались они чаще всего в крепостях и, соответственно, были сконструированы так, чтобы выдержать в случае осады обстрел тяжелыми ядрами. В эпоху Революции под казармы были переданы также помещения ряда монастырей и особняков. Один из современников не без юмора писал по этому поводу: «Солдат всегда располагается в лучшем доме города. Пойдите в Сен-Дени и спросите лучший особняк - Вам покажут казарму. В Венсенне солдаты живут в палатах наших королей, в Авиньоне - во дворце римских пап... В Париже, Сен-Дени, Рюэле есть очень хорошие казармы. Некоторые из них были построены для своего назначения, другие были монастырями, где Божьи девы в своих песнопениях воздавали хвалу Господу. Если бы стены имели уши, они услышали бы, очевидно, некоторую разницу с тем, что там поют сейчас» 1.
Если же отбросить юмор, то нужно отметить, что состояние этих зданий было самым разным. Рапорты инспекций депо полков, располагавшихся на территории Франции, большей частью отмечали, что «здания казарм в хорошем состоянии... казарменные помещения поддерживаются в чистоте. Предметы обмундирования и экипировки расположены в соответствии с регламентом, обстановка помещений и кухня содержатся в чистоте и порядке»2. Зато солдаты полков, находившихся в Италии и Голландии, как правило, жили в обстановке, далекой от роскоши. Рапорт инспекции, проведенной 5 термидора VIII года (24 июля 1805 г.) в г. Амерсфорте (Голландия), гласит: «Казармы в Батавии (Голландии) обычно очень плохи. Благодаря заботам главнокомандующего, во многих гарнизонах войска переместились в более "здоровые" помещения, но и они весьма далеки от наших французских норм. Несмотря на это, к чести солдат надо отметить, что в здании поддерживается чистота»3. Впрочем, не стоит, конечно, понимать слово «чистота» в современном его значении. Так, регламент от 12 октября 1791 г., сохранившийся в силе в эпоху Империи, предписывал: «Строго запрещается всем офицерам и солдатам, а также всем прочим лицам испражняться у стен казарм и офицерских жилищ, а также выбрасывать нечистоты из окон...»4 Можно предположить, что если подобные запреты воспроизводились в официальном документе, это было сделано не без надобности. В регламенте ничего не говорилось об умывальниках. Конечно, солдаты мыли руки и лицо, но делалось это только с помощью холодной воды и не слишком часто. Брились не каждый день, однако как минимум раз в неделю - по воскресеньям. С другой стороны, не стоит также впадать и в другую крайность - представлять себе казармы той эпохи как грязные бараки, наполненные нечистотами. Регламенты требовали ежедневной тщательной уборки комнат, коридоров, лестниц, двора и пространства в 4 туаза (8 метров) с внешней стороны зданий. О том, что во многих случаях это строго выполнялось, говорят нам мемуары современников. Вот что рассказывает гренадер Старой Гвардии Куанье: «Когда этот строгий командир (генерал Дорсенн) проходил по казарменным помещениям, он проводил пальцем по полкам для хранения хлеба и если находил там пыль, то старший по комнате получал четыре дня ареста. Он осматривал наши кровати, наши личные вещи и, не дай Бог, находил там грязное белье!»5
Как же выглядели французские казармы эпохи Наполеона? Многое в них напоминало казармы любой армии любого века, однако были и такие детали, которые, без сомнения, окажутся неожиданными для человека, знакомого лишь с современной военной жизнью.
Солдаты обычно располагались в комнатах по 14-18 человек, чаще всего это были военнослужащие из одного и того же отделения и взвода. Капралы жили вместе с рядовыми и были старшими по комнате. Капрал-фурьеры, сержанты и старшие сержанты, а также тамбур-мажоры располагались в отдельных помещениях. Что же касается офицеров, они не так-то часто жили в казармах, но если это имело место, то для них старались выделить квартиры или комнаты в отдельном здании.
Читателей, наверное, удивит, что солдаты спали по двое на одной кровати, и только унтер-офицеры (разумеется, и офицеры) имели отдельное ложе. Человека, с которым спали вместе, называли «товарищ по постели» (camarade de lit)... Впрочем, мы сразу предупреждаем, что из этого не следует делать никаких далеко идущих выводов, которые могут напрашиваться под влиянием современной извращенной культуры. Упоминания о гомосексуализме во французских казармах не встречаются решительно ни в одних мемуарах и дневниках этой эпохи, а столь странное по теперешним меркам размещение солдат объяснялось весьма прозаическими соображениями экономии материалов и отопления. Отсутствие всяческих извращений еще, впрочем, не означает, что спать вдвоем на одном ложе было большим удовольствием, особенно если учитывать, что регламентированная ширина кровати была лишь 110 см (длина 190 см). Вот что вспоминает будущий генерал Марбо о первых мгновениях своей военной карьеры, когда он, хрупкий семнадцатилетний юноша из хорошей семьи, записался в гусары: «Это было в первую ночь, которую я ночевал в казарме. Едва я лег спать, как здоровенный гусар, пришедший через час после всех остальных, приблизился к моей кровати и увидев, что там уже кто-то есть, снял со стены лампу и поставил мне ее под нос, чтобы разглядеть меня, а затем начал раздеваться. Видя, как он снимает одежду, я был далек от мысли, что он имеет намерение лечь рядом со мной, но скоро я понял, что ошибался, так как он весьма резко сказал: "Подвинься, салага!" Затем он залез на кровать, так что занял добрых три четверти ее, тотчас же заснул и начал громко храпеть. Я не смог сомкнуть глаз, особенно из-за запаха, распространявшегося из пакета, который мой товарищ засунул под валик, служивший нам подушкой... Оказалось, что мой любезный коллега был полковым сапожником, а пакет был его передником, пропитанным смолой, которой сапожники смолят свои нитки...»6 Впрочем, не будем особенно переживать за судьбу Марселена Марбо. Его папа был генералом, командующим дивизией, куда, кстати, входил и гусарский полк, тот самый, в который записался Марселей. Так что молодого солдата уже на следующий день положили спать в комнату, предназначенную для унтер-офицеров. Хуже было, наверное, тому, кто позже пришел на его место...
Кроме кроватей в каждом спальном помещении казарм находились: пирамида с личным оружием, камин или небольшая железная печка, служившие как для отопления помещения, так и для приготовления пищи, полка для хлеба, а иногда и других съестных припасов, большая полка для хранения ранцев, головных уборов и мундиров (эта полка проходила над изголовьем кроватей), наконец, стол и скамьи или табуреты. Оружие, находившееся в пирамиде, должно было быть аккуратно расставлено замком наружу и со спущенным курком. Рядом с каждым ружьем была приклеена этикетка с фамилией владельца. Подсумки на ремнях и полусабли пехотинцев подвешивались к специальной планке. Башмаки у пехоты, конское оголовье, шашки, сабли и пистолеты у кавалеристов были развешаны на гвоздях, вбитых в стену.
Обращает на себя внимание наличие оружия в спальном помещении. Солдат Наполеоновской эпохи совершенно не мыслил себя иначе как с оружием, причем, как уже отмечалось, в элитных частях пехоты и в кавалерии сабля или палаш были непременными атрибутами формы для выхода в город.
Наряду с этим бросается в глаза еще одна особенность казарм того времени - это присутствие в комнате продовольствия и кухонных принадлежностей. Солдаты готовили себе пищу сами (точнее, один из солдат, назначенный на дежурство) и питались непосредственно в спальном помещении. Более того, солдаты сами закупали продовольствие. За покупками обычно отправлялся капрал - старший по комнате, он же - глава артельного котла (ordinaire), в сопровождении рядового. По неписаной традиции, сделав покупки, означенные капрал и солдат могли выпить по стаканчику на общественные деньги. Капрал должен был вести книжку расходов на артельный котел, эта книжка проверялась старшим начальством. Сержанты и старшие сержанты питались отдельно от рядовых, часто для приготовления еды они нанимали себе повара или кухарку.
День в казарме начинался рано. В 6 утра летом (с 1 апреля по 30 сентября) или в 7 утра зимой раздавался грохот барабанов во дворе. По этому сигналу капралы должны были поднять своих подчиненных и произвести перекличку. Ее результаты они сообщали старшему сержанту, последний доносил информацию о числе присутствующих в его роте дежурному полковому адъютанту.
После подъема солдаты должны были заняться уборкой комнат, а наказанные за провинности убирали все остальное: коридоры, лестницы, дворы и нужники. Что же касается офицеров и унтер-офицеров, они занимались рапортами. Рапорты по каждой роте должны были быть заверены капитанами, и уже на основании этих бумаг дежурный полковой адъютант составлял общий отчет о состоянии полка, который он передавал в 9.30 майору, последний в свою очередь отправлялся с докладом к полковнику.
В 10 часов утра долгожданный сигнал барабана возвещал о том, что настал час «утреннего супа». К этому времени ответственные за кухню уже должны были приготовить основное и практически единственное блюдо, которым потчевали в казармах наполеоновской армии - суп. Не относясь, конечно, к изыскам французской кухни, солдатский суп был, однако, вполне питательным, а иногда и вкусным блюдом. Рецепт его не составлял военной тайны, и желающие попробовать такой суп могут легко его сделать, следуя предписаниям регламента: «Вода, которую наливают в котелок, должна иметь объем один литр в расчете на каждые 250 г мяса. Это мясо кипятится в воде на большом огне, чтобы добиться быстрого выделения пены, затем огонь убавляют и кладут соль из расчета 8 г на литр воды. Добавляют овощи в зависимости от сезона, их кладут за 1-2 часа до того, как будет вынуто мясо. Когда же мясо проварится 5-6 часов, а объем бульона уменьшится на 1/5 часть, поверх кладут куски хлеба, и котелок остается на слабом огне до момента принятия пищи, чтобы бульон не остыл...»7
В то время как солдаты, вооружившись ложками, по очереди зачерпывали суп из аппетитно пахнущего котла, дежурные офицеры проводили осмотр казарменных помещений на предмет чистоты, заодно контролируя и качество пищи.
В 10.30 новый сигнал барабана объявлял окончание столь приятного для многих занятия и сзывал полк на построение. Войска строились в три шеренги во дворе казармы в форме, предписанной приказом, отданным накануне, с оружием или без него, за исключением солдат и унтер-офицеров, заступивших в караул: они всегда должны были быть в полной форме и с заряженным оружием. Новый караул заступал на посты в 11.15. Что же касается всех прочих, они занимались по программе, установленной накануне. Чаще всего это были военные упражнения - «школа солдата», «взводная школа», «батальонная школа». Строевая подготовка, разболтавшаяся в эпоху Революции, активно подтягивалась в армии в эпоху Консульства, именно тогда, когда большая часть войск действительно находилась в казармах. Вот что вспоминает об этом знаменитый генерал Гвар- дии Роге, тогда командир 33-го линейного полка: «Надо было организовать обучение, а это было непросто: у большинства офицеров были весьма туманные представления о строевых упражнениях, мало кто толком знал устав... Я не оставил никому времени для безделья, больше некогда было болтать о политике, заниматься распутством и мелкими интрижками...» 8
Официальный регламент предполагал, что три раза в неделю солдаты должны были маневрировать в составе всего батальона, а два раза в неделю заниматься стрельбой по мишеням. Кроме того, как и во всех армиях мира, солдаты заступали в различные наряды, работали по благоустройству казарм и т. д. Особенно доставалось кавалеристам, ведь кроме исполнения обычных солдатских обязанностей им приходилось ухаживать за лошадьми, и потому их распорядок дня был несколько иным, чем в пехоте. Вот что рассказывает о своих служебных обязанностях рядовой полка Почетной Гвардии Станислас Жирар: «Примерно в пять часов утра трубач трубит подъем, а в 5.30 труба возвещает: "Дать сено лошадям". В шесть часов утра перекличка - все кавалеристы должны выйти на построение с мешками для овса. Сначала перекличку проводят бригадиры, затем вахмистры. После построения - "направо равняйсь, налево равнялись" - каждый идет к своей лошади, выводит ее из конюшни и в течение получаса чистит ее, ведет ее на водопой, ставит обратно в конюшню и находится при ней, пока она ест овес. Затем надо отправляться за фуражом. Одни идут с веревками для вязанок сена, другие - с мешками для овса. В 9 или 10 часов трубят: "Седлай!" - нужно выносить все снаряжение и седлать, иногда лишь только для того, чтобы проверить оголовье или уздечку, но иногда для того, чтобы отправиться на учение в поле. По возвращении надо расседлать лошадей и занести наверх в спальные помещения всю амуницию: седло, потник, вальтрап, оголовье и т. д. Затем мы обедаем: суп, бульон, овощи... Затем надо почистить обмундирование и амуницию и аккуратно разложить все по местам. Иногда от усталости засыпаешь на кровати. В три часа труба объявляет нам, что надо снова чистить лошадей, а в пять часов вечера мы снова садимся в седла. Часто утром мы выезжаем в холщовых штанах для конюшни и ведем лошадей на реку; по вечерам нам отдают приказ, в какой форме надо быть, а также как седлать: класть только одно седло или весь "гардероб"...»9
Впрочем, в этой однообразной рутинной жизни были и некоторые неожиданные моменты, характерные для армии Наполеона. Так, например, в ряде полков были организованы школы, где солдаты и унтер-офицеры обучались читать и писать. «Солдаты обучались бесплатно, сержанты платили франк в месяц... Занятия проходили тогда, когда не было маневров, с 11 часов утра до трех часов после полудня. О начале занятий возвещал барабанный бой. Обучение проходило в двух залах казармы Пепиньер, где были расставлены столы и стулья... Тот из "учеников", кто пропускал занятия без уважительной причины, лишался увольнения на восемь дней» 10. Впрочем, солдаты не только занимались с книжками, как прилежные школьники, но и в некоторых полках проходили даже курсы... танцев! Уже известный нам суровый гвардейский генерал Роге, служака и рубака, которого трудно было назвать утонченным любителем светских развлечений, очень серьезно относился к подобной деятельности своих подчиненных: «Эти занятия (танцами) необходимы солдатам: они придают им изящество, заставляют ухаживать за своей формой и быть ответственными в выполнении своего долга, они удаляют их от пьянства - порока, который разрушает нервы и отупляет того, кто ему предается. Солдат, который любит танец, обычно хорошо выполняет все обязанности, он старается избегать наказаний, которые лишили бы его почтенного удовольствия; занятия танцами позволяют солдату завести приятные знакомства, которые помогут ему иметь семейную жизнь, а также удаляют его от тех размышлений, которые никогда не должны приходить ему в голову» 11.
В казармах нередко организовывались и школы фехтования для желающих, а таких было немало, ибо мания дуэлей была распространена во французской армии не только среди офицеров (см. гл. XI).
Итак, как видит читатель, день солдата Наполеоновской эпохи был заполнен достаточно основательно. Обычно учения продолжались до 17 часов летом и до 16 часов зимой, когда треск барабана возвещал об их завершении. Солдаты отправлялись по своим комнатам, чтобы снова отведать супа из артельного котелка. Этот второй и последний прием пищи назывался «вечерним супом». После него солдаты получали немного времени, чтобы заняться личными делами. В час, назначенный командиром части, барабаны били отбой. С этого момента все унтер- офицеры и рядовые должны были находиться в казарме, где спустя полчаса проводилась вечерняя поверка. Снова составлялись рапорты наличия личного состава, казармы запирались, и никто без письменного разрешения командира роты не имел права выйти в город. Устав не уточнял, в котором часу нужно было ложиться спать. Этот час определялся командиром части, и сигналом ко сну был барабанный бой (в кавалерии он, разумеется, подавался трубой) - «Тушение огней» (Extinction des feux). Гасли свечи, и казармы погружались во тьму и тишину, нарушаемую лишь звуками шагов часовых. Иногда, впрочем, в ночное спокойствие вносились коррективы. Специальный патруль мог обойти казармы, чтобы удостовериться, что все солдаты находятся на своих местах.
Описанный нами распорядок относился к будним дням - субботы и воскресенья имели особую программу. В субботу, если вышестоящее командование не «радовало» своих подчиненных большими маневрами, солдаты занимались основательным наведением чистоты в казармах: мылись столы и стулья, выбивались одеяла и матрасы, чистились мундиры, оружие и экипировка. Наконец, воскресенье было торжественным днем. В 10.30 полковник проводил генеральную инспекцию части. В этот день уже наверняка выбритые солдаты в приведенных в полный порядок мундирах, сверкая начищенными бляхами, пуговицами и оружием, застывали в парадных рядах в ожидании своего командира. А для полков, расквартированных в Париже, прежде всего для Гвардии, воскресный смотр превращался порой в великолепный парад в присутствии самого Императора.
Мадемуазель Жюли де Вилла, девушка из провинции, посетившая Париж в 1810 г., оставила одно из наиболее красочных описаний парада на площади Карусель*: «Пехота, которая должна была совершать парадные эволюции, заполняла двор Тюильри и была облачена в нарядную, тщательно вычищенную униформу. Так как места на площади не хватало, войска стояли также на прилегающих улицах, где они ожидали своего часа. Площадь Карусель была занята кавалерией, а также толпой любопытных, которые расположились во всех свободных уголках, ими же были заполнены окна, выходившие на площадь и даже крыши домов. Перед главным входом во дворец группа маршалов и генералов ждала Императора, белого коня которого держали четверо форейторов.
* Точности ради отметим, что события, описанные Жюли, состоялись в четверг 7 июня 1810 г., однако это было редким отступлением от правила, согласно которому Император проводил парад по воскресеньям.
Н.-А. Тоне. Французская армия переходит через Сьерра-Гвадараму в декабре 1808 г. Версальский музей. Картина была написана вскоре после изображенных на ней событий и впервые выставлена в Салоне в 1812 г.
За несколько мгновений до часа тридцати раздались фанфары. Площадь тотчас же приветственно загудела. Император появился на пороге, вскочил на коня и проехал вдоль первых шеренг в сопровождении своих маршалов. С этого момента все внимание сосредоточилось на этом удивительном человеке, которого я видела в первый раз и сходство которого со всеми известными мне его портретами было столь поразительно, что я могла бы легко узнать его только по лицу; но еще он больше выделялся из окружающих простотой своего костюма. Простая черная шляпа, высокие сапоги, скромный синий мундир, на котором блестели лишь эполеты и выделялась орденская лента, - таково было облачение самого великого монарха мира...
Произведя смотр части собравшихся войск и побеседовав с солдатами, он сошел с коня, встал перед входом во дворец, немного впереди группы маршалов, и приказал начинать парад. Перед ним совершили эволюции части, стоявшие во дворе, и двинулись к выходу, чтобы дать место другим. Невозможно в полной мере передать мое восхищение порядком и стройностью движения войск, которые маршировали, словно единый монолит.
Император снова сел на коня, объехал ряды кавалерии и не спешивался уже до возвращения во дворец. Это восхитительное зрелище - парад кавалерии. Ничто не может быть столь прекрасным, столь блистательным и одновременно столь удивительным, ибо непонятно, как эти гордые и непокорные кони могут быть выучены так, чтобы двигаться так слаженно и в точности выполнять все эволюции, которые всадники требуют от них. Полк польских улан был особенно великолепен. Их изысканные костюмы и длинные пики, на концах которых развевались маленькие красно-белые флажки - все это было просто очаровательно.
Тяжелая артиллерия, представленная восемнадцатью-двадцатью пушками, также приняла участие в параде и заслужила похвалу Его Величества...»12
Увы, эти блистательные парады, как, впрочем, и жизнь в казарме, составляли лишь короткий момент в жизни солдат Наполеоновской эпохи. Армия воевала, что значило для большинства людей, ее составляющих, находиться в постоянном движении: «Мы шли направо, налево, вперед, иногда назад, мы шли и шли... Часто мы не знали, почему, но разве крутящаяся шестеренка спрашивает у часового механизма, почему она это делает? Она крутится - вот и все; так что мы делали, как шестеренка... Когда же мы останавливались, мы с удивлением пытались узнать, в чем дело: "Странно, что-то не так, часы остановились » 13.
Если месяцы, проведенные в казарме, оставили лишь бледный след в памяти наполеоновских солдат, то марши, их трудности, лишения и редкие радости запомнились им до конца жизни. Откройте любые военные мемуары эпохи Империи, и можно почти не сомневаться, что Вы найдете там очередное описание тягот походной жизни. Впрочем, прежде чем перейти к эмоциональной стороне этого вопроса, приведем несколько цифр, которые, возможно, красочнее любого драматического повествования. Это цифры, характеризующие состояние ряда соединений Великой Армии с июня по август 1812 г., в начальный период кампании. Данные сведения интересны для нас тем, что, во-первых, речь идет здесь о сравнительно долгом безостановочном марше и одновременно рассматриваются разные и весьма многочисленные отряды войск. Следовательно, никак нельзя сказать, что их потери были вызваны какими-нибудь случайными факторами, как-то: внезапной катастрофической непогодой, недисциплинированностью того или иного полка, деморализацией вследствие проигранного боя и т. д.
Потери на марше выступают здесь в своем, если можно так выразиться, чистом, «незамутненном» никакими обстоятельствами виде. Те пехотные соединения, изменения численности которых мы приводим, фактически не участвовали в боях вплоть до Смоленска, т. е. до 17 августа 1812 г., а дивизии тяжелой кавалерии - вплоть до Бородина (7 сентября 1812 г.). Таким образом, снижение численности в соединениях в исследуемый период можно связать только с самим фактом марша вглубь России, сопряженного уже тогда со значительными трудностями. Вследствие того что маршевые батальоны большей частью еще не догнали свои полки, пополнения, полученные в это время, были незначительны, так что динамика уменьшения численности войск проступает здесь очень отчетливо.
Во-вторых, важно, что речь идет о строго документальных цифрах отчетов, представляемых в ставку через каждые пять дней, а не об индивидуальном видении того или иного мемуариста. Наконец, интересно то, что приводимые данные относятся к периоду летнего наступления, то есть касаются маршей в сравнительно сносных, неэкстремальных условиях, в то время как, например, потери в печально знаменитом отступлении из России являются, конечно, исключением из правил. Кроме того, последние были вызваны не только холодом, голодом и болезнями, а в значительной степени определялись и боевыми действиями: беспрестанными атаками казаков, тяжелыми арьергардными боями, нападениями партизан, так что вычленить, что здесь связано с потерями чисто маршевыми, не представляется возможным. Впрочем, проследить снижение численности в период отступления, оставаясь в рамках строгого исследования, все равно невозможно, так как документов, сравнимых с ежепятидневными результатами перекличек на период отступления не сохранилось.
А. Адам. Марш дивизии Пино 16 июля 1812 г. На переднем плане - выбившийся из сил молодой солдат, его ружье несет старый гренадер, а ранец - командир батальона.
Потери частей на марше были колоссальными. Так, 1-я дивизия Великой Армии (дивизия Морана из корпуса Даву) уменьшилась менее чем за сорок дней марша (с 25.06 по 3.08) на 3282 человека, с 12 834 солдат и офицеров до 9552, потеряв, таким образом, 25,6% своего состава. Дивизия Фриана из того же корпуса за тот же период времени оставила позади 3477 человек из 12 985 (т. е. 26,9%). Наконец, дивизия Ледрю (10-я дивизия Великой Армии, корпус Нея) из 10 777 человек потеряла 3258, или 30,2% состава. При этом ни одно из перечисленных соединений вообще не участвовало в сколько-нибудь значительных боях с 25 июня по 3 августа.
Очевидно, что, как и в бою, способность стойко переносить лишения похода обуславливал моральный фактор. Соединения союзных войск в большинстве своем таяли значительно быстрее французских. Также не участвовавшие в боях в этот период времени (с 25.06 по 3.08) итальянские, вюртембергские и польские дивизии понесли колоссальные потери:
■ польская дивизия Зайончека из 11 569 человек потеряла 4999 (43,2%);
■ польская дивизия Каменецкого из 9059 - 3920 (43,3%);
■ вюртембергская дивизия Маршана из 7991 - 3984 (49,9%);
■ итальянская дивизия Пино из 12 069 - 6456 (53,5%)!14 Капитан вюртембергских войск вспоминал о первом периоде русской кампании: «Эти тяжелые марши в соединении с лишениями, которые нам приходилось выносить, опустошали наши ряды с неожиданной силой: тысячи людей исчезли за короткий промежуток времени, сотни из них покончили с собой, не имея возможности более выносить то, что выпало на их долю... В строю моей роты, смотр которой провел наш генерал, стояло лишь 38 человек. Когда она покидала гарнизон в родном краю, в ней было 150 солдат и офицеров. Так что она потеряла за несколько месяцев 112 человек, не приняв участия даже в самом ничтожном бою, не сделав ни одного ружейного выстрела!»15
Очень большие потери понесла на походе тяжелая кавалерия. Кирасирская дивизия Сен-Жермена с 25 июня по 23 августа уменьшилась в составе с 3111 человек до 1404, т. е. потеряла 1707 бойцов (54,7% состава!)16. Правда, нужно отметить, что эта дивизия участвовала в бою под Островно и в ряде авангардных стычек, однако ее общие потери в боях составили лишь одного убитого и троих раненых офицеров и около сотни нижних чинов. Следовательно, боевые потери составляли лишь малую долю в общем снижении численности дивизии.
А. Адам. Перед Пилонами неподалеку от Немана 29 июня 1812 г.
Во множестве павшие лошади - результат первых маршей по территории России.
Кстати, пехотные дивизии, впервые серьезно вступившие в дело под Смоленском и Валутиной горой, также потеряли от огня куда меньше солдат, чем на марше. Например, совокупный урон обеих польских пехотных дивизий в результате отчаянной атаки на предместья Смоленска (17 августа) составлял 1330 бойцов. Напомним, что при этом за месяц с лишним марша эти же дивизии лишились 8919 солдат и офицеров! Подобное соотношение и в дивизии Маршана. Вюртембержцы потеряли в бою под Смоленском, где, как известно, они не отсиживались в тылу, около 600 человек убитыми и ранеными, в то время как на пути от границы до Смоленска они потеряли не менее чем 4 тыс. солдат17.
Конечно, не все выбывшие из строя во время марша пропадали безвозвратно. Многие просто отстали, а что касается кавалерии, то ее потери были связаны прежде всего с падежом лошадей. Лишившись коня, кирасир или гусар мгновенно выбывал из «игры». Впрочем, слово «отставший» не должно восприниматься слишком безобидно. Оставшийся без всякой связи со своей частью, без присмотра офицеров, солдат часто превращался в мародера, откуда был недалек путь и до дезертира, иногда же он становился добычей партизан или просто разгневанных местных жителей. «В Испании мы не путешествовали поодиночке, - рассказывает мемуарист, - первое же дерево послужило бы виселицей для того, кто непредусмотрительно отправился один в дорогу. Нужно было двигаться сплоченной колонной с авангардом и арьергардом и быть всегда готовым открыть огонь»18. Так или иначе, по крайней мере, в пределах одной кампании, отставшие принадлежали скорее к категории безвозвратных потерь.
Именно поэтому умение совершать марши считалось поистине искусством. «Когда Вы видите полк, идущий по большой дороге, Вы, очевидно, воображаете, что нет ничего проще, чем им управлять. По команде "Марш!" все идут вперед, думаете Вы, и если шагают прямо достаточно долго, то в конечном итоге придут к цели. Полковник, который не принял бы других мер для обеспечения движения, кроме этой нехитрой команды, растерял бы половину своих людей после первого же перехода» 19.
Как же осуществлялся марш в наполеоновской армии?
В период ведения боевых действий войска начинали свое движение очень рано, нередко в 5-6 утра. Еще засветло в лагере или на биваке по всей линии войск раздавался грохот барабанов, выбивавших «Генеральный сбор» (La generale), и призывные звуки труб, игравших для кавалеристов команду «Седлай» (Boute-selle). По этим сигналам лагерь, бивак или казарма приходили в движение. Пехотинцы одевались, наскоро приводили в порядок амуницию, разбирали оружие; кавалеристы кроме этого седлали лошадей; артиллеристы и обозные запрягали пушки, зарядные ящики, повозки... Офицеры пехоты, кавалерии, артиллерии и штабные чины поторапливали подчиненных. Необходимо было быстро изготовиться к отправлению.
Через полчаса после сигнала «Генеральный сбор» лагерь снова оглашался треском барабанов и звуками труб. Это были команды «Построение» и «По коням». По этим сигналам роты строились, производилась перекличка, если выступали с бивака, то тушили бивачные костры. Если же это было в самом начале кампании и солдаты покидали казармы, то в этот момент майоры выступающих в поход частей в сопровождении офицеров инженерных войск и военных чиновников должны были обойти казармы, проверить их состояние и составить протокол ущерба, нанесенного казарме, если таковой имелся. Этот ущерб должен был быть возмещен из полковой казны. Если же части выступали с постоя, то в этот момент должен был осуществляться прием всех жалоб от городского муниципалитета и населения; также в случае нанесения ущерба имуществу жителей, этот ущерб должен был быть немедленно возмещен. Трудно, правда, вообразить, что последнее предписание особенно тщательно выполнялось в военное время, особенно его заключительная часть - о немедленном возмещении убытков. Тем не менее такое правило существовало и в момент совершения марша по территории Империи и союзных государств в общем соблюдалось.
Во время сбора капитаны должны были осмотреть свои роты, проверить их обмундирование и вооружение, а также проконтролировать наличие у всех солдат фляг с водой (причем в каждую флягу должна была быть добавлена ложка уксуса для дезинфекции).
После сбора рот капитаны выводили их на линию общего построения. Батальоны и эскадроны становились развернутыми линиями фронтом в ту сторону, где был неприятель. Снова звенели трубы и трещали барабаны - это была команда «К выносу знамени» (Aux drapeau). По этому сигналу бронзовые Орлы, несомые орлоносцами, в сопровождении элитных рот появлялись перед застывшими в торжественном молчании рядами.
Теперь войска были готовы отправиться в путь. Наставления того времени советовали не заставлять солдат томиться ожиданием, а поскорее начинать марш. Приказ к началу движения отдавал либо командующий войсками, собранными в данном лагере, либо назначенный им генерал. Короткий сигнал барабанов - и массы войск приходили в движение. Начинался новый день порой столь нелегкого марша.
Как же выглядели эти огромные массы людей и лошадей, идущие и идущие вперед по дорогам Европы?
То сомкнутые и строго организованные, то похожие на огромный караван-сарай, то катящиеся, словно всесокрушающий поток, то льющиеся тонким ручейком - все зависело от тысячи обстоятельств.
Когда марш происходил в отсутствие боевого соприкосновения, пехота шла обычно «рядами» (см. гл. VII), т. е. в колонну по три, когда развернутый в линию батальон по команде «направо» превращался в длинную колонну; кавалерия - в колонну по два, реже - по четыре. При таком марше приходилось обращать особое внимание на дистанции между солдатами, ибо колонна при малейшей небрежности могла сильно растянуться. Поэтому генерал Тьебо рекомендовал: «Если, несмотря на все наставления, марш "рядами" приведет к слишком большому растягиванию войск, чтобы наказать солдат, их следует заставить совершать марш в колоннах повзводно или по отделениям»20, (см. гл. VII).В последнем случае батальон двигался компактной группой, но пехотинцам приходилось держать равнение во взводах, к тому же нельзя было обходить небольшие, но малоприятные препятствия в пути, как лужи или грязь, что, как нетрудно догадаться, не вызывало большого энтузиазма личного состава.
«Мы шли то повзводно, то "рядами",наши офицеры были постоянно с нами в пешем строю, - писал в 1805 г. в дневнике сержант полка линейной пехоты, - капитан Жимье шел рядом со мной во главе роты и корректировал марш. Он объяснил мне, что головной направляющий должен иметь шаг короткий и строго отмеренный, потому что если правая часть колонны будет идти нормальным шагом, левая будет бежать галопом *. Офицеры должны идти со стороны, противоположной той, откуда дует ветер, чтобы не пылить на солдат. Если по дороге встретится грязь или лужи, не колеблясь, идите прямо по ним, иначе колонна растянется, и все будут еще больше уставать... Никогда не пейте по дороге. Утоление жажды вызывает лишь новую жажду. Заставьте солдат держать во рту соломинку, в результате у них будут сжаты губы, и пыль не будет попадать в рот, им не будет так хотеться пить... 21
Каждый час войска на марше делали небольшую остановку на 5-10 минут, называемую «остановка для трубок» (halte des pipes).Как следует из названия, она делалась для того, чтобы солдаты могли перекурить, попить воды, поправить амуницию и, разумеется, исправить свои естественные нужды. Кроме того, отставшие имели возможность догнать колонну. Раз в день делался большой привал на один-полтора часа, а иногда еще и малые привалы через четверть пути и через три четверти пути. Перед привалами войска выстраивались на дороге в линию, оружие составлялось в козлы, солдаты могли прилечь отдохнуть и перекусить, если было чем, разводить костры во время привалов запрещалось.
* Речь идет о марше повзводно. А так как в каждом взводе справа стояли солдаты более высокие, чем слева, то, естественно, их шаг был шире.
Фабер дю Фор. 4-й корпус Великой Армии на марше 30 июня 1812 г. Акварель. Ингольштадт, музей баварской армии. На акварели изображены солдаты корпуса Евгения Богарне, в частности, вюртембержская артиллерия, в рядах которой служил автор картины, под ужасающим ливнем, который обрушился на Великую Армию в этот день.
Э. Детайль. «Острие авангарда». Гусар 9-го полка, идущий впереди авангардного разъезда.
Несмотря на эти меры, призванные облегчить солдатам тяжесть пути, и повторявшиеся на все лады запреты не покидать строй во время марша, все равно не удавалось избежать появления отставших. Для того чтобы предупредить хотя бы частично это явление, проект нового походного регламента от 1812 г. вменял в обязанность применять ряд эффективных мер, которые, впрочем, употреблялись и до этого. Если верить генералу Тьебо, то именно благодаря этим мерам он организовал марш своей бригады в 1805 г., и именно так ему удалось образцово совершить переход на Сиудад-Родриго уже во главе дивизии в 1811 г. Вот что он рассказывает о последнем эпизоде: «На следующий день после моего приезда в Саламанку генерал Дорсенн провел смотр своей армии, немногочисленной, но великолепной, а вечером он собрал у себя всех ее генералов. От главнокомандующего я узнал, что только что поставленная под мою команду дивизия имеет дурную привычку совершать марш в беспорядке...
Отправление моей дивизии, которой поручалось двигаться во главе армии, было назначено на семь часов утра, но я приказал, чтобы уже в шесть часов утра она была под ружьем. Прибыв к войскам, я провел смотр и был строг к малейшим упущениям, затем я собрал всех старших офицеров и капитанов девяти батальонов, составлявших дивизию, и, проинформировав их о репутации, которую имели их войска, объявил о моей твердой решимости с этого же дня изменить ее. Чтобы добиться этого, я приказал принять меры, которые я употреблял не раз в подобной обстановке и которые всегда были успешны - ми. Я приказал, чтобы никто из солдат не покидал ряды кроме как на остановках (последние будут осуществляться лишь вдали от всех населенных пунктов каждый час); что если все-таки по абсолютной необходимости кто-то и выйдет из строя, он сделает это, лишь отдав ружье одному из своих, и покинет ряды только в сопровождении капрала; чтобы господа полковники и командиры батальонов держались на флангах своих войск, постоянно проезжая вдоль них от головы к хвосту и строго наблюдая за тем, что происходит на марше; чтобы командиры бригад вместе со мной осуществляли такое же наблюдение - они за своими бригадами, а я за всей дивизией; чтобы каждый батальон выделил сержанта и двух капралов и чтобы эти 9 сержантов и 18 капралов под командованием решительных и опытных капитана и лейтенанта следовали за дивизией и прочесывали все дома, заросли, огороженные места, мимо которых будет проходить дивизия. Я уточнил, что каждый батальон, в котором хоть один солдат отобьется от строя, будет в качестве наказания в течение часа двигаться повзводно, а командир роты, к которой относится этот отставший, подвергнется аресту.
Только один солдат из 31-го легкого полка сумел избежать бдительности своих командиров, но он был задержан моим взводом унтер-офицеров, и его батальон, равным образом как и командир роты, получили объявленное наказание. Урок пошел на пользу. Впрочем, мой начальник штаба, его помощники, мои адъютанты и я сам постоянно проезжали от головы дивизии к хвосту. Каждый в отдельности и все вместе находились под нашим неусыпным контролем. Согласно моей привычке, я столь же строго требовал поддержания точных дистанций и такого порядка, что даже если бы враг обрушился на нас с неба, он нашел бы дивизию готовой к бою... Генерал Дорсенн, проскакав мимо моей колонны около трех часов дня, крикнул мне, не задерживая галопа: "Генерал Тьебо, невозможно вести войска лучше, чем Вы!"»22
Прочитав это похвальное слово мастерству генерала Тьебо, составленное им самим, читатель может оказаться в недоумении. Либо Тьебо лжет, либо все, что мы писали до этого о потерях на марше, не соответствует действительности. Как это ни парадоксально, но, по всей видимости, мемуарист написал правду, так же как все, что говорилось до этого, — реальные факты. Объяснением кажущегося противоречия является то, что цифры потерь, которые мы приводили выше, и эпизод, описанный генералом, относятся к событиям разного порядка. Марш дивизии Тьебо продолжался лишь один день и был совершен в относительно благоприятных условиях: войска были неплохо снабжены провиантом и двигались днем при хорошей погоде. Армия, в состав которой входила дивизия, была сравнительно немногочисленной и, как отмечает сам мемуарист, «великолепной» (действительно, дивизия Тьебо состояла из закаленных солдат, прошедших суровую школу испанской войны). Марш же Великой Армии по дорогам России в начале кампании 1812 г. совершался гигантскими массами войск, в которых немалую часть составляли новобранцы. Он сопровождался лишениями, связанными с нехваткой провианта и фуража, и ужасной жарой. Марш был многодневным и почти что беспрерывным, а в огромном конгломерате корпусов, дивизий и обозов, двигавшихся по параллельным маршрутам и часто перекрещивающихся, было физически невозможно также точно выполнять разумные предписания устава и правил, упоминаемых Тьебо. Вот что вспоминает о наступлении Великой Армии летом 1812 г. один из ее офицеров: «Дорога на Москву была хорошей и широкой, с канавами по обеим сторонам, за которыми проходили дополнительные аллеи, обрамленные рядами деревьев. Мы двигались пятью колоннами. По каждой аллее шли одна или две пехотных дивизии, справа, еще дальше от дороги, прямо по полю - колонна легкой кавалерии, с левой стороны - тяжелая кавалерия, а в середине - колонна, состоявшая из отрядов всех этих дивизий. И все это топталось в пыли глубиной шесть дюймов...» 23 В этой пыли, о которой тот же мемуарист говорит, что «она была такая, что солдаты и офицеры не различали даже всадников, которые ехали впереди и часто видели лишь уши своих коней» 24, пехота и кавалерия вынуждены были порой двигаться в колоннах повзводно, что, как читатель уже знает, рассматривалось в нормальной ситуации как наказание; к тому же нередко шли по целине, ибо дорога оставалась для артиллерии и обозов. Нетрудно догадаться, что результаты подобного марша были совершенно иными, чем в движении дивизии Тьебо на Сиудад-Родриго!
А. Адам. Марш 4-го корпуса по дороге из Пилоны в Кроны 1 июля 1812 г.
Рисунок с натуры А. Адама убедительно иллюстрирует беспорядок, царивший на марше, в начале кампании 1812 г.
Что же касается марша в не столь экстремальных условиях, проект регламента 1812 г. и наставления практиков военного дела рекомендовали принять еще некоторые дополнительные меры предосторожности для облегчения походных тягот.
Не допускалось, чтобы офицеры в конном строю двигались в рядах войск, они должны были ехать с подветренной стороны от своей части. Равным образом необходимо было не позволять адъютантам и ординарцам скакать вдоль колонны по дороге, забрызгивая солдат грязью или подымая дополнительную пыль. Они должны были пользоваться так называемой «тропой для конных» - полосой вдоль дороги для движения одиночных всадников и вьючных лошадей. Нельзя было также допускать движение маркитанток в конном строю среди колонн на марше, им положено было двигаться лишь «тропой для конных». Наконец, требовалось строго пресекать появление в рядах движущихся войск всех посторонних, будь то солдаты других частей, будь то гражданские лица, состоящие при армии. В случае серьезных нарушений виновные в них должны были передаваться в руки жандармерии. Строго запрещалось стрелять из ружей на марше и стоянках, привязывать к оружию фляги и другие предметы (последнее с целью постоянного поддержания полной боевой готовности).
Чтобы зря не изнурять солдат, колонны на марше (в составе соединений) или на привале не должны были отдавать честь кому бы то ни было.
Известные нам наставления маршала Нея своему корпусу, которые, как уже отмечалось, сохранили некоторые рудименты стиля войн XVIII в., предписывают на марше поддерживать дух солдат военной музыкой: «Барабанщики и флейтисты будут находиться во время марша в голове своих батальонов, часть из них под руководством тамбур-мажора или капрала-барабанщика будет исполнять днем различные марши, но только в том случае, если войска не находятся поблизости от противника. Музыканты будут идти во главе полков и время от времени исполнять воинственные мелодии. Кавалеристы будут трубить в фанфары...»25 Трудно определить, насколько часто исполнялись данные предписания во время кампании. Можно с уверенностью сказать, что в зимнем походе 1807 г. или в октябрьском отступлении 1813 г. кавалерия не «трубила в фанфары». Однако масса свидетельств очевидцев говорит, что даже в самые тяжелые походы (за исключением уж совсем катастрофических моментов отступления из России) строго исполнялось положение: «При проходе через любые населенные пункты пехота должна примыкать штыки, кавалеристы - взять сабли наголо, барабанщики будут бить в барабан, трубачи - играть на трубах»26. С особой торжественностью, несмотря на все трудности, войска проходили через города. Вступать в город полагалось «в колонне повзводно или по отделениям, в величайшем порядке, с генералами во главе своих бригад и дивизий, при звуках музыки и барабанов»27.
Вот что рассказывает будущий офицер-ординарец Императора Хлаповский о том, как он, молодой человек из знатной польской семьи, первый раз увидел французскую пехоту, входившую в его родной город Познань (Позен): «Дивизия французской пехоты из корпуса маршала Даву прибыла первой и произвела на меня сильное впечатление. Многие из нас отправились за город, чтобы встретить ее. В часе ходьбы от города мы увидели поле, покрытое пехотинцами в разноцветных шинелях. Они шли, держа ружья прикладами вверх, и старались пройти по сухим местам, так как дорога была покрыта грязью по колено. Когда они приблизились к городу, поравнявшись с ветряными мельницами, забили барабаны, и солдаты заспешили со всех сторон, чтобы занять свое место в строю. В мгновение ока они свернули свои шинели, поправили шляпы (ибо в ту эпоху вся французская пехота еще носила шляпы) и превратились в стройные организованные массы, которые с музыкой во главе колонны скорым шагом вступили в город.
Они остановились на рыночной площади, вынули из ранцев щетки и счистили грязь со своих башмаков, весело болтая и пересыпая разговор шутками. Казалось, что они не сделали марша и в одно лье, а ведь они прошли уже все сто пятьдесят!
Я смотрел с удивлением на эту пехоту, состоящую из таких живых веселых парней, непобедимых доселе в бою. Все они были столь оживлены и бодры, что, казалось, сейчас пустятся в пляс. Пруссаки, которые незадолго до этого покинули Познань, были совсем другими. Они были, наверное, на голову выше французов и казались куда более сильными физически, но они были тяжеловесны, неповоротливы и выглядели смертельно усталыми, хотя не прошли и одного лье» 28.
Вообще французские войска в эпоху Наполеона изумляли всех своей способностью совершать длительные переходы. Собственно говоря, эта стремительность маршей в значительной степени представляла собой одну из составляющих оперативного искусства Наполеона, о чем мы уже упоминали, а Ульмская операция, разобранная нами в восьмой главе, фактически была выиграна отлично организованными и, несмотря на все трудности, исполненными маршами. Не менее показательной в этом смысле была и Прусская кампания 1806 г., где, благодаря стремительным маневрам французской армии, пруссаки были не только разбиты в генеральном сражении, но и неотступно преследовались до полного уничтожения. Нормальный дневной переход, в частности в кампанию 1806 г., составлял для армейского корпуса 20-30 км, однако даже марш в 40-45 км в сутки не рассматривался как экстраординарный. Так, 5-й корпус Великой Армии (маршала Ланна) 9 октября 1806 г. прошел 44 км, 7-й корпус (Ожеро) 12 октября прошел 37 км, 1-я дивизия 3-го корпуса в тот же день сделала марш в 44 км, ряд частей 4-го корпуса 11 октября прошли до 38 км и т. д. Однако это был совсем не предел. Когда требовала необходимость - прийти на помощь сражающимся частям или опередить противника в стратегически важном пункте, - соединения Великой Армии совершали порой чудеса. Так, 7-й корпус Ожеро вышел 10 октября в 16 часов из Кобурга и прибыл в Заальфельд 11 октября в 17 часов вечера с авангардом из кавалерии и конной артиллерии. Пехота подошла к ночи. Расстояние между указанными пунктами составляет 64 км! На рассвете 12 октября корпус выступил в 6 утра и прошел в течение светового дня еще 37 км. Таким образом, за 48-50 часов солдаты 7-го корпуса прошли около сотни километров!29 Мы говорим об этом, как о чем-то необычном, не потому что сомневаемся в том, что молодой, здоровый мужчина налегке, в спортивной обуви, сытно питаясь и отдыхая в теплой постели, по хорошей дороге пройдет подобное расстояние за указанное время без особого труда. Но речь ведь идет о десятках тысяч солдат, нагруженных, как мулы, с кавалерией, артиллерией, зарядными ящиками, обозными фурами и т. д. и т. п. Не даром уже упоминавшийся нами выдающийся военный историк Дельбрюк писал: «Военно-историческое исследование - в тех случаях, когда это позволяют источники, - лучше всего начать с подсчета численности войск. Числа играют решающую роль не только для выяснения соотношения сил... но и безотносительно, сами по себе. Передвижения, легко совершаемые отрядом в тысячу человек, являются уже затруднительными для 10 000 человек, чудом искусства для 50 000 человек и невозможными для 100 000»30.
Французская легкая пехота на марше, октябрь 1806 г. Раскрашенная немецкая гравюра того бремени.
П. Готеро. Наполеон обращается ко 2-му корпусу Великой на мосту через реку Лех неподалеку от Аугсбурга 12 октября 1805 г. © Photo RMN - Arnaudet. Император призывает солдат корпуса Мармома, несмотря на все трудности, продолжить форсированные марши с целью разгромить австрийскую армию Макка.
Форсированные марши давались, конечно, с огромными усилиями и жертвами. Ведь чтобы их осуществить, приходилось продлевать время движения на много часов. Если обычно войска завершали переход задолго до захода солнца - к 16, максимум к 17 часам, - то при форсированном марше приходилось идти уже в темноте. Все, кто воевал в эту эпоху, сами вспоминают с удивлением, до чего доходила их усталость в подобных переходах. Сержант Рави рассказывает об Ульмском маневре: «Полк шел днем и ночью, но что меня больше всего утомляло, - это марш в темноте. Самая сильная потребность человека - это сон. Я видел, как люди спали, продолжая идти, - то, что я считал невозможным. Неверный шаг приводил к тому, что спящие падали в канаву, как колода карт» 31.
Почти в таких же выражениях и об этом же моменте кампании 1805 г. рассказывает другой очевидец, будущий генерал Фезенсак, тогда пехотный унтер-офицер: «Эта короткая кампания была для меня как бы обзором всего того, что я должен был претерпеть впоследствии: жестокая непогода, беспорядки, чинимые мародерами, - всего хватало, и за один месяц я испытал все, что потом я испытывал последовательно в течение моей карьеры... Полк шел день и ночь, и что меня больше всего удивило - это то, что я первый раз видел, как люди спали на ходу, до этого я не мог в это поверить» 32. «Я так хотел спать, что спал и видел сны прямо на ходу, иногда, наступив на какую-нибудь колдобину или наткнувшись на одного из своих товарищей, я просыпался, замечая, что я обогнал свою роту»33, - подтверждает этот факт другой мемуарист.
Но никакие препятствия не могли остановить французские дивизии, когда им надо было идти на гром канонады, и солдаты знали, что от стремительного перехода зависит судьба кампании. И здесь, как везде и всегда в наполеоновской армии, командиры обращались к желанию покрыть себя славой и чувству чести своих подчиненных. 6 ноября 1805 г. маршал Даву отдал приказ по корпусу: «3-й армейский корпус должен знать, что этот марш будет стоить ему труда и лишений, однако его результатом будет то, что он станет авангардом для других корпусов и облегчит победу, сохранив кровь храбрых и верных солдат нашего великого Монарха. Если же препятствия, которые встретятся нам на пути, остановят нас, мы окажемся позади всех, в третьей линии» 34.
Однако сил хватало не у всех. Мемуары современников буквально переполнены тяжелыми воспоминаниями о лишениях на марше. Вот только некоторые из них, быть может, наиболее типичные: «Мы шли по дороге на Брюнн, покрытой войсками, которые едва можно было различить в облаках пыли, - вспоминает пехотинец об австрийской кампании 1809 г. - Жара, жажда и пыль исказила наши лица, так что они были просто неузнаваемы. Глаза провалились, щеки впали, рот был словно дыра, и высохший язык не мог издавать звуки... Жара была ужасающая. Австрийцы, которых мы преследовали, были одеты в мундиры из толстого сукна и обуты в тяжелые башмаки. Они умирали от усталости, и некоторых из них мы находили на дороге павшими от изнеможения без сознания»35. А вот еще одно свидетельство о уже хорошо известных нам маршах начала кампании 1812 г., причем речь здесь идет о дивизии Партуно, двигавшейся позади основной массы войск: «В наших рядах начала распространяться дизентерия, и за короткое время этим недугом заболело огромное количество солдат. А у нас, увы, не было ничего, чтобы поддержать силы, кроме нездоровой пищи. По мере того как мы углублялись в эти бескрайние молчаливые просторы, наши ряды начинали редеть. Через несколько дней страданий несчастные солдаты, пораженные этой болезнью, были столь истощены, что больше не могли следовать за колонной.
Тогда, выбившись из сил, они один за другим ложились на край дороги, оставаясь без помощи и без надежды ее получить...» 36
И все же самые страшные страдания солдаты Великой Армии испытали во время последних дней отступления из России, когда после перехода через Березину ударили жестокие морозы. Нет нужды приводить здесь многочисленные свидетельства - все они похожи и говорят примерно об одном. Вот, пожалуй, одно из наиболее ярких и точных: «Вся дорога покрылась сплошным льдом, как хрусталем, отчего люди, ослабленные усталостью и отсутствием пищи, падали тысячами; не будучи в состоянии подняться, они умирали через несколько минут. Тщетно звали они друзей на помощь, прося, чтобы им подали руку. Ни у кого не пробуждалось жалости - в этом поголовном несчастье самый чуткий человек мог думать только о личной безопасности. Вся дорога была покрыта мертвыми и умирающими; каждую минуту можно было видеть солдат, которые, не будучи больше в состоянии выносить страдания, садились на землю, чтобы умереть: действительно, достаточно было посидеть минут пять, чтобы пополнить ряды уже умерших. Друзья вели между собой разговор - один из них, чувствуя сильную слабость, сказал: "Прощай, товарищ, я остаюсь здесь". Он лег на землю, и через минуту его не стало»37.
Конечно, то, что пришлось вынести солдатам и офицерам армии Наполеона во время отступления из России, нельзя отнести к тяготам обычного марша. Было бы некорректно изображать подобную ситуацию, а особенно те отношения между солдатами, которые сложились вследствие невыносимых страданий, как типичные. Напротив, удивляет то, что в условиях, пусть тяжелых, но все же остающихся в рамках терпимого, французские солдаты сохраняли удивительное самообладание и даже веселость. Примеры подобного их стоически насмешливого отношения к тяготам бесконечных маршей читатель найдет в следующей главе, посвященной духу армии.
Но на трудностях самого марша лишения походной жизни не кончались. Следующей их непременной составляющей был бивак.
«Итак, мы остановились посреди очаровательной равнины... перепаханной артиллерией, истоптанной кавалерией и на которую весь день лил дождь. Вот здесь мы и будем спать под открытым небом»38, - так вкратце резюмирует значение слова бивак один из тех, кто не раз испытывал его прелести. Не следует забывать, что с эпохи революционных войн французская армия практически отказалась от палаток, а ночной отдых войск осуществлялся отныне просто на голой земле вокруг костров. Хотя палатки официально никто не отменял, и, заглянув в уставы, вы найдете подробное расписание их размеров и правил разбивки палаточного лагеря, самих палаток солдаты Наполеона обычно в глаза не видели. «Во всех походах, которые я проделал в эпоху Империи, я никогда не видел других палаток, кроме двух с сине-белыми полосами. Эти палатки были натянуты посреди ставки, одна из них принадлежала Императору, другая - начальнику его штаба»39, - вспоминает современник. Действительно, практически ни на одном из иконографических документов той эпохи мы не находим изображения солдатских палаток. Те же редчайшие изображения, на которых мы можем их видеть, демонстрируют нам стационарные лагеря, о которых речь пойдет ниже. Впрочем, даже в этом случае употребление палаток было чем- то из ряда вон выходящим. В ходе же маршей, совершаемых огромными массами войск не было никакой возможности транспортировать палатки, равным образом как и заниматься установкой лагеря. С приближением вечера колонны усталых, перепачканных солдат останавливались на месте, избранном командованием. Располагались обычно подивизионно, реже побригадно. Это значит, что конкретная точка остановки определялась командиром дивизии (или, соответственно, бригады) и все подчиненное ему соединение должно было размещаться на ночь единой массой.
Прибыв на место, командиры наводили порядок в колонне, отставшие спешили занять свои места в строю. По команде «налево во фронт» дивизия из колонны повзводно разворачивалась фронтом к неприятелю в трехшереножную развернутую линию. Офицеры производили проверку наличия людей в строю, назначались солдаты и унтер-офицеры для несения караульной службы, выделялся «гран-гард» - основной сторожевой пост под командованием офицера. Иногда цепь часовых полностью окружала бивачное расположение, не впуская и не выпуская никого без разрешения командования, будь то свои солдаты или солдаты соседней дивизии или бригады. Однако последнее было скорее редкостью. Вот как живописует бивак очевидец: «...ружья составлены в козлы, караулы находятся на своих местах, и отделения начинают поиски мест, наиболее приемлемых, чтобы превратить их в спальни. Как только это место найдено, солдаты разбегаются по окрестностям. Немного спустя самые ловкие уже идут обратно. Они уходили налегке, а возвращаются тяжело нагруженными, складывают свой груз и исчезают снова. Чтобы представить себе этот первый момент бивака, вспомните работающих муравьев: торопящихся, суетящихся, сталкивающихся в пути... Один несет дрова, другой - солому, третий - провизию, четвертый - кухонные принадлежности. Где они все это взяли? Спросите у несчастного крестьянина...
Как только бивак достаточно снабжен, то есть больше нечего брать вокруг себя, все собираются вокруг своего очага и начинают помогать "повару". Курицы ощипаны, выпотрошены, и скоро уже они вращаются над горящими головнями. Наконец, после двух часов бега и работ "по благоустройству" зубы впиваются в мясо, непрожаренное с одной стороны, зато спаленное с другой. Это называется хорошо ужинать.
Завершение пира требует разговора, который обычно вращается вокруг поглощенного ужина и вокруг того, как он был раздобыт. Вертясь в течение пары часов около постоянно поддерживаемого пламени костра, солдаты занимаются тем, что прожигают свои шинели, чтобы получше их высушить.
Наблюдатель этой сцены мог бы подумать, что люди пытаются подражать вращению куриц, которые только что висели над огнем, и так как им уже нечего жарить, занимаются поджаркой самих себя.
Так, в общем, проходят четыре-пять часов. Уже девять вечера - пора спать. Каждый устраивается как можно ближе к огню, причем так, что у некоторых ноги почти что в костре.
Внезапно в шинель вашего соседа закатывается горящий уголь, его штаны задымились и вот, наконец, этот процесс ощутила и кожа. Бедолага вскакивает с воплем, не самым приятным образом топча руки и ноги тех, кто лежал вокруг него. Если даже вы при этом и не были потоптаны, то крики и проклятия все равно прервут ваши сладкие сновидения...
Уже около трех часов утра. Редко вам удастся поспать более этого времени... Вы так замерзли, что дрожь, подобная лихорадке, охватывает вас. Вы подползаете к еще тлеющим углям, вы бледны, ваши зубы стучат, и если посторонний наблюдатель увидел бы вас в этот момент, он наверняка подумал бы, что перед ним один из страшных бледных и окровавленных призраков, которых мадам Радклиф для развлечения читателя так мило поднимает из могил в своих романах...
Ночь на биваке завершается. Нечего больше думать о сне. Вам осталось на завтрак несколько костей от ужина... Скоро взойдет солнце, и вы снова отправитесь в поход...» 40
Эта блистательно сделанная зарисовка «с натуры» в общем освещает то, что бесконечное количество раз пришлось испытать солдатам Великой Армии во время «отдыха» на биваке. Нам осталось лишь сделать несколько замечаний и уточнений.
Прежде всего отметим, что не все, конечно, разбегались за едой и дровами. Обычно от роты на добычу выделялось человек по двадцать самых неутомимых «искателей». Остальные, не считая, конечно, караульных, устраивали бивак на месте: рубили еловый лапник (если он был), чтобы устроить ложе для ночлега, разводили костер, иногда чистили оружие и амуницию. Особенно непросто приходилось кавалеристам. До выставления постов эскадроны оставались в конном строю. Когда же караулы и «гран-гард» были уже на месте, кавалеристы делились обычно на четыре части: одна часть отправлялась на поиск провианта для людей, другая занималась фуражом для лошадей, третья устраивала бивак, наконец, четвертая под командой офицеров и унтер-офицеров занималась лошадьми. В общем же кавалерию стремились уберечь от биваков в открытом поле. Ее предпочитали располагать в непосредственной близости от деревень или прямо в деревне, что позволяло поставить хотя бы часть лошадей на ночь в стойла. Соответственно, и люди не пропускали возможности переночевать в тепле. В первых кампаниях Империи, таких как поход 1805 г. и поход 1806 г., это было возможным, так как боевые действия разворачивались на густонаселенных территориях, усыпанных деревнями и фермами с каменными постройками. При этом массы сражающихся при всей их многочисленности были все же не столь велики, как, например, в походах 1812 или 1813 гг. Наконец, кампании 1805 и 1806 гг. были очень маневренными. Войска двигались быстро и на широком фронте. Все это, особенно с учетом того, что конные отряды могли передвигаться куда быстрее, чем пешие, создавало возможность найти для них в радиусе нескольких километров от центра размещения корпуса подходящие деревни.
Б. Зис. Бивак французской армии вечером после битвы под Иеной. Рисунок пером. © Photo RMN - Arnaudet.
В последних кампаниях с возрастанием численности войск на одном театре боевых действий, к тому же в условиях редко населенной местности Польши и России, это стало либо крайне затруднительным, либо просто невозможным. Отсюда и резко возросшие потери кавалерии на марше, о чем уже упоминалось.
Но вернемся к «стандартному» биваку. В том случае, когда солдаты останавливались только на одну ночь, его устройство заключалось лишь в разведении костров да изготовлении подстилки для сна из елового лапника или соломы. Если же предполагалось провести на одном месте несколько ночей, то нередко разворачивалось настоящее строительство. Рядом с кострами, а иногда и вокруг них, солдаты возводили сооружения, называемые «abrivent» (дословно - «укрытие от ветра»), что с некоторой натяжкой можно перевести как «шалаш» или «навес». «Шалаш (abrivent) - это просто соломенная крыша и три соломенные стены: открытая сторона, самая высокая, была обращена к костру, низкая, закрытая - в сторону, откуда дул ветер. Каждый располагал свой шалаш так, как ему хотелось, каждый выбирал место, где ему нравилось, и все вместе представляло собой довольно живописную картину, - вспоминает современник. - Внутри этих подобий бараков нельзя было стоять, разве что со стороны входа, зато здесь неплохо можно было переночевать, правда, утренний туалет нужно было совершать на открытом воздухе... Во время нашего прибытия в Тильзит ходили слухи о скором заключении мира, и потому тотчас же были возведены шалаши столь прочные, что в них можно было бы жить целую неделю»41. В зависимости от погоды, условий местности, времени пребывания в данном месте видоизменялась и форма шалашей, тщательность их изготовления и характер размещения. Самые примитивные из них были выполнены в виде навеса, расположенного прямо поблизости от костра, но иногда по тщательности изготовления и внешнему виду они напоминали небольшие домики. В последнем случае получалось нечто среднее между биваком и лагерным расположением. Именно о таком полу лагере-полубиваке рассказывает один из участников Испанской кампании: «Часто солдаты превращали свои временные шалаши в довольно удобные жилища и почти всегда более чистые, чем те, которые они разорили. Рядом с бурдюком, полным вина, грудой дров и фуражом для лошадей можно было видеть гитары, книги, картины и двери, снятые в домах; в другом месте вперемешку лежала мужская и женская одежда, монашеские рясы, в которые рядились наши солдаты, придя в веселое настроение от стаканчика вина из Руа. Одни строили прочные бараки из досок, другие делали хижины из соломы, которые они покрывали одеялами и тканями разных цветов. Самые ленивые прикатывали большие бочки и залезали в них на ночь по трое, а то и вчетвером. Я заметил, что солдаты, строя свои шалаши, никогда не забывали ориентировать их так, чтобы вход находился летом с северной стороны, а зимой - с южной» 42.
Барбье (полковник 2-го гусарского полка с 1793 по 1806 г.). Гусары 2-го полка на биваке. Предположительно 1806 г.
А. Адам. Бивак художника 16 августа 1812 г.
На переднем плане мы видим самый простой шалаш (abrivent), который солдаты возводили во время коротких остановок.
Из нашего описания бивака понятно, что солдаты и офицеры спали вокруг костров полностью одетыми. Однако, когда ночи были теплые и сухие, а неприятель далеко, люди позволяли себе снять шинели, башмаки, а иногда и мундиры и спали под шинелями, как под одеялами. Офицеры очень часто использовали спальные мешки, которые представляли собой не что иное, как обычный мешок из плотной ткани, в который залезали на ночь, сняв обувь и, разумеется, подстелив под него солому. В любом случае солдаты и офицеры на ночь снимали кивера и шляпы и надевали фуражные шапки - небольшие суконные колпаки, хоть как-то защищавшие людей от простуды. По этому поводу вспоминается, как в довольно странном английском телесериале «Похождения королевского стрелка Шарпа» главный герой спит на зимнем биваке с непокрытой головой и в живописно полурасстегнутом мундире. Сразу видно, что ни актеру, ни режиссеру не приходилось ночевать на открытом воздухе даже в обычном турпоходе, не говоря уже о войне.
Теперь немного о меню бивачного ужина. Драгун Ойон ярко изобразил в приведенной нами цитате процесс поджаривания «найденных» кур. (Отметим, что в наполеоновской армии никогда не говорили: «Я украл или отобрал курицу, корову, кувшин или входную дверь»; принято было говорить: «Я нашел курицу, корову, кувшин и т. д.)». Нужно заметить, что жареные блюда были скорее украшением бивачного стола, признаком редкой роскоши. Основным же фундаментальным блюдом любого бивака был уже упомянутый нами в разделе о казарменной жизни суп. Различие состояло в том, что бивачный суп, в отличие от ранее описанного, изготовлялся по весьма своеобразному рецепту. В котелок с кипящей водой клалось все, что солдаты «находили»: мясо, крупа, колбаса, овощи, картошка, лук, конина, мука. Иногда из перечисленных компонентов присутствовали лишь один или два, иногда - чуть ли не все. Если не было соли, использовали черный порох. Незадолго до готовности в котелок кидали куски хлеба или сухари. В результате получалось подчас жутковатое варево, которое уважаемый читатель вряд ли отважился бы попробовать, сидя за нормальным обеденным столом, но которое, вследствие известного правила о том, что лучший повар - это голод, солдаты Великой Армии уплетали с аппетитом.
Описанный нами бивак относится к обычному, усредненному биваку. Однако иногда его условия становились куда более тяжелыми. Не обязательно обращаться к периоду отступления из России, чтобы описать экстремальные условия бивачной жизни. Уже Польская кампания зимой 1806-1807 гг. оставила глубокий след в памяти всех, кто имел несчастье пройти ее тяжелые этапы. Главный хирург Великой Армии Перси так увидел зимние биваки в 1 807 г.: «Никогда французская армия не была в столь несчастном положении. Солдаты каждый день на марше, каждый день на биваке. Они совершают переходы по колено в грязи, без унции хлеба, без глотка водки, не имея возможности высушить одежду, они падают от истощения и усталости... Огонь и дым биваков сделали их лица желтыми, исхудалыми, неузнаваемыми; у них красные глаза, их мундиры грязные и прокопченные...» 43
Бакле д'Альб. Французский лагерь в Испании.
Эти ужасы Великой Армии вновь пришлось пережить зимой 1812 г. Уже в первые дни ноября, когда ударили ранние морозы, биваки превратились в настоящую пытку: «Холод стал ужасным, нас без конца окутывала метель, которая ослепляла людей, пронизывала нашу одежду и леденила тела. Ночи длились 15 часов.
Лежа в снегу под хлесткими порывами северного ветра, мы не могли сомкнуть глаз. Казаки, постоянно рыскавшие вокруг нас, не давали нам ни минуты покоя. Но самым тяжелым было то, что мы были без пищи, а в качестве питья у нас был лишь растопленный снег. Лошади не могли найти траву под глубоким снегом и страдали еще больше, чем мы. Вследствие такого режима каждое утро вокруг наших биваков можно было найти десятки умерших лошадей» .44
Но это было только начало. Когда же ударили жестокие морозы, положение солдат стало поистине отчаянным. Тот же мемуарист вспоминает, как ему и его товарищам пришлось сражаться на Березине в окружении: «Мы смеялись над угрозой смерти, мы призывали ее всеми силами, достигнув вершины мучений и ни на что больше не надеясь. Нам было нечего есть, наши мундиры и шинели превратились в лохмотья, а холод был столь ужасен, что те, кто избежал пули, все равно должны были умереть, замерзнув...»45
Но повседневная жизнь наполеоновской армии - это все же не только ужас. Как в трагедиях Шекспира, мрачное и кровавое перемежалось здесь с комичным и радостным. Даже страшная война 1812 г. запомнилась не только ужасающими картинами отступления среди снегов; воспоминания очевидцев доносят до нас и другие величественные или смешные сцены. Вот как описывает артиллерийский офицер из 4-го армейского корпуса ночь на биваке накануне Бородина: «Трудно представить вид лагеря в эту ночь. У нас царила шумная радость, вызванная мыслью о битве, исход которой никому не представлялся сомнительным. Со всех сторон перекликались солдаты, слышались взрывы хохота, вызываемые веселыми рассказами самых отчаянных, слышались их комически- философские рассуждения относительно того, что может завтра случиться с каждым из них. Горизонт освещали бесчисленные огни, довольно беспорядочно разбросанные у нас и симметрично расположенные у русских вдоль укреплений; огни эти напоминали великолепную иллюминацию и настоящий праздник» 46.
Если даже в этом тяжелом походе французские солдаты находили причины для веселья, то что говорить о тех временах, когда победные Орлы Наполеона с триумфом шли по дорогам Европы. Вот как описывает один из биваков 1806 г. в Пруссии офицер 8-го гусарского полка Морис де Ташер: «Мы расположились на бивак перед деревней Лихтенберг. Стояла чудесная ночь. Наш бивак походил на праздник. Все его огни были словно выровнены по линейке. Груды боевых трофеев, провизия всех видов, гусары, вокруг огни - везде была воинская краса, которая наполняла душу радостью и отвагой. Каждый пил, пел и одновременно работал - все было наполнено войной, энергией и весельем...» 47
Фабер дю Фор. Бивак под Красным (16 ноября 1812 г.)
Б Зис. Гусары 9-го полка на биваке. Акварель. 1806г.
Интересно, что, несмотря на то что бивачная жизнь занимала столь важное место в нелегком существовании солдата наполеоновской армии, ее организации не было посвящено практически ни строчки в официальных наставлениях и регламентах! Даже учебник генерала Тьебо, столь близкий к реалиям военной жизни Первой Империи, посвящает биваку лишь один короткий абзац48. Здесь мы сталкиваемся с тем же явлением, что и в тактике, но, пожалуй, в еще более обостренной форме - официальные предписания не поспевали за новыми условиями войны, да и сам импровизированный характер бивака плохо поддавался какой- либо регламентации. Зато в том, что касается размещения лагерем, недостатка в официальных инструкциях нет. Здесь и уставы, и наставления командиров корпусов, чертежи и схемы с указанием точных параметров образцово-показательного лагеря и т. д. Это вполне понятно, ведь со времени появления регулярных армий и до конца XVIII в. лагерь был нормальным и практически единственным способом размещения войск во время боевых действий. Принципы его организации, расположение основных элементов, устав лагерной службы прошли полуторавековую* проверку в ходе десятков крупных войн и, само собой разумеется, были разработаны до мелочей. Наконец, ничто так хорошо не вписывалось в официальные наставления и чертежи, как безупречно вытянутые по линейке ряды однообразных палаток. Именно поэтому регламенты на этот счет столь пространны и подробны до мелочей. Чего только стоит указание в походном уставе 1792 г. на то, что интервал между расположением батальонов в лагере должен составлять 10 ту азов 4 фута 4 линии, или 20 метров 80 сантиметров!49
* Мы говорим только о регулярных армиях.
Вполне естественно, что с этими требованиями регламента обходились весьма вольно и при реальной разбивке лагеря руководствовались прежде всего условиями местности, но не вызывает сомнений и, более того, полностью подтверждается многочисленными свидетельствами очевидцев наличие безупречного порядка в лагерях наполеоновской армии. И это вполне понятно, ведь в эпоху Империи армия располагалась в лагерях лишь во время длительных стоянок. На марше в период напряженных боевых действий подобный метод размещения войск был в отличие от XVIII в. просто немыслим, что вполне очевидно из всего вышесказанного. Лагерь в наполеоновскую эпоху становится чаще всего неким промежуточным этапом между мирным или относительно мирным периодом, когда войска размещались в казармах или на постое (см. ниже), и боевыми действиями, когда основным способом размещения войск был бивак.
Образцом лагеря армии Наполеона, его эталоном стал знаменитый Булонский лагерь, а точнее целая сеть лагерей на побережье Ла Манша и Па-де-Кале, где были в 1803-1805 гг. сконцентрированы войска для предполагаемого вторжения в Англию. Однако более частой была обратная ситуация, когда по окончании боевых действий войска должны были быть сконцентрированы до окончательного подписания мира. Такими были лагеря вокруг Тильзита летом 1807 г., под Веной в 1809 г. и др. Наконец, иногда армия располагалась в лагерях и в период временного прекращения боевых действий, например весной 1807 г. (лагеря в Финкенштейне, Гутштадте и Морунгене), летом 1813 г. (лагерь под Дрезденом).
Во всех этих случаях не было необходимости разбивать лагерь впопыхах. Было достаточно времени, чтобы выбрать удобное место, произвести тщательную разметку территории и выстроить настоящий воинский город.
Как можно понять из вышесказанного, лишь в редчайших случаях лагерь наполеоновской армии был палаточным. Действительно, на походе войска не таскали за собой тысячи палаток, так что без специальных дополнительных усилий им неоткуда было появиться. С другой стороны, так как лагерь строился не наспех, имелось достаточно времени и возможности соорудить деревянные бараки, что получалось более экономичным (конечно, для армии, а не для окружающей местности) и более удобным.
Тем не менее все официальные наставления упорно дают подробное описание именно палаточного лагеря. Читатель, впрочем, мы думаем, уже не удивляется, а воспринимает это как норму. Нетрудно догадаться, что при постройке бараков, которые вовсе не обязательно должны были повторять один в один размеры палаток, а сооружались с учетом многих обстоятельств, командование вынужденно или, наоборот, намеренно весьма вольно обращалось и с рядом других положений устава; хотя, надо все же отметить, что его основные принципы выполнялись неукоснительно.
В чем же они состояли? Основной принцип устройства лагеря был следующий: протяженность лагеря по фронту должна была соответствовать протяженности по фронту находящихся в нем войск, если последние будут выстроены перед своим расположением развернутыми линиями, т. е. пехота в три шеренги, а кавалерия - в две шеренги (см. гл. VII). Таким образом, лагерь наполеоновских войск был далек по своему плану от лагеря римского легиона. В плане он походил не на квадрат, а скорее на длинную полосу. Впрочем, если войск было много, они могли располагаться в две линии и более. Однако и в этом случае протяженность лагеря по фронту намного превышала его глубину.
Основной единицей лагерного расположения был лагерь батальона. Сторона, обращенная к вероятному расположению противника, называлась фронтом лагеря. Протяженность фронта лагеря батальона варьировалась в зависимости от его численности (на батальон в восемьсот человек устав предполагал 140 м по фронту). Каждая рота располагалась в палатках (бараках), образовывавших «большие улицы», перпендикулярные фронту, так что по сигналу сбора солдаты быстро могли выйти из палаток и построиться на линии лагерного фронта. Одна рота обычно образовывала «улицу», и на нее полагалось восемь палаток нового образца (введенных незадолго до появления устава 1792 г.) или шестнадцать палаток старого образца. Предполагалось, что в одну палатку нового образца должны были поместиться 12-15 человек*, соответственно, в палатке старого образца помещалось вдвое меньше людей. Впрочем, по причине того что в эпоху Империи лагеря представляли собой чаще всего ряды бараков, рассуждения о палатках старого и нового образца были большей частью досужим теоретизированием. Бараки же строились в соответствии с вдохновением командующего корпусом, чаще всего человек на 12-20, но иногда и больше. Так что в ряде случаев рота обходилась всего лишь четырьмя бараками (как это было, например, в армии Мармона в Голландии в 1805 г.).
* Устав по этому поводу гласил буквально следующее: «Палатки новой модели предназначены для 16 человек, но признано, что в них не может разместиться более 12, максимум 13 человек. На самом деле нужно учитывать и отсутствующих, так что точнее будет исходить из расчета 1 палатка на 15 человек».
Входы палаток или бараков выходили на большие «улицы», а тыл почти соприкасался с тылом палаток или бараков соседней роты; промежуток между тылами палаток назывался «малой улицей».
На расстоянии 9 метров перед линией палаток (бараков) хранились ружья в козлах, а посередине лагеря батальона, ровно между линией ружейных козел и фронтом палаток, находился батальонный Орел или, начиная с 1811 г., полковой Орел в первом батальоне и батальонные значки в остальных батальонах.
Позади солдатских палаток размещались кухни. Чаще всего это были просто места для костров, где можно было приготовить пищу, еще далее позади них - палатки (бараки) унтер-офицеров, музыкантов и маркитанток, еще дальше от линии фронта - палатки (бараки) лейтенантов и суб-лейтенантов, за ними - палатки капитанов; наконец, в самом тылу лагеря - палатки старших офицеров.
На расстоянии 140 метров от фронта солдатских палаток размещался лагерный караул, здесь же рядом с ним содержались арестованные (если они были). Солдатские нужники выкапывались на значительном расстоянии впереди фронта лагеря, а офицерские - позади тыла. Впрочем, все это лучше видно на чертеже.
План лагеря батальона
Глубина лагеря (от фронта солдатских палаток до тыла офицерских) составляла согласно регламенту 115 метров. Фронт второй линии лагеря, если таковая имелась, размещался в 300 метрах позади фронта первой линии. Выстроившиеся таким образом перед своим лагерем линии батальонов оказывались друг от друга на дистанции, на которой в бою положено было находиться первой линии от второй.
Кавалерия располагалась лагерем так же, как и пехота, с одним различием: большие улицы между палатками (бараками) были шире, так чтобы можно было разместить лошадей, которые помещались головой к входам в палатки, крупом к середине улицы. Впрочем, как и на походе, кавалерию стремились по возможности размещать по деревням в интересах сохранения конного состава: здесь была возможность разместить лошадей в закрытых помещениях и легче было найти фураж.
Пушки с минимальным количеством зарядных ящиков размещались перед фронтом лагеря, а все артиллерийские парки (т. е. остальные зарядные ящики, запасные лафеты, походные кузницы, ящики для инструментов и т. д.) - в тылу лагеря.
Вследствие того что лагерь, как уже отмечалось, строился без поспешности, место для него тщательно выбиралось офицерами штаба. Предпочитали сухое ровное поле, желательно с небольшим уклоном в сторону нахождения вероятного противника. Необходимо было наличие поблизости источников питьевой воды, а также леса как ресурса строительного материала и дров, наконец, требовалось, чтобы поблизости находились крупные населенные пункты, где можно было бы запастись провизией, инструментами для постройки лагеря, а при необходимости взять и строительные материалы. На территории неприятеля последнее требование воспринималось обычно чересчур буквально. Рассказывают, что когда прусский король Фридрих-Вильгельм посетил один из французских лагерей под Тильзитом, он немало удивлялся порядку и чистоте, образцово выстроенным баракам и присутствию в лагере даже почтовых ящиков, находившихся в каждом полку поблизости от знамени... Солдаты опускали в них письма и, в свою очередь, регулярно получали корреспонденцию, некоторые даже выписывали газеты из Парижа! «Восхитительно! - сказал король, обращаясь к сопровождавшим его офицерам. - Невозможно сделать более прекрасные лагеря, чем ваши, однако признайтесь, что вы делаете весьма дурными деревни...» 50
Мемуары современников содержат немало красочных описаний лагерей, которые наполеоновские войска сооружали в различных концах Европы. Больше всего воспоминаний относится к знаменитому Булонскому лагерю. Капрал линейной пехоты Рави писал в своем дневнике: «Мы стоим лицом к морю, лицом к этой ненавистной Англии. Благодаря нашим трудам в течение восьми месяцев наш лагерь превратился в настоящее место отдыха.
На роту приходится по четыре барака, стоящих в две линии. Каждый барак рассчитан на 16 человек - всего 64 человека. Это не очень-то много на 90 солдат и унтер-офицеров, которых насчитывает в своих рядах каждая рота, но, так как многие получили разрешение поработать в городе, а другие отсутствуют по тем или иным причинам, этого вполне хватает.
Кухни, по одной на роту, располагаются позади, затем бараки унтер-офицеров и маркитантов, выстроенные на одной линии, затем бараки офицеров и, наконец, барак командира батальона в тылу своего батальона и барак полковника позади линии полка. Регламент предписывает, чтобы ружья были составлены в козлы перед линией бараков. Мы, однако, отклонились от этого правила и храним их внутри бараков, чтобы не подвергать их воздействию дурной погоды в продолжение нашего долгого пребывания в лагере.
Регламент предписывает также, чтобы унтер-офицеры размещались с рядовыми. Их тем не менее расположили позади: старший сержант, фурьер и 4 сержанта каждой роты занимают один барак. Это логично, ибо старший сержант, ответственный за кассу роты, нуждается в большом столе, чтобы вести бумаги. Что же касается дисциплины, в этом есть свои плохие и хорошие стороны. С одной стороны, сержанты, находясь отдельно от солдат, не могут осуществлять столь же бдительный контроль, как когда они живут вместе с ними. Пройдя обучение как простой солдат и капрал, я увидел, что многое оставалось неизвестным для наших сержантов. С другой стороны, их уважали больше, ибо реже видели перед собой. В общем же я думаю, что так лучше.
Бараки заглублены на метр в землю, что делает их несколько сырыми. Наша кровать состоит из большой лежанки, на которую положена солома и сверху шерстяное одеяло. Каждый солдат ложится на это одеяло, забравшись в спальный мешок из холста, подложив под голову ранец вместо подушки. Сверху кладут еще одно шерстяное одеяло, так что мы спим вместе и одновременно отдельно.
Фабер дю Фор. Бивак под Лиозно (6 августа 1812 г.) Художник точно изобразил шалаши, которые были построены солдатами 3-го корпуса во время продолжительной остановки под Лиозно. Фактически подобные шалаши представляют из себя нечто среднее между обычным биваком и постоянным лагерем.
Когда мы прибыли сюда, место нашего будущего лагеря представляло собой лишь цепь голых дюн, теперь же оно предстает перед посетителями как великолепное пространство для прогулки. Наш полк выкопал несколько деревьев в соседнем лесу и посадил их перед фронтом, на следующий день вся дивизия сделала также. У каждого полка свой сад, у каждой роты свой цветник и огород, свой крытый колодец, чтобы поливать цветы и овощи. Колонны, обелиск и пирамиды, на вершине которых водружен бюст нового Императора с надписями в честь победителя Италии и Востока, украшают улицы, выровненные по линейке и носящие имена славных воинов, погибших с оружием в руках. Улицы нашего "квартала" называются Клебер, Бопюи, Дюпюи, Нюг...
Когда нужно было работать над созданием всего этого, а эта работа была хорошим способом занять солдат, некоторые начали жаловаться - ведь лень имеет так много прелестей. Солдаты, как дети, - нужно делать им добро вопреки их желанию.
Сержанты каждой роты едят вместе. Они получают походный рацион: черный хлеб, походный суповой хлеб, мясо, сухие овощи, водку и уксус. На рынке покупаются только свежие овощи и картошка. Они едят вместе с капралами из котелков, рассчитанных на 6-7 порций. Старшие сержанты, так же как старшие унтер- офицеры, едят одни, столуясь у маркитантов.
В полдень мы обедаем прекрасным наваристым супом с овощами и говядиной. Вечером ужинаем картошкой с маслом, луком и уксусом. Хлеб, который мы едим, - черный; рожь, входящая в его состав, придает ему кисловатый, не очень-то приятный вкус*; водку, которую нам дают, мы, в принципе, должны наливать в воду для ее дезинфекции, но вы, наверное, догадываетесь, что мы проделываем эту операцию нечасто...» 51. Этот довольно исчерпывающий рассказ о Булонском лагере не требует дополнительных описаний, мы добавим лишь зарисовку штабного барака, которую приводит в своих мемуарах генерал Бигарре: «На пространстве, где располагался 4-й линейный, я возвел барак из камня (ас!) с соломенной крышей. Это здание имело фасад длиной 86 футов... В двух павильонах барака, которые образовывали главный корпус, имелось по две квартиры из четырех комнат каждая. Одна такая квартира была занята мной, другая - полковым казначеем. В центре, по другую сторону двора, закрывавшегося деревянной решеткой, находился склад, по обе стороны от которого располагались комнаты полковых адъютантов. Со стороны фасада, выходившего на море, размещались полковой оружейник, шляпник, портной и сапожник. По краям были сделаны помещения: одно для уроков математики, другое было залом для танцев и фехтования. В двух пристройках располагались конюшни на восемь лошадей. Неподалеку от этого барака были вырыты колодцы, отделанные камнями. Эти колодцы служили источником воды для всей дивизии Вандамма» 52. Как следует из этого описания, командование 4-го линейного полка умело расположиться в лагере с комфортом.
* Хлеб, о котором идет речь, был весьма похож на распространенный у нас в России обычный круглый ржаной хлеб.
Б. Зис. Лагерь французской армии поблизости от Данцига, май 1807 г. Рисунок с натуры.
Нам осталось теперь узнать о том, как проводили время солдаты и офицеры, готовившиеся к броску через Ла Манш. Вот как живописует будущий маршал Мармон, тогда командующий Голландской армией*, развлечения своих подчиненных в лагерях под Цейстом и Утрехтом: «Никогда войска не жили столь хорошо и столь счастливо. Качество всех продуктов, которые они получали, я проверял лично, и потому оно было великолепное. Здоровый характер местности, постоянная деятельность, столь полезная для солдат... сделали из них самых довольных, самых хорошо настроенных и готовых к любому делу людей. Каждый украшал свою палатку** и свой лагерь, и в этом смысле началось самое настоящее соревнование между полковниками и генералами. Репутация войск и красота воинского строя привлекали зрителей, жаждавших увидеть их... В день больших маневров я видел до четырех тысяч зрителей, приезжавших в роскошных экипажах и проводивших целый день в нашем лагере. Необходимость удовлетворить их запросы и сметливость маркитантов произвели в скором времени на свет целые деревни по соседству, где можно было найти все необходимое. Актеры также расположились неподалеку и построили для спектаклей зал с ложами из досок, который мог вместить до полутора тысяч человек. Ценой некоторых пожертвований я добился того, чтобы они давали два спектакля в неделю для унтер-офицеров и солдат, которые приходили в зал в организованном порядке... в парадной форме с унтер-офицерами во главе.
* Войска, стоящие на территории Голландии.
** На первых порах армия Мармона размешалась в палатках,которые впоследствии были заменены на бараки.
Труппа, дававшая конные представления, которые проходили в деревянном цирке, также расположилась поблизости. Солдаты жалели, что они не могут посмотреть это представление, и я постарался дать им эту возможность. В дюнах позади лагеря я выбрал ложбину, склоны которой были обработаны по моему приказу и на них были устроены скамьи, на которых мог расположиться весь корпус. С этого момента самые яркие и красочные спектакли давались для солдат. Эти представления по количеству зрителей и по характеру местности напоминали зрелища римлян. Можно вообразить себе счастье солдат, постоянно живших со своим командующим и бывших объектом постоянных забот»53.
Хотя в последнем тексте можно подивиться не только устройству лагерей под Цейстом и Утрехтом, но и самовлюбленности его автора, тем не менее, если отбросить ряд прикрас и восторгов, этот отрывок наглядно показывает, что занятия солдат и офицеров наполеоновской армии на лагерной стоянке могли быть весьма разнообразными. Добавим, правда, что генерал Мармон придумал еще одно развлечение для своих солдат, а именно: он надумал соорудить огромную пирамиду из земли в честь Императора и армии. Высота пирамиды достигала 110 футов (36,6 м), а ее вершина была увенчана обелиском 14-метровой высоты. Трудно сказать, насколько постройка этого сооружения вызвала энтузиазм в рядах Голландской армии, но автору проекта она явно понравилась: «Каждый генерал, каждый старший офицер и я лично, взяв в руки лопаты, работали над ее сооружением, как и последний солдат; работа продолжалась двадцать семь дней, и это были двадцать семь дней праздника (!)»54.
Впрочем, постройка пирамид была не самым распространенным времяпрепровождением командного состава. «В лагере, - рассказывает один из офицеров, - день проходит в осмотре бараков, в инспекциях, парадах, упражнениях, маневрах... жизнь, приятная для тех, кто все это любит. Если у вас есть книги, их можно почитать в свободный часок, если их нет, можно погулять. Вечером обычно играют в карты, пьют глинтвейн, сидя среди трубочного дыма. Все это происходит обычно в палатке маркитанта или в бараке офицеров, у каждого по очереди» 55.
Последняя цитата относится уже не только к Булонскому лагерю, а к лагерю Наполеоновской эпохи вообще, такому, какие пришлось строить солдатам Великой Армии повсюду в Германии, Австрии, Испании... И наш небольшой очерк о лагерях был бы неполным без описания жизни одного из таких военных городов, выросших, словно по мановению волшебной палочки, неподалеку от Тильзита: «У нас было большое количество повозок и "найденных" лошадей, которые служили для транспортировки материалов. Нетрудно понять, что при таких возможностях нагни лагеря были великолепны; те, кто их не видел, не смогут их вообразить. Как и полагается, едва бараки были выстроены, каждый начинал украшать свой каким-нибудь оригинальным образом, и скоро приходил приказ: взять за образец такую-то роту такого-то полка и сделать, как они. Солдаты, задетые тем, что их заставили снова работать, изобретали новые украшения, чтобы в свою очередь заставить поработать первых изобретателей. И так могло продолжаться до бесконечности. Можно сказать, что лагерь никогда не бывает закончен, в нем всегда остается то, что можно доделать.
Один из полков решил срубить несколько елей в соседнем лесу и водрузить их на линии ружейных козел - получилось красиво, тем бодее что ели долго сохраняют свой цвет, даже тогда, когда они срублены. На следующий день пришел приказ: сделать всем, как этот полк, но подражатели, желая улучшить начатое, посадили также деревья в углу каждого барака, что сочли еще более красивым, и появился следующий приказ подражать подражателям. Тогда, чтобы превзойти всех, мы вычертили перед фронтом нашего полка огромный прямоугольник, который был выровнен и приведен в идеальный порядок, чтобы служить для смотров и парадов, и эта площадь была обсажена шестью рядами деревьев, превратившись тем самым в прекрасный парк для прогулок. Все это создавалось как по волшебству: когда у вас в распоряжении три тысячи работников, а у них есть добрая воля, все идет быстро. Другие части вскоре получили приказ сделать как мы, что и было выполнено, но соседних лесов больше не было...»56
Добавим, что по части украшения лагеря фантазия солдат и офицеров была поистине неистощимой: бараки белились негашеной известью, иногда частично красились, на коньке крыши водружались трехцветные флажки, а на фронтоне размещали украшения в виде императорских Орлов, выкладывались настоящие партеры из дерна, посыпались песком дорожки, сооружались цветники и даже триумфальные арки!
Нам кажется, что читатель уже хорошо уяснил: без дела в лагере не сидел никто. Даже офицерам порой приходилось несладко. Вот что писал один из них в своем дневнике в 1808 г.: «Мне кажется, что я вернулся в военную школу. Прежде всего, когда мы на дежурстве, а это случается семь дней из четырнадцати, мы не можем выйти из лагеря даже на час, потому что весь день - это сплошные экзерциции и сборы. Нужно целый день быть в полной экипировке. На следующей неделе мы чуть посвободнее. Однако нужно идти на занятия с солдатами в четыре утра, а потом снова упражнения - с пяти до восьми вечера. Только суббота относительно свободна, потому что этот день отведен солдатам для чистки оружия и приведения в порядок мундиров. Так что господа офицеры могут, если они не на дежурстве, отправиться погулять на коне в соседние деревни или прокатиться до Лигница, находящегося меньше чем в лье от нашего лагеря. Но это один день из четырнадцати. Что касается воскресенья, мы свободны начиная от полудня, когда кончается парад, до вечера»57.
Именно по этой причине солдаты и младшие офицеры не особенно любили лагерные стоянки - слишком уж много было работы и маневров. Но здесь необходимо упомянуть о том, что нравилось всем без исключения, от солдата до генерала, - это размещение на кантонир-квартирах (cantonnement) или, попросту, на постой. Войска, располагавшиеся таким образом, имели возможность действительно отдохнуть. Разбросанные небольшими отрядами по деревням и городкам, они лишь изредка собирались для воинских упражнений. Солдаты проводили время в развлечениях или занимались вполне мирным трудом, помогая своим хозяевам, или же просто пребывали в сладостном безделье... Кроме нескольких фраз из устава 1791 г. достаточно общего характера, правил квартирного размещения не существовало, и все здесь зависело от многих обстоятельств. Как правило, войска, прибывавшие в город на постой, строились на центральной площади, где они получали направления для размещения в тот или иной дом (billet de logement), которые выдавались командным составом при содействии местной администрации. Звучала команда «Вольно, разойдись!», и солдаты и офицеры, смешав ряды, расходились по назначенным им квартирам, а дальше все зависело от страны, города, отношений, установившихся с местными жителями и тысячи других обстоятельств, которые превращали постой то в счастливый отдых, то в безрадостную жизнь в убогих лачугах. Из стран, которым сотни раз пришлось испытать на себе прелести размещения войск на квартирах, более всего славились своим гостеприимством германские государства. Здесь солдаты и офицеры располагались большей частью в чистых квартирах у аккуратных, доброжелательных хозяев. Вот что вспоминает о постое в Силезии драгунский унтер-офицер Огюст Тирион: «После завершения кампании (1807 г.) нас разместили на кантонир-квартирах. Силезия стала местом нашего отдыха. Этот край хорош собой, богат, и все здесь в изобилии. Люди и лошади разместились на постой у жителей и питались за их счет досыта. Силезцы испытывали большое уважение к солдатам Императора, победителя всего континента»58. С теплотой вспоминает об этом крае в начале 1812 г. и другой кавалерист, офицер 8-го конно-егерского полка Комб: «Остановка длилась шесть недель и имела своей целью концентрацию армейских корпусов... Наши солдаты и их кони были прекрасно размещены и отлично накормлены у жителей самых доброжелательных и гостеприимных, которых только можно вообразить. Солдаты так подружились со своими хозяевами, что помогали им в работах по дому и в поле, так что на них смотрели почти как на членов семей. Эти добрые крестьяне говорили, что присутствие наших солдат было для них не столько в тягость, сколько в помощь, ибо за пропитание они получили себе в помощь отличных работников, которых при всяких других обстоятельствах они должны были бы не только кормить, но и хорошо оплачивать. Так что, когда мы получили приказ отправиться в путь, все население провожало нас с глубоким сожалением, обмениваясь со своими постояльцами прощальными поцелуями и рукопожатиями» .59
Французские солдаты (полк легкой пехоты) на кантонир-квартирах в Германии. Немецкая гравюра. Около 1806 г.
Конечно же, не всегда даже в Германии отношения между войсками и населением были столь идиллическими, тем более что французы любили вкусно поесть и хорошо выпить: «Мы расположились на постой у жителей и питались за их счет, - вспоминает гренадер Старой Гвардии о размещении на кантонир-квартирах в Берлине в 1806 г. - Обыватели должны были выдавать нам по бутылке вина в день на каждого. Для них это было нестерпимо, так как вино здесь стоит 3 франка за бутылку! Они попросили нас, не имея возможности постоянно поить нас вином, принять вместо него пиво или крюшон. На построении гренадеры рассказали об этом офицерам, которые посоветовали нам не настаивать на вине, ибо пиво в этих краях замечательное. Отказавшись от вина, мы успокоили жителей, зато уж пиво и крюшон не были пощажены. Нельзя найти лучшего пива, чем здесь»60. Впрочем, и в этом случае мемуарист завершает свое описание постоя на самой оптимистической ноте: «Истинная гармония царила повсюду, нельзя было чувствовать себя лучше, чем мы. Бюргеры со своими слугами приносили нам еду и достойным образом подавали ее. Дисциплина была строгой. Граф Гюллен был комендантом Берлина, служба неслась исправно»61.
Особенно хорошо чувствовали себя на постое офицеры. Обычно они занимали самые лучшие дома, а в сельской местности - замки и усадьбы, где жили на весьма широкую ногу, порой не отказывая себе в удовольствии даже давать званые ужины, ездить на псовую охоту или давать балы, конечно же, за счет вынужденно гостеприимных хозяев: «В каждом городе, через который проходил полк (в Баварии по дороге на войну 1812 г.), полковой адъютант, свободный от дежурства, получал указание от полковника отправиться к бургомистру и взять у него список всех приличных семейств города и их адреса. Вечером в эти семейства отправлялись приглашения на бал, который на следующий день давался полковником, располагавшимся всегда в лучшем особняке. Полковые музыканты составляли оркестр, а напитки подавались с поистине королевской щедростью. Праздник венчался роскошным ужином и продолжался до рассвета, когда трубачи давали сигнал "По коням", и полк снова выступал в поход» 62.
О требованиях, предъявляемых к местному населению в отношении содержания войск можно хорошо судить по приказу на день от 19 марта 1809 г., данному в генеральной квартире Немецкой армии* в г. Ульме: «Войска будут питаться в домах, где они размещаются по обычаю, который установился в Германии... Унтер-офицеры и солдаты будут получать сверх установленного хлебного рациона следующее:
■ на завтрак - суп и водку;
■ на обед - суп, 10 унций (306 г) мяса, овощи и полштофа пива;
■ на ужин - овощи и полштофа пива.
Г-да генералы должны проконтролировать соблюдение предписанных правил и сообщить г-ну маршалу имена тех офицеров, которые не будут пресекать нарушений в отношении данного порядка, предписывая своим верным солдатам самую большую корректность по отношению к подданным государств Конфедерации (Рейнской)»63.
* Армии, сосредоточенной в Германии для боевых действий против Австрии.
Увы, за пределами Германии и своей территории (Франции, Бельгии, Голландии, Италии) постой не представлял собой столь радужной картины. Уже Польша, хотя и являлась союзным государством, но по причине бедности ресурсов и определенных стереотипов поведения населения оставила о себе у солдат и офицеров наполеоновской армии совсем иные впечатления и воспоминания. Вот что писал 6 сентября 1807 г. будущий дивизионный генерал, тогда полковник 7-го гусарского, Эдуард Кольбер своему начальнику генералу Лассалю: «Я, наконец, мой дорогой друг, расположился на кантонир-квартирах! И где же? Увы, в Польше. Впрочем, согласно приказу по армии мы должны, вероятно, возблагодарить Бога, ибо из этого приказа следует, что быть в Польше - это все равно что быть во Франции... Поистине, безумие рассказывать подобные сказки французам. Составители этой ереси, очевидно, не пытались получить свои рационы на берегах Омулева и не умирали от нищеты на берегах Пилицы в награду за верную службу... Нечего и говорить о водке - разве за последний месяц мы получили хоть каплю?! Даже в Варшаве не хотят ничего давать для моего полка. Так что победителям под Гейльсбергом и Фридландом остается, чтобы прожить, полтора фунта черного хлеба и перспектива умереть в тюрьме, если они попросят положенных им овощей у своего хозяина...» 64
Впрочем, все, конечно, относительно, и из письма того же автора видно, что постой в Польше был не столь уж ужасающим, по крайней мере для офицеров: «Поговорим теперь об офицерах. Они живут неплохо. Почти все расположились в помещичьих усадьбах и кое-как устроились. Я живу у доброго малого, у которого, как и у всех в этой стране, есть немного "нема"... но со свининой дело здесь обстоит недурно, я пью и ем. Я хожу на охоту и приношу два-три добрых трофея в день, когда хорошо целюсь...»65
Однако сравнительно обеспеченная жизнь на кантонир-квартирах стала возможной лишь по окончании войны. В перерыве же боевых действий, зимой 18061807 гг., на постое в Польше действительно было несладко. Жители разбегались и прятали продовольствие. Вот что доносил генерал Моран маршалу Даву 17 декабря 1806 г.: «Мы не получаем хлеба из Варшавы, у нас нет муки... Солдаты съели всю картошку, а быки и коровы, оставшиеся в двух деревнях, которые мы занимаем, будут съедены за 4-5 дней. У наших лошадей нет ни крошки овса, а дороги так плохи, что нечего и ждать помощи из Варшавы»66. В ответ маршал давал довольно неожиданные советы своим подчиненным: «Я не понимаю жалоб, которые Вам адресуют. Ваши войска располагаются постоем на наибольшем пространстве, чем кто-либо в корпусе, и в таком месте, где имеется наибольшее количество ресурсов - ибо там, где есть жители, есть и продовольствие. Нужно найти его, либо вынуждая жителей показать свои тайники с провизией, либо проследив за ними ночью, когда они идут в лес, и таким образом найти тайники; либо просто прочесать лес: недавнее таяние снега позволит обнаружить свежевскопанную землю»67. Можно только представить себе, что испытали жители, которых «вынуждали» показать последний спрятанный мешок с зерном или бочонок с солониной. Но это уже другая история.
Наконец, самыми нетривиальными были кантонир-квартиры в Испании и Португалии, в тех регионах, где гили боевые действия. Вот как описывает одно из таких расположений на постой уже известный нам офицер де Нейли: «В Галистео мы не нашли ни одной живой души. Все дома были пусты, а двери заперты. Наши солдаты открывали их ружейным выстрелом в замок - это был способ одновременно верный и наносивший наименьший ущерб. Следуя инструкциям, полученным от хунты, жители ничего не оставляли в своих домах, и мы вынуждены были располагаться на постой без какого-либо провианта. С большим трудом мы раздобыли мешок зерна в соседней деревне - так, вопреки всем чиновникам военной администрации, мы добыли хлеб, который, правда, выпекали самостоятельно» 68.
Итак, никоим образом "не идеализируя солдат наполеоновской армии и ясно отдавая себе отчет во всех притеснениях, которым подвергалось население тех мест, где войска располагались на постой (подробнее см. в следующей главе), необходимо отметить, что беспорядки начинались прежде всего тогда, когда жители разбегались из своих домов и было невозможно или крайне сложно добыть провиант. Если же основные потребности солдат были удовлетворены, Великая Армия вела себя куда более корректно, чем впоследствии союзники на оккупированной территории Франции.
Очень интересно в этом отношении свидетельство русского офицера, в будущем генерала, Левенштерна. В 1809 г. волею судьбы он оказался в Вене и мог со стороны наблюдать поведение наполеоновской армии, занявшей в мае столицу Австрии. Неопубликованный ранее отрывок* из его мемуаров очень ярко характеризует поведение победителей Габсбургской монархии: «Шенау и его парк известны всей Европе благодаря их красоте, но что привлекало тогда особый интерес - это бивак, разбитый прямо перед дворцом. Кирасиры-гиганты занимали все близлежащие строения. Я вынужден отдать должное командирам французских частей, ибо нигде нельзя было найти следов какого-либо беспорядка, даже цветы в парке оказались нетронутыми.
Мы посетили также императорский дворец Лаксенбург. Повсюду мы видели расположившихся на отдых французских солдат, и повсюду собственность оставалась неприкосновенной...
Я видел, например, в Лаксенбурге, в кабинете австрийского императора очаровательные маленькие картины, которые легко было бы унести. Но до них никто не дотронулся. То же самое можно сказать о множестве других мелких и очень ценных вещей... Мой слуга, уроженец Вены, был не столь щепетилен, он утащил из Рыцарской столовой очень старинную и ценную вещицу...» 69
* Данный пассаж не присутствует во французском издании, очень неполном и небрежном. Что же касается частичной публикации мемуаров Левенштерна на русском языке (сам автор писал по-французски), которая была осуществлена на страницах журнала «Русская старина» в 1901-1902 гг., то здесь сознательно было вымарано все, что положительно характеризовало Наполеона и его армию, а все остальное было переведено с чудовищными искажениями и ошибками. Мы приводим здесь перевод по подлинной рукописи, хранящейся в фондах Российской национальной библиотеки.
Даже в самой Испании, в тех регионах, где замолкали на время залпы пушек и хоть чуть-чуть утихала беспощадная герилья, наполеоновские солдаты и офицеры вели себя так же, как в союзном Мюнхене или покоренной Вене. И мы не можем удержаться от того, чтобы не привести, быть может, несколько пространный, но удивительно живой и красочный пассаж из воспоминаний молодого офицера, с ностальгией рассказывающего о своем пребывании в испанской столице весной 1810 г.: «Она была такой приятной, моя жизнь в Мадриде! Несмотря на войну, я был словно среди самого спокойного мира. Вот что я писал в своем дневнике в начале января...
"Едва я просыпаюсь, мои хозяйки приносят мне чашку горячего шоколада. Это каждодневный утренний привет. Несколько ломтиков ослепительно белого ароматного мягкого хлеба лежат рядом с чашкой пенистого напитка...
В моем очаге уже весело горят угольки, на которые Марикита бросила щепотку лаванды, чтобы комната наполнилась ее ароматом... Легкий снежок покрывает мостовую улиц и лежит на крышах. Прохожие укутываются в свои плащи до самого носа.
Чтобы выучить испанский, читаю книжку, которая мне нравится "El hombre feliz, ce rara avis in ter-ris" ("Счастливый человек - редкое существо на земле "). Я нахожу ее интересной, хорошо написанной, без сомнения, потому что мне удается ее понять. Я слышу, как щебечут дочери хозяйки - они собираются идти на мессу. Сегодня день, когда, согласно поверью, молитвы должны спасти заблудшие души из чистилища - Saccar las almas del purgatorio. "Дон Антонио, какой ужасный мороз, - говорят мне девушки, - на улице два градуса холода!" Они упорхнули, и я, не торопясь, также отправляюсь в Сан-Исидоро, чтобы присоединить к их молитвам мои... По выходе из церкви я встречаю молодого щеголя - majo, ухаживающего за одной из них. Он сообщает мне, что сегодня как раз день рождения девушки. Я покупаю цветы и также спешу принести свои поздравления... Я обедаю в обществе моих очаровательных хозяек и с удовольствием поглощаю олью-подриду (национальное испанское блюдо), а также героически переношу все перченые, чрезвычайно острые блюда. На десерт подают замечательные зеленые валенсийские дыни, а мои бургундские познания вовсе не оскорблены тонким вкусом вин из Валь-де-Пеньяс и Тинтильи-де-Рота. Чашечка легкого, но очень ароматного кофе заканчивает не очень продолжительный обед. Я иду на прогулку в Прадо вместе с Девержи. Светит яркое солнце, и от утреннего снега не осталось и следа. При звуках колокольного звона все гуляющие останавливаются как вкопанные и произносят короткую молитву. Мы тоже снимаем шляпы и делаем как они...
Вечером я забегаю посмотреть спектакль. Сегодня дают "Похищение пророка Илии", а потом водевиль "Сумасшедший дом", последний заставляет меня много смеяться... Еще позже вечером я иду на бал в обществе дочерей моей хозяйки. Я, кажется, замечаю, что моя униформа вызывает не очень приятные воспоминания. Тогда я покидаю на короткое время залу и возвращаюсь, одетый, как истинный кастилец, с головы до ног во все черное, и, кажется, я правильно сделал, так как меня принимают гораздо радушнее: одна из девушек ласково говорит мне на ухо, что я добрый малый - un buen muchacho. Мы много танцуем болеро и сегидильи. Никакого вальса, а чтобы сделать мне приятное, собравшиеся два раза танцуют французский контрданс, впрочем, весьма вяло. Какой прекрасный вечер! В два часа ночи мы покидаем бал после легкого ужина, состоявшего в основном из сладких блюд, и у входа мы находим факелоцосцев, которые освещают нам дорогу до дома. Я ложусь спать, мои веки закрываются под звуки льющейся издалека серенады, поющей о красоте ночи..."»70
Этим безоблачным воспоминанием мы позволим себе завершить главу, где все, казалось бы, пропахло потом, грязью и кровью. Но это неслучайно. Ведь подавляющее большинство этих людей, на долю которых выпали тяжелые испытания голодных и холодных биваков, новых и новых маршей по колено в грязи, сохраняли, несмотря на все лишения, силу духа, высокое чувство чести и просто веселость и доброту.
1 Blaze E. La vie militaire sous le Ffemier Empire. P., 1837, t. 2, p. 265-266.
2 S. H. A. T. XB411 Inspecti on du 32e regiment... 25 fructidor An XIII.
3 S. H. A. T. Xc247 Rapport d'inspection, faite par le general de division Vignolle 5 thermidor An XIII a Ammersfoort.
4 Bardin. Memorial de l'officier d'infanterie. P., 1809, t. 2, p. 822.
5 Coignet J.-R. Les carriers du capitaine Coignet. P., 1896, p. 181.
6 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 1891,1.1, p. 61.
7 Manuel d'infanterie ou resume de tous les reglements (decrets usager rensagnemerts propresa cette arme). P., 1808, Titre 1™. Instruction mecanique p. 2-4.
8 Roguet F. Memoires militaires du lieutenant-general comte Roguet, colonel en second des grenadiers a pied delaVieille Garde. P., 1862-1865, t. 2, p. 351,356.
9 Girard S. Campagne de 1813-1814. Journal de marche d'un Garde d'honneur. P., 1920, p. 18-19.
10 Roguet F. Op. cit, t. 2, p. 421-422.
11 Ibid., p. 426.
12 Villas J. de. Feuilles d'Histoire. 1910, p. 517-519.
13 Blaze E. Op. cit., t. 2, p. 75-76.
14 Fabry G. Campagne de Russie. P., 1900-1903, t. 4, p. 262-390.
15 Suckow K.-F.-E. von. Fragments de ma vie. D'Iena a Moscou. P., 1901, p. 156.
16 Fabry G. Op. cit.
17 Ibid.
18 Blaze E. Op. cit., t. 2, p. 125.
19 Ibid., p. 109.
20 Thiebault D.-R-C.-Ff. Manuel general du service des etats-majors généraux et divisionnaires, p. 266.
21 Ravy D. Journal d'un engage volontaire pendant les campagnes de 1805, 1806 et 1807 //Histoire d'un regiment. La 32е demi-brigade (1775-1890). p. 132.
22 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P., 1893-1895, t. 4, p. 508-510.
23 Thirion A. Souvenirs militaires. P., 1892, p. 157-158.
24 Ibid., p. 157.
25 Ney M. Memoires du marechal Ney, due d'Elchingen, prince de la Moskowa. Bruxelles 1833, t. 2, p. 386.
26 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors.. p. 272.
27 Ibid., p. 275.
28 Chlapowski D. Memoires sur les guerres de Napoleon (1806-1813). P., 1908, p. 6-7.
29 Foucart P. Campagne de Prusse, 1806. P., 1887-1890, t. 2, p. 565.
30 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938, т. 1, с. 36.
31 Ravy D. Op. cit, p. 134.
32 Fezensac. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 64.
33 Desbceufs Ch. Souvenirs du capitaine Desboeufs P., 1901, p. 58.
34 Alombert PC, Colin J. La campagne de 1805 en Allemagne. P., 1902-1908, t. 4, p. 100.
35 Desbceufs Ch. Op. cit., p. 113.
36 Beaulay Ft. Memoires d'un grenadier de la Grande armée. P., 1907, p. 38.
37 Vionnet de Maringonne L.-J. Campagne de Russie et de Saxe (18121813). Souvenirs d'un ex-commandant des grenadiers de la Vieille Garde. P., 1899, p. 77-78.
38 Blaze E. Op. cit.,p. 40.
39 Bourgoing P.-C.-A. de. Souvenirs militaires du Baron de Bourgoing (1791-1815). P., 1897, p. 129.
40 Oyon J.-A. Campagnes et souvenirs militaires // Carnet de la Sabretache. Avril, 1913, № 244, p. 231-233.
41 Blaze E. Op. cit.,t. 2, p. 64.
42 Naylies J.-J. de. Memoires sur la guerre d'Eqpagne. P., 1817, p. 147-148.
43 Percy P.-F. Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande armée. P., 1904, p. 137, 152.
44 BeaulayH. Op. cit.,p. 53.
45 Ibid., p. 85.
46 Griois L. Memoires du general Grids (1792-1822). P., 1909, t. 2, p. 32-33.
47 Tascher M. de. Notes de campagne (1806-1813). Chateauroux, 1932,
p. 20-21.
48 Thiebault D.-P.-C.-H. Manuel general du service des etats-majors P., 1813, p. 173.
49 Bardin. Op. cit, t. l,p. 392.
50 Blaze E. Op. cit., p. 10.
51 Ravy D. Journal d'un engage volontaire pendant les campagnes de 1805, 1806 et 1807 // Histoire d'un regiment. La 32c demi-brigade (1775-1890). p. 123-124.
52 Bigarre A. Memoires du general Bigarre, aide de camp du roi Joseph. P., 1893, p. 162.
53 Marmont A.-F.-L.-V. Memoires du maréchal Marmont due de Raguse de 1792 a 1841. P., 1857, t. 2, p. 141-142.
54 Ibid., p. 144.
55 Blaze E. Op. cit, p. 17.
56 Ibid., p. 6-8.
57 Les campagnes d'Allemagne (1807) //Tulard J. Nouvelle biblio. № 260, p. 54.
58 Thirion A. Op. cit., p. 40.
59 Combe M. Memoires du colonel Combe sur les campagnes de Russe (1812), de Saxe (1813), de France (1814 et 1815). P., 1854, p. 54.
60 Coignet J.-R. Les cahiers du capitaine Coignet. P., 1896, p. 60.
61 Ibid.
62 Combe M. Op. cit., p. 53-54.
63 Saski. Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. P., 1899-1902, t. l,p. 300.
64 Lettre du general Colbert. Le 6 septembre 1807 // Carnet de la Sabre tache. Janvier, 1899, № 1, p. 35.
65 Ibid., p. 37.
66 Operations du 3ecorps 1806-1807. Rapport du marechal Davout, due d'Auerstaedt. P., 1896, p. 247.
67 Ibid., p. 328.
68 Naylies J.-J. de. Op. cit, p. 181.
69 Рукописный фонд Российской Национальной библиотеки, СПб., Ф. 425 №2, с. 30-31
70 Fee A.-L.-A. Souvenirs de la guerre d'Espagne dite de l'independance (1809-1813). P., 1856, p. 32, 38-41.
Глава XI. ДУХ И ДИСЦИПЛИНА АРМИИ НАПОЛЕОНА
На войне три четверти всего - это моральные силы.
Наполеон
Ознакомившись с предыдущими главами, можно, как мы надеемся, составить довольно ясное представление о материальной стороне армии Наполеона. Нам, впрочем, уже приходилось затрагивать моральные категории, но лишь в той мере, которая была необходима для связности повествования. Теперь мы обратимся к ним более подробно, ибо моральный фактор столь важен на войне, что без него портрет армии будет явно незавершенным. Нет сомнения, что данная глава представляет собой самую субъективную часть повествования, так как здесь мало что поддается строгому математическому учету. Можно, конечно, подсчитать количество дезертиров в той или иной части, количество награжденных или количество приговоров военно-полевых судов, вынесенных в том или ином соединении, но кто может сосчитать число солдатских подвигов, оставшихся неизвестными, или, напротив, актов грабежа и насилия над мирными жителями, оставшихся безнаказанными? Как подсчитать отвагу и трусость, великодушие и низость, щедрость и алчность? Недаром по- русски и по-французски все это называется «духом» (esprit) - субстанцией прозрачной, неуловимой, эфемерной.
И все-таки от этой эфемерной субстанции зависит на войне все. Ничто не заменит в бою веры в свое дело, презрения к смерти, уверенности в своих силах, моральной спайки, дисциплины; ничто не спасет армию, в которой царит расхлябанность, недисциплинированность, которая не верит ни в правоту своего дела, ни в победу.
На основании изучения тысяч источников: писем, официальных документов, дневников, мемуаров - у нас сложился образ наполеоновской армии, который мы и попытаемся донести до читателя. Чтобы раскрыть этот образ, нам придется не раз прибегнуть к примерам, однако примеры не следует рассматривать как бесспорное доказательство того или иного положения.
Действительно, набором отдельно взятых фактов можно создать какой угодно образ наполеоновского войска, как, впрочем, и всякого другого, - от черного до светло-идиллического. Поэтому примеры, которые будут приводиться, надо рассматривать прежде всего как иллюстрацию того или иного качества солдат Императора, положившись в остальном на честность и компетентность автора.
Мы начнем это эссе о духе наполеоновской армии с качества, которое было ее неоспоримой и точной характеристикой. Этим качеством была отвага, что, впрочем, неудивительно для войск, которые с 1792 г. почти непрерывно были в пекле войн, большей частью победоносных. Свидетельство не раз уже упоминавшегося Клаузевица, непримиримого врага наполеоновской Франции, звучит, пожалуй, наиболее убедительно: «Надо было самому наблюдать стойкость одной из частей, воспитанных на службе Бонапарту и предводимых им в его победоносном шествии, когда она находилась под сильнейшим и непрерывным орудийным огнем, чтобы составить себе понятие, чего может достигнуть воинская часть, закаленная долгой привычкой к опасностям и доведенная полнокровным чувством победы до предъявления самой себе требования высочайших достижений. Кто не видел этого, тот не сможет этому поверить» 1.
Наивно, конечно, было бы полагать, что в полки Наполеона не попадали трусы, просто последние если и были, то они либо дезертировали, либо, стиснув зубы, должны были следовать общему порыву и иногда увлеченные им... становились героями.
Особенно беспощадной к трусости была офицерская среда. Д'Эспеншаль, автор блистательных по точности воспоминаний, рассказывает, как старший офицер, прибывший к ним в полк (5-й гусарский), оказался не на высоте своей миссии в одном из первых боев кампании 1809 г.: «Все офицеры части заявили единодушно, что он не достоин командования...» Тогда с согласия генерала Пажоля этого офицера отправили в депо во Францию «под предлогом необходимости заниматься организацией подкреплений, однако накануне отъезда по поручению всех офицеров полка, молодой суб-лейтенант заявил изгнаннику, что он должен снять с себя белый ментик (характерная деталь униформы 5-го гусарского, ставшая его символом) и что, если он этого не сделает, то о его поведении будет доложено Императору. С этого времени мы больше ничего не слышали об этом офицере...»2
Планшет 20. Рядовой 6-го гусарского полка и вахмистр 5-го гусарского полка 1813-1814 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Понятно, что в офицерском корпусе, пронизанном чувством чести, честолюбием и жаждой славы, распаленными Императором, при ежедневном экзамене на храбрость трусу, особенно в офицерских эполетах, было нечего делать в наполеоновских полках. Ведь, как писал де Брак, «на поле боя человек раскрывается таким, каков он есть. Здесь нет больше вуали, нет хитроумных уверток - все страсти человека выступают наружу, его душа открыта, и по ней может читать любой, кто захочет. Здесь интриги в бессилии молкнут, здесь храбрецы приемных, умники салонов... любители погарцевать в мирное время не задирают носа. Горе любому, кто побледнеет в бою, даже если он и носит шляпу с шитьем, горе эполетам и галунам, которые склонятся под ветром от ядра... Здесь вершится неподкупное правосудие, и горе тому, кто будет осужден трибуналом, где честь - судья»3.
Нужно было быть не просто бесстрашным, но нужно было, чтобы это все видели: не склонять голову под ядрами и пулями! - понималось абсолютно буквально. Как-то раз кавалерийский генерал Груши вместе со своим начальником штаба полковником Жюмильяком и начальником артиллерии полковником Гриуа отправились на рекогносцировку. Вражеское ядро, просвистевшее совсем близко от них, заставило Жюмильяка невольно пригнуться. Гриуа пишет, что «генерал Груши не мог сдержать улыбку. Он сказал, обращаясь ко мне: "Кажется, полковник, Вы лучше знакомы с ядрами, чем этот господин, ибо Вы не приветствуете их столь же почтительно". Несчастный начальник штаба был сконфужен и не ответил ни слова. Впрочем, у многих военных, которых я знал, - это всего лишь невольное движение, которое, однако, было для них настоящим несчастьем, ибо многие приписывали эти кивки страху»4.
Трусость в солдатской среде была столь же презираема, как и среди офицеров, причем, подобно своим командирам, солдаты сами разбирались с теми, кто вел себя недостойно в бою.
И все же не страх перед наказанием, даже наказанием со стороны товарищей, был главной мотивацией отваги. Жажда славы, почестей, желание подняться по ступеням военной иерархии и, наконец, просто упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю армию Наполеона, вплоть до солдат. Капитан Дебёф рассказывает в своих бесхитростных и удивительно точных мемуарах о чувствах, которые он, будучи молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом бою: «Войска в нетерпении сразиться с врагом ринулись по мосту. Затрещала ружейная пальба, и я ускорил шаг, гордый тем, что я ступил на австрийскую землю и еще более тем, что я тлел в охране знамени. Это было великолепное зрелище - мой первый бой...»5 Прошло немного времени, и новичок стал закаленным воином, без оглядки идущим на врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал в руках ружье и ускорил шаг в нетерпении доказать, что я достоин быть французом»6.
«Какой это был прекрасный бой! - записал 18 октября 1806 г. в своем дневнике другой солдат. - Мы не очень-то много видели, ибо дым обволакивал нас со всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. Тебе хочется кричать, скусывать патроны и драться. При всполохах огня, вылетающего из жерл орудий, в красных клубах пушечного дыма были видны силуэты канониров на своем посту, похожих на театр китайских теней. Это было восхитительно!»7
Как видно из последнего отрывка, бесстрашие перед лицом опасности перешло в наполеоновской армии в нечто большее - жажду опасностей. Грохот канонады вызывал у основной массы солдат и офицеров не страх, а непреодолимое желание сразиться с врагом, добиться новых отличий, совершать подвиги. Интересен в этом смысле один из эпизодов в дневнике Фантена дез Одоара, редком по точности и яркости характеристик источнике, ибо капитан Фантен дез Одоар писал свой дневник прежде всего для себя и по самым свежим следам событий - каждый эпизод записывался если не вечером того же дня, то через день или два. Вот, что он занес в свою тетрадь 4 декабря 1808 г., когда после сравнительно продолжительной мирной передышки (больше года!) его полк на марше в Испании услышал впереди гул орудий: «После Фридланда мы не слышали этого величественного голоса битв. Его первые раскаты, звучавшие подобно раскатам отдаленного грома и отраженные тысячекратным эхом в горных долинах, по которым шли наши колонны, заставил нас восторженно затрепетать от наших воспоминаний и наших надежд»8.
Современному человеку нелегко понять, что для офицеров и старых солдат наполеоновской армии сама война стала предметом не страха, а вожделения. Буквально все документы описываемой нами эпохи (а мы еще раз подчеркиваем, что отдаем безусловное предпочтение тем из них, которые написаны по горячим следам событий) говорят, что весть об объявлении войны армия встречала восторгом. Вот как уже известный нам д'Эспеншаль описывает чувства, которые последовательно испытывали Олег Соколов его гусары накануне кампании 1809 г. В январе он писал: «Все происходящее подтверждает, что весной начнется война с Австрией, что наполняет нас радостью»; в марте: «Мы узнали, что скоро выступим в поход, что было воспринято с бешеным восторгом». Наконец, 10 апреля утром, после того как капитан Добантон, адъютант Пажоля, принес известие о том, что австрийцы начали войну: «Эта новость была встречена полком восторженными криками "Vive l'Empereur!" И уже час спустя наши гусары обменялись с врагом первыми выстрелами из карабинов, ставшими прелюдией к великой драме, которая под названием Ваграмской кампании должна была потрясти Европу»9.
Другой современник вспоминает о начале той же кампании: «Нам не терпелось прибыть на новые поля битв, снова увидеть Италию, которую мы уже знали, и австрийцев, которых мы тоже знали, но тем не менее считали, что еще недостаточно померились с ними силами...»10
Сейчас просто трудно поверить, зная о том, что ожидало Великую Армию на правом берегу Немана в 1812 г., какие чувства охватывали солдат и офицеров накануне роковой войны: «1 марта 1812 года. Париж... Я только что узнал с невыразимым наслаждением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая война, которая так превознесет славу Франции. Огромные приготовления завершены, и скоро наши Орлы полетят к тем краям, которые наши отцы едва знали по названию...»11
Все эти слова не были пустой бравадой. Едва только эти люди оказывались в бою, они рвались в самое пекло. Их отвага несла на себе отпечаток живости национального характера французов, она была дерзкой, напористой и еще лучше раскрывалась в атаке, чем в обороне. Вот только часть списка представленных к награждению после сражения под Ауэрдштедтом солдат 25-го линейного полка:
«...Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на вражескую батарею и захватил у канониров знамя артиллерии.
Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пушку, после того как убил одного канонира, а остальных взял в плен.
Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы дрался с вражескими кавалеристами, уничтожил многих из них и с жаром преследовал неприятеля.
Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во вражеские ряды...»12
А ведь это всего лишь один из многих полков, мужественно сражавшихся в этой битве !
«Эти французские солдаты, - писал в 1806 г. прусский офицер, - они такие маленькие и слабые, один из наших немцев побил бы их четверых, если бы речь шла только о физической силе, но под огнем они превращаются в сверхъестественных существ»13.
Во время Испанской кампании при штурме Сагунта, неприступной крепости на скалах, французские штурмовые колонны устремились на приступ через узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем обороняющихся. «Обломки крепостной стены осыпались под ногами наших солдат, и, поднявшись к бреши, они увидели перед собой неразбитую стену. Чтобы подняться до пролома, нужно было подтягиваться на руках, а за ним стояли испанцы, которые встретили наших солдат жестоким огнем в упор. Но отвага штурмовой колонны была такова, что офицерам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить немалые усилия, чтобы остановить ставший безнадежным штурм и отвести назад людей... Здесь полегло 400 человек, среди которых было много достойных офицеров»14.
Что же заставляло этих людей, словно одержимых, презирая раны и смерть, устремляться на вражеские штыки и навстречу шквалу картечи? Конечно, жажда славы, почестей и наград играли определенную роль, но эти стимулы были серьезными побудительными мотивами прежде всего для офицеров и генералов. На простого солдата более всего воздействовало то общее в наполеоновской армии начало, о котором мы говорили в главе III, а именно - чувство чести.
Конечно, никакой воинский коллектив не может существовать хотя бы без смутного понятия о чести солдата. Однако это чувство явно не было первостепенным в мотивации английских наемников, завербованных из уголовников и бродяг, не было оно определяющим и для солдат прусской армии 1806 г., «боявшихся палки капрала больше, чем пуль неприятеля» и даже для прусских солдат 1813 г., ведомых в бой порывом исступленного патриотизма и жаждой отмщения (см. гл. XII). Особенностью же французской армии еще в дореволюционную эпоху было то, что понятие чести и достоинства, хотя и не в такой рафинированной форме, как у офицеров, существовало среди рядовых. Равенство граждан перед законом, пришедшее после свержения Старого Порядка и закрепленное Кодексом Наполеона, энтузиазм, который вызывали в армии и в обществе победы императорского войска, высокий социальный статус воина вообще, даже если он не являлся офицером, сознание того, что солдат - это не выходец из подонков общества, а гражданин - все это позволило Наполеону еще более, чем в старой королевской Франции, распространить принцип чести на всю массу войска, а не только на офицерский корпус, как это было в европейских армиях конца XVIII - начала XIX вв. «Я слишком много жил с нашими солдатами, чтобы не знать их недостатки, большие недостатки, - писал в своих мемуарах майор Гонневиль, - но они обладали чувством чести, жившим в них, таких простых и великих»15.
О том, насколько серьезно воспринималось слово «честь» в армии Наполеона, лучше всего говорят наставления полковника де Брака своим подчиненным: «...это не значит презирать жизнь, предпочитая сохранение чести сохранению жизни. Это просто означает воздавать чести то, чего она заслуживает»16.
Честь требовала не оставлять ни при каких условиях свой боевой пост. Накануне Аустерлица унтер-офицер гренадеров должен был подвергнуться однодневному аресту за плохую форму одежды, тем самым он лишился бы возможности принять участие в бою. «Это пустяк, конечно, арест на один день, - ответил сержант, - но пусть меня лучше разжалуют или арестуют надолго, но при условии, что это будет послезавтра, - я не хочу быть обесчещенным»17. В 1806 г. больные гвардейские конные егеря, лечившиеся в госпитале Военной школы, выпрыгивали из окон, чтобы пойти с армией, отправлявшейся в Прусскую кампанию. Во время Польской кампании 1807 г. отставшие солдаты, изможденные голодом, холодом и усталостью, при первых же выстрелах орудий устремлялись вперед, стараясь во что бы то ни стало догнать своих и принять участие в бою. «Делали ли они это из-за отвращения к столь тяжелой жизни или желания отомстить неприятелю? - писал полковник Сен-Шаман. - Нет! Они шли на это только из чувства чести»18. Офицер, сражавшийся в Испании, удивляясь своим солдатам, спрашивал себя: «Почему эти люди, которые вчера так ворчали, ругались, проклинали все на свете, исполняя простейшие распоряжения, следствием которых было в самом худшем случае одно - два лье марша сверх необходимого, почему сегодня эти же люди беспрекословно идут туда, где нужно ставить на карту жизнь? - И сам себе отвечал: - Потому что ворчать, когда идешь в бой - это уже недалеко от трусости, а значит, и от бесчестья»19.
Ясно, что подобная концепция чести была бы немыслима без высокого понятия о собственном достоинстве. «Французский солдат гордится своим званием, требует вежливости и платит тем же. Офицер, генерал видят в простом солдате своего собрата и величают его "товарищем". Обращаясь к барабанщику, генерал говорит ему то же самое "Вы", которое получает от него»20. Интересно, что последнее наблюдение сделано высокопоставленным русским чиновником в небольшой брошюре под названием «Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 годы», изданной в 1808 г. в Санкт- Петербурге. (Мы обращаем внимание на дату издания брошюры: здесь, как и в остальных случаях, мы отдаем предпочтение непосредственной реакции современников, а не воспоминаниям, написанным много лет спустя.) Практически то же самое отмечает и французский офицер: «У нас... солдат подчиняется офицеру как своему командиру, он знает, что нужно уважать его положение, но он знает, что и офицер обязан соблюдать почтительную форму в отношении к нему. Он тоже.человек. Офицер был солдатом, солдат может стать офицером - это устанавливает между ними определенное равенство прав... -вот, что нельзя упускать из виду, когда командуешь нашими солдатами. С ними нужно быть твердым, но без излишеств, добрым, но без слабости. Чрезмерная строгость их раздражает, слабость вызывает насмешки. Нужна разумная мера, золотая середина, которая представляет собой нечто вроде отеческого братства»21.
Высокое чувство достоинства французских солдат вызывало подчас изумление офицеров иностранных армий, где между командирами и рядовыми лежала непроходимая сословная пропасть. Рассказывают, что французский сержант под Торрес-Ведрас был взят в плен англичанами во время перемирия. Приведенный на допрос к самому Веллингтону, он вел себя с таким достоинством и был так искренне возмущен его несправедливым захватом в плен, что английский главнокомандующий приказал его отпустить, предварительно хорошенько накормив и напоив за столом слуг. Но француз, несмотря на смертельный голод, выслушав указание генерала, не двинулся с места. «Чем же ты еще не доволен?» - спросил Веллингтон. «Французский солдат не садится за стол с лакеями», - таков был ответ. Изумленный «железный герцог» предложил тогда разделить трапезу с ним...22 Скорее всего, конечно, это лишь красивая легенда, однако о ней можно смело сказать словами итальянской поговорки: «Если это и неправда, зато точно сказано». Сам факт появления этой и многих подобных историй говорит о том, что французские солдаты считали себя вполне ровней генералам, по крайней мере, неприятельским.
Конечно, командовать такими людьми было не всегда просто. Офицеру недостаточно было лишь появиться в эполетах перед фронтом, чтобы быть признанным за командира. Он должен был быть лидером: быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем его подчиненные. Вот, например, что писал старый солдат в бесхитростном послании своему бывшему командиру части, генералу Друо: «Я считаю, что самое главное, чтобы командир заслужил любовь солдат, потому что если полковника не любят, не очень-то захотят погибать за него... Под Ваграмом в Австрии, где мы так отчаянно дрались, и где наш полк сделал все, что мог, как Вы считаете, сражались бы так наши гвардейские артиллеристы, если бы они Вас не любили?.. К тому же Вы говорите с солдатами так, как если бы они были Вам ровней. Есть офицеры, которые разговаривают с солдатами, как если бы они были солдатами, но, по-моему, это не стоит и ломаного гроша...»23
Э. Детайль. Драгуны 4-го полка с захваченным знаменем (кампания 1806 г.).
Действительно, когда офицер отвечал этим критериям, преданность подчиненных, их готовность идти за ним куда угодно не знали границ. Полковник Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал своей жене из Испании 1 января 1811 г.: «Вчера мы закончили старый год тем, что разбили вражеский отряд, захватив у них немало пленных, и мой полк вел себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно сражаются, какое счастье командовать подобными солдатами» 24.
«Разделите то, что у Вас есть с вашими солдатами, - советовал де Брак, - они поделятся с Вами, и Вы не останетесь в проигрыше. Вы увидите однажды, когда у вас не будет ничего, как старый солдат будет горд, будет счастлив отдать Вам свой последний кусок хлеба, а если надо, то отдать за Вас и свою жизнь»25.
Солдаты, которые шли в огонь за такими командирами, как Друо, Шаморен или де Брак, подававшими пример бесстрашия и воспитывавшими в них культ чести, поистине презирали смерть. Вот что писал 1 августа 1815 г. лейтенант Жан Мартен, рассказывая о том, как во время боя при Шарлеруа ему пришлось пересечь колонну повозок с ранеными: «Перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один на другом, они были искалечены самым разным образом, и смерть уже читалась на многих лицах. Но именно эти люди, казалось, наименее заботились о своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей армии. Забывая боль, они старались поднять наш дух. Они поднимали свои бледные лица над повозками и кричали: "Вперед, товарищи, не бойтесь! Все идет отлично. Еще немного, и враг побежит!" Я видел тех из них, над которыми смерть уже простерла свои объятия, но они употребляли свой последний вздох, чтобы крикнуть: "Да здравствует Император! Дерьмо пруссакам!" Другие размахивали своими окровавленными конечностями, грозя врагу и сожалея лишь о том, что они не могут мстить!»26
Но самым удивительным, наверное, в этих людях было умение, несмотря на все ужасы боев и тяготы походов, сохранять французскую веселость, - черту, без которой портрет наполеоновского солдата был бы явно не полным. На бесконечных маршах по разбитым дорогам, в кошмаре битв и в грязи биваков сыпались шутки и раздавались раскаты смеха маленьких вольтижеров, великанов кирасир и усатых гренадер. «Это было настоящее удовольствие смотреть, как работают эти парни, - вспоминал о французских понтонерах вюртембергский офицер. - Они делали свое дело, словно играючи, хотя было холодно, а у них был пустой желудок. Но это был непрекращающийся поток шуток и веселья... поистине это были настоящие французы»27.
Наблюдения иностранцев, имевших возможность видеть французскую армию изнутри, особенно интересны, ведь они подмечали то, что для самих французов казалось естественным и обыденным. Здесь стоит вспомнить великолепную характеристику французских пехотинцев на марше при вступлении в Познань, данную будущим офицером императорского штаба поляком Хлаповским*. Ну а вот как увидел один из трудных переходов во время Ульмского маневра 6 октября 1805 г. французский унтер-офицер: «Чтобы отрезать неприятелю путь к отступлению, мы, конечно, должны идти по кратчайшей дороге, правда, она покрыта слоем воды в три фута... Мы похожи на библейских израильтян, переходивших Красное море, с той только разницей, что древние бросались в воду, чтобы уйти от своих врагов, а мы бултыхаемся в ней, чтобы дойти до них... Тому, кто повыше, вода доходит до пояса, тому, кто пониже - до лопаток. Мы поскальзываемся, мы дрожим от холода, мы ругаемся, но все же идем... Но вот кто-то из солдат поставил ногу на край канавы, скрытой водой, соскользнул вниз и скрылся с головой. Мы срочно вылавливаем неудачника, увы, руками, так как у нас нет удочек, и тот, кого надо было бы оплакивать, становится объектом шуток. "Скажи-ка, брат, ты что, хотел выпить всю воду и ничего не оставить другим!" - кричат одни. "Тебе не придется стирать рубашку!" - смеются другие. Впрочем, если бедный утопавший желает, чтобы эти насмешки побыстрее прекратились, ему лучше ответить в том же тоне... А вот лошадь генерала, который ехал во главе войск, тоже оступилась и провалилась в канаву. Шитый золотом мундир исчез под водой, и над ее поверхностью осталась только шляпа с галунами... Адъютанты с трудом вытаскивают своего начальника из канавы, и тотчас от головы колонны до хвоста сыплются шутки и смех... В адрес кого? Ну конечно же, в адрес генерала, "который пьет из очень большой чашки!"»28.
* см. гл. X.
Победа под Оканьей 19 ноября 1809 г. Гравюра.
В этом сражении французские войска, ведомые королем Жозефом, маршалами Журданом и Сультом, разгромили испанскую армию генерала Арисага. Характерно, что на переднем плане художник изобразил французского драгуна, разящего своим палашом монаха.
Веселость в сочетании с привычкой к виду ран и смерти порождала порой шутки, от которых может содрогнуться мирный человек, но которые, без сомнения, помогали презирать опасность. Капитан Франсуа рассказывает, как французские офицеры веселились при обороне Гамбурга в 1813 г.: «Мы часто идем в бой прямо с бала, а по окончании боя снова возвращаемся танцевать. Нас спрашивают, почему не вернулся тот или иной наш товарищ. "Этот на дежурстве на аванпостах... А этот... в гостях у святого духа", - отвечаем мы, и танцы продолжаются» 29.
«Привычка к опасности заставляла нас рассматривать смерть, как, если Можно так выразиться, самое обыденное явление жизни, - вспоминал кавалерийский офицер. - Мы жалели раненых товарищей, но если кто-нибудь из них умирал, то по отношению к нему высказывалось лишь легкое сожаление, а то и холодное безразличие. Вот солдаты находят среди убитых своего приятеля. Что они говорят по этому поводу? Примерно следующее: "Больше не будет напиваться" или: "Больше не будет лопать чужих куриц", или что-нибудь в этом роде... Подчас это была единственная надгробная речь, которую произносили над нашими товарищами по оружию, павшими в бою»30.
Фантен дез Одоар записал в своем дневнике 16 июня 1807 г. через день после битвы под Фридландом: «...было бы, конечно, лучше закопать убитых, но это показалось слишком долгим делом, и был отдан приказ бросать их в реку Алле. Тотчас наши солдаты взялись за дело. Они тащили тела людей и лошадей до берега реки, протекающей в глубоком овраге, и бросали их с обрыва. В этом деле, казалось, не было ничего веселого, тем не менее такова уж легкомысленность солдата, а тем более французского, что самое неподобающее случаю оживленнее царило на этих весьма специфических похоронах: дело в том, что трупы, катясь с откоса, кувыркались в самых невообразимых позах, что вызывало взрывы всеобщего смеха...»31
Вполне понятно, что подобного рода веселость могли себе позволить только люди, не верящие ни в бога, ни в черта. Так оно, в общем, и было. Антирелигиозная пропаганда века Просвещения и Великой французской революции дала свои результаты. Конечно, среди солдат и офицеров было немало верующих людей, однако они не задавали тон, а лишь следовали общему стилю поведения своих товарищей по оружию. «Нечего и говорить, что о религии у нас в лагере (Булонском) почти не вспоминали, - рассказывает офицер пехоты. - Полки ходили на мессу лишь в городах, и по странному предубеждению Император считал, что набожность подходит лишь женщинам, а не мужчинам. "Я не хочу иметь набожную армию", - говорил он. Без сомнения, с этой точки зрения он мог быть вполне удовлетворен»32. Впрочем, в этой антирелигиозности было больше военно-политического подтекста, чем подлинного атеизма. Не следует забывать, что в период Революции армии пришлось сражаться с разного рода противниками, и очень часто враг шел под знаменем религии. «Крестовый поход» против Франции был благословлен самим Римским Папой. В Вандее, на юге Франции, в Неаполитанском королевстве французских солдат пытали и предавали мучительной смерти крестьяне, ведомые фанатичными священниками. Для солдат и офицеров «священник», «монах» стало синонимом слова «враг». И хотя Первый консул восстановил религию в правах, подписав в 1802 г. Конкордат с Римским Папой, в армии сохранилось стойкое неприятие всего, что связано с церковью. Именно поэтому бывшие республиканские командиры резко отрицательно встретили заключение Конкордата, а генерал Дельма якобы даже сказал в лицо Бонапарту: «Вам осталось только сменить наши темляки на четки. А Франция пусть утешится, что потеряла без толку миллион человек, чтобы положить конец всей этой поповщине, которую Вы возрождаете»33.
Остатки республиканского видения религии очень сильно ожили с началом испанской войны, где монахи, священники, инквизиторы стали не просто пропагандистами священной войны против наполеоновских войск, но и вдохновителями ужасающих зверств по отношению к пленным французам или союзникам. Ответом на это армии был новый виток антирелигиозности. В бою под Опорто в Португалии вольтижеры одного из полков узнали, что ополченческая рота, сражавшаяся против них, состоит из... молодых монахов. Это вызвало среди французских солдат взрывы смеха и поток презрительных шуток в адрес врага, который был в мгновение ока опрокинут штыковым ударом. В отличие от обычного неприятеля пощады монахам не давали: всех тех, кто не успел убежать, вольтижеры перекололи штыками34. Во взятых штурмом испанских городах монастыри становились излюбленным объектом разграбления. «Опьяненные вином, весельем и гневом, солдаты изображали религиозные процессии вокруг бивачных огней, держа в руках свечки и нацепив на себя одежду монахов, песнопениям которых они подражали, заменяя слова молитв казарменными выражениями»35.
Набожные испанцы считали, что французская армия состоит то ли из язычников, то ли из мусульман или уж, как минимум, из еретиков, и поэтому с удивлением смотрели на тех солдат и офицеров, которые заходили в церковь помолиться, а тем более на посещения церкви, организованные командованием: «В полной парадной форме... мы прибыли в монастырь, где в соответствии с данными нам указаниями выслушали молитву, - рассказывает унтер-офицер вольтижеров. - Наше поведение несколько образумило испанцев, которые не могли вообразить, что мы тоже католики...»36
Несмотря на отдельные примеры организованного участия в религиозных церемониях, во французских полках так и не был учрежден институт полковых священников, хотя, как следует из источников, в ряде частей они все же существовали на полулегальном положении, официально числясь как солдаты. В общем же до самого падения Империи в армии сохранилось неприязненное отношение к религии. Интересно, что в неоднократно цитируемой нами знаменитой книге де Брака «Аванпосты легкой кавалерии», где автор, резюмируя свой опыт наполеоновских войн, дает наставления молодым офицерам, и где важное, если не сказать, самое важное место отводится моральным факторам: чести, отваге, воинской дружбе, самопожертвованию, бодрости и веселью - нет ни слова о вере в бога.
Отсутствие религиозности совсем не означало аморальность. Саксонский генерал Тильман прекрасно резюмировал это одной фразой, написанной им в 1808 г.: «Немецкий солдат религиознее, чем французский, но французский нравственнее, поскольку принцип чести оказывает на него неизмеримо большее влияние, чем на немецкого»37.
Впрочем, сказать, что у наполеоновских солдат не было веры, будет не совсем правильно. Вера у них была, и вера глубокая, пылкая и преданная. Это была вера в одного бога - Наполеона. Когда-то в армии Древнего Рима существовал официальный культ Императора, изображениям которого воздавались божеские почести. В наполеоновской армии, конечно, не было ничего подобного в качестве организованного культа. Однако отношение к Наполеону можно назвать не иначе как культ Императора. У генералов и маршалов он часто выливался в форму казенного восторга, у офицеров принимал вид поклонения тому, в ком видели надежду на фантасмагорическую карьеру, зато у солдат, и прежде всего, конечно, старых солдат, он был глубоко искренним и шел действительно от души. «Я считался страшным в ваших салонах, - говорил Император Лас Казу на острове Святой Елены, - среди генералов и, может быть, среди офицеров, но никоим образом не среди солдат; у них был инстинкт справедливости и симпатии, они знали, что я их покровитель, а если надо, то и защитник... Мои солдаты чувствовали себя прекрасно и свободно со мной, они часто называли меня на "ты"»38. Хотя, как уже отмечалось, среди сказанного и написанного Наполеоном на Святой Елене большую часть занимает пропаганда для грядущих поколений, в приведенной цитате нет ни слова лжи. Действительно, Императору удалось добиться глубокой преданности и уважения со стороны солдат, которые, однако, могли говорить с ним откровенно и даже шутить.
Описывая взаимоотношения Наполеона с солдатами, легко впасть в стиль сусальной легенды. Разумеется, беспристрастный анализ позволяет несколько нюансировать идиллию этих взаимоотношений: например, приказом маршала Лефевра, командующего Старой Гвардией, от 22 августа 1812 г. солдатам было запрещено вручать на параде петиции Императору, а рекомендовалось направлять их по инстанциям39. Тем не менее подавляющее большинство источников, наиболее заслуживающих доверия, подтверждают искренность и глубину чувств, которые питали старые солдаты по отношению к своему полководцу. Особенно важно, что эти чувства не только не ослабевали в часы невзгод и тяжелых испытаний, как это имело место в рядах высшего командования, но и, наоборот, становились еще более чистыми и трогательными. «Я плачу, видя нашего Императора, идущего пешком с посохом в руке, его, такого великого, его, который сделал нас такими гордыми»40, — говорит гренадер Старой Гвардии, едва волоча ноги по обледенелой дороге, ведущей к Березине, туда, где он скоро найдет свою смерть. Если так принимали солдаты своего полководца даже в момент близящейся катастрофы, то что говорить о том времени, когда победоносные знамена Великой Армии развевались над покоренными столицами, когда бронзовые Орлы колыхались впереди сверкающих батальонов, триумфальным маршем вступающих в Вену, Берлин, Неаполь, Варшаву, Мадрид... «По мере того как войска приближались К нему, солдаты начинали кричать: "Да здравствует Император!" - рассказывает капитан Дебеф. — Этот крик, шедший от самой души, доходил до энтузиазма, близкого к безумию. Крича во все горло вместе со всеми, я смотрел на этого великого человека и говорил себе: "Вот она, эта голова, самая могучая в мире, из которой родилось столько чудес!" И снова с удвоенной силой я кричал: "Да здравствует Император!" Какой воин не был бы растроган. Ведь это был самый великий полководец, который только являлся на землю, самый удивительный человек, которого за много веков знала история»41. «Французская пехота восторженно салютовала своему Императору. Это восхитительное зрелище: с одной стороны - пехота, полная уверенности в своих силах и энтузиазма, взиравшая на своего главнокомандующего и с порывом шедшая в бой, с другой стороны - колонна пленных, из которых часть также приветствовала Императора криками "Виват!"»42.
Л.-А.-Ж. Бакле д'Альб. Наполеон посещает близки армии в 10 часов вечера накануне битвы при Аустерлице. 1808 г. © Photo RMN. На картине изображен момент, когда накануне Аустерлицкого сражения ликующие солдаты торжественно встретили своего Императора. Чтобы осветить ему путь, они собрали солому и, запалив ее, устроили грандиозную иллюминацию в честь годовщины коронации и в предвкушении будущей победы.
Нет сомнения, что Наполеон нашел ключ к душе солдата, умел воздействовать на него личным примером и страстной речью. Величественный перед строем войск, идущих на смерть, он был доступен и прост в общении на биваке и в походе, позволяя солдатам то, что никогда не разрешил бы никому из своих генералов.
За два дня до битвы при Аустерлице Император приблизился к биваку гренадер линейного полка. Он подошел к огню и вытащил оттуда пару печеных картофелин. Гренадер Жазон, варивший суп, сделав вид, что не узнал Наполеона, сказал: «Эй, товарищ, смотри не съешь все!» - «Ничего, найдешь еще, - добродушно усмехнулся Император, - ты ведь знаешь, что на походе нужно делиться» 43.
Незадолго до сражения под Фридландом Наполеон проезжал мимо полков, идущих по дороге форсированным маршем. Не стесняясь присутствия Императора, а может специально в расчете на это присутствие, пехотинцы громко разговаривали. "Ему нужно было бы набирать армию из добровольцев", — сказал кто-то из солдат. "Где он их найдет-то!" - ответил другой. "Вот именно! Собачье это занятие", - добавил третий. "А ему нужно сто тысяч человек в год!" - "Что, что? Сто тысяч? Да ему двести тысяч человек будет мало!.." Подобные речи часто достигали ушей Императора, но он только посмеивался над ними... 44
На марше к Ульму, в деревушке Хаслах, главной квартире пришлось разместиться в доме, уже занятом солдатами. Офицеры объяснили, что здесь будет располагаться штаб Императора, и солдаты без возражений удалились. Но один молодой барабанщик, пригревшись у печки, ни за что не хотел уходить. Он говорил, что «здесь места хватит на всех, что на улице холодно, что он ранен и, вообще, отсюда никуда не уйдет». Офицеры хотели было выдворить его силой, но в это время вошел Наполеон. Узнав причину спора, он засмеялся и разрешил, чтобы солдату «оставили его стул, раз уж он так им дорожит». Так Император и барабанщик заснули, сидя напротив друг друга, в кругу стоявших в почтительном молчании и ожидавших приказов генералов и сановников45. Последний эпизод подтверждается двумя совершенно независимыми источниками и практически не вызывает сомнения в своей реальности, но это, впрочем, и неважно - подобными сценами полны все воспоминания, записки и дневники современников, и конечно, их нельзя отнести лишь к вымыслу «наполеоновской легенды».
В памяти солдат, несомненно, сохранились моменты, когда Император ужинал с гвардейцами на зимнем биваке в кампании 1807 г., разделив с верными гренадерами несколько мерзлых картофелин, или когда он ел суп вместе с 11-м линейным полком. Очевидец рассказывает о последнем эпизоде: «Император был очень усталым и остановился на нашем биваке у костра. Он лег на солому, подперев голову. Мартель (капрал вольтижеров 11-го линейного) приблизился к Императору и спросил его: "Сир, Ваше величество не желает попробовать нашего супа?" — "А хлеб есть?" - "Да, сир". - "Ну что ж, давайте". Мартель дал ему котелок и серебряную ложку. "Ничего себе! Белый хлеб и серебряная ложка! Где ты все это взял?" - "Хлеб я принес из деревни, где находится госпиталь, а ложку я нашел на офицере, убитом под Госпишем". В то время как Император ел суп, Мартель отрезал кусок курицы и дал ему тоже. Тот съел ножку и перед тем как уйти, достал семь золотых монет из кармана и вручил Мартелю. Капрал с гордостью показал деньги своим солдатам и сказал: "Вот, Его Величество дал мне 200 франков, мы выпьем за его здоровье". - "Да здравствует Император!" - закричала ли солдаты» 46.
В общении с великим Императором в дыму походных костров солдаты как могли выражали преданность своему вождю: «Наполеон присел на нашем биваке и попросил плащ, чтобы согреться, - пишет лейтенант Шевалье, тогда рядовой гвардейского конно-егерского полка. - Я только снял свой плащ, как солдат, более скорый, чем я, уже накинул на него свой. Было так прекрасно снять с себя свою одежду, чтобы согреть Императора. Среди нас не было ни одного, кто не дал бы изрубить себя в куски за него. У этого человека было такое искусство привязывать к себе солдат, что его любили как отца»47. А вот что вспоминал молодой офицер пехоты: «Как же мы обожали нашего Императора! Полчища казаков, рыскавших вокруг лагеря, разбрасывали недостойные памфлеты, направленные против него. Но ответом на эту писанину было лишь наше солдатское презрение»48.
Простой и доступный на биваке, Наполеон, если нужно, демонстрировал неустрашимость и хладнокровие под огнем: и молодым генералом на Аркольском мосту, и Императором в зените своего могущества, стоя на кладбище Эйлау под ужасающим огнем русской артиллерии. «Милая мама, - писал домой после битвы под Иеной вольтижер Дефламбар, - я хотел бы, чтобы Вы видели нашего Императора: всегда в гуще боя, подбадривающего свои войска. Мы видели полковников и генералов, убитых рядом с ним, мы видели его также с группой фузилеров поблизости от врага. Маршал Бессьер и принц Мюрат сказали ему, что он зря подвергает себя опасности, на что он повернулся к ним и спокойно ответил: "Вы за кого меня принимаете? За епископа?"»49.
Наполеон впечатлял солдат и на парадах, и на смотрах, где порой неожиданно раздавались чины, дотации, кресты Почетного Легиона. Иногда эти смотры проводились прямо на поле отгремевшей битвы, как тот, что он провел после боя при Валу- тиной горе (см. гл. III), иногда в более мирной обстановке: «Каждое воскресенье после мессы и дипломатического приема проводился парад, где ему представляли вновь сформированные части, - вспоминал генерал Роге, - он проходил вдоль рядов войск, находя в строю солдат, ветеранов своих первых походов, приветливо беседовал с ними, вспоминал бои, где они отличились, и всегда оставлял их глубоко растроганными. Иногда он спрашивал полковника или капитана, иногда прямо у солдат, кто из них самый храбрый, и всегда окружал храбреца своим вниманием, повышал его в чине или награждал. Иногда какой-нибудь из солдат сам испрашивал у него милость. Тогда Император обращался к его товарищам, и, если те подтверждали, что проситель заслуживает поощрения, он приказывал сопровождающему его офицеру занести фамилию просителя в блокнот, чтобы наградить или повысить в звании. Однажды он забыл сказать офицеру, чтобы тот записал сведения в блокнот. Солдат, просивший его о награде, не отстал от него и подходил еще несколько раз. Император ответил наконец несколько раздраженно: "Ты просишь крест - он у тебя будет, что тебе нужно?" - "Да, Сир, но пока этот господин, - солдат показал на Бертье, - не запишет меня в свою тетрадку, я буду дураком, отстав от Вас". Император рассмеялся и сказал: "Бертье, сделайте, о чем Вас просят". Эти моменты были очень важны. Они трогали сердца солдат, оставались в их памяти, о них говорили на биваках, они были той нитью, которая связывала Императора и его бесстрашных "ворчунов"»50.
Огромное впечатление на солдат и офицеров производило и военное красноречие их вождя. Император умел так говорить с войсками, что самые холодные и скептически настроенные люди невольно воодушевлялись. «Его слова были простыми, но какое неповторимое красноречие было вложено в них, как много было в этом пламенном взгляде, в этом взволнованном, проникающем в самую душу голосе! - вспоминал пехотный лейтенант. - Никогда не забуду, как в конце речи он приподнялся в стременах и, протянув руку к нам, бросил слова: "Вы клянетесь?!" Я почувствовал тогда вместе со всеми моими товарищами, как он словно из глубины груди вырвал крик: "Клянемся! Да здравствует Император!" Какая чудодейственная сила в этом человеке! У нас были почти что слезы на глазах и, конечно, непоколебимая решимость в сердце»51.
Поистине шедевром являются и прокламации Наполеона, которые «при чтении в не боевой обстановке казались нам болтливыми и хвастливыми, но волновали души его солдат и делали их непобедимыми»52. При внешней импровизированности наполеоновские воззвания представляют собой строгое и классическое произведение. Здесь нет ничего лишнего, каждая фраза, словно спонтанно вырывающаяся из-под пера, на самом деле подчинена глубокому внутреннему ритму. Начало сразу захватывает слушателя: «Солдаты! Война третьей коалиции началась...», «Солдаты! Мы не побеждены...» или «Солдаты! Я доволен вами!» Затем несколько энергичных, литых фраз и яркая концовка: «Они и мы, разве уже не аустерлицкие солдаты!», «Вперед же, и пусть, завидев вас, враг узнает своих победителей!», «Для каждого француза, у которого есть сердце, настал момент победить или умереть!»53
И армия всегда отвечала на этот призыв: она шла за ним, верила ему и обожала его...
Честь, отвага, преданность Императору и способность не унывать в самых тяжелых условиях — вот, собственно, и все главные моральные характеристики, свойственные наполеоновской армии в целом. Не случайно Гейне, мальчишкой видевший эту великую эпоху, в замечательном произведении «Das Buch Le Grand» дал короткое, но такое блистательное по точности, почти исчерпывающее описание солдат Наполеона: «Я вышел из дома и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий народ - дитя Славы, с пением и музыкой прошедшие весь мир, радостно-серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, штыки вольтижеров, полных веселья и point d'honneur*...»54
* Point d'honneur(фр.)- чувство чести.
Тем не менее описание морального облика наполеоновской армии будет неполным, если не затронуть одного очень важного для любого воинского организма вопроса, а именно дисциплины.
Насколько прочными были узы дисциплины и субординации, связывающие французские войска эпохи Первой Империи, и на чем прежде всего держалась дисциплина? Собственно говоря, рассказывая об отваге наполеоновской армии, мы уже отвечали на вторую часть этого вопроса. Де Брак со своей воинской лаконичностью так формулирует принципы, на которых строилась дисциплина:
«Вопрос: Что есть основа дисциплины?
Ответ: Честь»55.
Действительно, материальные стимулы, страх наказания играли, конечно, свою роль, но они не были единственной базой дисциплины и субординации. «Страх как основа для порядка был практически неизвестен большинству наших солдат, - писал генерал Фуа. - В большинстве полков с ними обращались с крайней мягкостью. Телесные наказания не употреблялись, ибо их отвергало общественное мнение; подобные наказания вообще могут существовать как обдуманная мера лишь в тех странах, где бьющие считают себя существами высшего порядка по сравнению с теми, кого бьют...
Однако субординация царила в нашей армии, быть может, в большей степени, чем в любой другой армии Европы...»56
Конечно, картина, написанная Фуа, не свободна от идеализации. Порядок в наполеоновских войсках имел свои лимиты, а дисциплина, как и в любой армии, давала сбои, подчас весьма значительные, но об этом несколько позднее.
А пока отметим, что дисциплина действительно была во многом построена на чувстве чести и разделялась, условно говоря, на две составляющие, существование которых хотя и не фиксировалось официальными регламентами, но не было от этого менее реальным.
«Первая дисциплина» относилась к боевой деятельности. И здесь можно с уверенностью сказать, что не было армии, где она была бы столь строга и неумолима. Проступок, за совершение которого солдат других войск мог получить сотню-другую палочных ударов, во французской армии наказывался расстрелом. Уход с порученного поста, непослушание старшему в боевой обстановке карались смертью. В принципе карался расстрелом и грабеж, однако с последним вопросом дело обстояло не просто, о чем мы еще будем говорить.
«Другая дисциплина» относилась к упущениям в деталях службы, к соблюдению формы одежды и внутреннего распорядка. Здесь царила такая терпимость и мягкость, которые были бы немыслимы, например, в прусских войсках. «В некоторых армиях доводят до предела строгость к деталям, которые в глазах разума кажутся малозначительными, - писал маршал Мармон. - Если дело идет о мелочах униформы или временном отсутствии неподвижности в строю, слишком суровое наказание неправильно... Во французской армии часто бывает достаточно лишь похвалы или порицания, возданных к месту, и благородного соревнования. Ведь наказания и отличия, основанные на мнении товарищей, обладают чудесной способностью бесконечно варьироваться и мощно воздействовать на благородные сердца »57.
«Если солдат попался на мелких провинностях, - отмечал автор "Замечаний о французской армии последнего времени", - то его пристыдят, сделают ему выговор, подействуют на самолюбие, лишение свободы для него - уже строгое наказание, неувольнение со двора, арест составляют высшие наказания; вывод в строй в шапке, когда другие в киверах, следование в тылу части, держа ружье прикладом вверх - вот наказания, чаще применяемые»58.
Чтобы сравнить старо прусский стиль дисциплины с французским, можно сопоставить наставления Фридриха II, приводимые им в поучении своим генералам. Им предписывались строгие меры предосторожности и неусыпного контроля за солдатами, которые следует соблюдать, чтобы предотвращать дезертирство на походе: тут и посты егерей, спрятанные во ржи, и гусарские патрули, так как гусары и егеря были набраны из наиболее надежных элементов. Здесь же категорические запрещения солдатам передвигаться иначе как строем и в сопровождении офицеров. «Большая часть армии состоит из порочных, несдержанных людей, - наставлял король, - если генерал не будет постоянно внимателен к тому, чтобы они оставались в рамках долга, эта искусственная машина... скоро сломается...»59
А вот приказ по Великой Армии, отданный незадолго до Аустерлицкой битвы 3 фримера XIV года (24 ноября 1805 г.): «Временно армия останавливается на отдыхе. Начальники отдельных частей должны составить списки отставших, которые без уважительной причины остались позади; они должны рекомендовать солдатам устыдить таковых, потому что во французской армии самое сильное наказание -это позор, которым виновных покроют их собственные товарищи. Если найдутся солдаты, которые окажутся в таком положении, то Император не сомневается, что они с готовностью соберутся и станут под свои знамена»60.
Итак, армия почти что с идеальной дисциплиной?.. Увы, не совсем. Мотивы чести, самолюбия, достоинства, без сомнения, действовали на наполеоновских солдат с большей силой, чем на наемников «Старого Фрица», и все-таки на них действовал и другой, очень приземленный, но очень понятный мотив - пустой желудок. От недостаточной заполненности этого немаловажного органа проистекало огромное количество бед и прежде всего мародерство.
Наполеоновский стиль войны был направлен на сокрушение противника стремительными ударами и, как следствие, он предполагал быстрое передвижение огромных масс войск - людей и лошадей. Нетрудно догадаться, что даже если бы чиновники военной администрации были образцами энергии, честности и служения долгу, доставить провиант и фураж всем десяткам тысяч стремительно идущих вперед людям и коням было физически невозможно. Как неизбежный результат подобной системы -то, что солдаты искали пропитание сами и, действительно, «находили» его (см. главу X) у крестьян, которые, как нетрудно догадаться, не особенно жаждали отдавать свой последний мешок крупы или свою корову. Когда солдат было много, а крестьян мало -вопрос решался однозначно, когда же соотношение численности было иным, могли возникнуть большие - драка, пролитие крови, желание выместить злобу и т. п.
Лейтенант Шевалье писал в своих мемуарах: «Я провел более 20 лет на войне и не видел армии менее склонной к грабежу, чем французская. Да, я видел, как мародерствовали, но делали это только по крайней необходимости - найти пропитание. Французский солдат, который предался бы грабежу во время добычи провианта, был бы воспринят как вор, его презирали бы товарищи, и он был бы изгнан из части. Я всегда видел, что поступали именно так, и говорю правду»61. Увы, несмотря на безапелляционность последнего заявления, старый воин не говорит правды. Мемуары Шевалье, несмотря на ряд интересных сведений, которые оттуда можно почерпнуть, как раз представляют собой пример источников, использования которых мы старались избежать в нашей работе, и приводим данную цитату скорее как курьез и образец того, как под влиянием прошедших лет изменяется точка зрения на самые очевидные вещи. Шевалье писал воспоминания через много лет после Наполеоновской эпохи, и, несмотря на солдатскую простоту и прямоту, он кое-что позабыл, а кое-что ему и хотелось позабыть. Наверное, ему хотелось видеть эпоху своей молодости только прекрасной, а товарищей, погибших на полях давно отгремевших битв, - образцом для подрастающего поколения.
Свидетельства сотен очевидцев подтверждают то, что должен был бы подсказать и здравый смысл: там, где был грабеж ради того, чтобы поесть, он плавно перерастал и в грабеж без дополнительных эпитетов.
Не без юмора рассказывает об этом один из офицеров: «Солдаты... заходя в дома якобы для того, чтобы найти хлеб, забирают заодно и кошелек хозяина. Искать хлеб - это прекрасный повод, ибо, когда нет регулярных раздач продовольствия, никак нельзя помешать им заниматься мародерством. Неотразимый ответ на все замечания: "Я голоден, я ищу хлеб". Эта фраза безапелляционна, как слова Гарпагона "без приданного". Раз уж ты не можешь дать им хлеб, ты вынужден разрешать им делать то, что они хотят. У кавалеристов есть еще дополнительный повод: они ищут фураж для своих лошадей. Однажды кирасир был застигнут своим капитаном в момент, когда шарил в ящиках шкафа:
— Что ты тут делаешь?! - гневно воскликнул офицер.
— Ищу овес для моей лошади.
— Хорошее же место для поисков овса.
— А что, я тут уже нашел в библиотеке одного крестьянина* связку овса, завернутую в бумажку, почему бы не найти овес в шкафу?
— Дело было в том, что кирасир незадолго до этого разграбил коллекцию любителя ботаники...»62
— Мой лейтенант, - сказал мне однажды денщик... - тут один крестьянин приглашает Вас завтра поесть у него суп.
— И что это за крестьянин?
— Да тот барон, у которого вы жили на прошлой неделе! (Примечания автора мемуаров).
* Солдаты называют «крестьянами» всех невоенных.
А вот куда менее забавное свидетельство, записанное прямо по горячим следам:
«21 брюмера XIV года, Санкт-Пельтен*. Страх, который нам предшествует, разогнал значительную часть жителей, и нужно сказать, что этот страх вполне оправдан поступками, которые позволяют себе наши солдаты. Счастлив собственник, двери дома которого достаточно прочны, чтобы сопротивляться напору грабителей! То, что в крепости, взятой штурмом, в течение некоторого времени позволяется грабеж - это я могу понять, законы войны, кажется, оправдывают подобное поведение, но ведь Санкт-Пельтен был незащищенным городком, жители которого не только не пытались сопротивляться, а напротив, были готовы поделиться своими продуктами. Я краснею, видя эти беспорядки, которые пятнают наши лавры»63.
Еще одно свидетельство, относящееся ко времени Австрийской кампании, к 1809 г.: «Этот очаровательный замок, принадлежавший графу Тинтицу, являл собой зрелище ужасающего погрома. Более 500 пехотинцев из дивизии Молитора расположились в нем, занявшись грабежом, опрокидывая мебель, разбивая двери и окна, разгромив в конечном итоге это, еще недавно столь красивое, богатое и изящное здание»64.
Мы намеренно начали с примеров, относящихся к «благополучным» австрийским кампаниям 1805 и 1809 гг., где такие эпизоды если и не были исключением, то, по крайней мере, не являлись нормой. Если говорить об Испанской войне, о походе в Калабрию, то там подобные сцены встречаются буквально на каждом шагу и ими просто переполнены все дневники и мемуары: «Что касается Бургоса, взятого штурмом, из которого бежали практически все жители, он стал жертвой самого отчаянного грабежа: двери домов были разбиты, улицы усеяны разбросанными одеждами, осколками разбитой посуды, обломками мебели. Наши солдаты суетились среди всего этого разгрома, согнувшись под грузом ценных вещей, некоторые несли на плечах огромные мешки, и все были столь увлечены этим делом, что мне едва удалось найти батальон, чтобы занять здания архиепископства... - рассказывает Сегюр.- В этот день (11 ноября 1808 г.) и на следующий грабеж продолжался во всем городе. Регулярных раздач продовольствия не было. Не было и жителей, с которых можно было бы его получить. Необходимость искать продовольствие служила хорошим поводом для грабежа, и ничто не избежало разрушения»65.
«2 августа 1809 года, Пласенсия... Наши войска всех родов оружия соревновались между собой в том, чтобы поставить город вверх дном, - отметил в своем дневнике хорошо известный нам Фантен дез Одоар. - Разграбление было полным, и никогда, наверное, не видели города столь тщательно выпотрошенного»66.
Приведенные свидетельства убедительно показывают, что грабеж самый настоящий, а не просто насильственная конфискация продуктов питания, существовал в рядах наполеоновской армии, а значит, было и все, что ему сопутствует: расхлябанность, пьянство, неподчинение командирам, бандитизм, дезертирство... Впрочем, для любого беспристрастного исследователя - это аксиома. Нам незнакома армия, в которой подобные явления не встречались бы в той или иной степени. Достаточно вспомнить, что творили союзники на территории Франции в 1814 г., что делали английские солдаты в Испании. А вот что говорят документы русского штаба, относящиеся к Отечественной войне 1812 г.:
«Приказ по армиям.
18 августа 1812 года**.
Главная квартира села Старое Иваново № 2.
Сегодня пойманы в самое короткое время разбродившихся до 2000 нижних чинов... Привычка к мародерству сию слабостию начальства, возымев действие свое на мораль солдата обратилась ему почти в обыкновение...»67
* 21 брюмера XIV года - 5 ноября 1805 г., Санкт-Пельтен - городок в Австрии.
** Т. е. 30 августа по новому стилю.
«Ф. В. Ростопчин - М. И. Кутузову
17 сентября 1812 года.
Село Вороново.
...Московская губерния находится теперь в самовольном военном положении и жители оной, так как и должностные чиновники, более нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, опасаясь быть ограбленными от неприятеля, а более того и от своих раненых, больных и нижних воинских чинов всюду шатающихся единственно для разорения соотечественников, оставив свои жилища, разбежались в неизвестные места...»68
По поводу последнего документа необходимо добавить, что в письме к Александру I от 8 (20) сентября 1812 г. московский генерал-губернатор еще резче высказывается по этому поводу: «Солдаты уже не составляют армии. Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства... Расстреливать невозможно: нельзя же казнить смертью по несколько тысяч человек на день» 69.
Если даже не придавать слишком большого значения последнему письму, где не исключено, что Ростопчин сгущает краски с целью очернения нелюбимого им Кутузова, факт абсолютно неопровержим - русская армия грабила вовсю, даже на своей территории во время Отечественной войны 1812 г.
Таким образом, само по себе наличие актов грабежа со стороны наполеоновских войск еще никак не характеризует их - грабили все. Но что могло бы действительно отразить их особенность, так это, во-первых, степень распространения данного явления во французской армии, а во-вторых, соотношение с масштабами грабежей в других европейских армиях рассматриваемого периода. Однако математически точно это сделать, увы, невозможно. Казалось бы, в нашем распоряжении есть десятки толстых папок военно-судных дел в архиве сухопутных войск Франции. Но, к сожалению, даже самый тщательный анализ документов, проведенный целой группой исследователей, может дать очень мало. Почему? Во-первых, безусловно понятно, что сохранились эти документы далеко не полностью. Если в ходе военных действий утрачивались порой даже очень важные документы штаба, то что уж говорить о деле по факту ограбления тремя солдатами фермы.
Во-вторых, даже если бы все эти документы сохранились, и была бы физическая возможность проанализировать тысячи бумаг, разбросанных по разным архивам, мы не смогли бы получить ничего принципиально нового по сравнению с тем, что стало нам известно на основе рассмотрения части этих документов. Дело в том, что двумя основными цифрами, которые действительно могли бы дать нам реальную картину, являются: 1) число совершенных актов грабежа и насилия солдатами наполеоновской армии; 2) число привлеченных к ответственности и наказанных военнослужащих, иначе, говоря языком криминалистики, «уровень преступности» и «уровень раскрываемости преступлений». Наконец, практически невозможным представляется сравнить полученные цифры с таковыми, характерными для других армий.
Все вышеперечисленные показатели не могут быть установлены с математической точностью, потому что, обработав даже все военно-судные дела, мы не узнаем, сколько актов насилия, грабежа и неподчинения осталось вне поля нашего зрения.
Добавим также, что протоколы военно-полевых судов крайне скупы на информацию, детали самих преступлений даются только в редких случаях.
Таким образом, здесь, как и в других разделах этой главы, нам остается положиться на интуицию и обработку как можно большего числа источников, понимая, однако, всю ограниченность подобного анализа.
Наше заключение можно сформулировать примерно следующим образом: грабеж, мародерство и, как следствие, неподчинение командирам и развал дисциплины не были редкостью в наполеоновской армии. Однако основной причиной и одновременно поводом было отсутствие регулярного снабжения армии. Командование всячески старалось пресечь подобные поступки, но, когда оно не могло организовать регулярное снабжение провиантом, все предпринимаемые для этого меры были напрасными. Тем не менее, когда раздачи продовольствия осуществлялись, офицеры и генералы довольно быстро ставили ситуацию под контроль. О том, с какой жестокостью это делалось, говорят уже упомянутые протоколы военнополевых судов. Мы приведем лишь некоторые из хранящихся в Архивах Венсеннского замка приговоров, вынесенных в течение 1809 г. на разных театрах военных действий:
«3-я дивизия, 7-й корпус Испанской армии. Баткара, 17 мая 1809 года.
Партонелли Джованни, гренадер 113-го полка, Дитшер Пьер Жозеф, солдат 16-го полка линейной пехоты, Бендителло Паскуале, гренадер 113-го полка
- виновны в непредумышленном убийстве - 20 лет каторги.
2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Самора, 21 февраля 1809 года.
Пельтье Пьер, барабанщик 54-го полка - виновен в грабеже столового серебра - 6 лет каторги.
2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Оргас, 8 декабря 1809 года.
Буржуа Поль, гренадер 45-го полка - виновен в краже предметов, принадлежащих товарищам по оружию
- 6 лет каторги.
1-я дивизия Итальянской армии. Бруннекен, 22 декабря 1809 года.
Франсуа Жомар, фузилер 92-го линейного полка, Жан Клод Пруасси, конный егерь 8-го конно-егерского полка - виновны в вооруженном грабеже кюре г. Штрассен (г-на Кальса) - расстрел.
4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Вайдхофен в Нижней Австрии, 1 декабря 1809 года.
Бертен Жан-Луи, барабанщик 56-го линейного полка - виновен в непредумышленном убийстве -20 лет каторги.
1-я дивизия, 11-й корпус Германской армии. Фиум, 14 октября 1809 года.
Дебардье Этьен, фузилер 11-го линейного полка - виновен в краже серебряной ложки у хозяина дома, где он располагался, - 10 лет каторги.
4- я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Будвиц, Моравия, 14 августа 1809 года.
Демайе Шарль-Огюст, вольтижер 56-го полка - виновен в грабеже - расстрел.
2- я дивизия, 3-й корпус Германской армии. В лагере под Брюнном, 6 августа 1809 года.
Дюфрен, драгун 7-го полка - виновен в изнасиловании и убийстве - расстрел.
2-я дивизия, 2-й корпус Германской армии. Лагерь в Линце, 2 сентября 1809 года.
Молинелли Филипп-Бартелеми, вольтижер 21-го полка легкой пехоты - убийство хозяина дома, где он жил, - 20 лет каторги»70.
Фабер дю Фор. Реквизиция в окрестностях Казущины (11 июля 1812 г.).
Слева изображен португальский, в центре - два французских пехотинца верхом на крестьянских лошадках с «найденными» козами, гусями, провиантом и т. д.
Как видно из приведенных примеров, военная фемида была сурова; и достаточно вспомнить о фузилере Этьене Дебардье, отправившемся на долгие годы на каторгу из-за украденной ложки, чтобы понять, что в наполеоновской армии при возможности наказывали, и наказывали порой жестоко. О том, как изменялось поведение французских солдат в зависимости от обстоятельств, хорошо рассказал полковник английской армии, участник Испанской кампании, сэр Джон Нейпир. В его знаменитом произведении «История войны на Пиренейском полуострове» есть описание момента, когда французские войска покидают в 1811 г. территорию Португалии и вступают на испанскую землю, рассматривавшуюся, по крайней мере, официально как территория союзного государства. Вот что пишет Нейпир: «Здесь проявилось все, на что способна французская дисциплина в самых тяжелых обстоятельствах. Едва только люди, в течение долгих месяцев жившие одним грабежом, путь которых был отмечен насилиями и опустошениями, пересекли воображаемую линию, разделяющую два королевства, как они вернулись в рамки самой строгой дисциплины, не позволяя себе ни малейшего дурного поступка по отношению к испанцам. Они скрупулезно платили за все, что требовалось для армии, в то время как даже хлеб стоил 48 су* за фунт!»71
* 48 су = 2,4 франка, франк - 5 граммов серебра.
Русские, а особенно советские, историки не скупились на черные краски для описания грабежей и мародерства наполеоновской армии на территории России в 1812 г. И в общем, если отбросить ряд преувеличений, они были недалеки от истины. Но даже забыв, что Великая Армия была не одинока в своих эксцессах, картина будет неполной, если не указать реакции французского командования на эти беспорядки. С этой точки зрения, для нас очень интересны бумаги штаба Даву, хранящиеся (частично в подлинниках, частично в копиях) в архиве Венсеннского замка. Вот только некоторые из этих документов:
«Генерал Ромёф (начальник штаба корпуса)из Вильно, 29 июня 1812 года - генералу Дессе (командир 4-й дивизии корпуса).
1-й корпус теряет с каждым днем свою дисциплину. Солдаты безнаказанно мародерствуют чуть ли не на глазах офицеров, и эти беспорядки оправдывают тем, что раздачи продовольствия нерегулярны и что им не хватает хлеба. Под предлогом поисков продовольствия ломают шкафы и крадут белье, вещи, деньги. Повозки, которые должны вести продовольствие, используются для перевозки награбленного. Маркитанты и маркитантки если не участвуют в грабеже, то скупают и продают награбленное. Подобное поведение, если оно не будет пресечено, запятнает нашу униформу, наш национальный характер и сделает нас солдатами, недостойными нашего монарха.
Г-н маршал приказывает немедленно сделать обыск во всех повозках, которые следуют за полками, конфисковать все украденные предметы и послать их генералу Сонье, начальнику военной жандармерии 1го корпуса, который передаст их властям г. Вильно...
Маркитанты, маркитантки, захваченные на месте преступления, будут тотчас же арестованы и отконвоированы к начальнику жандармерии Сонье, который предаст их суду.
Французская армия неоднократно в своих походах терпела лишения, солдаты питались иногда несколькими каштанами в день, но не предавались грабежу. Сейчас раздачи хлеба нерегулярны, но они заменены раздачами мяса и риса. Желудок солдат наполнен, пусть и не идеально. В любом случае даже самые большие лишения не могут оправдать грабежа... Подобные действия осуществляют не те солдаты, которые стоят под знаменами, а те, кто позорно их покидает. Сами солдаты должны справиться с нарушениями дисциплины»72.
А вот еще один приказ, отданный по корпусу Даву, на этот раз в Минске, 9 июля 1812 г.: «Категорически запрещается всем офицерам и солдатам покидать лагерь без разрешения. Полковники могут дать для солдат не более чем по пять увольнительных на роту для выхода в город, а для офицеров -не более чем по двенадцать на полк. Г-н маршал требует восстановления строжайшего порядка и дисциплины в течение 24 часов. Мы должны покарать тех, кто делает нас ужасом для наших друзей, народа, преданного нашему монарху (речь идет о населении Литвы)»73.
В циркуляре от 11 июля маршал в резкой форме требует даже делать все, чтобы избежать напрасной порчи посевов ржи вокруг Минска. О том, что эти приказы не оставались пустыми угрозами, говорят другие архивные документы. 10 июля 1812 г. Даву пишет из Минска начальнику штаба Великой Армии маршалу Бертье: «Я имею честь направить Вашей светлости копию приговора превотальной комиссии, которая приговорила к смерти троих военнослужащих, обвиняемых в грабеже и бесчинствах. Приговор приведен в исполнение сегодня в полдень. Я надеюсь, что этот суровый и полезный пример подействует на войска»74.
Буквально через три дня Даву снова направляет Бертье документы, где говорится об осуждении еще троих солдат, «обвиняемых в убийстве и вооруженном грабеже». Указывается, что приговор приведен в исполнение вчера (т. е. 12 июля) перед фронтом части, к которой принадлежали военнослужащие. 25 июля из Могилева маршал докладывает о расстреле еще троих солдат (определенно Даву считал, что Бог любит троицу!), обвиняемых в грабеже и неподчинении жандармерии75.
Непреклонная суровость командующего 1-го корпуса к мародерам нашла отражение и в мемуарах. Вот что пишет автор очень точных воспоминаний некто Комб, офицер 8-го конно-егерского полка: «Вахмистр моей роты по фамилии Рединг - образец дисциплинированности и храбрости - не смог устоять перед соблазном и схватил пробегавшую курицу в тот момент, когда проезжал по Виленскому предместью, чтобы присоединиться к полку. Хозяин курицы заметил это и, набросившись на вахмистра, затащил его в полицейский участок. Был тотчас составлен протокол, который дошел до маршала Даву. Так как было объявлено, что каждый, кого возьмут с поличным при мародерстве, будет расстрелян - необходим был пример, и маршал был неумолим. Ни отчаянные просьбы полковника де Перигора, ни безупречная служба этого унтер-офицера — ничто не могло защитить его. Он был приговорен и расстрелян своим взводом в присутствии своей роты»76.
Что касается других корпусов Великой Армии, то здесь, возможно, и не с таким упорством, но так же пресекали грабеж, о чем свидетельствуют документы, которые только чудом не затерялись во время отступления. Вот некоторые из них:
«19 июля 1812 года. Вильно.
Бенезе Антуан, солдат 35-го линейного полка - виновен в мародерстве и воровстве, приговорен к смертной казни.
30 июля 1812 года, в лагере под Витебском.
Франсуа-Элеонор Сартен, солдат 12-го линейного полка - виновен в мародерстве и воровстве, приговорен к смертной казни.
5 сентября 1812 года. Полоцк.
Бернар Гитц, 24 года, солдат 21-го линейного полка, Ян Илличанети, 26 лет, солдат 3-го временного хорватского полка, Мигель Гомес, 24 года, солдат 1-го португальского полка, Жан Менар, 28 лет, солдат 18-го легкого полка - виновны:
1) в том, что они отлучились без уважительной причины из расположения своих частей;
2) в том, что занимались мародерством и жили за счет мародерства и грабежа.
В соответствии с этим превотальная комиссия приговорила вышепоименованных военнослужащих к смертной казни.
19 сентября 1812 года. Полоцк.
Джакомо Домиксикацца, солдат - виновен в мародерстве, приговорен к смертной казни.
22 июля 1812 года, в Перебродах (в подлиннике "Перенбронн").
Дессаж Флорантен, кирасир 1-го полка - виновен в том, что ударил г-на Стефана Адама, крестьянина, прикладом мушкетона, наступил ему ногой на горло и избил его. Сверх того, выстрелил из карабина в крестьянина Стефана Адама, отца предыдущего. Приговорен к смертной казни»77.
Прочитав этот мрачный список, трудно сомневаться в том, что командование Великой Армии много делало для того, чтобы пресечь мародерство и грабеж на территории России, и если этого не удалось добиться, то потому, что обстоятельства оказались сильнее.
В общем же, подводя итог, можно сказать следующее: в момент марша крупных масс войск и боевых операций, в отсутствие регулярного снабжения, мародерство во французской армии принимало повальный характер. Впрочем, даже и в этом случае залпы орудий возвращали солдат Императора на стезю долга. В испанской войне, где особенно трудно было бороться с мародерством, где солдаты часто становились «легко раздражимыми, невоздержанными, издающими проклятия и фразы, выказывающие их обескураженность... можно было рассчитывать на них в день боя. В бою они снова становились собой - отважными солдатами, солдатами в хорошем настроении»78.
Когда же удавалось наладить сносное снабжение, когда во главе войск стояли люди, подобные Даву или Сюше, в войсках воцарялась строжайшая дисциплина, что резко контрастировало с состоянием частей, находившихся под иным командованием и в иной ситуации. Вот что рассказывает офицер из Армии юга (т. е. войск, сражавшихся под командованием маршала Сульта на юге Испании): «Армия юга соединилась в Екле с армией маршала Сюше... Мы увидели несколько отрядов его войск, стоявших под Валенсией и изумились их великолепной форме. По прекрасному состоянию их экипировки можно было подумать, что они только что прибыли из Франции. Они были здоровы и обеспечены всем необходимым... так что мы произвели на них жалкое впечатление нашими запыленными изодранными мундирами, драными башмаками и высохшими лицами. Солдаты Сюше соблюдали строгую дисциплину, в то время как наши привыкли к беспорядкам, так что они наградили нас эпитетом "бандиты с юга". Действительно, генералом, наиболее поддержавшим в Испании честь французского мундира, был, без сомнения, Сюше. Опытный воин и мудрый администратор, он знал цену золота и крови, экономно расходуя и то и другое. Как когда-то Дезе в Египте, его можно было бы прозвать Султан Справедливости...»79
А вот что рассказывает голландец по происхождению, генерал Дедем де Гельдер о корпусе Даву в 1811 г.: «Наследный князь Мекленбургский посетил нас. Увидев крестьянских гусей из соседней деревни, мирно прогуливающихся по лагерю, он воскликнул: "Вот, господа, Ваша самая высокая похвала". Действительно, даже пропавший платок становился объектом строгого разбирательства. По мельчайшим жалобам жителей окрестных сел солдат наказывали безжалостно. Впрочем, они сами наблюдали за новобранцами. Старшие офицеры не осмеливались покинуть лагерь и посетить город, не испросив с разрешения бригадного генерала. Нас было вместе с артиллерией семнадцать тысяч человек и за три месяца нашего пребывания нам не пришлось наказывать ни одного серьезного проступка»80.
Несколько слов о технике функционирования военной фемиды.
Военные преступления подлежали юрисдикции трибуналов: постоянных (conseils de guerre permanents) и специальных (commissions militaires speciales, conseils de guerre speciaux). Постоянные военные трибуналы существовали при каждой дивизии. Под их юрисдикцию попадали все военнослужащие данного соединения. Специальные предназначались для суда над шпионами и дезертирами. Наконец, особые военные трибуналы назначались для разбора дел старших офицеров. Кроме указанных судов декретом от 22 июня 1812 г. были учреждены так называемые «превотальные комиссии» из пяти членов - род военного трибунала для вершения скорого суда над мародерами. Согласно закону, постоянные и специальные трибуналы состояли из семи членов, назначаемых командующим корпусом или дивизией. Один из семи членов трибунала был старшим офицером, остальные - младшими. Офицеру штаба или жандармерии поручалось быть «докладчиком». В обязанности «докладчика» входило предварительное расследование дела: опрос свидетелей, допросы задержанных и т. д. Кроме того, во время процесса он должен был изложить вину подсудимого. Писарем на суде был специально назначенный унтер-офицер. И наконец, подсудимый имел право выбрать себе любого защитника; в случае, если он не мог этого сделать, офицер-«доклад-чик» должен был сам найти его.
Заседания военного трибунала были открытыми, однако число зрителей не должно было превышать тройного количества числа судей (т. е. 21 человека). Они не имели права входить в зал суда вооруженными или даже просто с тростью в руках.
Заседание начиналось с того, что председатель должен был распорядиться внести экземпляр военного законодательства. Эта книга должна была находиться перед ним в течение всего процесса, причем данная формальность обязательно заносилась в протокол. Затем офицер-«докладчик» информировал членов трибунала о совершенном преступлении и зачитывал протоколы допросов. После этого в зал вводили подсудимого. В зависимости от обстоятельств председатель мог распорядиться, чтобы конвой остался в зале или покинул его.
После допроса подсудимого, выступлений пострадавших (если таковые имелись) и защитника конвой выводил подсудимого из зала суда. Зал должны были также покинуть все остальные, кроме членов трибунала, которые оставались для совещания. В задачу совета входило лишь вынести вердикт — виновен или нет подсудимый в преступлении, которое ему вменялось. В этом, собственно, и состоит главное отличие военного трибунала от привычного нам современного гражданского правосудия. Мотивы преступления, смягчающие обстоятельства, во внимание не принимались, а степень вины не нюансировалась. Упомянутый нами фузилер 11-го полка Этьен Дебардье, уличенный в воровстве ложки, был бы приговорен к тем же десяти годам каторги, если бы украл все столовое серебро, всю одежду, деньги и ценности в том доме, где он расположился на постой. С другой стороны, относительный гуманизм наполеоновского трибунала проявлялся в том, что если хотя бы три из семи его членов считали подсудимого невиновным, он тотчас же должен был быть отпущен на свободу81.
В Приложении IX мы привели часть списка наказаний, установленных регламентом от 21 брюмера Угода (11 ноября 1796 г.), которые формально существовали в армии в эпоху Империи. Этот список имелся у каждого солдата в его индивидуальной книжке на страницах 27 и 28. На самом деле, большинство из указанных там проступков и наказаний за них не встречаются в реальных военно-судных делах. Это связано с тем, что многие формулировки просто-напросто устарели, так как появились на свет в эпоху революционного террора («выкрики, призывающие к мятежу», «измена», «служба против Франции», карающиеся смертной казнью) либо применялись в королевской армии XVIII в. и уже не соответствовали новым условиям войны («повторная запись в рекруты», «нарушении трубачом линии аванпостов без приказа»). Из многочисленных реальных документов, проработанных в архиве, приговоров по подобным обвинениям не встретилось нам ни разу. Зато очень часто попадались обвинительные заключения по следующим пунктам:
■ вооруженный грабеж - смертная казнь;
■ воровство у хозяина дома - 10 лет каторги;
■ воровство у своих товарищей — 6 лет каторги.
Наконец, очень часто встречалась формулировка «непредумышленное убийство», которой нет в списке солдатской книжки. За него во всех случаях приговаривали к 20 годам каторги. Из документов, относящихся к реальным проступкам, видно, что, хотя далеко не все преступления в наполеоновской армии наказывались, те из солдат, кто попался на грабеже и насилии над мирными жителями, платил за остальных и расстрел был здесь разменной монетой.
Смертная казнь, как и ранее при Старом Порядке, обставлялась мрачно-торжественным церемониалом: «По этому случаю нарочито развертывается вся пышность военного ритуала, - писал современник, — и это справедливо, ибо уж если хотят дать суровый пример, то нужно, чтобы он пошел на пользу остальным...
Войска строятся в каре из трех фасов, оставляя четвертый для пролета пуль... Приводят приговоренного в сопровождении священника. В определенный момент все барабаны бьют "поход" до тех пор, пока осужденный не окажется в центре каре. Тогда барабаны бьют дробь и затихают. Капитан-"докладчик" читает приговор, барабаны снова бьют дробь. Приговоренного ставят на колени, завязывают ему глаза и двенадцать капралов под командой старшего унтер-офицера (adjudant sous-officier) стреляют в несчастного, стоящего в десяти шагах от них. Чтобы уменьшить, насколько это возможно, ужас наказуемого, команды не произносят в слух. Старший унтер-офицер отдает их движением своей трости. Если осужденный не умер после залпа, что иногда случается, его должен добить резервный взвод из четырех человек, которые стреляют в упор... После приведения в исполнение приговора войска дефилируют мимо трупа... Я видел, как многие встречали смерть с удивительным хладнокровием. Я видел тех, кто обращался с последними словами к полку, я видел даже тех, кто сам отдавал команды взводу расстрела, ни в одном звуке их голоса не чувствовалось волнения...»82
Это описание почти в точности соответствует регламенту, за исключением того, что устав предписывает формировать взвод расстрела не из 12 капралов, а из «четырех сержантов, четырех капралов и четырех рядовых, взятых среди самых старослужащих солдат и унтер-офицеров части, где служил приговоренный». Резерв расстрела, согласно регламенту, состоял также не из четырех, а из двенадцати человек.
Наконец, в уставе нет ни слова о священнике. Вполне понятно, что эти детали могли изменяться по распоряжению командования83.
В этой главе, основное содержание которой - моральный дух войск, уместно будет подчеркнуть то мужество, с которым старые солдаты наполеоновской армии встречали смерть. Об этом упоминал процитированный автор, но нам хотелось бы добавить еще одно драматическое описание. Рассказывает офицер 14-го легкого полка: «По моему прибытии в полк, рядовой по фамилии Тьерсон, в общем неплохой солдат, отправился однажды помародерствовать, напился и выстрелил в офицера, который хотел вернуть его в лагерь. Солдат был арестован, судим, приговорен и расстрелян в 24 часа. Когда его поставили на колени, чтобы предать его смерти, он сказал только следующие слова: "Я прошу прощения у 14-го полка и у Бога"»84.
Разумеется, что все наказания, о которых мы говорили (расстрел, каторга) были карами за военные преступления и применялись только по приговору суда. За исключением, конечно, боевой обстановки, когда командир мог убить подчиненного в экстренной ситуации. Об одном таком случае, произошедшем во время отступления из России, рассказывает генерал-интендант Деннье: «Наш правый фланг был обойден, в рядах солдат начался ропот... и вдруг жалкий гренадер 12-го полка, бросив свое ружье, начал убеждать своих товарищей, что надо сдаваться. В этот момент генерал Жерар с быстротой молнии подскочил к нему с пистолетом в руке и, застрелив негодяя, смертью одного человека спас многих. Войска, еще несколько мгновений назад бывшие на грани деморализации, воспрянули духом и огласили воздух криком "Да здравствует Император!"»85.
В случае мелкого проступка наказание, как и во всех армиях мира, назначалось начальником провинившегося. Для солдат и унтер-офицеров карой за серьезное упущение по службе был простой арест или карцер, в случае небольших нарушений дисциплины — неувольнение в город, выговор, словесное замечание. Вот примеры наказаний, примененных в гвардейских полках в феврале 1811 г.:
«1-й полк пеших гренадер:
Вераж и Массой, рядовые - 15 дней карцера за то, что они не ночевали в казарме.
Пирон, рядовой - 15 дней ареста за то, что он учинил шум в частном доме.
1-й полк пеших гренадер:
Гаспер, капрал - 8 дней неувольнения за то, что он не выучил урок по теории.
Аан, рядовой - 4 дня неувольнения за то, что он не сохранял неподвижность в строю.
Латур, старший сержант - 4 дня неувольнения за то, что он не наказал сержанта, которого ему было указано наказать.
2-й полк тиралъеров:
Руссо, рядовой - 8 дней ареста за плохую форму одежды в строю.
Драгунский полк:
Фурро, трубач - 4 дня неувольнения за то, что он злоупотреблял алкоголем.
2-й полк шеволежеров:
Боль, Гериетс, Дехаус, Авергау, Нартен, рядовые - арест до особого распоряжения за то, что отсутствовали на перекличке.
Флорин, рядовой - 4 дня ареста за неподчинение бригадиру»86.
Все это достаточно обыденные методы наказания, хорошо известные во всех армиях. Однако наполеоновское войско знало и другие, весьма своеобразные методы воздействия на провинившихся. Самым распространенным из них был солдатский самосуд, применявшийся к тем, кто был уличен в трусости в бою: «Если не во всех, то, по крайней мере, в ряде полков, существовали товарищеские суды, которые сами вершили правосудие, - рассказывает офицер 18-го полка. - Эти "трибуналы чести" функционировали быстро и справедливо. Наказание, к которому они обычно приговаривали, состояло в нескольких ударах башмаком по ягодицам провинившегося (savate). Били "жирно" или "постно", т. е. каблуком или подметкой. Тот, кто испытал это наказание, не мог более рассчитывать получить унтер-офицерские нашивки или попасть в элитную роту до тех пор, пока он не смывал позор своей кровью»87.
Существование «савата» по приговору товарищей подтверждается многими источниками, однако в ряде случаев подобный неуставной метод наказания инспирировался самим командованием, оставаясь все же как бы «инициативой снизу». Вот что маршал Даву, командующий 3-м корпусом Великой Армии (1807 г.), приказал после битвы при Эйлау своему подчиненному дивизионному генералу Гюдену: «Я с прискорбием заметил, что многие солдаты уходили в тыл под предлогом увода раненых. Это злоупотребление может нанести серьезный ущерб армии, и оно должно быть наказано теми, кто рисковал своей жизнью. Нужно, чтобы храбрые солдаты сами наказали отставших и беглецов, которые не следовали их благородному примеру. В соответствии с этим я предписываю Вам настоятельно предложить полковникам рекомендовать своим солдатам, чтобы они наказали "жирным" саватом всех тех, кто не участвовал в битве по неуважительной причине...»88.Журнал 3-го корпуса, составленный в кампанию 1806-1807 гг., подтверждает, что подобное наказание было применено в этом соединении после Эйлау почти что официально: «Два канонира прибыли только после битвы и так как не смогли дать достойного объяснения своему отсутствию, их приговорили к "савату", что и было исполнено в присутствии всего корпуса на могиле товарищей, павших на своем посту в ходе боя»89.
Наконец, в ряде случаев наказания могли приобретать совсем непривычные формы, что можно увидеть на примере трагикомичного случая, разбирательству которого посвящено несколько документов в архиве исторической службы французской армии.
В небольшом северо-итальянском городке Ив-рея, что неподалеку от Турина, каждый год в марте устраивается веселый карнавал, длящийся несколько дней. Традиция этих праздников уходит в далекое прошлое, а продолжается она и поныне. В марте 1810 г., как обычно, праздновался карнавал. Его отмечали не только местные жители, но и французские солдаты, располагавшиеся в городке (напомним, что в этот период времени Пьемонт и, естественно, Иврея были неотъемлемой частью Французской империи). Конные егеря 24-го полка сняли за свой счет целую таверну, где устроили банкет и танцы. Однако один из солдат так злоупотребил вином, что в разгар веселья вышел посреди зала, где танцевали и... испражнился прямо на пол!.. Возмущенные конные егеря наградили пьяного хорошими тумаками, а потом вышвырнули пинками вон. На этом бы, наверное, и должна была кончиться эта маленькая история, но то ли постарались злые языки, то ли просто в маленьком городишке любое ничтожное происшествие становится предметом несоразмерных его значению пересудов, ясно только одно, что это «событие» приобрело почти что политическую окраску. По городу поползли слухи, что, мол, французские солдаты попытались сорвать народный праздник. Тогда командир депо 24-го конно-егерского полка Дюфаи решил устроить примерное наказание дебоширу. Провинившегося поставили перед казармой, сняли мундир и, завязав руки за спиной, снова набросили ему на плечи мундир, но уже вывернутый наизнанку. Ему надели также задом наперед фуражную шапку, привязали сзади швабру, а спереди совок и в таком виде под конвоем четверых солдат и бригадира провели по улицам города на место «преступления». Там провинившийся должен был просить прощения у хозяина таверны, и, как доносил рапорт одного из «доброжелателей», солдата заставили даже поцеловать пол в зале, где он совершил проступок, после чего еще целый час он стоял привязанный у дверей таверны, осыпаемый насмешками и издевками толпы зевак.
Теперь «дело» приобрело столь большую огласку, что неизвестный «доброжелатель» составил рапорт военному министру, где говорилось следующее: «Эти насмешки раздавались со стороны подонков городского населения... которые наслаждались видом солдата Императора, выставляемого на поругание толпы своим командиром. Честные люди с негодованием смотрели на это действо и не знали, чему больше удивляться: варварству изобретателя сего наказания или его политической недальновидности, ведь все это происходило в крае, который весьма непросто ассимилировался среди земель Империи»90.
Когда читаешь этот поклеп, сразу вспоминаются слова генерала Тьебо, который говорил: «...благодаря этой магической фразе "солдаты Императора", разного рода прохвосты приобретали в глазах слабых и нерешительных командиров нечто похожее на индульгенцию, прикрываясь которой, они порой совершали серьезные проступки» 91.
К счастью для майора Дюфаи, в ответ на запрос военного министра, начальники дали ему положительную характеристику, хотя один из них и не преминул вставить в нее на всякий случай фразу: «Я не очень хорошо знаю этого офицера...»92Тем не менее дело на майора было закрыто.
В этом курьезном эпизоде раскрываются характерные черты французской дисциплины. Как мы видим, случай, который в ряде других армий мог остаться просто без внимания, тем более что солдаты сами поколотили незадачливого выпивоху, здесь, несмотря на отсутствие физического наказания, обернулся для провинившегося жестокой карой. С другой стороны, облик этой экзекуции вызвал неоднозначную реакцию, и она стала предметом внимательного разбирательства вышестоящих инстанций, последнее, как кажется, показывает, что в отсутствие боевых действий даже малозначительные проступки бывали нечастыми.
Подводя итог, можно сказать, что охарактеризовать степень дисциплинированности наполеоновской армии однозначно довольно трудно. Здесь можно было найти все: от строгого соблюдения порядка и уставов до расхлябанности и мародерства.
Несмотря на противоречивость источников, очевидно, пожалуй, одно - эта дисциплина, как минимум, не уступала той, что существовала в иностранных армиях, хотя она и базировалась там на других принципах. Генерал Фуа в своем очерке, посвященном английским войскам, очень метко охарактеризовал эту разницу: «Едва они (англичане) выходят за пределы того, что может быть предусмотрено дисциплинарным кодексом, - а можно ли вообще воевать, не попадая в подобные ситуации, - они совершают такие чудовищные проступки, которые удивили бы казаков... Они напиваются, как только могут, и их опьянение, апатичное и холодное, приводит к отупению.
Ежеминутная строжайшая субординация - это условие "sine qua non" в английской армии, которая не может существовать, соблюдая сдержанность в изобилии, а с другой стороны, не разбегаясь в случае голода»93.
Чтобы завершить моральный портрет наполеоновской армии, мы рассмотрим еще одну проблему, а именно взаимоотношения между солдатами, офицерами и различными частями, ее составляющими.
Как нетрудно предположить, в армии, где существовал культ чести, где жажда славы и отличий неминуемо вызывала соперничество, и где смерть рассматривалась, как «обыденное явление жизни», малейшее посягательство на чье-то достоинство неминуемо должно было приводить к кровавой резне. Так, в общем, и было.
Хотя официальной статистики числа дуэлей в наполеоновских войсках не было, уже сам факт того, что практически все мемуаристы имели за свою карьеру хотя бы один поединок, говорит сам за себя. «Я знал много офицеров, которые были охвачены настоящей манией дуэлей, - пишет современник. - Они считали, что необходимо иметь хотя бы одно "дело чести" в месяц» 94.
Хотя Император не любил дуэлянтов, никаких запретительных мер на этот счет в армии фактически не применялось. В мемуарах Верньо говорится, например, что в их полку (4-м конно-артиллерийском) офицер, подравшийся на дуэли без разрешения дежурного командира батальона, получал восемь суток ареста, а если дуэль закончилась смертью одного из дуэлянтов, то выживший отправлялся на восемь суток за решетку. Для солдат наказанием были двое суток гауптвахты или двое суток карцера 95. И последнее, дуэль между солдатами была спецификой наполеоновской армии. Подобная вещь была совершенно немыслима в русских или австрийских войсках, весьма далеки от этого были и англичане, хотя у них допускалось выяснение отношений между рядовыми в кулачном поединке.
Солдатские дуэли существовали во французской армии еще при Старом Порядке, они пережили Революцию и сохранились в эпоху Империи. Столь же ничтожное наказание, о котором пишет мемуарист, конечно, не останавливало желающих подраться, тем более что оно налагалось только на тех, кто принял участие в дуэли без разрешения!
Что же касается списка наказаний в солдатской книжке, то там дуэль вообще не упоминается.
Ничто не мешало поэтому старым воякам поддерживать и, более того, культивировать обычай дуэли в наполеоновской армии. Особенно выделялись среди этих носителей «традиции» полковые учителя фехтования. «Они подбивали меня на то, чтобы я устроил ссору с поединком без всякой причины, - рассказывает о своих учителях фехтования знаменитый капитан Куанье, тогда молодой солдат.
- Ну, доставай свою саблю, - сказал бретёр, - я выпущу из тебя небольшую капельку крови.
- Посмотрим, господин наглец.
- Возьми себе секунданта.
- У меня его нет.
Но мой старый учитель фехтования, который участвовал в этом "заговоре", сказал:
- Хочешь, чтобы я был твоим секундантом?
- Да, папаша Пальбуа, это будет замечательно.
- Ну что ж, тогда пойдем на место, хватит разглагольствовать» 96.
Впрочем, эта дуэль была прервана самими организаторами, молодого солдата просто испытывали на храбрость. Этот «экзамен» Куанье успешно сдал: «Я был признан хорошим гренадером, - вспоминал он. - Я понял, что они хотели испытать меня и сделать так, чтобы я заплатил за выпивку, что я охотно сделал, и они остались мне признательны. Гренадер, который утром собирался убить меня, стал моим лучшим другом...»97
Однако далеко не всегда дело заканчивалось так безобидно. Особенно много дуэлей, и дуэлей серьезных, происходило, когда в гарнизоне оказывались две еще не знакомых друг с другом части. Тогда, словно между кланами Монтекки и Капулетти, в городе повсюду завязывались поединки, часто без всякой причины. Вот что рассказывает очевидец о том, как происходило формирование дивизии Уди-но, образованной из гренадерских рот, взятых в различных полках: «Это слияние осуществилось очень быстро для офицеров, но не таким уж простым оно оказалось для солдат. Согласно старому обычаю нашей армии, знакомство происходило с саблей наголо. В течение первых месяцев создания дивизии бесчисленные дуэли, которым невозможно было воспротивиться, научили наших храбрецов взаимно уважать друг друга, однако, пока не наступил этот момент, более пятидесяти из них стали жертвами досадного предрассудка...»98
Подобные поединки, когда они происходили между противниками, разгоряченными винными парами и на виду у товарищей, легко могли перерасти в настоящие бои: «Этот постой на кантонир-квартирах был, к сожалению, отмечен стычкой в кабаре, последствия которой были печальны и могли бы оказаться еще более серьезными, - рассказывает о стычке между пехотинцами и кавалеристами офицер 5-го гусарского полка. - Четыре гренадера были убиты, трое попали в госпиталь в тяжелом состоянии, с ними был ранен также один понтонер и один артиллерист. Шестеро гусар были очень тяжело ранены и один убит.
Когда я прибыл на место этого несчастного события, бой, казалось, должен был возобновиться, и причем еще с большим ожесточением, так как в кабаре уже сбегались солдаты пехотных полков, а с другой стороны подоспели пятьдесят гусар. Только с помощью многих офицеров мы смогли развести враждующие стороны по своим казармам. В городе были организованы патрули, чтобы обеспечить порядок и безопасность»99.
Дуэли между офицерами, разумеется, не были похожи на драки и не всегда были связаны с принадлежностью к различным полкам или родам войск. Однако, так же как и солдатские, они происходили преимущественно на холодном оружии. «В гарнизоне это были шпаги или рапиры со снятыми наконечниками. На кантонир-квартирах - шпаги или сабли, носившиеся с формой... - рассказывает Верньо, - никто не осмелился бы предложить пистолет (огнестрельное оружие считалось менее достойным и не рыцарственным), однако нельзя было отказаться от боя на пехотных полусаблях, кавалерийских палашах или саблях легкой кавалерии. Секунданты становились по сторонам от сражающихся, каждый справа от своего дуэлянта... с обнаженными шпагами или саблями, чтобы в случае чего предохранить противников от недостойных приемов ведения поединка, а также с целью разъединить их, когда будет решено, что честь удовлетворена, и секунданты провозгласят, что дело закончено. Мы сражались рубящими и колющими ударами - кто как хотел, до первой крови, если причина дуэли была маловажной, до смерти - из-за серьезных оскорблений, лжи или пощечины»100.
Впрочем, офицеры не всегда пренебрегали пистолетами. Использование огнестрельного оружия означало, в общем, более решительный характер поединка, так как вероятность получить тяжелую или даже смертельную рану была здесь большей, чем при дуэли на шпагах. Одну из таких дуэлей с трагическим концом нам хотелось бы описать как пример поединка «по серьезной причине», хотя и далекой от соперничества за женщину, приводившего так часто к жестоким схваткам. Предоставим слово уже известному нам д'Эспеншалю, полк которого располагался зимой 1807-1808 гг. на кантонир-квартирах в Бреслау. 2 декабря 1807 г. маршал Мортье, командующий французскими войсками в городе и округе, решил дать пышный бал по поводу годовщины коронации Императора Наполеона и победы под Аустерлицем. На бал было приглашено все высшее общество Бреслау. «Можно вообразить, что не все из гостей пришли на праздник, ведомые лучшими чувствами, однако они вели себя достаточно корректно. Лишь один прусский полковник в отставке, разговаривая по-немецки с тремя особами, позволил себе столь оскорбительно отзываться об Императоре, что капитан артиллерии Гурго... слышавший их и прекрасно говорящий по-немецки, сказал полковнику: "Сударь, если бы Вы были не на балу, я дал бы Вам пару пощечин, но, если у Вас есть еще остаток чести, я прошу Вас рассматривать ситуацию так, как если бы Вы их получили". - "Отлично, - ответил полковник, - я надеюсь завтра сделать так, что Вы больше уже не будете болтать". Все это было сказано с таким холодным спокойствием, что никто, за исключением свидетелей происшествия, и не подумал, что среди музыки, танцев и радости готовилась ужасающая драма...
На рассвете 2 декабря маленькая записка от командира батальона артиллерии Флёрио поставила меня в известность о том, что он утром заедет за мной в экипаже. Действительно, около семи утра мы выехали: Гурго, командир батальона, старший хирург и я, захватив с собой пару пистолетов и боевую шпагу.
Двадцать минут спустя мы были на месте, избранном для дуэли, куда почти в то же время приехали полковник Тауэнцин и два его секунданта. "Господа, - сказал полковник, - на самом чистейшем французском языке, - я думаю, совершенно бесполезно объясняться по поводу мотива, который привел нас сюда. Я получил самые тяжелые оскорбления, которые может получить воин, и поэтому я хочу мести, оставляя на ваш выбор условия поединка".
После этих слов пистолеты были заряжены, две шпаги воткнуты на расстоянии трех шагов одна от другой и две другие - на расстоянии пятнадцати шагов от предыдущих. Условия были таковы, что дуэлянты после третьего хлопка в ладоши могли сближаться с той скоростью, с которой желают, и равным образом стрелять в любой момент.
Гурго передал мне, что он соглашается на то, чтобы стреляли по очереди, отдав полковнику право первого выстрела. В случае четырех безрезультатных выстрелов (по два с каждой стороны) дуэль должна была быть продолжена на шпагах. Однако полковник благородно отказался от первого из этих предложений.
Итак, дело было решенным, все происходило с самым большим спокойствием. Барон Фретцинген подал сигнал. В тот же миг раздались два выстрела и полковник, пораженный в грудь, рухнул, успев только вымолвить: "Я убит"»101.
Вообще, мемуары современников полны примерами самых необычных дуэлей, на самых различных видах оружия, происшедших по самым различным причинам и с самыми разными исходами. Тем не менее нельзя не отметить одной особенности. Несмотря на многочисленные упоминания о факте дуэлей, в подавляющем большинстве случаев мемуаристы наполеоновской армии не только не возводят дуэль в культ, но и даже упоминают о поединках как-то вскользь, не особенно задерживая на них свое внимание. Дуэль не была окружена в их среде тем обостренным, почти что болезненным вниманием, как, скажем, в России 20-х — 30-х гг. XIX в., где она стала чуть ли не главным источником вдохновения авторов романтических литературных произведений. Изнурительные походы, слава на поле грандиозных битв Империи, удивительные исторические события, свидетелями которых они являлись, занимали воображение офицеров и солдат наполеоновской армии куда больше, чем сомнительная прелесть бретерских подвигов. Если в гарнизоне и на постое по причине вынужденного относительного безделья отношения между частями складывались, как ясно из вышесказанного, достаточно непросто, иначе было на поле сражения. Здесь совместное преодоление опасностей, общая слава, добытая в тяжелой борьбе, вызывали к жизни другие чувства - чувства товарищества и братства по оружию. Вот что вспоминал об этом д'Эспеншаль: «...благодаря редкому везению мы выбрались живыми и невредимыми из этого гибельного места и в 11 часов вечера прибыли в городок Эспьель, умирая от усталости. Мы встретили тут пехотную дивизию и наш полк... Я не могу описать радости и счастья наших товарищей и гусар; со всех сторон были рукопожатия, бесчисленные объятия, которые выражали нашу искреннюю любовь друг к другу, те чувства преданности, которые рождаются в боях, когда вместе идут навстречу смертельной опасности» 102.
Конечно, подобные чувства не являлись какой-то отличительной особенностью наполеоновского войска. Но то, что поистине удивляет и является характерным прежде всего для армии Первой Империи, - это те формы, в которых проявлялось боевое братство, формы, которые, без сомнения, характерны для французской нации классического периода с ее врожденным артистизмом и склонностью к театральным эффектам в хорошем смысле этого слова. Не редкостью было, что появление на поле битвы полка, отличившегося в предыдущих боях, армия встречала громким ликованием и даже... аплодисментами! «Заслуженная репутация части быстро распространяется в армии, - рассказывает де Брак. - Я видел, как полкам аплодировала вся армия. Им кричали "браво!", когда они вступали в боевую линию. Солдаты выбегали из строя, чтобы подойти к ним и пожать руки храбрецов! Какой только порыв это не возбуждало! "Они с нами! - раздавалось отовсюду. - Вперед! Вперед! Теперь победа наша!"»103
Пожалуй, нигде с такой силой не раскрывались рыцарственные чувства солдат и офицеров наполеоновской армии, как в этом благородном умении воздать должное отваге своих товарищей по оружию. И примеров этих искренних, дружеских, шедших от самого сердца приветствий великое множество. Вот что писал герцог Бассано о том, как 84-й линейный полк вступил в боевые порядки армии в битве при Ваграме: «Когда "один против десяти"* показался на поле сражения, он был встречен исступленными восторженными приветствиями своих товарищей, а Император снял шляпу и оставался с непокрытой головой, пока полк проходил мимо него»104.
* Девиз, который был начертан на бронзовой плакетке, помещенной под орлом 84-го полка. Право носить подобное отличие было в виде исключения дано этой части за героический бой под Грацем 25 июня 1809 г., когда этот полк сражался с десятикратно превосходящим его по численности австрийским корпусом.
«Можно было залюбоваться порывом наших войск, - вспоминал генерал Гриуа о бое под Шевардиным. - Под чистым синим небом, в лучах заходящего солнца, сверкали ружья и клинки, украшая открывавшиеся перед нами зрелище. Армия с высоты своих позиций провожала глазами полки, которым была поручена честь атаковать первыми, и приветствовала их ликующими криками...»105
Однако еще больше, чем в отношении к друзьям, рыцарственность проявляется в отношении к врагам. И здесь можно с уверенностью сказать, что стиль поведения армии Наполеона еще полностью соответствует пониманию войны, характерному для европейского «традиционного» общества, смягченного к тому же гуманистической философией XVIII в. Враг рассматривался как таковой только на поле боя, пока сталью и свинцом он хотел навязать свою волю. Но едва стихал грохот битвы, как в неприятеле солдаты и офицеры Наполеона видели лишь людей, волею судеб оказавшихся по другую сторону барьера, таких же, как и они, воинов, выполняющих долг перед своим монархом и Отечеством.
Пример подавал сам Император. После каждого генерального сражения отдавался приказ помогать раненым - своим и чужим. Французские хирурги оперировали, часто даже не вникая, к какой армии принадлежит пострадавший. Главный хирург Гвардии (а впоследствии - и всей армии) Ларрей оказывал помощь всем раненым без разбора - французам и их врагам. А Перси, другой выдающийся врач, записал в своем дневнике о вступлении наполеоновских войск в Гейльсберг: «Мы видели, сколько стоила эта битва русским. В городе осталось около 400 раненых, которых они не сумели увезти... по причине тяжести их ран. Я отрядил тридцать хирургов, чтобы перевязать их и оперировать. Мы собрали их в одном здании, которое теперь будет для них госпиталем»106.
Справедливости ради нужно отметить, что в том же дневнике Перси указывает, что французские раненые, взятые до этого в плен русскими и освобожденные наступавшими полками Великой Армии «единодушно утверждали, что хирурги русской армии перевязывали их даже вперед своих собственных солдат»107.
Планшет 14. Офицер 4-го полка и трубач 5-го полка 1812 г. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 17. Офицер и трубач 1-го конно-егерского полка 1806-1807 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Подобное поведение было скорее нормой, чем исключением, по крайней мере, до тех пор, пока война не приобрела в 1812, а особенно в 1813 г. небывалый размах и ожесточение. Впрочем, и в этих кампаниях находилось место великодушию. Вот что писал в своих воспоминаниях ирландец Вольф Гон, прошедший кампанию 1813 г. в рядах наполеновских войск: «На поле боя французы обычно сражаются с дикой яростью. Они устремляются в атаку душой и телом, словно становясь охваченные опьянением, особенно в атаке, когда они бьют всех без пощады и сами ее не просят. "Бей! Бей!" -кричат они во всю глотку... Но едва бой кончился, как их ярость исчезает, и естественная гуманность их натуры становится доминирующей. Я всегда видел их сострадательными и гуманными к раненым и пленным, которых они никогда не оскорбляли и не обижали »108.
Фантен дез Одоар записал в своем дневнике попе битвы при Аустерлице: «Те из раненых, кто мог двигаться, приближались к нашим бивачным кострам и садились вокруг них. Среди раненых было много русских и австрийцев, рассеянных по полю боя, они тоже расположились обогреться у наших огней. Для стороннего наблюдателя это была весьма своеобразная сцена - видеть, как по-дружески сгрудились вокруг костров люди, которые еще несколько мгновений назад в ожесточении убивали друг друга» 109.
А вот что видел другой очевидец после битвы под Цнаимом в 1809 г.: «К пяти часам огонь утих, и офицеры проехали по линии войск, чтобы прекратить стрельбу, так как князь Лихтенштейн был в этот момент в императорской палатке с целью заключить перемирие. Мы подошли к австрийцам, пожимали им руки и завязывали дружеские беседы с помощью фламандцев, которые служили нам переводчиками»110
Но даже в ярости боя французский солдат был далек от кровожадности. Вот какой комичный случай, произошедший в бою при Березине, описал гренадер Великой Армии: «Один из русских кавалеристов, которого понесла его смертельно раненая лошадь, рухнул вместе с ней прямо в нашем каре. Так как лошадь придавила ему ногу и кавалерист никак не мог сам выбраться из под нее, один из наших помог ему подняться. Пользуясь тем, что мы были заняты отражением атаки других эскадронов его полка, он вышел из каре, причем никто и не подумал ему мешать, а затем как ошпаренный бросился бежать в сторону своих. Мы не могли не рассмеяться, и никто не стал стрелять по нему»111.
Когда же война кончалась, французские солдаты охотно братались со своими бывшими врагами. В Тильзите Императорская Гвардия организовала огромный пир, куда были приглашены солдаты русских гвардейских полков: «Суп, говядина, свинина, баранина, гуси и куры были в изобилии, пиво и вина в бочках стояли на каждом столе. Гренадеры и егеря французской Гвардии, смешавшись с русскими гвардейцами, ели и пили. Русские вначале держались очень скромно, не понимая нашего языка, и не осмеливались предаться веселью, но дружелюбные жесты и доброта наших солдат сделали свое дело: они осмелели и к концу пиршества были так же веселы... Этим вечером невозможно было понять, кто есть кто: французы, обменявшись с русскими шапками, мундирами и даже башмаками, прогуливались в поле и по городу крича: "Да здравствуют Императоры!"»112
Вообще, как отмечают современники, ожесточение и ненависть появились лишь в поздних кампаниях, да и то в основном по отношению к пруссакам, с которыми французские солдаты сражались с остервенением, не свойственным боям «с англичанами, русскими и австрийцами, где с обеих сторон проявлялось много любезности»113.
Некоторые из жестов воюющих армий того времени словно сошли со страниц рыцарских романов и, наверное, не всегда понятны людям, воспитанным на идеологизированных и прагматичных войнах XX века. Вот какой случай произошел в кампанию 1814 г. в Италии. Вице-король Евгений Богарне, славившийся своим благородством и отвагой, в ходе рекогносцировки случайно оказался в пятидесяти шагах от австрийского поста, стоявшего на другом берегу узкой речки. Один только залп - и главнокомандующий французской армии в Италии и многие его высшие офицеры погибли бы. «Но в тот момент, когда командир отряда узнал вице-короля по его белому плюмажу и бляхе ордена Почетного Легиона, он выровнял строй своих солдат, скомандовал "На караул!" и приказал барабанам бить встречный марш. Эта военная любезность... была оценена вице-королем по достоинству. Он вежливо поприветствовал пост и его командира. Вечером, вернувшись в Верону, он послал одного из своих адъютантов к австрийскому главнокомандующему, чтобы высказать свою благодарность за этот благородный жест»114.
Нужно отметить, что, пока французы вели войну с профессиональной прусской армией, а не с вооруженным народом, обработанным шовинистической пропагандой, подобные любезности имели место и в отношении с пруссаками. Гонневиль, тогда молодой офицер кирасирского полка, был взят в плен в одной из отчаянных кавалерийских стычек зимой 1807 г. Прусские офицеры и солдаты проявили максимальную тактичность по отношению к раненому пленнику. В дороге командир прусского отряда, также раненый в бою, «столь же мало был занят своей раной, - рассказывает Гонневиль, - как если бы вовсе ее не получал. Зато я был предметом самой трогательной заботы. Меня окружили вниманием, беседовали о моей семье и моем родном городе, с восторгом говорили об отваге, с которой дрался мой отряд, и вообще всеми способами старались меня утешить...» За ужином, «несмотря на мои протесты, меня обслуживали первым и выбирали для меня лучшие куски...» После двухмесячного пребывания в плену Гонневиль был обменен на прусского офицера и препровожден в расположение французских войск (дивизия Дюпона) графом фон Мольтке, командиром отряда, в свое время взявшим его в плен. Во французском штабе настал черед ответной учтивости: «Час спустя мы были за столом, накрытым на тридцать персон... Генерал Дюпон посадил г-на фон Мольтке рядом с собой и во время обеда спросил, в каком бою он получил шрам на щеке, который казался свежим. Граф фон Мольтке сказал, что это я нанес ему эту рану, что сделало меня объектом внимания всех присутствующих и весьма меня смутило. Я покраснел до корней волос... и генерал Дюпон попросил меня рассказать, как все это случилось... Во время рассказа г-н фон Мольтке был изысканно любезен: он несколько раз сказал, что я преуменьшаю достоинство своего поведения. Я же рассказал, как граф спас меня в ту минуту, когда без его вмешательства я был бы убит. Со всех сторон на графа посыпались благодарности, и генерал Дюпон говорил с ним с такой добротой, как если бы он был обязан ему жизнью своего близкого друга или родственника»115.
Конечно, последний эпизод с его изысканной рыцарской учтивостью, словно сошедший со страниц хроник бургундского двора XV в., являлся скорее исключением, но нет сомнения, что в целом французские солдаты и особенно офицеры не испытывали ненависти к своему противнику, движимые не желанием убить врага, а стремлением добиться победы во имя славы, наград и материальных выгод. (Особняком, конечно, стоит здесь испанская война и вообще все те кампании, где в дело вмешивалось вооруженное гражданское население.)
Итак, как же выглядел «моральный портрет» наполеоновской армии?
Это была мужественная, полная кипучей отваги, энтузиазма и презрения к опасности, безгранично верящая в своего вождя армия, армия в целом дисциплинированная, хотя под влиянием обстоятельств не чуждая эксцессам, и прежде всего мародерству. Армия, иногда слишком самоуверенная, беспечная и драчливая, зато высоко ценящая честь и товарищество, веселая и неунывающая, гуманная к поверженному врагу.
Такой она была в первые годы Империи - в пору блистательных побед, во многом она осталась такой и в самую трагическую пору. Однако в истории наполеоновского войска есть рубеж, мимо которого нельзя пройти.
Как получилось, что армия с высокими моральнобоевыми качествами превратилась в жалкую кучку оборванных деморализованных беглецов за время не слишком долгого отступления из России? Если такой вопрос не возник перед читателем этой книги, то он всегда волновал автора, и нам необходимо дать на него ответ, который, как будет понятно, имеет самое прямое отношение к теме данной главы.
Напомним, что главные силы Великой Армии выступили из Москвы 19 октября 1812 г. В строю было около ста тысяч человек при 500 орудиях. В первых числах декабря из них оставались живыми и не плененными едва ли несколько тысяч солдат и офицеров. Таким образом, за 45-50 дней огромная армия фактически перестала существовать. (Речь здесь идет, разумеется, только о войсках, действовавших на главном направлении.)
Взгляд на эти события, доминирующий в массовой исторической литературе, распространенной во Франции, очень прост: причиной всему был ужасающий мороз. Именно он погубил доселе непобедимые полки, физически уничтожив десятки тысяч людей, сломив железную дисциплину и разорвав узы братства по оружию. Подобное воззрение на катастрофу в России, конечно, не выдерживает критики. Ведь когда начались настоящие холода - в самых последних числах ноября-начале декабря, — от Великой Армии оставались в основном лишь жалкие кучки бредущих без строя и дисциплины, а часто и без оружия, людей. Их-то, действительно, и доконал мороз. Во время же большей части отступления - от Малоярославца до Березины включительно - температура была низкой, но совсем не такой, от которой погибают и разлагаются закаленные войска.
Таблица температур в октябре-ноябре 1812 г.*116
| Октябрь | |
| 28 | + 3.7°С |
| 29 | + 3.5°С |
| 30 | - 0.5°С |
| 31 | - 0.5°С |
| Ноябрь | |
| 1 | - 2°С |
| 2 | - 4°С |
| 3 | - 5.2°С |
| 4 | 0°С |
| 5 | + 2°С |
| 6 | + 1.5°С |
| 7 | + 1°С |
| 8 | + 1°С |
| 9 | - 2°С |
| 10 | + 1°С |
| 11 | + 1°С |
| 12 | + 3.5°С |
| 13 | - 8°С |
| 14 | - 9.2°С |
| 15 | - 6.5°С |
| 16 | - 3°С |
| 17 | - 2°С |
| 18 | + 1.5°С |
| 19 | + 1.5°С |
| 20 | - 0.5°С |
| 21 | - 2.5°С |
| 22 | - 6.2°С |
| 23 | - 5.5°С |
| 24 | - 2°С |
| 25 | - 2°С |
| 26 | - 4°С |
| 27 | - 4°С |
| 28 | - 1.5°С |
* Таблица взята из отчета Виленской астрономической обсерватории за 1812 г., поэтому реальные цифры по температуре в местах, где находилась армия, могли немного отличаться.
В кампании 1807 г. наполеоновская армия уже вела боевые действия при подобных условиях, не говоря уже о французских войсках эпохи Революции, которые зимой 1794-1795 гг. в действительно лютые морозы завоевали всю Голландию.
Иная точка зрения распространена в советской исторической литературе, предназначенной для широкой публики: Великую Армию разбили партизаны и преследующие ее по пятам русские войска. Несмотря на то, что эта концепция несколько более обоснована, чем предыдущая, она также не согласуется с фактами. Партизаны и казаки, действительно, нанесли большой урон отступающим, но те, кого они били и брали в плен, были в подавляющем большинстве группами деморализованных, отбившихся от армии солдат, зачастую невооруженных. Все источники сходятся на том, что казаки никогда серьезно не атаковали идущие в порядке, готовые к отражению нападения воинские части. Да и зачем им это было делать? Позади и вокруг армии плелись тысячи лишенных оружия и забывших о дисциплине людей, тащивших с собой повозки с награбленным добром. Простая мужицкая логика подсказывала казакам, что именно здесь они могут найти верную добычу при минимуме риска, в то время как напав на колонны дисциплинированных войск, можно получить лишь сталь и свинец.
Куда более важным фактором, воздействовавшим на отступавших, была регулярная русская армия. Она нанесла серьезные удары по неприятелю под Вязьмой, Красным и Березиной... но и здесь значительная, если не самая главная, часть потерь приходилась не на организованные части, а на деморализованные толпы, шедшие за армией. Русская армия не столько уничтожала французские полки, сколько рассеивала, истребляла, забирала в плен тех, кто и без того уже не являлся бойцами.
Напомним, что боевые действия разворачивались не только на главном - Московском - направлении, но и на флангах, где русская армия и казаки ничуть не меньше, если не больше, наседали на отступающего неприятеля. И что же? Мы видим, что польско- прусский корпус Макдональда понес, сравнительно с главной армией, просто ничтожный урон.
Ограниченные потери были и в рядах саксонского корпуса Рейнье и австрийских войск Шварцен-берга. Наконец, когда в 20-х числах ноября главная часть армии Наполеона (за исключением Гвардии) подходила к Березине в основном в виде деморализованной толпы, корпуса Удино и Виктора, хотя и совершили отступление под сильнейшим нажимом русских войск, шли монолитными рядами, сохраняя готовые к бою организованные батальоны, полки, батареи.
Итак, главной причиной катастрофы была не русская армия, которая била отступающие толпы полувооруженных людей, не казаки, не партизаны и не мороз. Кстати, выдающийся русский ученый Е. В. Тарле также полагал, что морозы лишь добили Великую Армию, а сражения в ходе отступления наносили удар прежде всего по «некомбатантам»: «Под Красным произошел своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен наименее боеспособные люди...»117
Главной же причиной развала армии знаменитый академик считал голод, который преследовал французов с самого выступления из Москвы: «Нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в этот период, когда морозов еще не было, а стояла прекрасная солнечная осень. Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления»118.
Нет сомнения, что данный фактор сыграл огромную роль в процессе разложения главных сил Великой Армии... Однако и это объяснение покажется явно неудовлетворительным, если внимательно вчитаться в дневники современников, мемуары и документы, относящиеся к началу отступления, и сопоставить их со временем и километражем пройденного пути.
Дело в том, что от Малоярославца до Смоленска, где симптомы тотального разложения были уже налицо, армия шла всего лишь две недели. Солдаты вынесли из Москвы немалые запасы продовольствия, кроме того, в дороге ежедневно падало огромное количество лошадей, которых тотчас же забивали на мясо, были даже кое-какие раздачи провианта. Конечно, жаренная на костре конина - это не бифштекс в парижском ресторане, конечно, не хватало хлеба, водки и т. д., но все же это очень далеко от смертельного голода, который мог бы разложить полные стойкости и выдержки войска. Напомним, что отступавшие на флангах корпуса, хотя и в меньшей степени, также страдали от голода, но не потеряли внутренней спайки и организованности. Солдатам наполеоновской армии приходилось выносить подобные лишения в холоде и голоде Польской кампании 1807 г. Или во время отступления из Мадрида через Ла Манчу в том же 1812 г., где приходилось идти по безводной равнине в дикую жару, без глотка воды. Но только в русском походе произошли деморализация и развал, превосходящие все вообразимое. Как же это объяснить?
Причина, на наш взгляд, кроется именно в этом неуловимом, но всесильном моральном факторе, которому посвящена данная глава. Действительно, чтобы понять, почему катастрофа обрушилась на главные силы, надо сравнить те факторы, которые воздействовали на фланговые корпуса и на основную группировку. Холод, голод, наскоки казаков и натиск регулярных сил русской армии воздействовали на все соединения Великой Армии. Конечно, в разной степени, но все же различия были не столь велики, как результат.
Первым из ряда различий, которые бросаются в глаза, было то, что главными силами командовал сам Император, а фланговыми корпусами - его маршалы. Казалось бы, прекрасная возможность для хулителей полководческого таланта Наполеона сказать: там, где командовал Бонапарт, - там развал, а там, где командовали «незаслуженно» отодвинутые на второй план «скромные» герои - там порядок. Факты, однако, показывают, что, напротив, если из главной армии хоть что-то уцелело, то лишь благодаря присутствию Императора, который воодушевлял своим присутствием войска, по крайней мере, Гвардию.
Есть еще одно существенное различие: главная армия дала кровопролитное генеральное сражение под Бородиным. Неужели прав Толстой, считавший, что Бородино является началом конца наполеоновской армии и Империи, моральной победой русской армии? Все дневники современников, датированные 7-14 сентября 1812 г., единодушны: Великая Армия чувствовала себя победительницей. Да, это была пиррова победа, которая не принесла желаемого стратегического результата и, следовательно, оказалась бесполезной (см. гл. XIII), хотя солдаты оплакивали потерю многих героев, но дух армии был ни чуть не сломлен, а когда впереди, открывшись с высоты Поклонной горы, показались башни и купола Москвы, ликованию и ощущению триумфа не было предела. Бородино, конечно, нанесло чувствительные материальные потери, которые, однако, были в значительной степени восполнены подошедшим подкреплением, но никоим образом не ответственно за то разложение войск, которое произошло в период отступления.
Итак, остается только одно различие - это Москва, точнее, пожар Москвы. Именно этот фактор, по нашему глубокому убеждению, явился тем мощным ударом, от которого действительно не смогла оправиться Великая Армия. Вступи Наполеон в Москву, как он вступал в Берлин, Вену, Варшаву, Мадрид... и, вероятно, никакой трагедии с его армией не произошло бы. Но случилось иначе - древняя столица запылала, подожженная самими же россиянами.
Для наполеоновской армии именно это и оказалось шокирующим ударом. В обычной обстановке французские войска, вступавшие в европейские столицы, вели себя с максимальной дисциплинированностью. В Вене, например, местная буржуазная гвардия салютовала входящим колоннам императорской армии, а затем совместно с французскими войсками вела патрулирование в городе. При таких условиях обеспечивалось строгое соблюдение дисциплины, пресекались все попытки военнослужащих совершить малейшие акты насилия над жителями. Иное дело — пылающая Москва. Как было объяснить солдатам, что нельзя вытаскивать ценности из домов, подожженных самими же местными жителями? Здравая логика говорила, что лучше спасти пропадающие красивые и ценные вещи, которые раз уж не нужны москвичам, то могут еще очень и очень пригодиться солдатам Наполеона. И солдаты тащили все: меха и картины, столовую утварь и одежду, икру и вино, хотя приказы Императора, один строже другого, и требовали немедленного пресечения беспорядков. Вот только некоторые из этих распоряжений, относящихся к гвардейским полкам:
А. Адам. В Москве 20 сентября 1812 г.
«Приказ на день, 20 сентября 1812 г.
Император повелевает, чтобы грабеж в городе был немедленно пресечен. Господа майоры всех полков должны выделить из каждого батальона, который не находится на дежурстве, по 15 человек под командой офицеров. Эти патрули пройдут по всему городу, чтобы остановить мародерство и вернуть солдат в свои части...
Приказ на день, 21 сентября 1812 г.
Император крайне недоволен, что, несмотря на его настоятельные приказы по прекращению грабежа, отряды мародеров из самой Гвардии входят в Кремль. Обязанность господ генералов и командиров частей - строго исполнять приказы Его Величества...
Приказ на день по армии, 29 сентября 1812 г.
Несмотря на приказ прекратить грабеж, он продолжается во многих кварталах города.
В соответствии с этим, приказываю г. г. маршалам, командующим армейскими корпусами, держать солдат в районе расположения своих корпусов.
Запрещается давать разрешения кому бы то ни было - офицерам или солдатам - уходить в город отрядом или индивидуально на поиски муки, кожи и других предметов.
До тех пор пока в городе не будет восстановлен порядок, ни один торговец не будет иметь права торговли.
Солдаты, которые будут арестованы и уличены в продолжении грабежа, с завтрашнего дня, 30 сентября, будут судимы специальными военными комиссиями и приговорены согласно строгости закона.
Маршал, князь Невшательский»119.
Несмотря на эти повторные распоряжения и угрозы, грабеж продолжался и, хотя со временем он все же затих, но принес свои «плоды». Он подорвал дисциплину в глобальном масштабе, нанес непоправимый удар по духу войск. Солдаты почувствовали вкус золота. Отныне многие из них были нагружены вытащенной из пожара богатой добычей, и им очень хотелось донести ее домой, остаться живым во что бы то ни стало. Офицер Вислинского легиона фон Брандт очень точно определил ту моральную рану, от которой суждено будет погибнуть Великой Армии: «Самым роковым последствием этого грабежа было развитие ростков деморализации... Когда порядок был восстановлен, в каждой части осталось тем не менее некоторое количество дурных солдат, которые убегали ночью из ее расположения, чтобы продолжать мародерствовать. Другие, хуже того, постарались вообще не возвращаться в строй. Во время выхода из Москвы было уже шесть-восемь тысяч людей подобного рода - "одиночек", как их прозвали. Они первыми образовали тянущийся за армией хвост, а их число быстро возросло вследствие тягот отступления, среди них вооруженные солдаты составляли меньшинство» 120.
Дальнейший сценарий понять нетрудно. Масса «одиночек» «облепляла» армию со всех сторон, словно рой мух. Они забегали вперед, в стороны, мародерствовали, грабя дочиста еще нетронутые деревни. Они делали это, конечно, уже не с целью добыть богатства, трудно было бы в нищей деревушке найти что-нибудь сравнимое с московской поживой; теперь мародеры охотились за провиантом. А нормальным, шедшим в строю солдатам осталось только доедать косточки за рыскавшими повсюду подонками. Результат очевиден: дисциплинированные люди мало- помалу стали покидать ряды, а количество «одиночек» на подходе к Смоленску выросло уже до 20—30 тыс. человек. Стендаль, свидетель и участник отступления из России, точно охарактеризовал процесс развала армии: «На обратном пути из Москвы в Смоленск впереди армии шло тридцать тысяч трусов, притворявшихся больными, а на самом деле превосходно себя чувствовавших в течение первых десяти дней. Все, что эти люди не съедали сами, они выбрасывали или сжигали. Солдат, верный своему знамени, оказывался в дураках. А так как французу это ненавистнее всего, то вскоре под ружьем остались одни только солдаты героического склада или же простофили»121. Так росли толпы отбившихся от полков. Ситуация усугублялась тем, что среди отступающих колонн было немало мирных жителей из числа иностранцев, проживавших в Москве и теперь бежавших из города от возможных эксцессов. Их многочисленные повозки и экипажи усиливали беспорядок, а сами они множили толпы одиночек. Наконец, ряд высших чинов, поживившихся от «московской ярмарки» (так солдаты прозвали грабеж бывшей русской столицы), тащили за собой массу набитых добром экипажей и никак не могли подать пример презрения богатству для своих подчиненных. В итоге следствием московского пожара стало превращение Великой Армии в хаос повозок с награбленным и толп тащивших свое добро людей, где каждый был сам за себя.
Морозы, голод, казаки, партизаны сломили не армию Наполеона. Все это - люди и стихии - било прежде всего толпу спасающих пожитки и собственную шкуру, чаще всего безоружных, «одиночек». А эта толпа, как гангрена, постепенно охватывала все новые и новые части войска. Начальник штаба 3-го корпуса Жомини вспоминал, что солдаты всех наций, «перемешавшись между собой, шли толпой в 30-40 тысяч человек. Эта толпа никому не подчинялась и думала только о том, как бы добыть средства, чтобы не умереть от холода и голода. Всякий, кто вследствие холода или усталости отставал от части, попадал в эту дезорганизованную массу. Она увеличивалась с каждым переходом и, в конце концов, надо в этом сознаться, постепенно втянула в себя всю армию...»122 Именно поэтому, когда к «главным силам» присоединялись еще не затронутые разложением войска, они растворялись в этом хаосе почти мгновенно. Удино и Виктор героически сражались при Березине (см. главу XII), потому что... они не шли в главной армии! «Так как наши солдаты не входили ни в какие сношения с теми, которые возвращались из Москвы, не имели ни малейшего представления о беспорядке, царившем среди этих несчастных, нравственный дух корпуса Удино был очень высок...»123-вспоминал Марбо, командовавший тогда полком во 2-м корпусе. Впрочем, не пройдет и одного-двух дней, как попавшие под влияние «гангренозной массы» эти корпуса тоже утратят свое единство и организованность, тем более что в это время действительно ударят суровые морозы. Все, кто присоединялся на различных этапах отступления к главной армии, абсолютно единодушны - их солдаты были шокированы, увидев дикую, никому не подчиняющуюся орду, от этого зрелища их собственный дух падал, и в скором времени они растворялись в толпе... и гибли вместе с ней.
Как неузнаваемо изменились французские солдаты! «Люди дрались за кусок хлеба. Если кто-нибудь, замерзая от холода, подходил к костру, то солдаты, знавшие его, без всякой жалости прогоняли его прочь. Если кто- нибудь, изнемогая от жажды, просил солдата, несшего полное ведро воды, дать хоть несколько капель, то он резко отказывал. Часто можно было слышать, как люди, бывшие, несмотря на разницу положения, до сих пор друзьями, теперь ссорились из-за пучка соломы или из-за куска конины, который они вырезали для себя. Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными и великодушными, сделались теперь эгоистами, скупыми, ростовщиками и злыми» 124.
Таким образом, выходит, что первопричиной катастрофы Великой Армии во время ее отступления был московский пожар, который, заразив армию стяжательством, подорвал ее дух. Враг внутренний, проникший в души солдат, оказался более сильным, чем неприятель и стихии, которые били по уже морально подкошенным людям. С каждым днем число таковых увеличивалось больше, а воля к борьбе постепенно сходила на нет.
Вышедшие живыми из этого страшного отступления были не только на грани физического изнеможения - они были сломлены духовно. В донесении военному министру от 24 января 1813 г. майор Бальтазар, посмотревший на этих людей, писал: «Трудно даже передать картину того состояния, в котором находятся остатки армии... Ужас и продолжительные страдания, которые вынесли эти люди, словно изменили их природу. В них не осталось ничего военного. Они пребывают в состоянии вечного недовольства, у них отсутствует военная субординация, и, сверх того, они панически боятся врага...»125«Я поклялся больше не вспоминать о печальных событиях, покрывших трауром нашу страну, - записал в своем дневнике 15 марта 1813 г. Фантен дез Одоар, который прошел весь путь отступления из России, — но я ничего не могу с собой поделать. Они вновь и вновь приходят мне на ум. Днем я погружаюсь в черные мысли, ночью меня мучают кошмары. Напрасно я стараюсь отвлечься чем-либо, перед моими глазами снова и снова встает океан льда, который поглотил нашу армию и столько славы!»126
Наступила весна 1813 г., и вместе с солнцем и таянием снегов для Великой Армии, казалось, снова начались великие дни. Как мы уже отмечали, невероятными усилиями Наполеону удалось в кратчайшие сроки набрать новую армию, обмундировать, вооружить, поставить в строй тысячи и тысячи новых солдат, подобрать командные кадры, создать гигантскую материальную часть.
В армии, особенно после первых побед Императора, снова возродится боевой дух, снова, как и до этого, солдаты будут драться с порывом и отвагой, снова вернется товарищеская взаимопомощь и французская веселость. «В течение этой кампании полки будут соперничать в пыле, отваге и преданности, новобранцы, ведомые молодыми солдатами, отслужившими шесть месяцев, с патронами в карманах будут сражаться со всей возможной доблестью и достойно поддержат репутацию старых частей» 127.
Свидетельства французских источников полностью подтверждают как друзья, так и противники. «Ты не можешь вообразить, с какой отвагой сражаются эти французские мальчишки шестнадцати-семнадцати лет, - писал 17 сентября 1813 г. на родину один из датских офицеров. - Едва они завидят врага, как их охватывает ярость и бешеный порыв. У них мало физических сил, но у них есть неукротимая отвага»128. Интересно, что почти в тех же выражениях рассказывал о наполеоновских солдатах 1813 г. и русский офицер, артиллерист Н. Радожицкий: «Молодые воины Наполеона, невзирая на их юность, дрались отчаянно и, будучи ободрены нашим отступлением, лезли вперед как бешеные... Смотря на пленных французов, отважных мальчиков, нельзя было не досадовать на то, что мы, старики, от них уходили, но их одушевлял гений Наполеона, который умел из юношей создавать новых героев Франции...»129
Однако катастрофа в России сильно повлияла на моральное состояние армии Наполеона. Часто пишут о том, что молодые солдаты 1813 г. были уже не те, что солдаты Аустерлица и даже Ваграма, что, несмотря на отвагу, им не хватало стойкости, выносливости, умения переносить тяжелые марши, непогоду и голод. Это, конечно, так, но ведь и у неприятеля в строю было немало новобранцев, взять хотя бы пруссаков с их массовым ландвером, иначе говоря, ополчением, только что поставленным под ружье. Не менее, а может быть, более, на результате кампании скажется состояние духа высшего командования, изменившееся после войны 1812 г. Исчезла та спокойная уверенность в своих силах, то «полнокровное чувство победы», которое передавалось от маршала до младшего офицера и простого солдата, делая их непобедимыми. Отныне генералы знают, что поражение и, более того, катастрофа возможны. Они становятся более осторожными, у них пропадает отчаянная, порой бесшабашная самоуверенность, которая иногда приводила к промахам, зато столь часто приносила фантастические успехи. У некоторых осторожность переходит в неуверенность, а то и просто в робость. Разумеется, что те, у кого появлялось это чувство, искали ответственных, чтобы оправдаться перед другими и собой за собственную слабость, поэтому резко критиковали все действия вышестоящих лиц, а прежде всего Императора. «Наши генералы устали, - вспоминает Куанье о настроениях в среде высшего командования после битвы под Дрезденом. Я слышал в генеральном штабе чудовищные речи. Были и те, кто кощунственно говорил об Императоре: "Этот... нас всех погубит". Услышав это, я был потрясен, и я сказал себе: "Мы погибли..."»130. Интересно, что почти в тот же день, когда, по всей видимости, Куанье слышал подобные разговоры, Наполеон в письме герцогу Бассано, министру иностранных дел, писал: «Что плохо - это отсутствие веры в себя у генералов: силы врага им кажутся гигантскими везде, там, где меня нет с ними...» 131
Да, армия 1813 г. не была, конечно, толпой «одиночек», сгрудившихся на подходе к заснеженному Ковно. Однако армией с могучим, пронизывающим все духом победы она уже быть перестала. В ней произошел внутренний надлом. И, как следствие этого, кампания 1813 г. — это не только отчаянная отвага молодых солдат, но и паника под Денневицем, Петерсвальдом и Кацбахом.
Э. Детайль. Северная армия (1815 г.) на марше.
Кампания 1814 г. еще более акцентирует это двойственное состояние духа. Там, где появляется на поле боя легендарный серый редингот и треуголка Императора, солдаты, словно зачарованные волшебством, бьются с яростным исступлением, совершая чудеса героизма, опрокидывая, повергая, уничтожая многократно превосходящего по численности противника, но там, где Наполеон отсутствует, чары исчезают: там вялость, нерешительность и робость генералитета парализуют добрую волю и смелые порывы. «Напрасно, чтобы обмануть врага, французские солдаты кричали: "Да здравствует Император!" - пишет Анри Уссе о битве при Бар-Сюр-Об, где командовал маршал Удино. - По тому, как битва была начата, и по тому, как управляли войсками, всем было ясно - здесь Наполеона не было»132.
Силы были к тому же слишком не равны. На каждого французского солдата приходилось по три неприятельских. Поэтому результат, несмотря на весь гений французского полководца, был предопределен.
Падение Империи было глубоким моральным потрясением для армии. Вот что вспоминает офицер, сражавшийся под Тулузой, о том, как в его полку было встречено известие об этой катастрофе: «Мы узнали об отречении Императора и о возвращении Бурбонов. Эта новость повергла в траур меня и всех моих товарищей! Мы были далеки от политики и ее дрязг, долго сражались вдалеке от Франции и знали об Императоре лишь по его славе... Войны, которые мы вели, казались нам справедливыми и необходимыми, в наших сердцах Монарх и Отечество сливались в одно целое. Унижение одного, катастрофа другого были для нас одинаково горестны. Мы были готовы умереть за Императора и за Родину. Полковник прочитал перед нашими рядами приказ, в котором говорилось о смене династии. Он поднял шляпу и крикнул: "Да здравствует король!" Никто не ответил ему. Он повторил свой возглас. Но ряды остались молчаливыми. По щекам офицеров, опустивших глаза, текли крупные слезы» 133.
Однако в нашем кратком обзоре эволюции духа наполеоновских войск рано ставить точку. Необходимо сказать еще несколько слов об армии 1815г., стоящей несколько особняком в этой достаточно последовательной эволюции.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльба и европейские монархи объявили ему войну, стодвадцатитысячная армия двинулась на север Франции для того, чтобы защитить ее от вторжения 800 000 солдат союзных войск, собиравшихся на границах. Армия 1815 г. резко отличалась от армии 1813 г. Обстоятельства, при которых началась война, не вызывали сомнения в ее целях: Франция защищала свой суверенитет, свое право на самоопределение от иностранных штыков, силой которых хотели реставрировать ушедшие в прошлое порядки, посадить на трон Бурбонов, которые, как метко сказал Талейран, «ничего не забыли и ничему не научились». Поэтому в войсках с особой силой возродилась патриотическая идея защиты Отечества. Да и по составу армия сильно отличалась от того, что она представляла собой в 1813 г. Вернулись тысячи ветеранов из русского, испанского, немецкого плена. Эти люди умели драться и рвались в бой для того, чтобы отомстить за все унижения, которые они претерпели, смыть кровью позор поражения. На войну уходили с энтузиазмом. Смотры превращались в манифестации. Один из солдат Северной армии писал домой: «Все мужчины от двадцати до сорока лет уходили на войну добровольно и с криком "Да здравствует Император!"»134. Эту фразу, еще недавно произносимую шепотом, с наслаждением орали во все горло. Разноцветные шинели и фуражные шапки вместо киверов, гражданские рединготы с эполетами напоминали ветеранам их молодость, которая привела их на поле Жемаппа, Флёрюса, Арколе и Риволи. Снова, как двадцать лет назад, ноги бодро шагали по раскисшим от дождя дорогам в такт «Марсельезе», «Ça ira», «Мы стоим на страже Империи». «Никогда армия не уходила в поход с такой уверенностью в победе, - писал лейтенант Мартен. - Что нам было число врагов? В наших рядах Шли солдаты, состарившиеся в победах... Тысяча оскорблений, за которые надо было отомстить, добавляли гнева к их природной отваге. Эти лица, загрубевшие от солнца Испании и льдов России, прояснялись при мысли о битве»135. Это была «армия, обученная и доблестная, в которой не хватало сплоченности, потому что солдаты не знали своих командиров и не доверяли генералам, мрачная, нервная, охваченная духом II года, взволнованная исступленной страстью к Императору. Она была способна на чудесные порывы, но и подвержена трагическим моментам депрессии»136.
Разумеется, что в этом портрете наполеоновской армии мы вовсе не стремились отразить все аспекты, его составляющие, а попытались выделить главное и, в частности, те изменения, которые начались в ходе войны 1812 г. Московский пожар нанес духу армии такой ущерб, что во многом предопределил ужасные последствия отступления из России, которое, в свою очередь, в значительной мере предопределило исход кампании 1813 г. и отразилось на состоянии армии в 1814...
Тем не менее каким бы проникнутым нервозностью ни стал дух наполеоновских войск в последних кампаниях, нельзя не сказать, что армия сохранила даже в самые тяжелые часы испытаний многие из своих лучших качеств, и если в последних войнах Империи молодые солдаты Наполеона уже не подавляли своих противников гигантским моральным превосходством, как это, было скажем, в прусском походе 1806 г., то их преданность, отвага, чувство чести, веселость и великодушие не могут не вызывать симпатии. И хотя последняя битва Империи - Ватерлоо - закончилась чудовищной катастрофой, она нисколько не убавила той притягательности и обаяния, которыми наполеоновская армия привлекает и сейчас к себе внимание тысяч людей.
1 Клаузевиц. О войне. М., 1936, т. 1, с. 177.
2 Espinchal H. d'. Souvenirs militaires (1792-1814). P., 1901, t. 1, p. 233.
3 BrackF. de. Avant-postes de cavalerie legere. P., s. d., p. 27.
4 Griois L. Memoires du general Griois (1792-1822). P., 1909, t. 2, p. 30.
5 Desbceufs Ch. Souvenirs du capitaine Desboeufs. P., 1901, p. 55.
6 Ibid., p.71.
7 Ravy D. Journal d'un engage volontaire pendant les campagnes de 1805,1806 et 1807 // Histoire d'un regiment. La 32е demi-brigade (1775-1890), p. 147.
8 Fantin des Odoards L.-F. Journal du general Fantin des Odoards. Etapes d’un officier de la Grande armée, 18001830. P., 1895, p. 194-195.
9 Espinchal H. d'. Op. cit., p. 216, 223, 227.
10 Gonneville A.-O. de. Souvenirs militaires. P., 1875, p. 146.
11 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit., p. 293.
12 Soldats d'lena et d'Auerstaedt // Carnet de la Sabretache. Oct., 1906, _\fi 166, p. 612.
13 Roguet F. Memoires militaires du lieutenant-general comte Roguet, colonel en second des grenadiers a pied de la Vieille Garde. P., 1862-1865, 1.3. p. 226.
14 Gonneville A.-O. de. Op. cit., p. 203.
15 Ibid., p. 160.
16 Brack F. de. Op. cit., p. 188.
17 Parquin D.-C. Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de l'Empire. P.. 1843, p. 152.
18 Saint-Chamans A.-A.-R. de. Memoires du general comte de Saint-Chamans, ancien aide de camp du marechal Soult (1802-1823). P., 1896, p. 54.
19 Souvenirs d'un sous-lieutenant (MaignalB. H.) //Histoire d'un regiment. La 32е demi-brigade (1775-1890), p. 189190.
20 Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 г. СПб, 1808, с. 29.
21 Fezensac. Souvenirs militaires de 1804 a 1814. P., 1863, p. 110-111.
22 Цит. по: Lucas-Dubreton J. Soldats de Napoleon. P., 1977, p. 173-174.
23 Цит. по: Girod de l'Ain J.-M.-F. Dix ans de souvenirs militaires de 1805 a 1815. P., 1873, p. 33-34.
24 Цит. по: Thoumas C.-A. Les Grands cavaliers de l'Empire. P., 1890-1892, t. 2, p. 331.
25 Brack F. de. Op. cit., p. 66.
26 Martin J.-F. Souvenirs d'un ex-officier. P., 1867, p. 498.
27 Suckow K.-F.-E. von. Fragments de ma vie. D'lena a Moscou. P., 1901, p. 167.
28 Oyon J.-A. Campagnes et souvenirs militaires // Carnet de la Sabretache. Avril. 1913, № 244, p. 230-231.
29 Francois С Journal du capitaine Francois (1792-1830). P., 1903, t. 2, r. 544.
30 Espinchal H. d'. Op. cit. t. 2, p. 30-31.
31 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit., p. 145.
32 Fezensac. Op. cit., p. 34.
33 Thiebault D.-R-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P., 1893-1895. t. 3, p. 276.
34 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit., p. 221.
35 SegurL. UnAide de Camp de Napoleon. P., 1894, t. 1, p. 399.
36 Gille L.-F. Les prisonniers de Cabrera. Memoires d'un conscrit de 1808, recueillis et publies par P. Gille. P., 1892, p. 130-131.
37 Цит. по: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938, т. 4. с. 391.
38 Correspondence... t. 32, p. 286.
39 Extraits du livre d' ordres du 2" regiment de grenadiers a pied de la Garde Imperiale II Carnet de la Sabretache. Sept., 1900, № 93, p. 570.
40 Boureogne A.-J.-B.-F. Memoires du sergent Bourgogne (1812-1813). P., 1898, p. 202.
41 Desbceufs Ch. Op. cit., p. 126.
42 Chlapowski D. Memoires sur les guerres de Napoleon (1806-1813). P., us.
43 Caulaincourt A.-L.-A. de. Memoires du general de Caulaincourt, due de Vicence, grand ecuyer de l'Empereur. P., 1933, t. 2, p. 356.
44 Levavasseur O. Souvenirs militaires d'Octave Levavasseur, officier d'artillerie, aide de camp du marechal Ney, publie par le commandant Beslay. P., 1914, p. 105.
45 SegurL. Op. cit., t. 1, p. 194.
46 Desbceufs Ch. Op. cit., p. 111.
47 Chevalier M.-J. Souvenirs des guerres napoleoniennes. P., 1970, p. 105.
48 Ravy. Op. cit., p. 154.
49 Цит. по: Cronin. Napoleon. P., 1979, p. 304.
50 Roguet F Op. cit., t. 3, p. 393-394.
51 Martin J.-F. Op. cit, p. 166.
52 Энгельс Ф. Избранные произведения. М., 1936, с. 410.
53 Correspondance...
54 Гейне Г. Das Buch le Grand II Собрание сочинений. М., 1957, т. 4, с. 115.
55 Brack F. de. Op. cit., p. 63.
56 Foy M.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Bruxelles, 1827, t. 1, p. 68-69.
57 Marmont A.-F.-L.-V. Esprit des institutions militaires. P., 1845, p. 180-181.
58 Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 г. СПб, 1808, с. 28.
59 Instruction militaire du Roi Prasse pour ses generaux II Bibliotheque Historique et Militaire. P., 1844, t. 5, p. 216.
60 Correspondance... t. 11, p. 434.
61 Chevalier M.-J. Op. cit., p. 167.
62 Blaze E. La vie militaire sous le Premier Empire. P.,1837, t. 2, p. 49-50.
63 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit., p. 57-58.
64 Espinchal H. d'. Op. cit. t. l,p. 251.
65 SegurL. Op. cit. t. l,pp. 395, 397.
66 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit, p. 256.
67 Кутузов М. И. Сборник документов. М., 1954, т. 4, с. 93.
68 Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания. М., 1995, с. 214.
69 Ibid. p. 205.
70 S. Н.А. Т. S2445.
71 Napier W. F. P. Histoire de la Guerre dans la Peninsule. P., 1828-1834, t. 6, p. 220.
72 S.H.A.T. M. R. 2360.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Combe M. Memoires du colonel Combe sur les campagnes de Russie (1812), de Saxe (1813), de France (1814 et 1815). P., 1854, p. 59.
77 S. H. A. T. J2475.
78 Fee A.-L.-A. Souvenirs de la guerre d'Espagne dite de l'lndependance (1809-1813). P., 1856, p. 71.
79 Ibid., p. 168.
80 Van Dedem de Gelder A.-B.-G. Un general hollandais sous l'Empire. Memoires du general baron de Dedem de Gelder. P., 1900, p. 200.
81 Bardin. Memorial de Гofficier d'infanterie. P., 1809, t 1, p. 58-64.
82 Blaze E. Op. cit, t. 2, p. 152-153.
83 Bardin. Op. cit, t. l,p. 51.
84 Souvenirs du 14е leger. Par un officier du corps II Carnet de la Sabretache., 1904, № 134, p. 106.
85 Denniee P.-P. Itineraire de l'empereur Napoleon pendant la campagne de 1812. P., 1842, p. 152.
86 La Giberne 1910I1911, p. 174. '
87 Pelleport P. de. Souvenirs militaire et intimes du general vicomte de Pelle port de 1793 a 1853. P., 1857, t 1, p. 47.
88 Operations du 3e corps 1806-1807. Rapport du marechal Davout, due d'Auerstaedt. P., 1896, p. 288.
89 Ibid. p. 172.
90 S.H.A. Т. С'810.
91 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron Thiebault. P.. 18931895, t. 3, p. 429.
92 S. H. A. T. C810.
93 Foy M.-S. Op. cit, t. 1, p. 193-194.
94 Blaze E. Op. cit., t. 2, p. 69.
95 Vergnaud A.-D. Souvenirs du colonel Vergnaud officier d'artillerie // Revue des Etudes napoleoniennes, 1936, aout, p. 78.
96 Coignet J.-R. Les cahiers du capitaine Coignet. P., 1896, p. 51.
97 Ibid.
98 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit., p. 100.
99 Espinchal H. d'. Op. cit, t. 1, p. 179-180.
100 Vergnaud A.-D. Op. cit., p. 84.
101 Espinchal H. d'. Op. cit, t 1, p. 160-162.
102 Gonneville A.-O. de. Op. cit, t. 2, p. 43.
103 Brack F. de. Op. cit, p. 195.
104 Bassano. Souvenirs Intimes. t. 1, p. 256 // Carnet de la Sabretache, 1902, p. 153.
105 Griois L. Op. cit, t. 2, p. 29.
106 Percy P.-F. Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande armée. P., 1904, p. 284.
107 Ibid.
108 Wolfe-Tone W.-T. Recits de mes Souvenirs et Campagnes dans L’armée française. P., 1997, p. 13.
109 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit, p. 74.
110 Desboeufs Ch. Op. cit, p. 119.
111 Beaulay H. Memoires d'un grenadier de la Grande armée. P., 1907, p. 55.
112 Percy P.-F. Op. cit, p. 323.
113 Wolfe-Tone W.-T. Op. cit, p. 12.
114 Espinchal H. d'. Op. cit, t 2, p. 219.
115Gonneville A.-O. de. Op. cit, pp. 34, 35, 53.
116 Температура осенью 1812 года // Военно-историческая фигурка. 1998. № 11. С. 22 // Мороз ли истребил Великую Армию Наполеона в 1812 году // Вестник русской конницы. 1912, N 15-16, с. 629.
117 Тарле Е. В. 1812 год. М., 1994. с. 309-310.
118 Ibid. p. 89.
119Extraits du livre d' ordres du 2" regiment de grenadiers a pied de la Garde Imperiale // Carnet de la Sabretache. 1900, Nov. N 95, pp. 683, 684, 690.
120 Brandt H. von. Op. cit, p. 290.
121 Стендаль. Жизнь Наполеона.//Собрание сочинений. М., 1959, т. 11, с. 136.
122 Jomini H. de. Precis politique et militaire des campagnes de 1812 a 1814. Extraits des souvenirs inedits du general Jomini. Lausanne, 1886, t. 1, p. 174.
123 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 1891, t 2, p. 204.
124 Labaume E. Relation circonstanciee de la campagne de Russie. P., 1814, p. 345.
125 Reboul L. Campagne de 1813. P., 1912, t 1, p. 95.
126 Fantin des Odoards L.-F. Op. cit, p. 354.
127 Espinchal H. d'. Op. cit, t. 2, p. 171.
128 Friesenberg C.-F. Souvenirs d'un officier danois, 1807-1814. P., 1897, p. 65.
129 Радожицкий Н. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год артиллерии подполковника Н... Р... М., 1835, т. 2. с. 92, 94.
130 Coignet J.-R. Op. cit, p. 232-234.
131 Correspondance... t. 26, p. 112-113.
132 Houssaye H. 1814. P., 1905, p. 121. \
133 Desbceufs Ch. Op. cit, p. 212-213.
134 Poulain J. Une lettre de soldat (1815)// Carnet de la Sabretache N 8, aout 1899, p. 512.
135 Martin J.-F. Souvenirs d'un ex-officier. P., 1867.
136 Lachouque H. Waterloo. P., 1972, p. 48..
Глава XII. ET NOS CESARE DUCE *
Курчавый мамелюк, германец бледноликий,
Поляк, летящий в боя с молниеносной пикой,
Дают его мечтам слепую мощь и ход.
Его слова - закон, а вера - дух геройский.
Идет в его победоносном войске
Всех наций доблестный народ.
В. Гюго
Была ли армия Наполеона французской? Вопрос оставляется просто абсурдным, но он вовсе не так несуразен, как может показаться на первый взгляд. Действительно, в предыдущих главах мы говорили о французской составляющей императорской армии, которая была для нее стержневой, но рассказ о Великой Армии был бы немыслим без описания другой ее части - а именно нефранцузского элемента. Значимость его менялась со временем как количественно, так и качественно. Тому, насколько важную роль играли солдаты и офицеры нефранцузского происхождения в рядах наполеоновской армии и какую эволюцию претерпели за период существования Первой Империи иностранные контингенты и полки, и посвящена эта глава.
Прежде всего мы остановимся на том, сколько всего нефранцузов сражалось в рядах наполеоновских войск. Для этого сначала необходимо отметить, что присутствие нефранцузского элемента в рядах императорской армии проявлялось в трех основных формах, а именно:
1) не французы, но подданные Французской Империи, призванные на общих основаниях под знамена и служащие в рядах «французских» полков. Это были жители так называемых «новых департаментов» - территорий современных Бельгии, Голландии (с 1810 г.), Пьемонта, центральной Италии, немецких земель левого берега Рейна;
2) солдаты иностранных полков на службе Французской Империи. Эти части формировались по очень различным принципам, о чем мы будем говорить позже, но главным для них было то, что они занимали в рядах Великой Армии особый статус и формировались из нефранцузов - поляков, швейцарцев, немцев, португальцев, испанцев и т. д.;
3) контингенты союзников Французской Империи. Эта категория была самой многочисленной и очень неоднородной по своему составу, о чем также будет идти речь ниже.
Уже одно перечисление форм, в которых иностранцы служили наполеоновскому государству, наводит на мысль, что их роль в армии Империи была далеко не второстепенной. Однако обращение к цифрам дает поистине неожиданные результаты.
* «И нас веди, Цезарь» - надпись на знаменах бергских пехотных полков.
Рассмотрим прежде всего представителей «новых департаментов». Согласно подсчетам Ж. Удайля, которые вполне подтверждаются и результатами нашего исследования, их количество варьировалось от 16,6% в эпоху Консульства до 25,6% к концу существования Империи. В общей сложности численность солдат этой категории, служивших Франции, можно ориентировочно определить в 400 000 человек.
Что касается иностранных полков, то количество служивших в них за время существования Империи можно приблизительно оценить цифрой 200 000 человек.
Самым сложным является подсчет численности союзных иностранных контингентов, сражавшихся в рядах наполеоновской армии. Полковник Карль в статье, посвященной союзным войскам в «Словаре Наполеона», приводит цифру 718 000 человек1. Эту же цифру без проверки приводит Жильбер Бодинье в монументальной «Военной истории Франции»2. Однако данное число солдат союзных контингентов явно занижено. Дело в том, что Карль для своих расчетов суммирует лишь численность контингентов, выставленных союзными государствами для той или иной кампании (да и то подчас используя неполные данные). Если для ряда временных союзников подобная система подсчета абсолютно закономерна: например, военные усилия Пруссии в пользу Наполеона строго равнялись количеству контингента, выставленного для похода на Россию, - то для таких государств, как герцогство Варшавское или Итальянское королевство этот метод неприменим. Военные силы этих государств были полностью задействованы для общей борьбы, война прошла по их территории, так что даже гарнизонные и резервные формирования так или иначе влияли на ход войны, и их нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому, если бы мы для Польши или Италии считали их вклад лишь по контингентам, выставленным для того или иного похода, для сравнения с военным усилием Франции, нам пришлось бы считать лишь французские войска, выставленные для похода за пределы Франции, что могло бы внести полную путаницу и привести к ложным оценкам. Гораздо корректнее будет в случае с государствами, полностью отдавшими свои ресурсы наполеоновской Империи, считать количество всех мобилизованных, сравнивая с общим количеством мобилизованных французов.
Именно поэтому вместо 84 800 человек, которыми Кар ль определяет военные усилия Польши и 121 000 - Италии, мы насчитываем, соответственно, 207 500 и 217 432 человека3. Данные цифры взяты из сравнительно недавних исследований историков перечисленных стран и,, без сомнения, куда точнее отражают реальность, чем цифры, приведенные в «Словаре Наполеона». Неприемлем также подсчет Кар ля в отношении Испании. Он считает, что военное усилие Испании в пользу Наполеона определяется лишь цифрой 15 000 человек, т. е. численностью корпуса Ла Романа, посланного испанским королем в качестве вспомогательного корпуса в Великую Армию в 1807 г. Однако из испанцев было составлено несколько полков в армии короля Жозефа (не путать с полком Жозефа Наполеона - иностранной части на французской службе). Эти полки официально и составляли испанскую королевскую армию, а испанцы, воевавшие на противоположной стороне, хотя их и было подавляющее большинство, рассматривались как мятежники.
В общем же, если внести ряд корректив в подсчет Карля, численность иностранных контингентов, прошедших через горнило войн Империи, можно оценить числом 1 млн. человек.
Таким образом, общее количество нефранцузов в наполеоновских войсках было следующим:
1) солдаты нефранцузского происхождения в рядах французских полков - 400 000 человек;
2) солдаты иностранных полков на службе Франции - 200 000 человек;
3) солдаты иностранных контингентов - 1 000 000 человек.
Итого около 1 600 000 человек нефранцузского происхождения сражались под знаменами Императора Наполеона. Если же мы вернемся к главе II, то увидим, что за это же время через французскую армию прошло 1 800 000 человек, жителей «старых департаментов», или, проще говоря, французов. В общей сложности мы получаем окончательную цифру солдат, так или иначе служивших Наполеону за время его правления: 3 400 000 человек, из которых 1 600 000, или 47%, были нефранцузами. Примерно полмиллиона из них были немцами, 450 тыс. - итальянцами*, 200 тыс. - поляками. Остальные 350 тыс. представляли практически все страны Европы, не исключая даже Англию и Россию (некоторое количество русских и англичан служило в иностранных полках). Совершенно очевидно, что прилагательное «французская» по отношению к подобной армии может быть применено лишь с большой долей условности. Тем не менее, подобное определение употреблялось нами в предыдущих главах. Дело в том, что присутствие иностранных контингентов в армии Империи за все время ее существования было очень неравномерным. В первые годы правления Наполеона в армии был сравнительно невысокий процент нефранцузов, а именно: 16,6% ее численности, как уже указывалось, составляли выходцы из новых департаментов, и, кроме этого, существовало небольшое количество иностранных частей на службе Франции. В кампании 1805 г. на стороне императорских войск сражаются первые союзные контингенты - итальянские войска, голландские части, баварцы... Однако роль этих контингентов в боевых действиях была незначительной, французский элемент доминировал здесь абсолютно, и не будет большой неточностью называть Великую Армию 1805 г. и даже 1806-1807 гг. - французской. Но очень скоро ситуация кардинально меняется, и армия становится все более и более интернациональной за счет прилива в ее ряды сотен тысяч иностранных солдат. Этот процесс эволюции наполеоновских войск, как мы уже указывали, и является темой данной главы.
* Здесь нет противоречия с приведенной выше цифрой 217 432 человек. Она характеризует число солдат, служивших в армии Итальянского королевства. Но еще 164 тыс. итальянцев служили во французских полках, т. к. жили в департаментах, присоединенных к Французской Империи. Около 50 тыс. итальянцев входили в число контингентов, выставленных неаполитанским королевством, наконец, несколько тысяч уроженцев Италии в иностранных полках на службе Франции - всего, следовательно, около 450 тыс. человек.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, как эти многонациональные контингента ассимилировались в едином воинском организме. Не стала ли армия Наполеона неким подобием полчищ Ксеркса (в изображении древнегреческих историков, конечно), где многочисленные разноплеменные толпы опасливо шли в бой, повинуясь ударам бичей надсмотрщиков?
Для начала рассмотрим, как служили те иностранцы, которые непосредственно были зачислены в части императорской армии (как уже отмечалось, таковых было около 400 тыс.).
Действительно, с 1811 г. «французские» полки стали представлять собой довольно необычное зрелище. Здесь наряду с французами служили бельгийцы, немцы, итальянцы, голландцы. Не составляли исключения и гвардейские части. Вот что вспоминает барон Бургуэн, молодой офицер 5-го тиральерского полка, о своей части в 1812 г.: «Во французских полках был обычай: для того чтобы скрасить монотонность долгих маршей, петь все песни, которые помнили солдаты и офицеры. Каждый край привносил что-то свое. Спетое один-два раза запоминали все... В нашей части песни Лангедока, Прованса и Пикардии соседствовали с песнями Парижа, Пьемонта и всех других областей Империи, ибо в 5-м тиральерском, как и в других полках императорской армии, служили "французы" из Генуи и Амстердама, Майнца и Эрфурта, здесь пели на всех языках и на всех наречиях...»4
Чтобы оценить, как проходили службу эти столь разные люди, мы провели анализ архивных источников, рассмотрев послужные списки более 1200 солдат нефранцузского происхождения. Одним из самых важных показателей отношения солдат к службе является процент дезертирства. Элитные части, закаленные в боях, о которых речь пойдет в следующей главе, имели лишь ничтожный процент дезертиров (см. гл. XIII), в наихудших же полках этот процент был особенно значительным. Таким образом, степень распространенности дезертирства в том или ином воинском коллективе служит хорошим показателем его качества. Другим параметром, по которому можно судить о заслугах той или иной части, является процент боевых потерь - прежде всего пропорция убитых на полях сражений. Как вполне понятно, чем больше убитых, тем более отважно сражались солдаты. Правда, в отношении последнего параметра в нашем случае нужно быть все же весьма осторожным, ведь солдаты разных наций сражались в строю одних и тех же полков, а следовательно, возможность уклониться от столкновения с врагом, при условии что остальные шли вперед, была ограниченной. Тем не менее данным параметром также не следует пренебрегать.
Итак, на основе наших подсчетов* были получены следующие результаты.
* В таблицах приводятся данные по немцам и итальянцам. К сожалению, относительно небольшое количество бельгийцев и голландцев, попавших в поле нашего зрения, не позволяет сделать серьезные выводы в отношении солдат этих наций.
Процент дезертиров и боевых потерь в зависимости от национальной принадлежности солдат
| Дезертирство, % | Потери убитыми, % | |||
| пехота | кавалерия | пехота | кавалерия | |
| Французы | 8,2 | 10,0 | 3,2 | 3,7 |
| Немцы | 7,7 | 14,0 | 5,4 | 3,8 |
| Итальянцы | 10,4 | 10,6 | 2,8 | 4,8 |
Как мы видим из этих не допускающих двусмысленности цифр, процент дезертиров мало различался в зависимости от национальной принадлежности. Исключение составили кавалеристы-немцы, в рядах которых мы констатировали несколько большую пропорцию дезертиров, чем среди их французских и итальянских коллег. Однако, возможно, это связано просто с недостаточностью выборки. И напротив, среди пехотинцев немецкого происхождения процент дезертиров даже ниже, чем среди французов. В общем же, на примере итальянцев хорошо видно, что количество дезертиров среди солдат иностранного происхождения было, конечно, выше, чем среди французов, но отличалось все- таки весьма незначительно.
Что же касается боевых потерь, они также оказались практически одинаковыми. Относительно высокий процент - 5,4% - павших в бою пехотинцев немецкого происхождения объясняется не каким-то особым героизмом немцев, а скорее относится к области случайных смещений. В общем же видно, что немецкие и итальянские новобранцы, зачисленные на службу во французские полки, сражались так же достойно, как их товарищи, родившиеся в Бургундии или Шампани.
Интересно отметить, что при этом процент уроженцев «новых департаментов», получивших нашивки капрала, а тем более сержанта, был гораздо менее значительным, чем среди тех, кто родился на территории «старой» Франции.
Процент получивших звание капрала или сержанта в зависимости от национальной принадлежности
| пехота | кавалерия | |
| Французы | 9,9 | 12,3 |
| Немцы | 3,0 | 5,5 |
| Итальянцы | 4,5 | 5,8 |
В данном случае разница очевидна и не может быть объяснена случайными причинами. Видно, что количество солдат, получивших повышение по службе, было среди немцев и итальянцев в два-три раза меньше, чем среди французов. Однако эта разница объясняется не дискриминацией в отношении «национальных меньшинств». Просто-напросто для того чтобы стать унтер-офицером, требовалось уметь читать и писать, по-французски, конечно! Последнее далеко не всегда было реально для парня, родившегося под Саарбрюкеном или Турином. За исключением этой «детали» мы не обнаружили серьезных различий в количественных характеристиках поведения солдат различных национальностей в рядах французских полков.
В. Фон Кобель. Баварские войска при осаде Бреслау в 1807 г. Фрагмент.
Наполеоновская армия обладала столь мощным моральным потенциалом, что даже те, кто без особого желания попадал в ее ряды, в скором времени увлекался общим порывом. Как известно, после присоединения Голландии к Франции в 1810 г. бывшие голландские полки были переформированы и влиты в армию Французской Империи под новыми номерами, сохранив при этом практически полностью гомогенный национальный состав. Однако, несмотря на это, их морально-боевые качества были высокими. Офицер 33-го легкого полка (бывшего 1-го егерского и 1-го батальона 6-го голландского линейного) Эвертс вспоминает о начале русской кампании: «...дух полка не мог быть лучше: у всех видно было желание схватиться с неприятелем и отличиться в бою, тем более что старые французские полки внимательно наблюдали за нами»5. Несмотря на то, что на параде в Минске маршал Даву наказал 33-й легкий полк за мародерство, приказав ему дефилировать с ружьями, повернутыми прикладами вверх (по тем временам - знак позора), часть не пала духом и покрыла себя славой в боях во время отступления. В общем же можно сказать, что мотивации солдат иностранного происхождения, служивших под трехцветными знаменами, не были столь сильными, как у их французских собратьев, тем не менее иностранцы хорошо интегрировались в ряды императорской армии и храбро сражались в течение всего периода наполеоновских войн.
Далеко не столь очевидно обстояло дело с иностранными контингентами. Их дебют в рядах армии Империи был не блестящим - и в этом сходятся практически все источники.
Первой кампанией, где войска вассальных государств присутствовали в значительном числе, был поход 1806-1807 гг. Отныне рука об руку с французами должны были сражаться немцы Рейнской конфедерации (баварцы, вюртембержцы, гессенцы и т. д.), поляки, итальянцы, голландцы... Завоевание прусской Силезии осуществлялось практически одними немецкими войсками, значительный процент составляли союзные части и в корпусе маршала Лефевра, которому была поручена осада Данцига. Почти все документы отмечают низкий моральный дух, слабую воинскую подготовку и небрежное несение службы союзными частями. Вот что писал Жером Бонапарт из Силезии: «Посты (союзников) не спрашивают пароля, часовые не осматривают проходящих... Они лежат в кордегардии и не делают ни малейшего движения при появлении иностранных офицеров... Солдаты группами по четыре-пять человек уходят ночью из расположения части и, вооружившись пистолетами, грабят несчастных жителей деревень, которых они еще вдобавок и бьют. Я приказал офицерам делать ночные переклички, но они ответили, что, несмотря на эту меру, они не могут пресечь беспорядки»6. 16 ноября 1806 г. потрясенный поведением баварцев Жером доносил Императору: «Сир, после того, как мы обстреливали крепость Глогау в течение трех дней... я решил пойти на штурм. В тот момент, когда это должно было произойти, генерал Деруа (баварский) доложил мне, что, хорошенько подумав, он пришел к выводу, что не может полностью рассчитывать на свои войска для подобного отчаянного дела, что не приученные к решительным атакам, они могут подвести в ответственный момент, и им не хватит отваги и энергии, которые обеспечивают успех» 7.
Лефевр докладывал также из-под Данцига: «Немцы склонны к дезертирству, их необходимо кормить лучше, чем французских солдат, чтобы помешать им разбежаться по окрестным деревням... Они хороши лишь только для того, чтобы пожирать продовольствие, и мало годны для штурма... Саксонцы сражаются хорошо, зато не хотят заниматься осадными работами, что же касается баденцев, то они вообще никуда не годятся, ни в работу, ни в огонь... Нужно, Сир, чтобы Вы освободили меня от всех этих людей»8.
Но на все жалобы Император невозмутимо отвечал: Вы слишком строги к союзникам, и особенно к полякам и баденцам. Они, конечно, не привыкли к огню, но это пройдет, поверьте мне. Разве мы были в 92 году такими же храбрыми, как сейчас, после пятнадцати лет войн? Вы, как старый солдат, будьте снисходительны к молодым начинающим солдатам, у которых пока еще нет вашего хладнокровия под огнем »9.
Наполеон оказался прав. Действительно, прошло немного времени, и союзные контингенты в контакте с французскими полками мало-помалу приобретут твердость и выдержку, подтянут дисциплину. В октябре 1808 г. контингент Рейнской конфедерации, высланный для поддержки французских войск на Пиренеях, вступит в Испанию. Из немцев и голландцев будет сформирована так называемая «немецкая» дивизия Леваля в составе 3-х бригад:
| 1-я бригада полковник фон Порбек (баденской армии) | 2-й полк Нассау; 2-й полк Баденской армии; Баденская батарея |
| 2-я бригада генерал-майор Шассе (голландской армии) | 1-й голландский линейный полк; 1-я рота голландских саперов; 1-я голландская батарея |
| 3-я бригада бригадный генерал Гранжан (французской армии) | 1-й батальон Парижской гвардии Гессенский полк наследного принца |
Из 4-го, 7-го и 9-го линейных полков герцогства Варшавского будет сформирована польская дивизия под командованием генерала Баланса. Позже на Пиренеи будут направлены итальянские, неаполитанские, вестфальские полки. Всего здесь будут сражаться около 70 тыс. солдат иностранных контингентов (не считая иностранных полков, о роли которых мы будем говорить отдельно).
Уже в первых сражениях Испанской кампании немецкие и польские части зарекомендовали себя совершенно иначе, чем в кампанию 1807 г.
17 марта 1809 г. дивизия Леваля, двигаясь в авангарде 1-го корпуса Виктора, подошла к плато Меса-де-Ибор, неприступной позиции, занятой испанским отрядом численностью около 6 тыс. человек. В рядах немецкой дивизии было налицо не более 3 тыс. человек, однако маршал Виктор приказал атаковать. Неприятель «...построился за речкой Ибор на отвесных кручах высотой 300-400 туазов*, - докладывал маршал королю Жозефу. - Противник защищал эту позицию со всем возможным упорством, однако должен был уступить доблести немецких войск... Перевал был усилен укреплениями, вооруженными артиллерией, нужно было дать новый бой, чтобы овладеть им. Этот бой был тяжелым и кровавым. После двух часов отчаянной схватки укрепления и семь неприятельских пушек были взяты дивизией Леваля... Везде дивизия Леваля проявила храбрость и отвагу, которой я могу воздать лишь похвалу. Ее офицеры и солдаты доказали, что они достойные союзники Франции»10. В тот миг, когда полк Нассау выходил из деревни Меса-де-Ибор, он был встречен ураганным огнем испанской артиллерии, однако «полковник Фон Крузе развернул свои батальонные колонны со спокойствием и уверенностью, которые не могли бы быть большими на учебном плацу, все фланговые вышли на линию развертывания, а фельдфебель Остерман из 1-го батальона выровнял их стакой тщательностью, что генерал Шефер даже упрекнул полковника за чрезмерную "педантичность" его унтер-офицера...»11
* Туаз - около 2 м.
И.-Р. Ругендас. Осада Данцига в 1807 г. Раскрашенная гравюра.
На переднем плане изображены баварские шеволежеры и польский улан.
Немецкие части покрыли себя славой и в битве при, где четыре каре дивизии Леваля вынуждены были отразить атаку огромных масс испанской кавалерии. Стойкость, проявленная союзниками Империи, была такова, что во французских войсках полк Нассау прозвали «живой крепостью». Прощаясь с немецкой дивизией перешедшей в 4-й корпус генерала Себастиани маршал Виктор написал генералу Левалю: «Ваша дивизия вызвала мое самое глубокое расположение... Меса-де-Ибор, Меделленом, Меридой и Трухильо, и во всех других случаях, она проявила достоинства, которые трудно переоценить»12.
11 августа 1809 г. 4-й корпус генерала Себастиани должен был атаковать испанскую армию закреппвшуюся на холмах, увенчанных старинным городком и замком Альмонасид. Себастиани приказал польской дивизии штурмовать крутой холм в лоб, а немецким войскам Леваля совершить обходной маневр. «Этот приказ, - докладывал командир корпуса коралю Испании Жозефу, - был исполнен с восхитительной точностью. Холм, который защищали 10 тыс. испанцев и 7 орудий, был взят польской дивизией в штыки под ураганным огнем врага. Атака правого крыла была не менее стремительна. Генералы Левель и Шефер (Нассау), шедшие впереди своих войск, смели все, что противостояло их напору»13. В этой отчаянной битве особенно отличились польские полки, прежде всего 7-й пехотный герцогства Варшавского. Перестроившись в каре, он отразил все отчаянные контратаки испанцев. В упорной борьбе полк потерял 11 офицеров убитыми и ранеными. Геройской смертью пал на поле боя и его командир - полковник Соболевский, Всего же польские части оставили на поле боя под Альмонасидом 1035 человек14. Как видно из этих рапортов, отныне союзные немецкие и польские полки рассматривались французскими генералами как части, достойные уважения и даже восхищения. Особенно высокую репутацию заслужили польские полки. Дивизия из войск герцогства Варшавского отличится в битве при Оканье, в боях при Сьерра-Морена. Ее подразделения будут доблестно сражаться под Малагой, Торосом, Марбеллой.
15 и 16 октября 1810 г. отряд 4-го пехотно- герцогства Варшавского численностью в 400 человек под командой майора Брониша и капитана Млокошевича отбили атаку трехтысячного англлийского десанта на форт Фуэнгирола. Доблесть поляков дала возможность французскому командованию подтянуть резервы и наголову разгромить врага, при этом начальник английской экспедиции попал в плен. Приведенный в занятый 4-м полком лагерь пленный английский генерал увидел польских солдат, впечатление от которых он записал в своем дневнике: «Меня окружила толпа офицеров и солдат, внешний вид которых вызывал ужас: у них у всех были длинные усы, лица, почерневшие от пороха, мундиры были разорваны и забрызганы кровью — все это наполняло их облик какой-то непередаваемой свирепостью»15.
В то время, когда на Пиренейском полуострове вовсю запылала затяжная и кровопролитная война, в апреле 1809 г., австрийские войска вторглись на территорию Баварии. Начиналась новая грандиозная кампания в центре континента. На этот раз на всех фронтах союзные контингенты не просто принимали участие в совместной борьбе, а играли порой решающую роль. На главном театре военных действий в Германии к началу кампании у Наполеона было около 220 тыс. солдат, из которых почти 98 тыс. выставили союзные немецкие державы: Бавария, Саксония, Вюртемберг, Баден, Берг, Гессен... В Италии австрийский натиск сдерживала 55-тысячная армия Евгения Богарне. В ее рядах было около 15 тыс. солдат Итальянского королевства. Наконец, в Польше против превосходящих сил Габсбургской монархии мужественно сражались 14 тыс. поляков и саксонцев. Если учитывать, что в Далмации занимали оборону около 14 тыс. солдат французских полков, то общие силы императорской армии к началу кампании 1809 г. составляли примерно 300-303 тыс. человек, из которых 127 тыс. были солдатами союзных контингентов. Необходимо также учесть, что среди оставшихся 176 тыс. около 20% солдат были выходцами из новых департаментов, наконец, несколько тысяч человек были солдатами иностранных полков на службе Франции. Ориентировочно можно считать, что примерно 165 тыс. солдат из 300-тысячной армии Наполеона 1809 г., т. е. 55%, были не- французами.
В самом начале кампании 20 апреля 1809 г., после первого успеха в бою под Танном, Император обрушился на австрийцев под Абенсбергом. Здесь под его командованием действовали фактически одни немецкие полки. Перед сражением полководец собрал вокруг себя офицеров баварской армии и обратился к ним с пылким воззванием: «Баварцы! Я пришел к вам не как Император Франции, а как защитник вашей страны и Рейнской конфедерации. Сегодня вы сражаетесь с австрийцами один на один. Ни одного французского солдата нет в первых рядах, они находятся в резервах, о которых врагу ничего не известно. Я надеюсь на вашу храбрость. Я уже расширил пределы вашего отечества, но я вижу теперь, что сделал недостаточно. Я сделаю вас столь великими, что вы уже не будете нуждаться в моей защите, чтобы сражаться с Австрией. Уже двести лет солдаты под баварскими знаменами поддерживают Францию и героически бьются с австрийцами. Мы пойдем на Вену и накажем Австрию за все то зло, которое она хотела принести вашему отечеству. Они хотели разделить вашу нацию и записать вас в австрийские полки! Баварцы, вы в последний раз сражаетесь с вашим врагом! Атакуйте его в штыки и сокрушите его!»16
Ж.-Б. Дебре. Наполеон обращается к баварским офицерам накануне битвы при Абенсберге 20 апреля 1809 г. © Photo RMN - Arnaudet.
Огромная (368x494 см) картина Дебре была написана по горячим следам и выставлена в Салоне в 1810 г.
После баварцев Наполеон обратился также к вюртембержцам, напомнив им об их славе под знаменами Фридриха Великого. Солдаты Рейнской конфедерации оправдали доверие Императора. В битве под Абенсбергом австрийцы были разбиты, дорога на Вену открыта. В знак признания заслуг баварских солдат в победе при Абенсберге и сразу последовавшей за ней победе при Ландсхуте Наполеон утвердил на 21 апреля в качестве пароля и отзыва по армии слова «Bravour - Baviere» («Отвага-Бавария»).
Эти первые успехи положили начало стремительной победоносной кампании, где немцы, итальянцы, поляки рука об руку с французскими солдатами будут на всем ее протяжении проявлять мужество, стойкость и отвагу. Баденцы, о которых с таким пренебрежением писал Лефевр в 1807 г., отныне дрались как львы. Под командованием юного графа Хохберга, сына маркграфа Баденского, бригада баденской пехоты приняла участие в одном из самых кровавых боев кампании 1809 г. - бое при Эберсберге. 3 мая авангарды корпуса Массена, двигаясь на Вену, подошли к бурной реке Траун, через которую был переброшен длинный деревянный мост, ведущий на правый берег в город Эберсберг. Здесь закрепился австрийский корпус генерала Гиллера. Массена решил предпринять лобовую атаку. Французам удалось прорваться через мост, но австрийские полки отчаянно контратаковали, и в городе началась дикая бойня. Бой шел за каждую улицу, за каждый дом пылающего Эберсберга. В этот момент под сильным огнем австрийцев к мосту подходили баденские части. Они могли приблизиться к переправе так, чтобы, используя естественные укрытия, избежать ненужных потерь. Но юный граф приказал идти по открытому месту, засыпаемому снарядами австрийских пушек, потому что он «не хотел, чтобы баденская пехота в то время, как она первый раз шла на врага в этой кампании, использовала укрытие. Это могло бы вызвать подозрение в недостатке доблести и помешало бы ей быть немного обстрелянной перед решающей схваткой»17. Около 16 часов баденский егерский батальон, шедший в авангарде, ворвался в Эберсберг, превратившийся в огромное пожарище. В этот момент австрийцам удалось отбросить 26-й легкий полк - еще немного, и он мог быть полностью уничтожен, однако решительная атака немецких союзников решила дело. «Вы спасли мою жизнь и честь!» - воскликнул французский полковник, обращаясь к доблестным баденским егерям.
Всего лишь через несколько дней, 17 мая 1809 г., настал черед отличиться вюртембержцам. Это было под Линцем, где небольшой вюртембергский отряд (5500 пехоты, 200 кавалеристов и 6 орудий) при достаточно символической поддержке саксонских час-, тей разбил значительно превосходящий по численности австрийский корпус под командованием Коловрата-Краковского - 18 000 пехоты, 1400 кавалеристов при 50 орудиях.
В блистательной конной атаке шеволежерский полк принца Людвига ворвался на австрийскую батарею и захватил 6 орудий. Стремительные действия вюртембержцев поддержали саксонские гусары и шеволежеры, которые помогли своим товарищам по оружию закрепить достигнутый успех.
Во время этой атаки произошел курьезный случай. Дело в том, что вахмистр Вайс из полка принца Людвига служил до 1805 г. в австрийской армии и перенес немало несправедливых наказаний от одного из полковых офицеров. После заключения Пресбургского мира территория, откуда был родом Вайс, отошла к Вюртембергу, и он стал служить в полку шеволежеров принца Людвига. Во время блистательной атаки вюртембергских шеволежеров Вайс увидел в рядах неприятельской пехоты офицера, в котором узнал своего обидчика. Австрияк, некто Винциан, успел уже дослужиться до высокого чина и командовал полком Манфредини. Вахмистр бросился на отделившегося на какое-то время от своих полковника и сумел взять его в плен. За этот подвиг вахмистр Вайс был произведен в офицеры18.
21-22 мая 1809 г. в знаменитой битве при Эсслинге снова блистательно зарекомендовали себя немецкие союзники, на этот раз гессенцы, поддержанные уже упомянутой нами баденской бригадой. На долю этих войск выпала задача оборонять деревню Асперн от многократно превосходящих по численности австрийцев. Вот как описывает знаменитый историк кампании 1809 г. и ее активный участник генерал Пеле эту героическую оборону: «Массена, то на коне, то пеший, со шпагой в руке ободрял всех пламенным взглядом. Он водил солдат в атаку и руководил обороной. Вокруг него падали убитые и раненые адъютанты, но пули словно щадили "любимое дитя победы". Во главе неустрашимых 26-го и 18-го полков, доблестных гессенцев и баденцев, маршал не прекращал сражаться с окружавшими его австрийцами. Французы превзошли здесь самих себя, а иностранные части старались сравняться с ними в отваге»19. Пылающий Асперн переходил из рук в руки. Когда в деревню в очередной раз ворвались австрийцы, несколько стрелков гессенского лейб-полка оказались отрезанными от своих. Командование над этой группой принял простой горнист по фамилии Вальц. Гессенцы забаррикадировались в каменном доме и мужественно отражали яростные атаки врага. Когда австрийцам все же удалось выломать двери и ворваться внутрь, Вальц, уже раненый, перевел оставшихся в живых товарищей на второй этаж. Горстке храбрецов удалось продержаться там до тех пор, пока австрийцы не были в очередной раз выбиты из Асперна.
Планшет 42. Вюртемберг. Шеволежеры принца Людвига: офицер, рядовой и трубач 1808-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Н.-А. Тоне, Штурм Эберсберга З мая 1809 г. © Photo RMN - G. Blot / J. Schormans.
Ф. Жерар. Жером Бонапарт (1784-1860), король Вестфалии.
В то время, как пехота Рейнской конфедерации храбро защищала Асперн, немецкая кавалерия вместе с французской без устали ходила в атаки, чтобы прикрыть слабый центр наполеоновской армии. В этих атаках также отличились гессенцы (шеволежеры) и баденцы (легкие драгуны).
Признавая огромные заслуги союзных полков, Император посетил 29 мая гессенские части на о. Лобау, и двадцать два креста были лично вручены им отважным немецким солдатам. Был награжден и уже известный нам горнист Вальц и его товарищи, оставшиеся в живых.
Впрочем, было бы, без сомнения, неверно утверждать, что с 1809 г. немецкие и другие союзные части стали неразрывной составляющей единой императорской армии и их боевые качества равнялись таковым у французских полков. Если баденцы, гессенцы и вюртембержцы повсюду вели себя безупречно, ни в чем не уступая своим французским товарищам по оружию, то были и другие, если и отличившиеся, то, скорее, в отрицательном смысле. Прежде всего это относится к молодой вестфальской армии.
Как известно, Вестфальское королевство было создано на северо-западе Германии по условиям Тильзитского мира из земель, отторгнутых от Пруссии, а также из ликвидированного Брауншвейга и Гессен-Кассе- ля. Королем вновь созданного государства стал самый молодой из братьев Наполеона - Жером. По настоянию Императора на этих землях были проведены самые радикальные либеральные реформы. Его целью было превращение Вестфалии в некое «государство-образец» со стройной административной системой, хорошо организованной налоговой службой, эффективным судопроизводством и передовой экономикой, и за счет этого покорить сердца немцев «моральным завоеванием», одновременно дав пример для других германских земель. Однако по целому ряду обстоятельств эксперимент с Вестфальским королевством дал весьма посредственные результаты. Виной тому сложный комплекс причин, среди которых самой бесспорной была неспособность юного Жерома управлять вверенным ему государством. Что же касается армии, то хотя ее формирование началось буквально с первых месяцев существования королевства, процесс этот шел, мягко говоря, очень непросто. Дело в том, что сила традиций в создаваемой армии начисто отсутствовала, ее пришлось набирать из самых разнородных элементов. Особенно были слабы командные кадры, состоявшие из смеси бывших прусских, гессен-кассельских и ганноверских офицеров, в ряды которых были влиты также выходцы из французской армии, часто далеко не самые лучшие. Трудно шел и процесс конскрипции, враждебно воспринятой населением. Наконец, молодой, любящий удовольствия король думал прежде всего о внешнем облике войск, а не об их боеготовности. Несмотря на все наставления царственного брата, Жером тратил деньги на чрезмерно роскошную униформу Гвардии и на дорогостоящий кирасирский полк, хотя Наполеон и предупредил его, что создание тяжелой кавалерии будет непосильным бременем для маленького королевства. Наконец, на войну король отправился в сопровождении пышной свиты, комично диссонирующей с размерами и возможностями его королевства. «Во время нашего вступления (в Лейпциг), — рассказывал один из вестфальских офицеров, - я в первый раз получил представление о том, какое огромное количество лошадей, карет, пеших слуг и прочего бесполезного багажа король вез за собой. Я слышал, что кроме камергеров и других придворных бездельников были взяты с собой в поход даже комедианты и танцоры!»20
А вот что написал Жерому Император: «Профессия солдата - это не профессия придворного. Я был едва в Ваших годах, когда завоевал всю Италию и разбил австрийские армии... Но вокруг меня не было льстецов, не было дипломатического корпуса, который бы я таскал за собой. Я не говорил повсюду, что я брат Императора, короля и т. д., а занимался тем, что бил врага... Вы же избалованный молодой человек, хотя и наделенный многими врожденными качествами. Боюсь, что от Вас не дождаться ничего хорошего...»21
В результате вестфальские войска, прямо скажем, не блистали на поле брани. Сам король докладывал о поведении полков его армии в бою с «черным» брауншвейгским легионом под Эльперном в августе 1809 г.: «Едва только колонна (пехоты) оказалась в зоне огня брауншвейгских егерей, засевших за заборами, ее уже невозможно было ни двинуть вперед, ни развернуть в линию. Командирам стоило большого труда не дать солдатам побросать оружие и сдаться в плен... Мой 6-й линейный полк и второй батальон 1-го были столь запуганы огнем врага, что генералу Ревбелю не удалось занять деревню Эльперн, хотя он три раза становился во главе этих частей и три раза вел их в огонь. Этот достойный командир, отчаявшись, повел за собой бергский пехотный полк и полк Вестфальских кирасир, с которыми он взял штурмом деревню. Последние полки действовали с особым отличием, ибо они находились среди двух полков, не желающих идти вперед. Все, что удалось сделать генералу Ревбелю в отношении 6-го линейного и второго батальона 1-го полка, - это не дать им разбежаться... Единственное, что как-то извиняет поведение 1-го и 6-го полков - то, что никто из солдат, их составляющих, не был в огне, а половина даже ни разу не стреляла из ружья»22.
Не слишком блестящими в ходе кампании 1809 г. были и действия саксонской пехоты. Армия короля Фридриха Августа саксонского, ставшего с 1806 г. верным союзником Наполеона, сохранила многие архаичные черты войск XVIII в., от системы комплектования и тактики до старомодной униформы, напоминавшей времена Фридриха Великого. Если в кавалерии это в значительной степени компенсировалось прекрасным конным составом и хорошей профессиональной выучкой всадников, то саксонской пехоте восполнить такие недостатки было нечем, и она проявила себя в этой войне как весьма посредственная. Маршал Бернадотт доносил 6 мая 1809 г. начальнику генерального штаба Бертье: «Каждый день я чувствую с еще большей ясностью, насколько важно, чтобы саксонская армия была подкреплена более испытанными войсками, которые могли бы стимулировать ее боевой дух. Это мне кажется необходимым, особенно если вверенный мне корпус должен будет маневрировать изолированно на фланге Великой Армии»23. А 28 мая он писал: «Саксонцы, я повторяю, не способны действовать самостоятельно, и я не могу рассчитывать ни на одного из их генералов для отдельной операции...»24 Впрочем, мы должны подходить осторожно к данному источнику, хотя он, безусловно, относится к рассматриваемому периоду и исходит из самых первых рук. Дело в том, что автор этих писем был слишком заинтересованным лицом и, как известно, мало стеснявшимся, когда дело касалось его личных выгод. Изображая саксонцев в самом неприглядном виде, Бернадотт рассчитывал получить солидные подкрепления и тем самым повысить свой престиж полководца, чего он всегда и добивался. С другой стороны, в случае какой-либо неудачи ловкий гасконец заранее имел алиби - низкое качество вверенных ему войск. Кстати, в рапорте непосредственно Императору об уже известном нам бое под Линцем Бернадотт доносил, что «саксонская пехота атаковала врага с яростным напором»25.
Тем не менее приведенные выше документы не совсем лишены оснований. В ходе битвы при Ваграме саксонский корпус два раза охватывала паника. Император, бывший свидетелем бегства саксонской пехоты днем 6 июля 1809 г., пришел в ярость и в резкой форме сделал выговор Бернадотту... Впрочем, этот эпизод стал уже общим местом, и о нем упоминают практически все французские военные историки, хотя бы как- то затрагивающие в своих работах австрийскую кампанию, обычно заканчивая описание данного происшествия сентенциями о том, что армия 1809 г. стала уже не та, и все это прежде всего из-за низкого качества союзных контингентов. Действительно, саксонцы, прямо скажем, не увили себя лаврами в великой битве при Ваграме, и приказ Бернадотта по корпусу, данный 7 июля в Леопольдау, где он превозносил отвагу саксонцев («Несмотря на огромные потери от огня вражеской артиллерии, ваши колонны стояли, словно отлитые из бронзы...»26), вызвал дополнительный взрыв гнева Наполеона и привел в конечном итоге к тому, что Бернадотт лишился командования и был отослан из армии «для лечения на водах».
Однако, прежде чем сваливать все просчеты на союзных солдат, необходимо уточнить те обстоятельства, которые вызвали панику в саксонском корпусе.
Вечером 5 июля, после того как в ночь с 4 на 5 число армия форсировала Дунай и в течение дня развернулась на Мархфельдской равнине, Император приказал атаковать австрийцев, ожидавших его наступления на сильнейших позициях. Французские и союзные войска были измотаны ночным форсированием реки, тяжелым маршем и боем 5 июля. К тому же они не полностью собрались у подножья неприятельских позиций. Напротив, австрийцы в полном сборе и в полной готовности стояли на высотах за Руссбахским ручьем. В этой ситуации атаковать их слабейшими по численности силами, в то время как на следующее утро, подтянув все полки, можно было сделать это превосходящим числом, было явно неразумно. Однако Император принял подобное решение. Почему? Приказы в этот вечер отдавались в устной форме, и мы не можем точно восстановить не только их мотивы, но даже форму. Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что Наполеон считал: стоит лишь предпринять последний натиск, чтобы превратить отступление врага в бегство. Трудно сказать, насколько такой вывод напрашивался из результатов боя 5 июля, но с высоты наших сегодняшних знаний мы можем уверенно сказать, что данная оценка ситуации не соответствовала истине. Французские дивизии атаковали недостаточно скоординированно, и хотя на первых порах потеснили австрийцев, в скором времени были отбиты с большими потерями. Интересно, что главная атака саксонского корпуса началась уже после того, как французские части, оставив груды трупов на плато, откатились обратно за ручей Руссбах. Несколько раньше основных сил саксонского контингента в дело вступила франкосаксонская дивизия Дюпа, действовавшая в стыке 9-го корпуса Бернадотта и 2-го корпуса Удино. В то время как в сгущающихся сумерках австрийские части с жаром контратаковали дивизию, с тыла на помощь ей подходили войска Итальянской армии Макдональда.
Однако в почти что наступившей темноте французы, увидев белые мундиры саксонцев, приняли их за врага и открыли ураганный огонь в тыл батальона Метцша. Совпав по времени с контратакой австрийских войск, эта ошибка вызвала панику в рядах дивизии Дюпа, и она побежала назад... или, еще точнее, в разные стороны.
Что же касается атаки главных сил саксонцев, то она происходила почти что впотьмах. Здесь, во время штурма деревни Ваграм, саксонцам пришлось столкнуться с превосходящими силами врага, и путаница, вызванная неподготовленностью наступления и темнотой, привела к тому, что дивизия Хартицша стала обстреливать и штурмовать деревню, уже занятую своими же войсками! Результат предугадать не трудно - в страшной неразберихе саксонская пехота отхлынула на исходные позиции.
Взятие кладбища в Асперне австрийской пехотой. Раскрашенная гравюра по картине Ф. Хабермана. Картина написана австрийским художником, современником событий.
Необходимо отметить, что в ходе этого странного боя примерно девять тысяч саксонцев сражались против чуть ли двойного числа австрийцев, что паника возникла не столько из-за плохих боевых качеств немецких солдат, а вследствие путаницы, возникшей в темноте. Наконец, нужно добавить, что некоторые французские отряды, например дивизия Ламарка, отступали не в лучшем порядке.
Саксонцы, потерявшие в ходе вечернего сражения около трети солдат, имели к утру генерального сражения едва ли более шести тысяч пехотинцев в строю. Важно также, что эти люди понесли не только материальные потери, но и были морально подавлены неудачным боем. Поэтому, когда наутро им снова нужно было идти в атаку на превосходящего по численности неприятеля, они не выдержали. Мощная контратака австрийских войск обратила саксонские полки в паническое бегство. К счастью для пехотинцев, саксонская кавалерия никоим образом не была надломлена в ходе боя 5 июля. Напротив, ее атаки во время дневного наступления были просто великолепными. Это дало возможность успешно использовать имевшиеся под рукой саксонские конные части и спасти пехоту от полного истребления.
Общие потери саксонцев за два дня боев были исключительно тяжелыми: 603 человека убитыми, 2777 ранеными и 1358 пропавшими без вести - т. е. 4238 человек из девяти тысяч.
Приведенные факты, как нам кажется, вполне доказывают, что, если в битве при Ваграме саксонская пехота и не стояла «как отлитая из бронзы», все же ее неудача объясняется скорее просчетами высшего командования, чем собственной слабостью. Кстати, в день 6 июля не только саксонские полки поддались панике. Австрийцам удалось обратить в бегство часть дивизии Карра Сен-Сира и часть дивизии Буде. Факт паники саксонской пехоты говорит прежде всего о том, что противник стал куда более серьезным, чем в кампании 1805 - 1806 гг., и победа над ним давалась дорогой ценой.
Война 1809 г. стала памятной не только для немецких союзников. В этот же год впервые прошла самостоятельное боевое крещение -молодая армия герцогства Варшавского, ставшего оплотом наполеоновской Империи на востоке Европы. Польские солдаты рассматривали войну с Австрией как справедливую борьбу, как защиту Отечества от вновь пытавшихся поработить его врагов. С началом боевых действий князь Юзеф Понятовский обратился к своим войскам с пылким воззванием: «Государство, которое мы ничем не затронули; соседи, империю которых когда- то спасли наши предки, ворвались на нашу территорию и смотрят на нас, как на орду без Отечества и правительства. Враг желает оторвать нас от дела нашего великого освободителя и говорит, что воюет только с Императором Наполеоном ... Слабость недостойна поляков! Пожертвуем всем, чтобы защитить нашу Отчизну и нашу честь... Подымайтесь же... помогайте нашей армии защищать родные очаги! С верой в Бога и в помощь Великого Наполеона будем биться за Отечество... закроем нашими телами то, что для человека дороже всего - его независимость и его права!»27
Князь Юзеф Понятовский (1763-1813). Понятовский изображен в мундире генерала армии герцогства Варшавского.
И польские солдаты откликнулись на этот призыв. Они дрались с беззаветной отвагой. Под Рашином 19 апреля 1809 г. в самом начале кампании 12-тысячное польское войско, поддержанное двумя тысячами саксонцев, весь день сдерживало упорные атаки тридцатитысячной армии эрцгерцога Фердинанда. Героическая оборона Торна, упорные бои под Сандомиром и отчаянный штурм Замостья поистине вошли в легенду. Под Замостьем польские солдаты должны были штурмовать по лестницам город, защищаемый тремя тысячами австрийцев. Когда авангард первой колонны поляков подступил к стене бастиона, гренадеры заколебались. Перед ними была десятиметровая отвесная стена, не поврежденная артиллерией. Первый из гренадеров, которого капитан Дэн послал лезть по лестнице, отказался выполнить приказ... и тотчас был убит на месте решительным командиром. Остальные ринулись вперед столь напористо, что австрийцы не выдержали и бежали. Польские солдаты ворвались в крепость. 500 австрийцев было убито или ранено, оставшиеся 2500 взяты в плен.
Однако поляки не ограничивались отважным поведением на поле брани. Князь Понятовский активно набирал новые войска, поднимал на борьбу уроженцев польских земель, еще находившихся под властью Австрии. В результате к концу кампании 1809 г. общая численность польской армии (учитывая солдат в госпиталях, гарнизоны, а также три полка, сражавшиеся в Испании) составляла 62 135 человек!28
Победа Наполеона в кампании 1809 г. была бы просто немыслима без поддержки союзных войск, которые, как видно из приведенных примеров, сражались в общем достойно, а иногда и просто героически. Иностранные контингенты все более интегрировались в рядах наполеоновских войск. Император интуитивно нащупал разумный метод привлечения союзников к общей борьбе. С одной стороны, для солдат ряда государств австрийцы выступали явно в роли агрессора, что и подчеркивалось в обращениях к войскам. Баварцы, саксонцы, итальянцы, не говоря уже о поляках, защищали свою собственную территорию, и это в большей или меньшей степени давало им побудительную мотивацию к борьбе. С другой стороны, все иностранные контингенты действовали фактически в рядах единой военной машины*. Обычные в коалиционных армиях противоречия между командованием войск различных государств, каждое из которых служит интересам политики своего правительства, часто совершенно противоположным, здесь начисто отсутствовали. Наполеон был безоговорочным вождем этой пестрой мозаики европейских полков. Он отдавал приказы саксонским, баварским, итальянским, вюртембергским и прочим войскам, не спрашивая, что об этом подумают министры в Дрездене, Мюнхене, Милане или Штутгарте, выказывал благодарность и порицал, награждал солдат и офицеров французскими и итальянскими орденами. При этом безоговорочном лидерстве французское командование большей частью соблюдало по отношению к союзникам безупречный такт и корректность. Все это приводило к тому, что войска разных европейских стран взаимно притирались друг к другу, привыкали сражаться вместе, все больше рассматривая как верховного начальника не своего монарха, а императора Наполеона, а себя как воинов Великой Империи.
* Исключение составляет, разумеется, контингент, выставленный на помощь Наполеону Россией в соответствии с союзным договором. Несмотря на его солидную численность (около 30 тыс. человек), он фактически не осуществил ни одной военной операции против австрийцев и, напротив, оказался на грани столкновения с войсками Юзефа Понятовского.
Как уже отмечалось, победа в кампании 1809 г. и последовавшие за ней заключение Шенбрунского мира и бракосочетание Наполеона с австрийской Эрцгерцогиней Марией-Луизой весной 1810 г. явились факторами, способствовавшими повороту политики Императора, все более тесному сплочению европейских держав и постепенному созданию единой Империи Европы, что, разумеется, не могло не находить отражения и в военном строительстве.
Надо отметить, что политика Наполеона неоднозначно воспринималась гражданским обществом стран, входивших в орбиту французского владычества. Произвольные аннексии Империи, поглощение ею Голландского королевства в июле 1810 г., захват Римской области в мае 1809 г., присоединение ганзейских городов и Ольденбурга весьма беспокоили пока еще формально независимых монархов. Крайне отрицательно были встречены буржуазией и народными массами мероприятия Наполеона по усилению континентальной блокады, приводившему к застою торговли и разрухе Во многих отраслях хозяйства, повышению цен на кофе, сахар, индиго и другие «колониальные» товары. Однако, наряду с этими отрицательными моментами, наполеоновское владычество принесло в Германию и Италию гражданское равенство, рациональную администрацию, модернизацию экономики. «Нужно, чтобы Ваш народ был счастлив, - писал Наполеон своему брату Жерому. - Это важно не только для Вашей и моей славы, но и для всей европейской системы. Не слушайте тех, кто говорит Вам, что Ваш народ привык к рабству и поэтому будет неблагодарен за дарованную свободу. В Вестфальском королевстве люди более просвещенные, чем Вас хотят убедить, и Ваш трон будет лишь тогда действительно надежным, когда будет опираться на доверие и любовь населения. Народы Германии жаждут, чтобы те, кто не родился дворянином, но наделен способностями и талантами, обладали теми же правами и теми же возможностями получить высокие посты, чтобы все остатки крепостного права... были полностью уничтожены... И если уж сказать все, что я думаю, то: я надеюсь больше на эти преобразования для укрепления Вашей монархии, чем на самые большие военные победы. Нужно, чтобы Ваш народ пользовался свободой и равенством, до этого неизвестными в Германии... Этот способ править будет для Вас более надежной зашитой, чем рубеж Эльбы, чем крепости, и даже более, чем покровительство Франции»29.
Нельзя забывать также, что, оценивая отношение иностранных контингентов к их присутствию в рядах императорской армии, совершенно невозможно делать это с вульгарно экономических позиций. Если для какого-нибудь любекского бюргера или миланского фабриканта перебои в снабжении сырьем текстильной мануфактуры и повышение цен на кофе могли составить всю суть и трагедию жизни, то для молодого немецкого или итальянского офицера эти вопросы имели, самое большее, - третьестепенное значение. Карло Цаги в монументальном исследовании «Италия - от Цизальпийской республики до Королевства» очень хорошо обрисовал мотивы, заставлявшие солдат и офицеров с энтузиазмом сражаться в войсках Наполеона. Эти же мотивы, конечно, с поправкой на местную специфику, действовали и относительно немецких, голландских и польских солдат: «Порыв, который вовлек столько молодых людей в наполеоновскую армию и сковал их верностью, редко встречающейся в истории, объясняется многими причинами морального, социального и психологического порядка. С одной стороны, военная карьера рассматривалась как кратчайший путь для восхождения к вершинам социальной иерархии, а для простого солдата как средство политического и гражданского самоутверждения. С другой стороны - это увлекательность приключений и восторженное чувство силы, которую давало присутствие в наполеоновском войске, проходившем победоносным маршем по Европе, сокрушая троны и алтари, повергая в прах старую Европу и создавая новую на иных основах... Это уверенность солдат в том, что они сражались за правое дело, против социальной несправедливости феодального общества, это и культ Императора, доблестного и справедливого воителя, вознаграждавшего все заслуги... Это гордость солдат и офицеров за то, что они принимают участие в великих делах, составивших целую эпоху в истории, и за то, что они сражались под знаменами Наполеона Великого.-Наконец, это просто увлечение войной ради войны, войны, которая рассматривалась многими из них как необычайное приключение в далеких краях... и, наконец, - у наиболее образованных - это чувство что они трудятся ради новой Европы ... и что они готовят лучшее будущее для своих детей» 30.
Вспоминая итальянских солдат, нельзя не отметить, что годы, прошедшие между Австрийской кампанией 1809 г. и войной 1812 г. были временем, когда армия Итальянского королевства стала мощной боевой силой в рядах императорского войска. В продолжавшейся борьбе на Пиренеях итальянские солдаты все органичнее врастали в единый воинский организм, становясь закаленными в сражениях бойцами. К этому времени от начала создания армии Итальянского королевства они прошли поистине огромный путь. Рассказывают, что когда итальянские контингенты, только что собранные, были употреблены в бою, они бросились врассыпную при первом же выстреле вражеской пушки. Командовавший ими французский генерал попытался остановить бегущих. На мгновение остановленный начальником улепетывающий солдат с возмущением воскликнул, указывая в сторону неприятеля: «Но, сеньор генерал, там же пушка!»
Миновало всего лишь несколько лет. Итальянские полки прошли суровую школу войн, и маршал Сюше с восторгом и удивлением будет рассказывать другой эпизод, связанный с итальянскими солдатами, произошедший у него на глазах в 1811 г. во время штурма знаменитой твердыни Испании - крепости Таррагона: «Этот решающий момент был отмечен отважным поступком, который достоин быть упомянутым среди великих подвигов, вошедших в историю. Во время взятия форта Оливо (за несколько дней до штурма крепости) капрал гренадеров 6-го итальянского пехотного полка Бьянчини захватил в плен прямо у подножия крепостной стены несколько испанских солдат, и сам привел пленных к главнокомандующему. Тот, восхищенный отвагой гренадера, спросил, какую награду он хочет получить? - "Честь первым пойти на штурм Таррагоны", - ответил Бьянчини. Командующий, признаться, подумал, что это были лишь красивые слова, но это были слова истинного высокого героизма. 28 июня, перед началом штурма, храбрец, ставший уже к тому времени сержантом, вдруг в полной парадной форме появился перед главнокомандующим. Он отсалютовал генералу и заявил, что пришел получить обещанную награду. Действительно, бесстрашный сержант пошел первым на штурм крепости. У подножия бреши он получил рану, но продолжал с хладнокровной отвагой лезть вперед, увлекая за собой товарищей. Поднимаясь вверх, он был ранен еще два раза, но не остановился, пока не погиб смертью героя, получив пулю в грудь»31.
Вообще, итальянские солдаты под командой Сюше сражались с редкой храбростью. Маршал писал о боях под Таррагоной: «Дивизии Ариспа и Абера*, Фрера** и Паломбини*** выказали преданность, постоянство и восхитительную отвагу. Польские и итальянские войска ничем более не отличались от французских»32.
Впрочем, когда мы говорим «итальянские войска», мы имеем в виду войска Итальянского королевства. Неаполитанские части представляли собой довольно своеобразную картину. В отличие от вестфальской армии или армии Итальянского королевства, созданных с «чистого листа» и не имевших своих военных традиций, неаполитанская армия таковые имела... к несчастью. Войска бывшего Неаполитанского королевства Бурбонов считались в конце XVIII - начале XIX вв. чуть ли не худшими в Европе. Престиж военной службы здесь был на самом низком уровне, а само королевство, управляемое ничтожным безвольным королем и развратной уродливой королевой, представляло собой сосредоточение всевозможных злоупотреблений и пороков. Армия набиралась в Неаполе из подонков общества, а часто и просто из уголовников. На основе такого «базиса» создать что-либо достойное было очень непросто. Все источники единодушны: неаполитанские войска, по крайней мере, в первых кампаниях, где они участвовали, являли собой безобразную картину, тем более что в полки и при Жозефе Бонапарте, и при Мюрате продолжали записывать всякий сброд. «Эти солдаты были набраны во всех тюрьмах королевства, ибо именно там ранее неаполитанский король пополнял свои войска. Потому они были наделены всеми пороками опустившихся людей, судьба которых - всю жизнь сидеть за решеткой...»33- писал генерал Бигарре, которому пришлось вести из Неаполя «подкрепления» войскам, сражавшимся в Испании. Он рассказывает также, что «неаполитанские солдаты столь порочны, что в ночное время я вынужден был оставлять свет во всех казармах и требовал, чтобы капралы, вооружившись плетками, время от времени обходили помещения, дабы не дать старым солдатам утолить свои грязные желания, издеваясь над молодыми новобранцами, только что включенными в полк» 34.
* Французская дивизия.
** Франко-польская дивизия.
*** Итальянская дивизия.
«Король Жозеф хотел бы обойтись без того, чтобы делать солдат из этих подонков, - продолжает Бигарре, - но число их столь велико в королевстве, и их безденежье столь опасно для государства, что не нашли никакого другого способа, чтобы от них отделаться. Только с помощью суровой дисциплины мне удалось укротить эти дурные головы, но, что бы ни предпринималось для искоренения у них привычки к воровству, ничего не помогало. В Мантуе, где они находились некоторое время, не проходило и дня, чтобы у французских новобранцев не было украдено часов или денег»35.
Генерал Гриуа, которому также пришлось иметь дело с неаполитанцами, почти слово в слово повторяет эту характеристику, рассказывая о том, как ему пришлось подавлять бунт среди галерников, которых он вел на пополнение неаполитанских полков: «Наиболее буйные из них... подняли бунт: они хотели, погасив свет, наброситься на охрану, перебить ее и убежать. Но охранники вовремя вышли из помещения и заняли оборону. Тогда, видя, что их план не удался, они, используя темноту, набросились на своих же, чтобы отнять у них вещи и деньги, а некоторые чтобы утолить свою похоть на самых юных, как это принято в их кпаю...»36
Все французские генералы, которым пришлось командовать неаполитанцами, в один голос жаловались своему командованию. В результате, узнав о том, что очередной маршевый батальон неаполитанских войск, направленный в Испанию, состоит все из того же сброда, Император пришел в ярость. 6 августа 1810 г. он отдает категорический приказ остановить его и провести инспекцию «с пристрастием». «Я вовсе не желаю наводнять Каталонию плохими солдатами и пополнять шайки разбойников. Если этот батальон составлен из галерников и бандитов, если его солдаты плохо обмундированы и вооружены, его необходимо отослать обратно в Неаполь. Напишите королю, что мне не надо новых неаполитанских войск в Испании и что мне вообще их не надо»37.
Впрочем, несмотря на эту презрительную фразу, продиктованную в гневе, неаполитанские войска, под влиянием контакта с другими императорскими полками, постепенно подтягивались. И, хотя они так и не стали полностью ровней своим французским и итальянским собратьям по оружию, но все же явно изменились. Генерал Флорестан Пепе, которому пришлось командовать неаполитанскими контингентами в Испании, рассказывал о первой встрече с вверенными ему частями: «Построив войска в линию за стенами Сара- госсы, я проехал вдоль их рядов и увидел, что их воинственный вид впечатляет. Однако когда я приказал совершить самые простые перестроения, они были исполнены очень дурно. У солдат не было индивидуальных книжек, и следовательно, в полках отсутствовала какая-либо бухгалтерия... Если два эскадрона неаполитанской кавалерии производили достойное впечатление, и у них не было особых недостатков, то три полка, составлявшие шесть пехотных батальонов, были в жутком виде: они были плохо одеты, шли в беспорядке, и за ними тащилось столько же, если не больше, женщин, сколько в них было солдат»38.
Однако волевой командир решительно взялся за дело, и ему удалось добиться немалых результатов: «Хотя это непростая задача - дисциплинировать итальянские войска, однако, когда в этом добиваются успеха, то части изменяются неузнаваемо, и от них можно ожидать редкого порыва во всех самых опасных предприятиях» 39.
Умелое и энергичное руководство преобразило неаполитанские войска. Строгий маршал Сюше, в армию которого они тогда входили, провел тщательный смотр восьмому неаполитанскому полку и был весьма удовлетворен: «Он проверил солдатские книжки, осмотрел униформу и задал солдатам тысячу вопросов, - рассказывает Пепе. - Я увидел с невыразимым удовольствием его удивление. Униформа моего полка - белая с розовым приборным сукном - цвета, выбранного королем Иоахимом, подчеркивала загорелые и воинственные лица моих солдат. Казалось невероятным, что, отчаянно сражаясь, они смогли сохранить свою униформу столь чистой и ухоженной»40.
В приказе на день по армии от 5 июля 1812 г. Сюше объявил: «Маршал герцог Альбуфера... заметил с удовольствием, что войска (неаполитанские) во многом изменились, особенно в том, что касается состояния солдат. Полковник Пепе с момента своего прибытия сумел восстановить дотоле неизвестный в части порядок в полковой бухгалтерии... и обеспечить солдат всем необходимым... Г-н маршал надеется, что прилежание и упорство командира улучшит также степень обученности полка, который своей храбростью немало способствовал успехам Арагонской армии»41.
Время, к которому относится последний из приведенных документов, стало поистине пиком интернационализации наполеоновских войск. Однако прежде чем говорить о Великой Армии 1812 г., мы должны посвятить несколько страниц третьей нефранцузской составляющей войск Империи, а именно иностранным полкам, ибо их роль в кампании 1812 г. будет тесно переплетаться с ролью иностранных контингентов.
Иностранные полки на службе Франции не представляли собой в эпоху Империи ничего нового, и, более того, традиции подобных формирований продолжаются и в настоящее время в виде широко известного «иностранного легиона».
Накануне Революции в королевской Франции было 23 иностранных пехотных полка (11 швейцарских, 8 немецких, 3 ирландских, 1 льежский), а также полк швейцарской гвардии и ряд кавалерийских частей.
Присутствие иностранцев в европейских армиях XVII-XVIII вв. было, скорее, правилом, чем исключением. Тогда говорили, что, принимая на службу иностранца, выигрываешь втройне: получаешь солдата для своей армии, сберегаешь жителя своей страны и отнимаешь солдата у врага. Но если в Пруссии иностранцы включались в состав обычных полков, во Франции они выделялись в отдельные формирования. Эта традиция не была прервана и в эпоху Великой французской революции. Хотя королевские иностранные полки были распущены, в республиканской армии появился ряд довольно экзотических формирований из иностранцев, таких как Легион северных франков, Аллоброгский легион, батальон Вольных кассельских егерей, Вольный иностранный легион и т. п. Эти формирования были большей частью эфемерными, как, например, Германский легион, созданный по инициативе «представителя рода человеческого» Анахарсиса Клоотса 4 сентября 1792 г. и распущенный 27 июля 1793 г. Зато некоторые из них оказались очень эффективными. Прежде всего это так называемый «Польско-италийский легион», созданный по инициативе польского генерала Домбровского и при поддержке Бонапарта в январе 1797 г. Эта легендарная часть стала не просто воинским формированием, а целой эпохой в истории. С нее начнется воссоздание польских войск и, более того, возрождение Польши. Именно в этом легионе, на знаменах которого было начертано «Gli uomini libri sono fratelli» («Все свободные люди - братья») родилась боевая песня - «Мазурка Домбровского». «Еще Польша не погибла, коль живем мы сами...» - эти слова облетели всю Европу, а сама песня много лет спустя станет государственным гимном Польши...
Итак, использование иностранных полков на службе Франции в эпоху Империи не было чем-то новым, а продолжало прочно укоренившуюся традицию. Для того чтобы осветить все подробности их формирования и боевого пути, потребовалось бы многотомное исследование, поэтому мы ограничимся здесь основными, важными для понимания всей эпохи, характеристиками иностранных частей (их полный список приведен в Приложении V).
Для начала необходимо отметить их чрезвычайную разношерстность. Иностранные формирования в течение эпохи Империи постоянно возникали и исчезали, последнее — уже хотя бы потому, что земли, на которых происходило их формирование, становились частью Империи, а выходцы из них превращались во «французов». Так произошло, например, с Ганноверским легионом, «растворенным» в рядах 127-го, 128-го и 129-го пехотных полков, Валезанским батальоном и батальоном стрелков По, вошедших в состав 11 -го легкого пехотного полка и т. д.
Пьер-Жозеф Блан, командир Валезанского батальона. Миниатюра.
В отличие от современного гомогенного и единообразного по способу его формирования «иностранного легиона», иностранные полки эпохи Империи были очень различными. Условно их можно разделить на несколько отдельных групп:
Первая группа - полки единообразного (или хотя бы теоретически единообразного) национального состава, укомплектованные из представителей стран, находящихся в сфере влияния Французской Империи. В 1812 г. к ним относились:
■ четыре швейцарских полка;
■ четыре польских полка;
■ португальский легион;
■ испанский пехотный полк («полк Жозефа Наполеона»).
В качестве особой подгруппы сюда же можно отнести и полки, навербованные среди жителей областей, недавно присоединенных к Империи, но еще не охваченных системой конскрипции. К ним относились:
■ шесть провинциальных и четыре временных хорватских полка;
■ иллирийский полк;
■ невшательский батальон.
Характерной особенностью последних из вышеперечисленных формирований является то, что строго юридически они не были иностранными. Однако в реальности эти части все же не рассматривались как французские по причине их очень своеобразного национального состава, слабой связи новых областей с центром и абсолютно иной системой комплектования, чем это было принято во французской армии.
К отдельной подгруппе можно отнести и иностранные части Императорской Гвардии:
■ 1-й полк шеволежеров-улан (польский);
■ 3-й полк шеволежеров-улан (литовский)*;
■ полк Бергских шеволежеров-улан;
■ рота мамелюков;
■ эскадрон литовских татар.
* 2-й полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии (так называемые «Красные уланы» ), а также 3-й гренадерский полк, хотя состояли в начале 1812 г. почти исключительно из голландцев, не могут считаться иностранными. Голландия в этот момент считалась частью Империи, и на нее была распространена система конскрипции.
Перечисленные части, в отличие от хорватов или иллирийцев, были юридически иностранными. Однако, вследствие их элитного характера, формирования на добровольной основе и т. д., многие из них рассматривались почти что как французские.
Вторая группа - это, собственно говоря, «иностранные полки», то есть полки, состоящие из иностранцев самого различного происхождения. В 1811г. было образовано четыре иностранных полка из ранее существовавших формирований довольно пестрого национального состава. По принципу формирования данные части более всего напоминали современный Иностранный легион.
Третья группа - «экзотические» иностранные формирования.
Мы выделили в эту группу части со столь необычным обликом, что их трудно поставить в общем ряду иностранных полков. Сюда относятся:
■ албанский пехотный полк;
■ рота ветеранов о. Корфу;
■ рота ионических саперов;
и т. д. (см. Приложение V).
О частях, принадлежащих последней группе, можно особенно не распространяться. Малочисленные, плохо обмундированные и вооруженные, они не представляли собой значительной силы ни в количественном, ни в каком-либо другом отношении и, самое главное, не приняли участия ни в одном сколько- нибудь значимом боевом эпизоде.
Вот что писал генерал Цезарь Бертье в рапорте от декабря 1807 г. об албанцах, набранных на французскую службу: «Среди них нет ни порядка, ни дисциплины, у них нет ни малейшего понятия ни о службе, ни о военной организации; даже нельзя сказать, сколько в их рядах бойцов, ибо они уходят не спросившись, если у них появилось хоть малейшее желание... Они одеты по-албански, жутко грязны и плохо вооружены... Тем не менее, я думаю, что со временем, приложив труд, из них можно извлечь некоторую пользу, так как, несмотря на упадок, в который привел гнет османской тирании этот некогда знаменитый народ, у них остается еще некоторая гордость - единственное наследие предков, о которых они, впрочем, имеют лишь смутное представление» 42.
Куда более значительную военную силу представляли собой четыре иностранных полка, которых мы отнесли ко второй группе. Они были организованы декретом от 3 августа 1811 г. из полка Ла Тур д'Овернь, Изембургского полка, Ирландского легиона и Прусского полка, комплектовавшихся большей частью из пленных. В рядах перечисленных формирований были немцы, венгры, чехи, шведы, русские, австрийцы, поляки, ирландцы, англичане и т. д. Первоначально, как следует из названия, Прусский полк (будущий 4-й иностранный), созданный 13 ноября 1806 г., был набран из пленных солдат прусской армии, Ирландский легион в значительной степени состоял из ирландских добровольцев, жаждавших сражаться против англичан. Военный министр Кларк, сам родом из ирландцев, стремился всеми силами сохранить своеобразный характер этой части, однако неумолимый декрет 1811 г. свел ее к общему знаменателю и сюда были зачислены сотни русских и немцев. Что же касается полков Ла Тур д'Овернь и Изембургского, то они практически с самого начала имели характер «разноплеменных» формирований, и вышеозначенный декрет лишь поменял их название. (Мы говорим «практически», так как в теории предполагалось, что эти два полка примут в свои ряды бывших ультрароялистов шуанов и вандейцев. Именно поэтому во главе первого из них был поставлен бывший эмигрант граф Годфруа де ла Тур д'Овернь, известный своими связями с «бывшими». Однако ожидаемый наплыв раскаявшихся роялистов не состоялся, и потому с самого начала в эти два полка стали зачислять пленных.)
Формирование иностранных полков в основном из бывших неприятельских солдат накладывало на них соответствующий отпечаток. В отличие от современного элитного соединения «Иностранный легион», эти части были скорее ниже среднего по всем показателям, их отличал высокий процент дезертирства и низкий моральный дух. Так, 4-й иностранный полк, сражавшийся в Испании с начала 1812 г. охватило столь повальное дезертирство, что маршал Сульт приказал расстреливать на месте без суда всех пойманных беглецов. А в мае того же года 1-й батальон той же части самым жалким образом действовал при обороне позиции Лугар-Нуэво. Батальон не смог, занимая хорошо выстроенный редут, отразить нападения врага, который вынужден был атаковать, не имея при этом ни подавляющего превосходства в численности, ни даже артиллерийский поддержки: «Солдаты 4-го иностранного отказывались занимать свои боевые посты. В бою было потеряно знамя батальона»43.
Не лучше действовал в Испании Изембургский (2-й иностранный) полк. Здесь также было повальное дезертирство, отсутствие доброй воли в бою и на походе.
16 июня 1810 г. 103 человека этого полка под командованием лейтенанта Торелли сдались испанским гверильясам знаменитого Мина. Отряд, охранявший обоз, даже не попытался обороняться и сложил оружие по первому требованию, не произведя и символических выстрелов.
«Эти иностранные полки (Латур-д'Овернь, Изембургский, Ирландский и Прусский), - писал в 1810 году Наполеон военному министру, - ни на что не годны, а стоят очень дорого» 44.
Совершенно по-иному и в качественном, и в количественном отношении выглядели части, которые мы отнесли к первой группе. Несмотря на то что здесь также широко использовалась вербовка среди пленных (для формирования польских полков, Португальского легиона и Испанского полка), основой моральной спайки в этих частях являлся единообразный национальный состав.
Среди формирований этого типа, вне всякого сомнения, выделялись польские части. Польские эмигранты начали свой боевой путь еще под знаменами молодого Бонапарта. Здесь были, конечно, разные люди: и идеалисты, готовые всем пожертвовать во имя свободы Отчизны, и честолюбивые офицеры, надеявшиеся сделать карьеру в рядах французских войск, и просто те, кому не на что было жить, или кто предпочитал судьбе пленного австрийского солдата (так как поляки служили в рядах австрийских войск) судьбу воина Польского легиона. Но, так или иначе, дух отваги и самопожертвования здесь доминировал.
Непроста была судьба польских легионеров в рядах французской армии. Вслед за первым польским военным формированием - легионом Домбровского (разделенным в марте 1797 г. на два легиона) - последовало создание в сентябре 1799 г. так называемого Дунайского легиона в составе Рейнской армии. Последний был также сформирован из поляков, командовал им генерал Княжевич. Легионы Домбровского понесли огромные потери в кампании 1799 г. в Италии. В битве под Треббией (17-19 июня 1799 г.) гренадерский и стрелковый батальоны 1-го легиона были фактически уничтожены. Но особенно горестным для поляков было то, что при сдаче Мантуи французский генерал Фуассак-Латур, чтобы выгадать себе лучшие условия капитуляции, фактически предал польских солдат. В то время как французские части получили право свободного выхода из крепости и ушлп с оружием в руках к своим, поляки, шедшие в хвосте колонны, были остановлены австрийцами, разоружены, закованы в цепи и пороты кнутом как дезертиры из австрийской армии.
В конце 1801 г. по заключению Люневильского мира все польские отряды, сосредоточенные к этому времени в Италии и на юге Франции, были переформированы в три пехотные полубригады, две из которых (остатки итальянских легионов) были переданы на службу Итальянской республике, а третья под номером 1ТЗ вошла в ряды французской армии. Через некоторое время была сформирована еще одна полубрп- гада из поляков под номером 114. Участь последних полубригад была еще более трагичной, чем участь их предшественников. В «благодарность» за верность и отвагу поляков французское правительство послало 113ю и 114-ю полубригады на о. Сан-Доминго подавлять восстание негров. Две трети личного состава польских полубригад умерло от тропических болезней и погибло в боях, многие попали в плен, и только 160 человек вернулись в Европу.
Новые войны на континенте заставили Наполеона опять вспомнить о польской отваге. В сентябре 1806 г. из пленных солдат прусской армии, поляков по национальности, была образована новая часть, так называемый Северный легион, судьба которого была куда более завидной, чем у его предшественников. После участия в кампании 1807 г. личный состав легиона был влит в ряды недавно созданной армии герцогства Варшавского. Часть офицеров, прежде всего французского происхождения, возвратилась на службу Франции.
Сражение при Сомо-Сьерре (30 ноября 1808 г.).
Впрочем, создание польского государства не прервало историю польских частей в рядах императорской армии. Напротив, в апреле 1807 г. декретом, принятым в лагере под Финкенштейном, Наполеон создал, пожалуй, самое знаменитое польское формирование на французской службе - полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии. А еще через несколько месяцев, в 1808 г., в ряды французской армии возвратился польский легион, находившийся последовательно на службе Итальянской республики, Итальянского королевства, Неаполя, а затем Вестфалии. На этот раз польская часть получает название Вислинский легион. Шеволежеры-уланы гвардии и вислинцы станут поистине легендарными войсками. Ушли в прошлое те времена, когда, стесняясь присутствия поляков на французской службе в связи с наступившим на континенте миром, их выслали драться с неграми на Гаити. Войны с Австрией, Пруссией и Россией, да и сам факт возвращения польской государственности лишали отныне Наполеона необходимости церемониться в этом вопросе. Наконец, Император был просто по-человечески тронут тем бурным, восторженным приемом, который был ему оказан в Варшаве в декабре 1806 г. Привычный к выражениям восторга и торжества, он тем не менее поразился увиденному на праздниках, данных в его честь, он открыл для себя это «блистательное общество, полное рыцарства и утонченности, народ, столь близкий по духу французам, что, как он заметит, здесь все французские достоинства и недостатки доведены, кажется, до их крайних форм. Веселые танцы, мазурки под звук скрипок, удивительная роскошь костюмов, где парадное изящество переплеталось с восточной пышностью, вдохновенные лица мужчин и изысканная красота женщин, атмосфера, словно наполненная опьянением и надеждой на освобождение...»45 Наконец, очаровательная Мария Валевская - наверное, последняя истинная любовь Императора, - быть может, сыграла в этом не последнюю роль...
Нельзя, конечно, сказать, что с конца 1806 - начала 1807 гг. Наполеон стал страстным сторонником возрождения Польши - его Империя, а в этот момент речь могла идти для него в этом смысле только о Франции, имела для него непререкаемый приоритет. Тем не менее Польша и поляки, с этого времени слившие свои надежды, мечты и чаяния с Наполеоном, прочно войдут в его политическую и ... частную жизнь.
Однако судьба сложится так, что вновь созданные польские полки на французской службе покроют себя славой далеко-далеко от родной земли. В 1808 г. императорская армия под командованием великого полководца двинулась на Пиренейский полуостров. В ее рядах шли и шеволежеры Гвардии, и Вислинские полки. 30 ноября 1808 г. в девяноста километрах от испанской столицы польские солдаты совершат подвиг столь блистательный и невообразимый, что он вмиг станет легендой; подвиг столь замечательный, что в этой книге, посвященной наполеоновской армии, невозможно не рассказать о нем хотя бы вкратце.
Итак, в ноябре 1808 г., в то время как фланговые соединения французской армии громили испанские корпуса, самоуверенно решившие «окружить» императорское войско и пленить самого Наполеона, его основные силы, сметая все на своем пути, стремительно шли на Мадрид.
30 ноября передовые части французов прибыли к ущелью Сомо-Сьерра. Это была последняя серьезная природная преграда на пути к Мадриду. Ее готовились оборонять остатки так называемой Эстремадурской армии и ополченские формирования под командой генерала Бенито-Сан-Хуана. Всего на перевале у испанцев было 8-9 тыс. человек и 16 орудий. Они разместили свою артиллерию на дороге, проходящей между высокими горами Серро-Барранкаль и Пенья Себолера, причем вследствие узости ущелья пушки были сведены в четыре батареи, которые стояли на до роге одна за другой, каждая примерно на расстоянии 600-700 м за предыдущей. Пехота в основном заняла не особенно крутые горные склоны, спускающиеся к дороге.
Император, прибывший рано утром к подножию гор, торопил пехоту дивизии Рюффена, начавшую атаку в 8 часов утра. Однако густой туман, крайне пересеченная местность и упорное сопротивление испанцев не позволяли французским пехотинцам действовать так, как желал того их полководец. Первая атака захлебнулась, так как части, шедшие по дороге, сильно опередили стрелков, карабкавшихся с флангов по склонам гор, и попали под огонь в упор. К 11 часам утра дело так и не сдвинулось с места. Пехотинцы лишь медленно продвигались по флангам, ведя напряженный огневой бой. Утренний туман рассеялся. Император подъехал на дистанцию ружейного выстрела к испанской позиции и, не обращая внимания на ядра и пули неприятеля, стал внимательно рассматривать его расположение в подзорную трубу. В этот момент поблизости от Наполеона находилось лишь несколько офицеров, два взвода гвардейских конных егерей и третий эскадрон полка польских шеволежеров. Внезапно, оторвавшись от наблюдения за врагом, Император приказал генералу Монбрену, командовавшему кавалерией авангарда, и полковнику Пире выдвинуть вперед польский эскадрон и атаковать им испанские батареи. Опытные кавалеристы Монбрен и Пире, прежде чем повести шеволежеров в атаку, решили провести рекогносцировку. Ее результаты предугадать несложно - она показала то, что и должна была показать: пехота и артиллерия противника занимает позицию в горном ущелье, усиленном инженерными сооружениями, соответственно атаковать его кавалерией - почти безумие. Монбрен послал полковника Пире передать Императору, что выполнение его приказа невозможно.
«Невозможно?! - воскликнул Наполеон, стукнув своим стеком по луке седла. - Я не знаю этого слова!» Тотчас же он отправил Филиппа де Сегюра, своего офицера-ординарца, передать формальный приказ атаковать.
Приказ получил капитан Козетульский, который с утра исполнял обязанности командира эскадрона. Построенный в колонну по четыре (шире встать было невозможно из-за узости дороги), эскадрон по команде «Рысью - марш!» двинулся в немыслимую атаку - 150 человек* против целой армии!
* Общая численность эскадрона вместе с взводом лейтенанта Ниголевского, отправленного ранее вправо от дороги на рекогносцировку и догнавшего своих уже в разгар атаки.
Впереди шла третья рота под командой капитана Дзевановского, за ней - седьмая под командой Петра Красинского. Взводами командовали, начиная с головы колонны, сублейтенанты Ровицкий, Рудовский и Зеленка. Филипп де Сегюр, чувствуя, что честь офицера требует от него не просто передать приказ, но и показать свою личную готовность к самопожертвованию, шел вместе с головными кавалеристами.
Через несколько мгновений колонна перешла с рыси на галоп. Издав громовой клич «Да здравствует Император!», потрясая сверкающими клинками, эскадрон ринулся на первую батарею. Ужасающий залп картечью встретил несущийся по дороге отряд, одновременно справа и слева затрещали сотни ружейных выстрелов, и на поляков обрушился ливень свинца. Под этим смертоносным шквалом рухнули на землю и на придорожные камни десятки людей и лошадей, ряды шеволежеров смешались - казалось, атака захлебнулась. Некоторые из солдат, отставших от основной группы, не видя сквозь дым и пыль, что точно происходит впереди, решили, что на этом все кончено. Они съехали с дороги и попытались укрыться за камнями. Но Козетульский нечеловеческим усилием воли не дал основной массе эскадрона повернуть назад. Он увлек за собой людей и сделал это тем более скоро, ибо увидел, что испанцы заряжают орудия для нового смертоносного залпа. На бешеном галопе поляки доскакали до батареи, кони с ходу перепрыгнули через баррикаду, и шеволежеры вмиг зарубили или опрокинули наземь ошарашенных испанцев. Но это было только начало эпической атаки. Впереди были еще три батареи, и нельзя было медлить ни секунды. Все тем же стремительным галопом кавалеристы ринулись к следующему препятствию. В это время их догнал четвертый взвод под командой Ниголевского, восполнив тем самым убыль в рядах.
Л.-Ф. Лежен. Сражение при Сомо-Сьерре 30 ноября 1808 r. © Photo RMN - Arnaudet / J. Schormans.
Несмотря на точность отдельных деталей, эту картину Лежена нельзя назвать строго реалистической. Подобно тому, как это делалось на средневековых миниатюрах, художник объединил на одном полотне события, произошедшие в разное время. Мы видим и эскадрон польских улан, штурмующий испанскую батарею, и те эскадроны, которые следовали за ним на значительной дистанции; тут же Император беседует с пленными, и солдаты с возмущением указывают испанцам на убитых в плену французов, здесь же изображен и офицер-ординарец Сегюр, за ранами которого ухаживают его товарищи и т. д.
Новый залп нанес шеволежерам ужасающие потери. Погиб поручик Кржижановский, под капитаном Козетульским была убита лошадь, и он на полном галопе рухнул на камни, получив ужасные травмы. Теперь атаку вел капитан Дзевановский, впрочем «эскадрон... уже больше не слышал никаких команд... все капитаны, лейтенанты, рядовые, воодушевленные одним и тем же порывом, издавая один и тот же победный клич, не обращали больше внимания ни на отсутствие Козетульского, ни на смерть своих товарищей»46.
Остатки отряда влетели на вторую батарею и изрубили прислугу. Остервеневшие от дикой скачки, страшных потерь, истеричных воплей испанцев и бешеного огня со всех сторон уланы понеслись дальше. Впрочем, поручик Ровицкий крикнул своему другу: «Ниголевский, придержи моего коня, я не могу с ним справиться!» В этот момент грохнул страшный залп и тело Ровицкого, которому оторвало голову, покатилось в пыли. Упал с коня израненный капитан Дзевановский. Третья рота была фактически уничтожена. Но седьмая, под командой Петра Красинского, буквально влетела на следующую батарею, яростно круша в клочья все, что попадалось на пути. Теперь от отважного эскадрона оставалось не более 40 человек. Но эта горсть храбрецов не желала остановиться. Клубок обезумевших от отчаянного галопа людей и лошадей устремился к последней, четвертой батарее. До нее было еще 600 м, и, хотя испанские артиллеристы были изумлены тем, что происходит на их глазах, они успели дать залп. Петр Красинский получил ранение в бок и рухнул на землю. С ним упало еще полтора десятка всадников, но те, что остались в седле, перепрыгнули через пушки и врубились в ряды врага - последняя батарея была взята.
Только теперь, забрызганные кровью, в изрешеченных пулями мундирах, шеволежеры остановили скачку усталых коней. В строю оставался всего один офицер, самый молодой - поручик Ниголевский. Вокруг него была лишь горстка рядовых и вахмистр Соколовский. «Соколовский, в атаку!» - крикнул молодой офицер и ринулся на стоявших поблизости испанских пехотинцев и артиллеристов. Первые солдаты неприятеля, попавшие под их удар, обратились в бегство, но другие, видя малочисленность поляков, встретили их огнем. Последние героические кавалеристы были повержены. Вахмистр Соколовский был тяжело ранен, а сам Ниголевский, под которым убили коня, рухнул на землю. Тотчас юноша был окружен врагами. Двое испанских солдат, приставив ему к голове ружья, выстрелили в упор, другие на всякий случай вонзили в его тело штыки, проткнув его девять раз... Но по удивительной случайности Ниголевский выжил! Сквозь кровавую пелену, теряя сознание от потери крови, молодой офицер услышал приближающийся звон труб, грохот барабанов и громовое «Да здравствует Император!» Это вслед за 3-м эскадроном по дороге шли остальные эскадроны шеволежеров и гвардейские конные егеря, ведомые самим маршалом Бессьером, а вслед за ними и по флангам двигались массы французской пехоты. Хотя без присутствия этих войск победа была бы немыслима, сражение было выиграно, по сути дела, благодаря одной невероятной атаке. Вся испанская армия сразу после нее обратилась в паническое бегство, так что шедший за эскадроном Козетульского первый эскадрон полка под командованием Томаша Любеньского не потерял ни одного человека, ни одного коня! Шеволежерам и конным егерям осталось лишь рубить и брать в плен уже не оказывавших ни малейшего сопротивления беглецов и собирать богатые трофеи.
Таким образом, все результаты этого удивительного дня были куплены ценой небывалой самоотверженности одного эскадрона поляков. 57 шеволежеров было убито или тяжело ранено, десятки получили легкие раны и контузии. Все офицеры эскадрона до одного были убиты или ранены.
На следующий день Наполеон приказал полковнику Винценту Красинскому построить полк. Трубы пропели короткий сигнал, и в воцарившейся тишине Император, выехав перед строем полка, снял шляпу и сказал: «Вы достойны моей Старой Гвардии. Я признаю, что Вы - самая храбрая кавалерия!»47
Весть о подвиге польских шеволежеров под Сомо-Сьеррой, совершенном на глазах великого полководца, тотчас же разнеслась по свету с 13-м бюллетенем Испанской армии*, и он сразу вошел в легенду. Эта блестящая вспышка отваги стала символом целой эпохи в истории Польши и заслонила собой, по крайней мере для французских историков, все остальные подвиги и жертвы польских солдат, принесенные на службе Империи.
* Напомним, что «Испанская армия» в данном случае означает группу корпусов французских войск, сражающихся в Испании.
Среди польских формирований, прошедших самое суровое горнило испытаний в Наполеоновскую эпоху, выделяется, без сомнения, Вислинский легион. Организованный на французской службе в начале 1808 г., он поначалу состоял из трех пехотных и одного кавалерийского полка. Последний представлял собой первый, и единственный, в то время уланский полк французской армии, вооруженный пиками (шеволежеры Гвардии получили пики только в конце 1809 г.), который вел свою историю от самых первых польских эскадронов на службе республиканской Франции - от кавалерийской части в составе Дунайского легиона в 1799 г.
Впрочем, как говорят послужные списки, хранящиеся в архиве сухопутных войск, в рядах вислинских улан были люди, записавшиеся на службу под знамена Бонапарта еще в 1796 г.!
Если полк гвардейских шеволежеров в значительной степени был блистательным собранием польской шляхты, то рядовой состав Вислинских улан представлял собой покрытых рубцами вояк из простонародья. Солдат № 1 - Ян Бобайчук, № 2 - Федоров Федор Федорович, № 3 - Малицкий Этьен, № 4 - Шнайдер Бернар, № 5 - Робак Анджей... - все начали службу в 1796 г., прошли войны в Италии, сражались на Рейне, в составе Великой Армии, в Неаполитанском королевстве, в Испании; получили ранения и ушли в отставку - кто в 1810, кто в 1812 г. А вот улан Ян Павликовский, записавшийся добровольцем 20 сентября 1800 г., в битве под Гогенлинденом в том же году один атаковал 50 австрийцев и заставил их сдаться! За этот отважный поступок Павликовский получил серебряное почетное оружие с описанием совершенного подвига, а в сентябре 1801 г. был произведен в вахмистры48.
Но основную свою славу Вислинские уланы заслужили в Испании. Они провели здесь долгих пять лет, сражаясь повсюду: от Севильи до Сарагосы, от Альбуэры до Таррагоны. Они атаковали противника в генеральных сражениях и прикрывали конвои, охотились за герильясами по горам и лесам и служили надежным эскортом для генералов. «Los infernos picadores polacos» («Адские польские пиконосцы») - так прозвали испанские партизаны и солдаты вездесущих вислинских улан, а французские полководцы считали за особый шик иметь в личной охране хотя бы небольшой взвод польских всадников.
День битвы при Альбуэре 16 мая 1811 г. был отмечен для вислинцев, пожалуй, одним из самых их блистательных подвигов. Внезапной атакой уланы, поддержанные 2-м гусарским, разгромили английскую пехотную бригаду Кольброна: три неприятельских батальона из четырех были практически уничтожены польской кавалерией.
Планшет 31. Шеволежеры-уланы: офицер и трубач 1807-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Э. Детайль. Вислинские уланы в бою.
Л.-Ф. Лежен. Штурм монастыря Санта-Энграсия в Сарагосе 27 января 1809 г. © Photo RMN - Arnaudet / J. Schormans.
Автор картины лично принимал участие в этом бою. Он изображен слева на переднем плане, лежащим на земле с перевязанной головой. Дело в том, что в начале штурма Лежен был ранен в голову, но не покинул ряды сражающихся, пока новая рана не вывела его из строя. Лежену оказывает помощь командир батальона инженерных войск Валазе.
Левее, ближе к зрителю, генерал Лакост ведет на штурм солдат Вислинского легиона.
Что же касается пехоты легиона, то, бесспорно, самой яркой страницей ее славы стала осада Сарагосы (точнее, обе осады). В отчаянных боях за каждый дом, за каждую улицу города, оборонявшегося многочисленным фанатичным гарнизоном, отличились все пехотные полки Вислинского легиона. Вот как описывает очевидец осады бой за монастырь Санта-Энграсия, ключевой пункт испанской обороны: «Поляки второго Вислинского полка под командованием Хлопицкого... были разделены на много мелких групп, которые вводились в бой одна за другой, чтобы избежать толкучки. Эти колонны бегом преодолели 120 туазов по открытой местности и с яростью ворвались на развалины первой стены, которая была разбита на большом протяжении. Но за ней была другая стена,.в которой была пробита лишь узкая брешь всего в восемь-десять футов ширины, и все ружья тысячи двухсот защитников монастыря были нацелены на нее. Первые из наших храбрецов, достигшие стены (капитан инженерных войск Сегон и капитан Нагрудский), устремились очертя голову в этот пролом, за ними бросились солдаты Вислинского легиона, которые, как разъяренные львы, ворвались внутрь. Страшный бой завязался по всему монастырю. Монахи, солдаты, крестьяне, женщины и даже дети, взаимно возбуждая свою отвагу, защищали каждую пядь земли. Они бились внизу и наверху, дрались за каждый коридор, за каждую комнату, стреляя из-за мешков с шерстью, а иногда из-за груд книг, ведя также непрерывный огонь из бойниц. Один из поляков был убит на лестнице монахом, обрушившим на его голову тяжелое распятие. Несмотря на эту яростную оборону, испанцы были отброшены к монастырю Капуцинов, который также был взят нами. Шесть фугасов, которые взорвались под нашими солдатами, не смогли их остановить, и мы преследовали врага до соседних домов, по которым они тотчас же открыли огонь своих батарей...»49
Польская пехота, непрерывно сражавшаяся 80 дней и ночей, понесла тяжелые потери - треть солдат и офицеров убитыми и ранеными. В августе 1809 г. в Испанию прибыли награды для храбрых поляков. Увы, число наград мало соответствовало проявленной отваге. Во 2-й Вислинский полк прислали только семь крестов Почетного легиона, причем «...двое из представленных к награждению уже умерли к тому времени от полученных ран, двое других лежали еще в госпитале... Мы заслужили большего, - с горечью писал офицер польской пехоты, - но о поляках чаще вспоминали в день боя, а не после него»50.
Подобно вислинским уланам, польская пехота приняла также активное участие в борьбе с герильей. Во время знаменитой осады Таррагоны в 1811 г., за взятие которой генерал Сюше получил маршальский жезл, вислинцам было поручено обеспечить бесперебойное снабжение армии продовольствием и боеприпасами, нейтрализовав известного предводителя испанских герильясов Мина и Каталонское ополчение. Доверие главнокомандующего было полностью оправдано. Вот что рассказывает офицер 2-го Вислинского полка: «В течение трех месяцев, благодаря активности и бдительности, удавалось сдерживать этих опасных врагов и прикрывать от вражеских рейдов район Синко-Вильяс, откуда осаждающая армия получала все ей необходимое. Благодаря ему (Хлопицкому), благодаря нам ни один рацион продовольствия не пропал. Нант командир стал кошмаром для партизан. Одного только слуха о его приближении, одной только фразы "Еl general de los Polacos** было достаточно, чтобы враг убегал за многие километры. Но лишь Господу известно, какой ценой мы достигали этого результата! Нужно было без конца совершать дневные марши по 7-8 лье, по козлиным тропам забираться на отвесные скалы, спускаться в пропасти, испытывать то ужасную жару в долинах, то ужасный холод в горах...»51
* Генерал поляков (исп.).
В Испанской кампании принял участие не только Вислинский легион, но и другие иностранные формирования однородного национального состава. Прежде всего - швейцарские полки, которые, подобно полякам, будут отправлены в начале 1812 г., чтобы присоединиться к корпусам Великой Армии, готовящейся совсем для другой войны...
Швейцарские части вновь после Старого Порядка появились в рядах французских войск согласно «Капитуляции» (старинное название договора, от латинского «capital» - «статья») от сентября 1803 г. между Французской Республикой и Швейцарской Федерацией. Согласно этому договору, швейцарцы должны были выставить (за оплату) четыре пехотных полка с ротами артиллерии для службы Франции. Численность швейцарских войск, передаваемых в распоряжение Первого консула Бонапарта, определялась в 16 тыс. человек. В статье 7-й «Капитуляции» оговаривалось, что «швейцарцы, допущенные в вышеназванные полки, должны иметь возраст от 18 до 40 лет, минимальный рост их должен быть 5 футов 2 дюйма (то есть 1 м 678 мм) и они не должны страдать никакими болезнями. Новобранцы также должны подписать обязательство верно служить Французской Республике в течение четырех лет. По истечении данного срока они вольны либо покинуть часть, либо подписать повторный контракт на два, четыре, шесть или восемь лет»52.
Интересно, что статья 18 договора выдвигала условие, согласно которому «швейцарские войска на службе Франции никогда не будут употреблены за пределами континентальной Европы»53 - солдат с берегов Женевского озера или из цветущих долин Берна явно не прельщала перспектива драться с неграми на Сан-Доминго. Статья 22-я предусматривала зато, что швейцарские офицеры могут получить все воинские звания и все воинские отличия, существующие во Франции.
Планшет 39. 3-й Швейцарский полк: вольтижер, офицер вольтижеров, гренадер и офицер гренадеров 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
Дополнительный договор, подписанный в марте 1812 г., предусматривал ответственность со стороны властей Швейцарии за своих солдат. Швейцарское правительство обязывалось за свой счет заменять дезертиров из полков, по мере того как список таковых представлялся французскими властями. Также Швейцария брала на себя обязательство не поставлять солдат никаким другим государствам, кроме как Французской Империи, и стараться вернуть всех швейцарцев, которые уже служат иным странам, «употребив для этого все способы убеждения и властного воздействия, которыми она располагает» 54.
«Капитуляция» нашла практическое выражение в Императорском декрете от 15 марта 1805 г., который постановил создать четыре швейцарских полка. Однако в 1805 г. был сформирован только первый из них, укомплектованный из остатков «гельветических полубригад» - швейцарских частей, служивших Французской Республике. Три оставшиеся полка были созданы позже, в октябре 1806 г.
Кроме основных четырех швейцарских полков, в 1805 г. был сформирован так называемый Валезанский батальон из жителей Республики Вале (на юге Швейцарии). Впрочем, как уже указывалось, по присоединении Вале к Франции в 1811 г. этот батальон был влит в ряды французских частей.
Наконец, декретом от 11 мая 1807 г. был создан также Невшательский батальон из жителей бывшего княжества Невшатель, присоединенного к Империи в 1806 г., но формально являвшийся владением князя Невшательского - Бертье.
Швейцарские полки зарекомендовали себя как надежные профессиональные формирования, которые, быть может, не обладали в атаке пылом французских или польских войск, но спокойно и уверенно выполняли солдатскую работу. «Мы - швейцарцы, мы знаем наш долг и выполним его», — ответил полковник 3-го швейцарского полка Граффенрид, когда испанцы, окружившие его часть превосходящими силами, предложили сдаться.
В ответе Граффенрида - «стиль» швейцарской пехоты. Достаточно сказать, что в швейцарских полках процент дезертиров был гораздо меньше, чем в обычных французских линейных частях. Так, из 230 рассмотренных нами швейцарских солдат 1-го полка, поступивших на службу в 1807 - 1810 гг., дезертировало за все время Империи только 15 человек, или 6,5%, в то время как во французских пехотных полках процент дезертиров составлял в среднем 8,5% (см. гл. II)55. Швейцарцам, попавшим в плен в ходе кампании на
Пиренейском полуострове, усиленно предлагалось перейти на испанскую службу, вместо того чтобы умирать на гнилых понтонах. Однако «большинство отвергли все соблазны и, став жертвами своей верности, провели долгие годы в ужасном плену»56.
Говоря о швейцарцах, необходимо отметить также, что они служили в среднем дольше, чем солдаты французских пехотных полков. Так, процент старослужащих солдат (более 3 лет службы) составлял во французских полках 28,6%, а в 1-м швейцарском он достигал 45,8%. Соотношение, едва ли требующее комментариев.
Среди иностранных частей на службе Франции далеко не последнее место по своему значению занимал также Португальский легион. Он был создан декретом от 18 мая 1808 г. - из остатков расформированной португальской армии - и должен был иметь в своих рядах шесть пехотных полков, два кавалерийских, один егерский батальон и три роты артиллерии. Однако значительное количество португальских солдат, оказавшихся в легионе, дезертировали. Пришлось прибегнуть к уже известному нам методу - вербовке недостающих солдат среди пленных. В результате было сформировано пять пехотных и один кавалерийский полк. В 1809 г. из элитных рот (гренадеров и вольтижеров) легиона была сформирована часть под названием «13-я временная полубригада» (из 3-х батальонов), которая под командованием генерала Каркоме Лобо и полковника Пего приняла участие в Австрийской кампании в составе корпуса Удино.
По возвращении из похода элитные роты были возвращены в полки. В этот период общая численность легиона была весьма солидной - 6800 человек, но Император распорядился убрать из него часть не- португальцев, по крайней мере таких явно далеких от лузитанского происхождения солдат, как немцы, поляки, французы и т. п. Численность легиона уменьшилась до 4366 человек, и 2 мая 1811 г. он был реорганизован. Отныне Португальский легион состоял из трех полков пехоты и одного полка кавалерии. Интересно, что даже и после «чистки» легиона португальцы далеко не представляли в нем большинства - их было только 786 человек. Основная часть солдат была испанцами (3363 человек), а оставшиеся 217 - французами и итальянцами57.
Как это ни парадоксально, эти люди проявили себя доблестными солдатами, отважно сражаясь в кампанию 1809 г., особенно в битве при Ваграме. Впрочем, в начале 1812 г. самые героические страницы истории легиона были еще впереди.
Кроме Португальского легиона, из выходцев с Пиренейского полуострова декретом от 13 февраля 1809 г. была сформирована еще одна часть - Испанский «полк Жозефа Наполеона». Чтобы его укомплектовать, французским офицерам пришлось перебрать не одну тысяч испанских пленных, пытаясь угрозами и посулами заманить их в полк. Зная об искренней религиозности сынов Кастилии, прибегли даже к помощи епископа Безансонского, который угрожал божественными карами тем из них, кто останется верным Фердинанду VII. Однако самым эффективным стимулом оказался распространившийся слух о том, что полк якобы направят в Испанию. В надежде вернуться на родину с помощью поступления на службу многие военнопленные охотно записались в ряды формируемой части. Этот факт, впрочем, не остался незамеченным, и военный министр представил в 1810 г. рапорт Императору, где говорилось, что многие испанские солдаты «заражены дурным влиянием»58. От греха подальше полк переместили на возможно большее расстояние от испанской границы.
Планшет 40. Полк Жозефа Наполеона: офицер, вольтижеры, гренадер 1810-1812 гг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
Несмотря на сложности в укомплектовании части, к октябрю 1810 г. четыре боевых батальона испанского полка и батальон депо насчитывали в своих рядах впечатляющее количество личного состава- 95 офицеров и 3806 рядовых. Командир части, бывший испанский генерал Кинделан отмечал, что «дух, который царит во втором батальоне, в общем хорош, но среди офицеров и унтер-офицеров есть еще возможно и те, кто имеет враждебные намерения, скрытые под маской лицемерия»59. Это не помешало Императору 27 октября 1811г. провести смотр указанного второго батальона, а также третьего, расквартированных в это время в Голландии в г. Утрехт. Солдаты встретили появление Наполеона громовым восклицанием «Да здравствует Император!» по-испански. Генерал Хогендорп вспоминал об этом эпизоде: «Корпус маршала Удино, в который входил великолепный испанский полк, был выстроен для парада, а затем совершал маневры перед Императором, который находился все время либо перед испанцами, либо рядом с их флангом. Очевидно, это было небезопасно, ибо достаточно было бы одного солдата-фанатика, чтобы убить Наполеона и, может быть, даже оставшись при этом непойманным. Но Император только посмеивался над теми, кто высказывал подобные опасения»60.
В конце 1811 г. 2-й и 3-й батальоны, которыми командовал в это время майор де Чуди, были включены в состав дивизии Фриана, входившей в состав войск маршала Даву. Маршал рекомендовал своему подчиненному как можно радушнее принять испанскую часть в ряды дивизии и обязательно организовать для нее по воскресеньям и религиозным праздникам католическую мессу, на которую настоятельно приглашались также французские офицеры.
Что касается 1-го и 4-го батальонов полка, находившихся под командой майора Дорейля, они были включены в состав дивизии Бруссье, вошедшей в состав 4-го корпуса Великой Армии. Так что полку было суждено в полном составе отправиться в Русский поход.
В заключение этого небольшого описания иностранных частей на службе Французской Империи необходимо сказать несколько слов и о хорватских полках.
Как известно, по Шенбрунскому миру (октябрь 1809 г.) ряд провинций Австрийской Империи, часть территорий современной Хорватии и Словении, отошли к Франции. Эти земли, столь удаленные от полей Пикардии и гор Оверни, в перспективе планировалось сделать нераздельной частью наполеоновского государства. Действительно, 15 апреля 1811г. было постановлено, что отныне на них распространялся кодекс Наполеона, а вместе с ним все права и обязанности подданных Французской Империи. Однако ассимиляция многонационального населения Иллирийских провинций (официальное название этих земель в эпоху Наполеона) - здесь жили хорваты, сербы, словенцы, немцы и итальянцы - проходила довольно трудно, что вполне понятно, учитывая географическую удаленность региона от Франции, языковой барьер и разницу в обычаях, привычку местных элит ориентироваться на Вену и, наконец, сильную религиозность населения (в большинстве католического), смотревшего на представителей французской администрации как на богопротивных атеистов. Именно поэтому, хотя Иллирийские провинции и стали частью Франции, Император не решился сразу ввести здесь конскрипцию, а предпочел по возможности использовать военные учреждения, полученные в наследство от Габсбургской монархии, тем более что часть новых территорий располагала давними и весьма своеобразными традициями воинской службы. Это относится к району, называющемуся «Военная Хорватия», который был поистине резервуаром, где Австрийская империя черпала силы для охраны своих турецких границ. Практически каждый мужчина здесь был воином и входил в состав так называемых «граничарных» полков, набиравшихся каждый в одном из шести округов, на которые была поделена Военная Хорватия. Маршал Мармон, бывший наместником Иллирийских провинций до марта 1811 г., так описывает эту систему: «Население "Военной Хорватии" - это армия, которая имеет внутри себя рекрутскую систему. Это почти что татарская орда, которая разве что живет в бараках, а не под шатрами, и существует благодаря своим стадам и полям. Но эта орда организованна, дисциплинированна, и интересы ее благополучия тщательно соблюдаются. Это воинственное население, непостоянство и недисциплинированность которого сдерживаются строгими и справедливыми законами. Хорваты имеют земли как жалованье за воинскую службу... раздел осуществляется по количеству людей в семье и по их потребностям. Когда семья процветает и увеличивается, она получает от правительства новые земли, освободившиеся из-за хирения других семей, или покупает у другой семьи, которая располагает большими, чем она может обрабатывать, полями. Однако запрещено продавать то, что необходимо семье для ее пропитания; она может продать лишь излишки и только тем, кто состоит на воинской службе (что является главным условием для землевладения). Семьи многочисленны и владеют всем сообща, здесь нет индивидуальной собственности - все общее»61.
Шесть полков - округов Военной Хорватии - были сохранены наполеоновской администрацией. Вот их список:
1-й полк Личанский
2-й полк Отточанский
3-й полк Огулинский
4-й полк Слуинский
5-й полк 1-й Банатский
6-й полк 2-й Банатский
Командование полков большей частью эмигрировало в Австрию, и 1 января 1810 г. было постановлено переформировать эти части, сохранив, однако, их названия и регионы комплектования. Император, в отличие от Мармона, очень осторожно относился к хорватам. Он рекомендовал: «Пусть вооружат не более тысячи человек из них. Напишите маршалу Мармону, что легкомысленность в этом вопросе мне кажется весьма странной»62.
Однако успешная операция Мармона силами французских войск и отрядов граничар в ходе молниеносной кампании против турок 5-15 мая 1810 г. давала надежду на то, что хорватские полки можно будет с успехом использовать на службе Империи: «Восхищение хорватов командующим (Мармоном) и его войсками, которые за столь малое время добились значительных результатов, было таково, что можно было отныне рассчитывать на их верность»63.
Мало помалу граничарные полки были восстановлены, а во главе их поставлены либо французские офицеры, либо верные Императору представители местной элиты. Мундиры были изменены и приближены к униформе французского типа.
Накануне Русского похода Наполеон решил создать из имевшихся полков части, которым было предназначено присоединиться к действующей армии. Указом от 21 сентября 1811г. был сформирован так называемый 3-й Временный хорватский полк из 5-го и 6-го граничарных (т. е. 1-го и 2-го Банатских), а несколько позже был укомплектован 1-й Временный хорватский, соответственно из 1-го (Личанского) и 2-го (Отточанского) граничарных полков. Формирование 2- го Временного полка, а также хорватских гусар было осуществлено позднее, только в 1813 г.
Таким образом, первый из сформированных для Великой Армии хорватских полков имел 3-й порядковый номер, что вполне понятно, если учитывать, что номер отражал не время формирования части, а то, из каких «изначальных» полков она была создана. 3-й Временный хорватский полк побывал в Париже и был представлен Императору на параде перед дворцом Тюильри 12 января 1812 г., а затем включен во 2-й корпус Великой Армии (корпус маршала Удино). Командиром полка был француз, полковник Жоли. В самом начале кампании 1812 г. полк насчитывал в своих рядах 2 батальона, 41 офицера и 1582 рядовых. 1-й Временный хорватский полк входил в 4-й корпус Великой Армии (итальянская армия Евгения Богарне). Частью командовал выходец из знатной хорватской семьи полковник Сливариш. В строю было также 2 батальона- 45 офицеров и 1462 рядовых.
Перечисленные части, мы подчеркиваем, строго говоря, не являлись иностранными, ведь они формировались из подданных Французской Империи, т. е. официально из «французов». Однако в реальности они оставались все же нефранцузскими полками. Это подчеркивалось и их названиями, и их униформой, отличной от прочих легких и линейных частей императорской армии.
Кроме Военной Хорватии территория Иллирии имела и другие, «мирные», провинции: Истрию, Далмацию, Карниоль, Каринтию и Хорватию. Здесь не было традиций воинской службы, о которых мы только что говорили, поэтому декретом от 16 ноября 1810 г. Император предписал создать часть под названием «Иллирийский полк», укомплектованный за счет рекрутского набора в означенных провинциях по схеме, принятой при габсбургской администрации. Офицеры же создаваемой части должны были быть частью французами (старых или новых департаментов), частью, уроженцами Иллирии, выходцами с австрийской службы.
Маршал Мармон считал, что полк должен получить полностью французскую униформу. «Убежден - писал он, - что это лучший способ оказать доверие иллирийцам, показав, что они во всем приравнены к французским войскам»64. Император, одобрив проект, тем не менее пожелал, чтобы мундиры Иллирийского полка несколько отличались от французских частей. В результате вместо темно-синего мундира и штанов французской легкой пехоты часть получила идентичную по покрою униформу, но голубого цвета, отражавшую статус Иллирийского полка - одновременно и иностранного, и французского.
Полк принял участие в Русской кампании в составе го корпуса Великой Армии (маршала Нея), накануне похода в его рядах было 65 офицеров и 2505 рядовых. Командовал частью полковник Шмитца.
Обострение отношений с Россией, достаточно очевидное в 1811 г., привело к усилению центростремительных процессов в наполеоновской Европе. В мыслях Императора на смену биполярной системе мира - Франция в союзе с Россией как гарант стабильности в Европе - приходит однополярная: Империя, включающая всю Западную и Центральную Европу, в том числе Австрию и Пруссию, которые вынужденно присоединяются к наполеоновской системе.
До какой степени Наполеон видел для себя это сближение? На этот вопрос трудно ответить однозначно, ибо здесь, как и во многих других вопросах, Император был не теоретиком, а практиком. У него не было схоластических схем, в которые требовалось бы загнать реальность. Его системы постоянно менялись, в зависимости от изменения обстоятельств, поэтому, кстати, сложно, а иногда и просто бесполезно, пытаться понять этого человека по его высказываниям, которые сплошь и рядом противоречат одно другому (не говоря уж, конечно, о произведениях, созданных на св. Елене, о чем уже упоминалось). Зато очень ясно можно судить о его замыслах по его делам.
Исходя из того что предпринималось Императором в годы, предшествующие войне 1812 г., можно предположить, что из достаточно еще рыхлого и неопределенного государственного образования была бы создана унитарная империя Европы. М. Дрио не без доли романтического преувеличения писал: «Вся Европа могла бы быть организована в мире. Вот та линия, которая явно вырисовывалась. Как император Август в начале христианской эры, Наполеон закрыл бы храм Януса*. "Римский мир" и "Золотой век" снова вернулись бы на землю. Уже там и сям вознеслись ввысь триумфальные арки и колонны, как в древнем Риме, уже широкие императорские дороги - артерии будущей экономической жизни - пролегли по Европе. Была бы, наконец, создана единая Европа. Империя - это Европа. Недаром Ницше называл Наполеона "хорошим европейцем". Мы скажем, скорее, архитектором Европы...»65
* Двери храма Януса закрывались в Древнем Риме в знак мира.
Армия, собранная для войны с Россией, и явилась отражением этих процессов. По сути дела, это уже не была французская армия - это была европейская армия.
Обычно, когда говорят о национальном составе Великой Армии 1812 г., цифру берут из мемуаров генерал-интенданта Денние, который указывал, что на 1 июня 1812 г. армия Наполеона, расквартированная на территории Германии, насчитывала в своих рядах 678 080 человек, из которых 322 167 (т. е. 47,5%) были солдатами иностранных контингентов или иностранных полков. Однако значительная часть этих войск не приняла участия в кампании. Нам показалось более интересным рассмотреть соотношение французов и не- французов в рядах тех дивизий, которые перешли Неман в начале войны или составляли второй эшелон вторжения. Наконец, важно учесть присутствие в рядах войск армии не только иностранных полков и контингентов, но и наличие иностранцев в рядах французских частей. Необходимые нам цифры можно получить на основе анализа подробного расписания, которое приводит Фабри в своей многотомной публикации документов, относящихся к войне 1812 г. Расписания войск, приведенные Фабри, наиболее полные и подробные, и являются данными пятидневных проверок численности личного состава частей и подразделений. Среди них мы выбрали данные, относящиеся к 25 июня 1812 г., как наиболее полные. К сожалению, сведения на этот день имеются не обо всех соединениях - для некоторых пришлось брать результаты перекличек на 30 июня, на 1 июля и даже позже. Поэтому при подсчете общей численности войск имеется небольшая погрешность, но она очень мала - не более десятых долей процента. Если же мы примем во внимание, что нас в данном случае интересует не столько абсолютная численность войск, сколько соотношение между количеством французов и иностранцев в рядах наполеоновских войск, то эта погрешность фактически становится ничтожной.
Итак, согласно самым надежным из всех опубликованных источников, в конце июня - начале июля 1812 г. Великая Армия насчитывала в своих рядах около 530 тыс. человек..;
Среди этой огромной армады, двинувшейся к границам России, шагали солдаты практически всех стран Европы. Только солдат контингентов вассальных держав было 232 270 человек, сверх того, 21 503 человека входили в состав иностранных полков.
Перечень этих войск впечатляет:
| Поляки: | 78 820 |
| Итальянцы: | 22 072 |
| Неаполитанцы: | 7 987 |
| Саксонцы: | 26 720 |
| Баварцы: | 29 038 |
| Вюртембержцы: | 13 155 |
| Баденцы: | 6 251 |
| Вестфальцы: | 29 733 |
| Бергцы: | 4 596 |
| Гессенцы: | 8 447 |
| Небольшие государства Рейнской конфедерации: | 10 024 |
| Пруссаки: | 19 494 |
| Австрийцы: | 30 000 |
| Датчане: | 12 610 |
| Испанцы: | 3 722 |
| Португальцы: | 5 740 |
| Швейцарцы: | 9 532 |
| Хорваты: | 3 732 |
| Далматинцы: | 1 992 |
| Иллирийцы: | 2 886 |
Ж.-Г. Бланшон. Декоративное панно «Европа». 1810 г. Эскиз гобелена для дворца Тюильри.
Капитан гренадеров королевской итальянской гвардии. 1809—1812 гг.
Таким образом, 328 821 человек из 674 024 были иностранцами! * Не следует забывать, что в число оставшихся 347 203 «французов» входили жители Рима и Амстердама, Гамбурга и Турина, Антверпена и Майнца. Если брать средний процент выходцев из новых департаментов в рядах французских полков (т. е. 25%), мы получим, что 69 166 солдат были нефранцузами. Причем эта цифра является минимальной, ибо в наших подсчетах мы оставались на позициях строго юридических и не рассматривали как иностранные контингенты или иностранные полки такие части, как 3-й гвардейский гренадерский и 2-й гвардейский шеволежерский, 14-й кирасирский, 123й, 124-й, 126-й линейные и 33-й легкий, укомплектованные практически полностью голландцами, 127-й, 128-й, 129-й, состоящие на две трети из немцев, уроженцев Гамбурга, Бремена и Оснабрюка, 111-й, почти полностью сформированный из пьемонтцев, 112-й - из бельгийцев, 113-й - из тосканцев и т. д. Реально в рядах французских полков было не 69 тыс. иностранцев, а гораздо больше, вероятно, не менее 80 тыс.
* Т. е., 47,8% иностранцев, что почти абсолютно точно совпадает с подсчетами Денние - 47,5%.
Таким образом, округляя цифры, можно сказать, что не менее 330 из 530 тыс. солдат Великой Армии были нефранцузами, иначе говоря, 62 %, или, в самом грубом подсчете, трое из пяти! Настоящее вавилонское столпотворение народов!
Казалось бы, здесь все должно было также запутаться как при построении небезызвестной вавилонской башни. Однако этого не произошло. Не следует забывать то, что уже нами отмечалось, - перед нами длинный список не союзников, а вассалов Империи. У баденских, саксонских, вестфальских контингентов не было своей политической линии, своих целей войны: у них была одна только цель - служить Императору. За исключением австрийцев, которые в ходе войны вели себя как представители относительно независимого государства, все другие беспрекословно выполняли приказы единого командования. Не было сложности и в понимании друг друга - французский язык, ставший в XVIII в. интернациональным европейским языком, был понятен практически всем офицерам. Наконец, многие из них уже сражались рука об руку с французскими собратьями по оружию в войнах 18061807 гг. в Испанской кампании и особенно в войне 1809 г. против Австрии.
Практически все источники, относящиеся непосредственно к этому времени, единодушны - союзные контингенты и иностранные части шли на войну 1812 г. так же, как и их французские коллеги - с огромным подъемом. Если у поляков этот пыл был связан с надеждой на возрождение погибшего отечества и был сильно сдобрен антирусскими настроениями, то для подавляющего большинства солдат и офицеров Наполеона он носил характер чисто воинского энтузиазма : надежда на награды, отличия, повышения, почести; конечно, жажда славы, но, пожалуй, еще более - увлечение борьбой ради борьбы, удовольствие для молодых сильных энергичных мужчин броситься в захватывающее и великое приключение, зная, как им казалось, наверняка, что оно будет победоносным.
Вот как ярко и точно описал итальянский офицер Цезарь Ложье в своем дневнике побудительные мотивы и настроения в среде итальянских солдат накануне Русской кампании: «На этом походе царит радость и веселье (sic!); итальянским войскам в высшей мере присуще самолюбие, рождающее чувство собственного достоинства, соревнования и храбрость. Не зная, куда их ведут, солдаты знают, что идут они в защиту справедливости; им даже неинтересно разузнавать, куда именно их отправляют... Одни своими безыскусными и грубоватыми рассказами, своим философским и воинственным видом приучают других к стоицизму, учат презирать страдания, лишения, самую смерть: они не знают другого божества, кроме своего повелителя, другого разума, кроме силы, другой страсти, кроме стремления к славе.
Другие (этих больше всего), не имея той грубости, которая не подходит к пахарю, ставшему солдатом, столь же добродушны, но поразвитее и пускают в ход патриотизм, жажду славы. И все это уравнивает дисциплина, пассивное повиновение - первая солдатская добродетель...
Соревнование наше еще более возбуждается, когда мы узнаем о славных подвигах товарищей по оружию в Испании, и каждый из нас тревожно ожидает, когда же наступит момент, и мы сравняемся с ними, а то и превзойдем их. Да и полки, которые встречаем мы по дороге, не менее электризуют нас рассказами о геройских подвигах в последних походах...»66
Позже, когда многие участники этой трагической войны будут писать мемуары, они расскажут о недобрых предчувствиях, которые они испытывали накануне, о том, как с недовольством они отправились в эту авантюристическую экспедицию и даже предупреждали своих товарищей, что все это добром не кончится... Как известно, все эти предчувствия пишутся задним числом: любого, даже храброго и решительного человека, охватывает смутное беспокойство и естественные опасения перед началом важного и опасного мероприятия, даже если ждешь его с нетерпением и жаждешь с энтузиазмом. В случае успеха все эти туманные опасения начисто забываются, зато в случае неудачи, а тем более гигантской катастрофы, все мельчайшие высказанные или невысказанные сомнения, дурные предзнаменования и т. п. вспоминаются как ясно ощущаемые накануне предчувствия.
Ничего подобного нет ни в дневниках французов, ни в дневниках их союзников. Не меньший энтузиазм, чем итальянцы, испытывали солдаты, и, конечно, прежде всего офицеры немецких контингентов. В архиве Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится интересная рукопись отставного баварского генерала фон Манлиха, сын которого принял участие в русском походе. Вот что писал старый воин о настроениях молодых баварских офицеров: «Мне казалось ужасной Сама мысль о том, что я могу пожертвовать единственным сыном ради ненасытного честолюбия иностранного деспота..: Что же касается моего сына и его молодых друзей, они в нетерпении не могли дождаться момента отправления, все они пылали желанием совершить поход в Россию...»67 Хотя вюртембергский офицер фон Зуков в мемуарах немало пишет о своих «дурных предчувствиях» накануне войны 1812 г., зато вспоминает, что унтер-офицер, который привез ему приказ о подготовке к походу «сиял от радости», а один из его приятелей на банкете перед отправлением на войну заявил пожилому генералу: «Война с Россией?! Я боюсь этого не больше, чем съесть тартинку с маслом!»68
Разумеется, первые же трудности быстро охладили пыл всех тех, у которых он был столь же поверхностным, как у юного вюртембергского лейтенанта, считавшего, что победить русских не сложнее, чем съесть бутерброд. Особенно приутих он у солдат, на которых по вполне понятным причинам куда меньше, чем на офицеров, действовала жажда славы и почестей, зато очень сильно - требования желудка. Армия, как известно из предыдущих глав, оставила позади себя за первые месяцы кампании тысячи солдат, в том числе и союзных. В десятой главе мы указывали, что за сорок дней марша, с 25 июня по 3 августа 1812 г., французские пехотные дивизии уменьшились на 25-30%, а союзные - на 43-53%. Конечно, это факт, на основе которого можно сказать, что побудительных мотивов у иностранных контингентов было меньше, чем у французов. И все же кажется, что это не единственная причина. Вспомним фразу саксонского генерала Тильмана о том, что «принцип чести оказывает на французского солдата неизмеримо большее влияние, чем на немецкого». На французов, у которых в желудке было пусто, можно было еще как-то повлиять, взывая к чести, достоинству и любви к славе, на немцев эти доводы натощак действовали крайне слабо. Вспомним при этом, что столь сильные на войне побудительные мотивы, как ненависть к врагу, сознание того, что защищаешь родной очаг, начисто отсутствовали у солдат Великой Армии. Интересно, что поляки, единственные, у которых были подобные эмоции, все равно несли на марше в глубь России потери большие, чем французы.
Однако в строю оставались самые преданные, и малейшие успехи снова возбуждали в них жажду приключений и мечту о славе. «В результате последних военных событий (бои под Островно и Витебском) молодые офицеры вновь поверили в звезду Наполеона, - пишет бывший капитан Вислинского легиона. - Если бы нам приказали двинуться на завоевание Луны, мы бы ответили: "Вперед!" Напрасно старики подшучивали над нашим энтузиазмом, называя нас сумасшедшими, безумцами - мы мечтали только о битвах и победах, и боялись только одного - что русские слишком быстро заключат мир»69.
И это были не только слова. Несмотря на то что к кульминационному моменту кампании - Бородинскому сражению — союзные контингенты и иностранные полки подошли сильно ослабленными, их поведение в битве было более чем безупречным. Охваченные общим порывом поляки, вюртембержцы, вестфальцы, португальцы, саксонцы, итальянцы, баварцы и испанцы дрались с редкой отвагой, ничуть не уступая в доблести ни французам, ни русским.
Для полков саксонской тяжелой кавалерии, входивших в 4-й кавалерийский корпус Латур-Мобура, Бородинская битва стала поистине звездным часом.
Никогда еще саксонцы и вестфальцы не дрались с подобным героизмом. Вот как вспоминал полковник Саксонского гвардейского полка фон Лейссер о действиях своих кавалеристов в этой грандиозной битве: «Противник с твердостью и спокойствием подпустил нас на 40 - 50 шагов и дал убийственный залп, но кони были разогнаны в атаке, шпоры вонзены в бока, нас вела стальная воля, а честь и слава ждали нас внутри русских каре. Мы обрушились на них, смели и опрокинули все, что нам противостояло. В жуткой схватке некоторые пехотинцы еще продолжали стрелять, и их огонь прекращался лишь тогда, когда они были опрокинуты наземь. Пушки неприятеля были захвачены и отконвоированы назад. Земля была устлана поверженными вражескими солдатами. Они не просили пощады, а мы ее не давали...»70
Сражаясь с бешеной отвагой, беспрестанно атакуя или выдерживая ураганный огонь русских орудий, саксонские и польские кирасиры понесли ужасные потери. Если накануне боя бригада Тильмана насчитывала в своих рядах 1130 человек (450 кавалеристов Саксонского гвардейского полка, 400 саксонских кирасиров полка Цастрова и 180 кирасиров 14-го польского конного полка), то к концу боя в строю оставалось едва ли 500 человек: 584 всадника были убиты или ранены*. Полковник кирасирского полка Цастрова - Фон Трутшлер - был смертельно ранен, погиб его заместитель подполковник фон Зельмиц. Полковник гвардейского полка фон Лейссер в пылу боя принял приближающийся русский эскадрон за своих, и вместе с майором фон Хойером и полковым адъютантом Фон Файлитшем поскакал ему навстречу. Исправить ошибку они уже не успели. Русские кирасиры набросились на них со всех сторон. Майор Хойер и полковой адъютант были сразу зарублены насмерть посыпавшимися на них ударами палашей, полковник фон Лейссер, израненный и обливающийся кровью, был сбит с коня и взят в плен. В жестоком бою был ранен и второй помощник Лейссера - майор фон Лоппельхольц. «Я счастлив принести к ногам Вашего Величества... рапорт о дне, покрывшем славой армию... - докладывал генерал Тильман своему королю, - но должен с глубокой болью сообщить также о смерти многих храбрецов... Особенно я оплакиваю потерю полковника фон Лейссера, капитана графа Зайдевица, полкового адъютанта гвардейского полка фон Файлитша. Первый из них был поистине всегда головой своего полка... Я могу уверить Ваше Величество, что отвага его полков вызвала восхищение всей французской армии»71.
«Саксонские эскадроны сражались в этой самой кровавой битве века с львиной отвагой и полным презрением к смерти, выполняя задачи, которые, казалось, были невыполнимыми для конницы», - так справедливо оценил в своих мемуарах полковник фон Экснер действия бригады тяжелой кавалерии Тильмана 7 сентября 1812 г.72
В то время как саксонская и польская кавалерия совершала свои атаки между Семеновским и батареей Раевского, вюртембергская пехота, ведомая генералом Маршаном и самим маршалом Неем, геройски билась на Багратионовых флешах. «Мюрат, преследуемый кирасирами противника, укрылся, чтобы не попасть в плен, на редуте, взятом штурмом и занятым 25-й дивизией, - вспоминает офицер вюртембергских войск. - Но он нашел там не несколько рассеянных солдат, как лживо говорит Сегюр, а вюртембержцев, которые после кровавого боя овладели укреплением и защищали его до конца битвы. Это были те же вюртембержцы, что добыли для маршала Нея титул князя Москворецкого, а для своего генерала - титул графа Французской Империи»73. Здесь же, на флешах, устлали своими трупами валы и амбразуры солдаты 1-го и 2-го Португальских полков. 35 офицеров этих частей погибли или были серьезно ранены в Бородинском сражении. Буквально локоть к локтю с ними отважно дрались другие солдаты с далекого Пиренейского полуострова - испанцы 2-го и 3-го батальонов полка Жозефа Наполеона под командованием майора де Чуди, также понесшие тяжелые потери, а в километре от них на батарее Раевского сражались 1-й и 4-й батальоны того же полка, ведомые майором Дорейлем. Здесь же, следом за ними шел в огонь знаменитый Вислинский легион: «Нам предстояло следовать за атакующими и по необходимости поддержать их, - рассказывает офицер легиона, - они сумели взять батарею. Но какой ценой! Редут и его окрестности представляли собой самое страшное зрелище, которое только можно было вообразить. Подходы к нему, рвы, внутреннее пространство исчезло под целым холмом мертвых и умирающих, которые лежали в шесть, а то и в восемь слоев!... Здесь вперемешку валялись пехотинцы, кавалеристы, кирасиры в белых и синих мундирах, саксонцы, вестфальцы, поляки. Среди последних я узнал командира эскадрона Яблоньского - "красавца Яблоньского", как его называли в Варшаве»74.
Потери бригады Тильмана
| Офицер | Нижние | Лошади | |
| Штаб | 1 | 214 | 2 |
| Гвардейский полк | 18 | 219 | 227 240 |
| Полк Цастрова | 18 | 107 | нет данных |
| Польский | 7 |
Планшет 41. Саксония. Гвардейский полк, «Гард дю Кор»: офицер и трубач 1810-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Фабер дю Фор. На поле боя при Москве-реке перед деревней Семеновское (7 сентября 1812 г.).
Изображен момент, когда вюртембергская пехота (справа - легкая, в центре - линейная) отражает контратаку русских кирасиров на флешах Багратиона. В центре маршал Мюрат со своим ординарцем спешат укрыться под защитой вюртембергских солдат.
Сюда же, на клокочущий кратер батареи Раевского, уступая настоятельным просьбам офицеров, Евгений Богарне двинул и солдат итальянской гвардии: «Все мы испускаем радостные крики, - вспоминает очевидец об этом моменте. - Полки строятся в колонну справа повзводно. Велиты Гвардии идут впереди, за ними гренадеры, егеря и драгуны. Радость, гордость, надежда сияют на всех лицах.
Русские заметили наше движение и тотчас направляют в нашу колонну огонь из сотни орудий. Одни только крики "Да здравствует Император!", "Да здравствует Италия!" - раздаются в шуме падающих бомб и гранат, беспрестанного свиста железа и свинца...»75
Никогда еще, наверное, с обеих сторон не проявлялось столько мужества и самопожертвования. Героизм русских солдат и героизм солдат Запада, ведомых Наполеоном, оказались достойными друг друга. Еще недавно столь вялые и неспособные к серьезным испытаниям, вестфальцы не уступали в доблести другим. Вот что записал в своем дневнике 7 сентября в 8 часов вечера вестфальский подполковник фон Лоссберг: «Сражение выиграно... Император поручил Жюно передать нам, что мы бились храбро. Ней оказывает нам честь и громко прославляет нас, а мы, вестфальцы, можем с уверенностью сказать, что заслужили похвалу. Даже наш командир корпуса теперь сознается, что ему никогда не приходилось командовать более храбрыми войсками. В продолжение дня мы ни одной минуты не отступали перед неприятелем... Храбрость наших войск подвергалась неоднократным испытаниям: мы несколько раз отбивали атаки русских кирасиров и останавливали пехотные линии...» На следующий день в два часа дня фон Лоссберг дополняет свои записки: «Я не могу нахвалиться, как скоро и спокойно полк сомкнулся и выстроил каре... Когда же мы изготовились против неприятельской кавалерии, я заметил на лицах всех солдат решимость и доверие к их начальникам и восхищался вниманием, с которым исполнялись все команды»76. Ценность последнего свидетельства, несмотря на некоторые его преувеличения, заключается в том, что написано оно прямо на поле сражения, едва только стихли пушки, и не предназначено для начальства или публики. Это мысли, нахлынувшие тотчас же по окончании горячего боя, командира, который совершенно доволен своими солдатами и восторгается их поведением перед лицом опасности, и если в деталях описания боя могут быть неточности, то оно абсолютно точно отражает психологическую реальность момента - вестфальцы сражались доблестно и считали себя победителями.
«Воздадим же... справедливость союзным войскам столь разных наций, следовавших в 1812 г. за орлами
Наполеона, - писал барон де Бургуэн, бывший в ту эпоху молодым офицером Гвардии. - Честь и военная дисциплина столь сильно связывали воинов своими узами, а престиж Императора действовал столь волшебно, что солдаты стран, даже мало разделяющих, а часто даже просто враждебных его делу, в течение многих лет соперничали в благородном соревновании - отличиться перед его взором.
В то время как мы вели отчаянную войну на Пиренейском полуострове, малопохвальную по ее мотивам и результатам, полк Жозефа Наполеона... доблестно сражался в наших рядах. Кастильская верность и отвага не подвели. То же можно сказать о всем португальском легионе, составленном из пехоты и кавалерии. Он отличился своей храбростью и порывом в битве при Валутиной горе, где понес тяжелые потери. Этот легион участвовал с нами во всех битвах кампании и прошел вместе с нами все отступление через заснеженные равнины.
Что касается прусского контингента, он покинул нас 30 декабря. Но в течение всей кампании 1812 г. он соперничал в отваге и порыве с французскими и польскими войсками, и, согласно выражению герцога Тарентского, которое он употребил в письме, лежащем передо мной, "покрыл себя славой"»77.
Последнее, пожалуй, является одним из наиболее парадоксальных моментов в истории иностранных контингентов Великой Армии 1812 г. В то время как австрийский корпус, ведомый князем Шварценбергом, оперировавший на южном фланге главной армии, сражался именно так, как этого, в общем, можно было ожидать от традиционных противников Франции - достаточно вяло и с нежеланием, пруссаки дрались не за страх, а за совесть.
Вообще, не следует забывать, что в Пруссии, несмотря на превалирующее враждебное отношение к французской оккупации, не только уязвившей национальное самолюбие, но и нанесшей удар по материальным интересам практически всех слоев населения, существовала весьма значительная профранцузская партия, состоящая частично из образованных чиновников, частично из интеллигенции и из ряда офицеров, попавших под обаяние Наполеона и восхищавшихся его военным гением. Эта партия особенно активизировалась с того момента, когда Пруссия под давлением обстоятельств вынуждена была подписать конвенцию от 24 февраля 1812 г., в силу которой она становилась союзницей Франции. В отставку был уволен ряд высокопоставленных лиц, имевших слишком явные националистические взгляды, в частности глава тайной полиции Юстус Грюнер. Во главе же Прусского корпуса, отправляющегося сражаться в рядах Великой Армии, был поставлен генерал фон Граверт, ярый поклонник Наполеона и сторонник профранцузской политики.
«Счастливый оказаться под предводительством великого монарха и следовать к славе вместе с героями, увитыми лаврами, - писал Граверт в ответ на свое назначение, - прусский корпус желает только получить случай, чтобы показать себя достойным быть в рядах армии, подвиги которой будут вызывать изумление грядущих поколений»78.
Подобный случай очень скоро представился. 19 июля 1812 г. передовые войска Граверта (8 батальонов и 6 эскадронов), двигавшиеся на Ригу, встретили под местечком Экау русские части под командованием генерала Левиза (8 батальонов, 4 эскадрона, 3 казачьих полка). Атака пруссаков была стремительной. Войска генерала Левиза потерпели поражение и поспешно ретировались с поля сражения. Интересно, что в этом бою прусские драгуны захватили знамя 2-го батальона Ревельского пехотного полка - это было единственное знамя, захваченное в ходе первого периода войны. Несмотря на кровавые сражения под Полоцком, Смоленском, Валутиной горой и великую Бородинскую битву, ни русским, ни французским войскам не удалось взять знамен противника, кроме того, что добыли прусские драгуны.
В августе тяжело заболевший Граверт вынужден был покинуть корпус и передать командование генералу фон Йорку, который, в отличие от своего предшественника, был представителем прусского офицерства, проникнутого националистическим духом. Однако престиж императорской армии к тому времени был столь велик, что смена командования не внесла поначалу никаких изменений в поведение прусского вспомогательного корпуса. В первых числах сентября ряд прусских офицеров получили от Императора ордена Почетного Легиона за отличия в боях. «Позвольте поблагодарить Вас, монсеньор, - писал Йорк маршалу Макдональду, - за то, что Вы соблаговолили донести до Великодушного Монарха признательность и нашу благодарность по отношению к Вам за заботу о вверенных Вам прусских войсках и за эту награду»79.
Таким же витиевато напыщенным старофранцузским слогом выражали свои чувства и другие прусские офицеры: «Отличие, которым Его Величество соблаговолил меня почтить, возведя меня в достоинство кавалера Почетного Легиона, наполняет меня новым рвением к службе, - писал генерал фон Клейст, - и при каждом случае я буду стараться добиться уважения Ва - шей Светлости, доказывая глубокие чувства самой почтительной преданности, с которой я, Монсеньор, имею честь быть Вашей Светлости нижайшим и покорнейшим слугой»80.
Когда же Прусскому корпусу было объявлено о результатах Бородинского сражения, фон Йорк направил Макдональду письмо, почти что переполненное энтузиазмом: «Я спешу, Монсеньор, выразить Вам нашу единодушную радость по поводу этого важного события, и я с удовольствием исполню Ваш приказ - отпраздновать со всей достойной торжественностью этот новый успех французского оружия»81.
Нечего и говорить, что прусские части, шедшие в рядах главной армии, сражались ничуть не хуже остальных, в частности и в Бородинской битве. Но что не столь очевидно, так это то, что в глубоком тылу Пруссия притихла в ожидании вестей из России. А первые сообщения были, как известно, одно оптимистичней другого. На территории Пруссии отмечалось даже 15 августа - день рождения Наполеона. В этот день в кафедральном соборе города Эльбинг генеральный комиссар Западной Пруссии де Буань произнес торжественную речь, которая резюмирует процесс, о котором говорилось в этой главе, и знаменует собой, очевидно, пик наполеоновской Европы: «От далекой Иллирии до берегов Тибра и Сены, от берегов Тахо до Двины и Борисфена (Днепра), от Эгейского моря до Балтики - во всем этом огромном пространстве, занимаемом Империей и Цивилизацией, искусствами и науками, все нации, ее составляющие, все монархи, правящие ей, объединенные одними интересами, одними чувствами, празднуют сегодня годовщину рождения Наполеона Великого, Императора французов и короля Италии... Если Император расширил так далеко пределы своей Империи силой своего оружия и своего гения, а также мудрости... он объединил также сердца всех народов, которым он вынужден был некогда нести войну.
Я хочу прежде всего говорить здесь о жителях Пруссии. Действительно, когда-то берега Вислы и Немана были ареной боев между Империей и этим королевством, но теперь Его Величество король Пруссии дает своим подданным пример дружбы и преданности Франции и верности своим клятвам. Прусские войска сражаются под теми же знаменами, что и войска Его Императорского величества и соперничают с ним в отваге и славе...
...Все бывшие враги стали друзьями и верными союзниками Его Величества, сражаясь сегодня против Англии и России - единственных держав, противостоящих ему.
Эти огромные политические изменения - не только плод побед и результат доверия к монарху, целью которого является прочный мир... и прекращение войн, которые в течение стольких веков истощали Европу и не согласуются с тем состоянием цивилизации, до которого она поднялась...
Либеральные принципы легли в основу законодательств всех государств... и кодекс Наполеона, принятый во многих из них, станет, без сомнения, вскоре всеобщим...
Если мы вспомним также о единстве мер и весов... народы Европы будут в скором времени представлять из себя единую семью, хотя и под властью отдельных и независимых правительств, это и было бы высшим достижением цивилизации.
Нищенство - эта проказа общества - искоренено во всей Империи. Построены дома, где несчастные находят верное убежище, отдых, заботу и утешение...
Воображение изумляется, когда видишь, какие... преодолены, казалось бы, непреодолимые барьеры природы, чтобы прорубить дороги, ведущие из Франции в Италию через перевал Мон-Сенис и перевал Сен-Бернар; какие прорыты каналы, чтобы соединить море с внутренними областями Империи; когда смотришь на то, сколь много создано новых полезных учреждений, сколь большую поддержку получили науки, торговля, мануфактуры, как украшена или, иначе говоря, реконструирована столица, ставшая, несмотря на древность, новым городом - самым большим и самым великолепным; когда видишь Рим словно поднятым той же рукой из руин и занявшим место, которое он когда-то занимал в дни своей славы...»82
Несмотря на помпезный слог и официальную лесть, этот текст заслуживает внимания, так как ясно иллюстрирует то, как виделась Империя Европы и ее будущее в пору успехов наполеоновского войска. Здесь «Империя» понимается не только в узком смысле этого слова — Французская Империя, хотя такое значение в тексте также встречается. Империя для автора речи - это прежде всего пространство от Тахо до Днепра, Империя, которая должна объединить все европейские народы в единой семье, создать новый мир с большей социальной справедливостью, стать империей «цивилизации, наук и искусств...» Этой мечте, как известно, не суждено было сбыться. Московский пожар поглотит в своем пекле грезы о новом Риме... Великая Армия начала свое печально знаменитое отступление, которое в скором времени превратилось в катастрофу для нее и для идеи Европейской Империи. Однако было бы неверным упрощением сказать, что как только Великая Армия начала свою тяжелую ретираду, составляющие ее контингенты тотчас покинули ряды единого войска. Само по себе начало военных неудач вовсе не означало мгновенного изменения поведения иностранных солдат и офицеров. Даже Прусский корпус в самых последних числах октября - начале ноября 1812 г. не выказывал существенных признаков изменения настроений. 31 октября 1812 г. генерал Йорк писал Макдональду из Миттавы: «Монсеньор, генерал Рёдерер имел любезность передать мне Ваше намерение атаковать врага, чтобы наказать его за дерзость, с которой он вышел из крепости и постоянно беспокоит наши аванпосты. Это решение мне кажется самым лучшим способом, чтобы добиться спокойствия и доставить огромное удовольствие прусским войскам, которые не желают ничего лучшего, как идти на врага под командованием Вашей светлости...»83
Саксонская армия в 1812 г. Слева направо: гренадер полка принца Фридриха Августа (с красно-зеленым султаном), офицер гвардейских гренадеров, генерал, фузилер полка принца Максимилиана.
Звезда ордена Воссоединения.
Эти слова были подкреплены делом. Немецкие войска произвели 20 ноября 1812 г. внезапную контратаку, столь решительную, что наседавшие на них части понесли жестокий урон. Только пленными пруссаки захватили около полутора тысяч человек 84.
Но эпизодом войны 1812 г., который поистине можно назвать лебединой песней наполеоновской Европы, стал бой 28 ноября 1812 г. у переправы через Березину. Это событие кажется нам столь важным с точки зрения темы данной главы и обычно представляется в столь извращенном свете, что мы решили посвятить ему достаточно подробное описание.
Итак, в начале двадцатых чисел ноября 1812 г. остатки основной группировки Великой Армии после тяжелых боев под Красным оторвались от преследующей их главной армии Кутузова и приближались к реке Березине, лежащей поперек пути отступления. В принципе Березина не представляет собой значительной в стратегическом плане водной преграды, но в конкретной обстановке, на театре военных действий, она приобрела важность, непропорциональную ее географическому значению. Дело в том, что наперерез отступавшей наполеоновской армии с юго-запада двигалась так называемая Дунайская армия под командованием адмирала Чичагова (около 35 тыс. человек), а с севера, напирая на войска Удино, наступала другая русская армия под командованием генерала Витгенштейна (около 30-35 тыс.), значительно усилившаяся за счет подошедших резервных формирований. Таким образом, река Березина могла стать рубежом, опираясь на который, русская армия получала возможность остановить движение отступающих французов и раздавить их ударом превосходящих сил со всех сторон.
22 ноября в Толочине, на пути к Борисову, где находилась переправа через Березину, Наполеон получает известие о катастрофе. Подошедшие с юго-запада передовые отряды Дунайской армии, разгромив отряд генерала Домбровского, взяли борисовский «тет-де-пон»*, находящийся на западном берегу, и вдобавок заняли сам Борисов, лежащий на восточном берегу Березины. Конечно, в иной ситуации факт нахождения на противоположном берегу реки русских войск не означал непременно трагедии для наполеоновских войск: известно, как обычно сложно было оборонять водную преграду огромной протяженности. Однако в условиях, когда на плечах у отступающих французов висели армии Витгенштейна и Кутузова, а времени и места для маневра практически не оставалось, дело приобретало поистине трагический оборот. Если же принять во внимание степень разложения большей части Великой Армии, то в подобной ситуации она просто оказалась на грани гибели. «Дело становится серьезным», - мрачно заметил Император Коленкуру. Теперь его самые дурные предчувствия оправдывались. Впрочем, через день Наполеон получил известие о том, что 2-й корпус герцога Реджио (Удино) атаковал авангард Дунайской армии, который был непредусмотрительно выдвинут прямо навстречу главным силам французов. Удино сообщал о том, что этот авангард (под командованием графа Палена) наголову разбит и что 2-й корпус ворвался в Борисов, захватив богатые трофеи. Однако это известие было слабым утешением: мост через Березину был разрушен, а на противоположном берегу стояли русские войска.
* Тет-де-пон - от франц. «tete de pont» - «предмостное пление”
Расположение русских и французских соединений на главном театре военных действий на 22 ноября 1812 г., и их действия накануне переправы наполеоновских войск через Березину.
В этой, казалось бы, безвыходной ситуации Император проявил твердость духа и мастерство полководца. Еще накануне генерал Корбино, двигавшийся на соединение со 2-м корпусом, нашел брод через Березину в районе деревни Студянка (16 км севернее г. Борисова). В то же время Наполеону донесли о существовании брода у деревни Ухолода южнее Борисова. Направив на Ухолоду небольшой отряд, а также осуществив демонстрацию попытки восстановления переправы непосредственно у Борисова, Император двинул свои главные силы на Студянку. Вечером 25 ноября сюда прибыли части корпуса Удино, а также понтонеры генерала Эбле - мужественные солдаты, сохранившие, несмотря на перипетии отступления, порядок, дисциплину и готовность к самопожертвованию. Понтонеров было 400 человек (7 рот) с полной экипировкой и вооружением. Всего лишь за пять дней до этого в Оргпе вследствие недостатка упряжных лошадей были сожжены понтоны, с помощью которых можно было бы быстро навести мост. Учитывая ширину реки в районе Студянки (около 110 м), ее глубину (около 2 м) и скорость течения, на это потребовалось бы не более часа. Но теперь понтонного парка не было. К счастью для Великой Армии, генерал Эбле предусмотрительно сохранил шесть фур с инструментами, две походные кузницы и два фургона с углем. Тотчас же понтонеры и саперы приступили к делу - в сгущающихся сумерках зажглись огни походных кузниц и закипела работа, которая продолжалась всю ночь. Пока саперы 2-го корпуса разбирали дома Студянки и пилили деревья, понтонеры ковали скобы и гвозди, собирали козлы, готовили плоты.
С рассветом 26 ноября небольшой отряд кавалерии с вольтижерами на крупах лошадей перешел реку вброд и завел бой с отрядом, обороняющим противоположный берег. Однако, к удивлению Наполеона, русские войска не оказывали значительного сопротивления. Чичагов, частично обманутый маневрами Императора, а частью обескураженный тем, что остался один на один с великим полководцем, оставил напротив Студянки только слабый отряд пехоты и несколько сот казаков, и все они по странной оплошности покинули ночью свой пост напротив брода.
В восемь часов утра началась наводка мостов. Мужественные понтонеры на лютом холоде вынуждены были войти где по пояс, а где по плечи в ледяную воду. Немногие из тех, кто совершил этот акт самопожертвования, сумели пережить переправу... Согласно документу, относящемуся к этим событиям, пожалуй, самому точному, беспристрастному и лишенному всякой экзальтации - отчету полковника Шапеля, написанному 20 июля 1818 г., - более сотни понтонеров работали в воде. Почти все они умерли от переохлаждения вскоре после форсирования Березины85. Среди героев-понтонеров были и солдаты нефранцузского происхождения, а именно 11-я рота, состоящая целиком из голландцев.
К 13 часам дня правый мост для пехоты и кавалерии был готов, и тотчас началась переправа корпуса Удино. «Наполеон, который с утра не покидал берега Березины, встал у входа на мост, чтобы видеть, как проходит 2-й корпус, все полки которого шли в величайшем порядке и с решимостью вступить в бой»86. С большими предосторожностями по этому же мосту перевезли восьмифунтовую пушку и гаубицу, чтобы окончательно отогнать русский отряд от переправы.
Под грохот орудий и треск ружейной пальбы, раздававшийся с правого берега, стоя в воде, покрытой льдинами, французские понтонеры продолжали невозмутимо делать свое дело. В 16 часов был готов второй мост для артиллерии, и тотчас же по нему покатились пушки и зарядные фуры 2-го корпуса, за ними шли орудия гвардейской артиллерии и тяжелые повозки армейского артиллерийского парка.
В 20 часов три опоры левого моста рухнули под тяжестью повозок. Но понтонеры снова вошли в воду и нечеловеческими усилиями сумели починить мост. В 23 часа при свете костров и факелов пришли в движение пушки и фуры, тяжелые колеса которых снова загрохотали по отремонтированному настилу. Переправа продолжалась безостановочно, но ночью снова рухнуло несколько опор, и понтонеры, совершая невозможное, опять принялись за работу и отремонтировали мост к 6 часам утра.
27-го на рассвете на правый берег двинулась Гвардия, переправился сам Император со штабом, большая часть артиллерии, организованные остатки корпусов Даву, Нея, Евгения Богарне и резервной кавалерии... Все эти войска шли в порядке. На мосты, оцепленные гвардейскими жандармами, не допускались отставшие и безоружные. Впрочем, днем последних было немного. Толпы «одиночек», маркитантки с детьми, караван- сарай из повозок, карет, фур, телег - все это охвостье армии нахлынуло только к вечеру. На этот момент переправа армии фактически уже завершилась. На восточном берегу оставался лишь 9-й корпус Виктора, которому было поручено прикрыть, насколько это будет возможно, мосты от наступления русских, а также дождаться дивизии Партуно, которая была оставлена в Борисове в качестве арьергарда. В штабе еще не знали, что именно в этот момент, вечером 27 ноября, Партуно со своей дивизией (около 4 тыс. человек) наткнулся на армию Витгенштейна. Дивизия героически сражалась и потеряла в бою примерно половину своего состава убитыми и ранеными. Ее остатки, окруженные со всех сторон многократно превосходящими по численности силами, были вынуждены сложить оружие.
Однако основная часть исторической драмы, глубоко врезавшейся в память всех тех, кто стал ее свидетелем, произошла 28 ноября 1812 г. На рассвете этого дня армия Чичагова выступила со стороны деревни Большой Стахов, чтобы атаковать уже переправившиеся полки Великой Армии, а Витгенштейн, двигавшийся по восточному берегу, готовился обрушиться на тех, кто еще ожидал своей участи у переправы через Березину.
Многие источники подтверждают поразительный факт. Огромные толпы отставших, собравшиеся вечером накануне на берегу реки, беспечно провели ночь у бивачных костров, и не помышляя о переправе, в то время как мосты через реку в ночь с 27 на 28 ноября были совершенно свободны! Данное обстоятельство еще раз подтверждает, что все боеспособные части, за исключением намеренно оставленного для защиты мостов 9-го корпуса Виктора, перешли реку без существенных затруднений. Более того, в связи с тем, что силы 9-го корпуса, оставшиеся на восточном берегу, с исчезновением дивизии Партуно оказались явно недостаточными для сдерживания Витгенштейна, дивизии Дендельса было приказано вернуться обратно на левый берег! Этот приказ был выполнен немецкими солдатами Дендельса без всяких помех при переправе.
В результате с рассветом 28 ноября солдаты Великой Армии, сохранившие честь и дисциплину, выстроились на обоих берегах реки, фактически лишь для того, чтобы прикрыть своими телами нестройные толпы «одиночек» и гражданских лиц, сопровождавших армию, которые среди громадного скопища повозок с утра потянулись к мостам.
На правом (западном) берегу Березины против войск Чичагова развернулись следующие силы.
1-я линия
■ пехота 2-го корпуса Удино - около 4 тыс. человек;
■ остатки пехоты корпуса Нея - около 400 человек;
■ артиллерия 2-го корпуса - около 400 человек.
Итого: 4800 человек под общим командованием маршала Удино.
Сражение на р. Березине (28 ноября 1812 г.).
В строю этих войск находились, кроме французских частей, все четыре швейцарских пехотных полка, 3-й Португальский, 3-й Временный хорватский полк, 123-й и 124-й полки, полностью сформированные из голландцев, 128-й пехотный полк, состоящий из уроженцев города Бремена, остатки 1-го и 2-го Португальских и Вюртембергской пехотной дивизии.
1-я линия состояла из остатков всех польских пехотных частей и находилась под командованием маршала Нея. Это были
■ 7-я дивизия Домбровского - 850 человек;
■ остатки 5-го корпуса под командованием генерала Зайончека (дивизии Красинского и Княжевича) - 600 человек;
■ бригада генерала Жолтовского - 1000 человек;
■ отряд полковника Винцента Малиновского - 1000 человек;
■ Вислинский легион (дивизия Клапареда) - 1800 человек;
■ польские артиллеристы - 100 человек.
Итого: 5350 человек - все поляки.
В резерве за второй линией расположились конные войска:
■ кирасирская дивизия Думерка - 1200 человек;
■ легкоконные бригады Кастекса и Корбино (из 2-го корпуса) - 800 человек;
■ все негвардейские польские конные части - 1100 человек.
Итого - 3100 человек.
Кроме польской кавалерии, один из трех полков Думерка состоял полностью из голландцев (14-й кирасирский).
Наконец, общим резервом служили войска Императорской Гвардии:
■ Молодая Гвардия (маршал Мортье) - 1500 человек;
■ Старая Гвардия (маршал Лефевр) - 3500 человек;
■ гвардейская кавалерия (маршал Бессьер) - 1200 человек.
Кроме того, 1-й корпус Даву и 4-й корпус Евгения Богарне отходили по дороге на Вильно. Их участие в бою не предусматривалось.
Таким образом, общая численность войск, которыми Наполеон располагал на левом берегу, составляла примерно 19,5 тыс. человек, а с учетом не включенных в этот перечень артиллеристов, саперов, понтонеров, жандармов и т. д. - приблизительно 20 тыс. человек, из которых около половины были солдатами иностранных контингентов или иностранных полков.
На левом берегу изготовились для боя части маршала Виктора. Это были практически одни иностранные войска. Исключение составлял лишь один французский батальон (213 человек), который оставался во всем корпусе. Этот батальон 55-го линейного полка был единственным из дивизии Партуно, который чудом уцелел. Маршал поставил его на крайний правый фланг, упиравшийся в Березину. Рядом с ним, чуть левее, расположилась баденская бригада, которая насчитывала в своих рядах 1828 человек и представляла собой надежные войска. Многие из ее солдат имели за плечами славный опыт кампании 1809 г., а некоторые прошли даже кампании 1806 и 1807 гг. Бригада находилась под командованием графа фон Хохберга, наследного герцога Баденского. Молодой генерал (Хохбергу было всего лишь 20 дет!) заслужил высокую оценку маршала Виктора, который в письме к Бертье от 24 ноября 1812 г. сказал, что «единственные войска 9-го корпуса, которые всегда шли в безупречном порядке - это баденская бригада. Я должен по этому поводу воздать самые высокие похвалы г-ну графу Хохбергу»87. (Интересно, что накануне встречи с остатками главных сил в 9-м корпусе почему-то решили, что Император проведет им смотр. Поэтому юный генерал издал утром 25 ноября следующий приказ: «Завтра мы двигаемся на Борисов, где по всей вероятности Его Величество Император проведет смотр корпуса. Я прошу господ генералов сделать все, чтобы батальоны предстали на нем в самой чистой форме и наилучшим образом»88. Действительно, наутро построенные ровными рядами, хотя и прокопченные бивачным дымом, но вычищенные, подтянутые, со сверкающим оружием, баденцы замерли в ожидании встречи с Императором и Великой Армией... То, что они увидели, потрясло их до глубины души...)
В центре боевого порядка Виктора расположилась бригада бергской пехоты под командованием генерала де Дама, общей численностью 1210 человек. Эти полки не были столь закаленными частями, как их товарищи по оружию из Бадена, но они также сохранили воинский дух и выправку. Наконец, на левом крыле корпуса встала польская дивизия под командованием генерала Жирара - 1896 человек. Это были уже известные нам 4-й, 7-й и 9-й полки герцогства Варшавского, прибывшие из Испании. Хотя они и пополнялись рекрутами, проходя через Польшу, но насчитывали в своих рядах немало ветеранов испанской кампании, героев Альмонасида, Оканьи и Фуэнгиролы.
Еще левее поляков расположились саксонские пехотинцы полков фон Рехтена и фон Лоу - 1009 человек.
Наконец, оконечность левого крыла корпуса была прикрыта легкой кавалерийской бригадой Фурнье (350 человек), состоявшей из баденских гусар и гессенских шеволежеров.
В корпусе было также 120 артиллеристов (польских и французских), обслуживавших 14 орудий. Общая численность войск под командой маршала Виктора: 6626 человек. (Эта точность в исчислении количества войск удивительна даже для самых успешных периодов боевых операций. Она связанас той скрупулезностью, с которой сам маршал и его подчиненные составили боевые рапорты о бое 28 ноября, по счастью, дошедшие до нашего времени.
Разумеется, эту цифру все равно надо округлить до 6,5-7 тыс. человек, так как никто не может быть уверен, что все подсчеты произведены абсолютно точно.)
Среди солдат корпуса 250-300 человек были французами. Остальные шесть с лишним тысяч - немцы и поляки.
Итак, общая численность войск Великой Армии, которые потенциально могли быть использованы для боя, составляла 26—27 тыс. человек. Так как Гвардия в сражении не приняла участия, реально со стороны французов и их союзников было введено в дело около 20 тыс. солдат и офицеров.
Русские генералы располагали куда более значительными силами. Чичагов имел в день сражения около 30 тыс. человек, Витгенштейн также около 30 тыс. человек, наконец, от главной армии прибыли отряды Платова и Ермолова, которые перешли накануне Березину у Борисова и расположились позади войск Чичагова. В общей сложности - около 70 тыс. солдат. Преимущество в силах, как мы видим, было более чем значительно. Однако необходимо принять во внимание, что отряд Ермолова был крайне утомлен форсированными маршами и не мог принять участия в сражении. Фактически остались без боевой задачи и казаки Платова. Наконец, Витгенштейн будет действовать крайне осторожно. Часть его войск утром 28 ноября занималась к тому же окончательным пленением остатков отряда Партуно, другие подходили к полю сражения постепенно. В результате на западном берегу войска Наполеона будут атакованы 25 тысячами русских солдат, а на восточном - 14-15 тысячами. Однако, даже принимая во внимание неучастие в бою многих русских полков, Чичагов и Витгенштейн располагали практически двойным перевесом в силах.
На правом берегу сражение началось с рассветом. Адмирал Чичагов поручил генералу Чаплицу выступить с авангардом и напасть на неприятеля. Русские войска двинулись четырьмя группами: впереди отряд генерала Рудзевича, поддержанный слева и справа колоннами генералов Корнилова и Мещеринова, вдоль по берегу Березины егеря полковника Красовского. За исключением дороги, проходившей перпендикулярно линии фронта, и нескольких полян, все пространство, где развернулась битва, было покрыто лесом. Несмотря на то что Стаховский лес местами был очень редким, действовать в сомкнутых строях представлялось мало возможным, и волей-неволей большая часть полков развернулась в стрелковые цепи, завязав огневой бой. Русские генералы, используя свое численное превосходство, стали активно теснить пехоту Удино. Неся тяжелые потери, французы, швейцарцы, хорваты... откатились назад. Более того, одна из русских пуль ранила в бок маршала Удино. Это была уже двадцать вторая рана отважного воина. Обливаясь кровью, Удино упал с лошади, а его нога запуталась в стремени. Только вовремя подоспевший адъютант спас маршала. Командование всеми силами в Стаховском лесу принял Ней. Князь Москворецкий, видя, что дело приобретает дурной оборот, распорядился бросить в огонь вторую линию, состоявшую, как уже отмечалось, полностью из польской пехоты. Правее дороги (по отношению к французам) двинулся вперед Вислинский легион, а левее, между дорогой и рекой, - остальные полки. Остатки пехоты 5-го корпуса лично повел в атаку старый генерал Зайончек, ветеран Египетского похода. Ему было 60 лет, но он, спешившись, пошел в строю пехоты. К этому времени бой уже приближался к тому месту, где находился сам Наполеон, и поэтому Зайончек прошел со своей колонной мимо небольшой возвышенности, на которой стоял Император. «В голове первой дивизии, - вспоминает Генрих Дембиньский, - в пешем строю шел генерал Зайончек. На нем была соболиная шапка, на шее теплый шарф. Он шел с обнаженной шпагой, поддерживаемый адъютантами Мирошевским и Володковичем. Император, хотя хорошо помнил Зайончека с Египта, не узнал его, и, приняв его за Домбровского, крикнул: "Давайте же, Домбровский! Возьмите реванш!"* Когда адъютанты повторили Зайончеку слова Императора, так как он их не расслышал, генерал сказал: "Ответьте ему, что я возьму реванш за Домбровского"»89. Польские части стремительно атаковали русских стрелков и отбросили их в глубину леса. А 12-й польский пехотный полк так активно преследовал отходящие части Чаплица, что чуть не захватил батарею, стоявшую уже по другую сторону леса. Впрочем, этот успех был куплен дорогой ценой. В числе раненых польских воинов был и генерал Зайончек. Адъютанты отнесли своего командира в тыл, где его немедленно прооперировал знаменитый хирург Ларрей, ампутировавший старому генералу раненую ногу.
* Это было, разумеется, произнесено по-французски. Император напоминал о неудаче отряда Домбровского, который не смог отстоять за несколько дней до этого Борисовские предмостные укрепления.
Однако в этот момент Чичагов прибыл в Стахов и приказал бросить в бой 9-ю дивизию Воинова и 18-ю дивизию Щербатова, которых повел в атаку начальник штаба армии, генерал Сабанеев.
С громкими криками "Ура!" и барабанным боем тучи стрелков наводнили лес. Нужно сказать, что генерал Сабанеев был большим любителем стрелковых цепей, и поэтому тысячи людей были введены в бой в рассыпном строю. Польские полки откатились с тяжелыми потерями, причем были ранены генерал Домбровский, полковники Малаховский, Блумер и Серав- ский. Однако этот успех был куплен ценой полного расстройства рядов русской армии. Войска авангарда смешались с войсками 9-й и 18-й дивизий. Ни Сабанеев, ни Чаплиц, ни тем более Чичагов, даже не покинувший Стахова (злые языки утверждали, что адмирал в это время преспокойно попивал чай в теплой избе) не управляли боем. Дунайская армия представляла собой огромные массы стрелков, ведущих беспорядочный бой и рассыпанных по лесу на широком фронте. По всей видимости, лишь несколько резервных частей, стоявших на полянах, остались в сомкнутом строю. За ходом боя внимательно наблюдал Ней. «К полудню, - вспоминал офицер штаба, - маршал Ней приехал, чтобы обсудить ход боя с герцогом Тревизским (Мортье) и по своей привычке встал на самое опасное место посреди широкой дороги. Маршал Мортье, с его характером, закаленным в двадцати битвах, не мог показать себя менее неустрашимым, чем князь Москворецкий, и подъехал к нему на это место. Все бригадные и дивизионные генералы решили, что честь требует от них последовать их примеру, и поэтому в одном месте собралась целая плеяда знаменитостей. Кроме маршалов здесь можно было увидеть генерала Делаборда, генерала графа Роге, генерала Бертезена, генерала Думерка, голландского генерала Тендаля, князя Эмиля Гессенского... Никто из генералов, вставших на это опасное место, не был сражен, но по странной случайности русские ядра попадали в стоявших позади нас португальских кавалеристов, представлявших в этот момент единственный эскорт герцога Тревизского.
Замечательно, что эти конные егеря, родившиеся на берегах Тахо, пришли сюда из столь далеких краев на лошадях, рожденных там же, сумели выдержать лучше, чем другие, суровые холода, недостаток продовольствия и фуража»90.
Заметив неорганизованность русского наступления, Ней решил осуществить дерзкий контрудар. Он приказал генералу Думерку атаковать со своими кирасирами прямо через лес. Прежде чем начать действовать, Думерк, внимательно осмотрев местность, пришел к выводу, что редкий лес, состоявший из высоких сосен, действительно позволяет передвигаться конным отрядам. Более того, справа от дороги он заметил большую поляну, где в сомкнутой колонне стояли русские резервы. Появление кирасиров было полной неожиданностью для пехотинцев 9-й и 18-й дивизий. Справа от дороги 7-й кирасирский, стремительно пройдя через лес, выехал на поляну и, в считанные мгновенья развернувшись в линию, атаковал резервные колонны, по всей видимости, даже не успевшие построиться в каре. Слева от дороги 4-й кирасирский бросился на цепи стрелков в лесу. В качестве резерва атаки двигался 14-й полк (состоявший из голландцев). Наконец, вслед за кирасирами устремились в бой и польские уланы бригады Дзевановского (2-й, 7-й и 15-й полки). Командир 15-й дивизии Дунайской армии Ланжерон вспоминал: «Эта атака на подобной местности была для нас абсолютно неожиданна и имела для нашей армии пагубные результаты. Думерк выехал прямо из-за деревьев и кустов, собрал своих кирасиров на опушке двух маленьких полян и, построив их в одно мгновенье, бросился на колонны. Кирасиры зарубили не менее шестисот человек и столько же взяли в плен» 91. Особенно сильную панику вызвал стремительный бросок французских и голландских кирасиров на пехоту, стоявшую в рассыпных строях. Толпы стрелков в панике бросились назад, а разгоряченные кирасиры рубили и топтали егерей между сосен. Генерал Чаплиц был ранен пистолетным выстрелом в голову; под Воиновым был убит конь, и ему едва удалось спастись; наконец, генерала Щербатова польские уланы уже тянули за мундир, когда на выручку пехоте бросились павлоградские гусары и Санкт-Петербургский драгунский полк, которым удалось освободить командующего 18-й дивизией и остановить стремительное продвижение французских и польских кавалеристов. Тем не менее результаты внезапной атаки Думерка были огромны. Если даже отставить в сторону эпический размах данных некоторых французских историков, которые сообщают, что кирасиры захватили в плен 7 тыс. человек (!), нет сомнения, что русская пехота была полностью опрокинута и, вероятно, потеряла около 1500 - 2000 человек убитыми и ранеными.
Фактически, после этой контратаки французов бой превратится в бесконечную ружейную перестрелку с короткой дистанции, переходящую кое-где в отчаянные штыковые схватки. Однако ни одна из сторон не будет пытаться идти на обострение: французы по причине своей малочисленности, русские - опасаясь какого-нибудь нового неожиданного контрудара. Впрочем, потери от этого были ничуть не меньше, чем они могли быть в «маневренном» бою. Обе стороны усеяли трупами своих солдат лес и поляны между Стаховым и Брилями.
Кроме поляков, в этом бою покрыли себя славой швейцарские полки. Они понесли тяжелейшие потери, но не сделали ни шагу назад. 2-й швейцарский практически перестал существовать, в его строю осталось вечером 28 ноября... 2 офицера и 12 солдат!92А вот что вспоминал о битве на Березине солдат 3-го швейцарского полка Жан-Марк Бюсси: «Все смешалось в отчаянной драке. Мы больше не могли стрелять. Дрались только штыками, бились прикладами... Куча людей валялась на снегу. Наши ряды чертовски поредели. Мы уже не осмеливались посмотреть ни направо, ни налево, боясь, что мы не увидим там своих товарищей. Наш строй сомкнулся, боевая линия укоротилась, но наша отвага удвоилась. Раненые вставали в строй. Патронов было хоть отбавляй, и мы набили ими свои подсумки... Но вот снова мы сблизились и снова кинулись на врага в штыки... Снова ужасный бой, и мы деремся с безумной отвагой. Вокруг просто резня!.. Но мы знали, что они не дойдут до мостов, чтобы сделать это, им потребовалось бы пройти по нашим телам, перебив нас до последнего. Мы не чувствовали холода и кричали: "Да здравствует Император !"»93
Действительно, войскам Чичагова не удалось сдвинуть с места мужественных швейцарцев, поляков, французов, хорватов, голландцев и португальцев! Жестокий бой продолжался уже в кромешной тьме, освещаемой только вспышками выстрелов. Только в 11 часов ночи обе стороны в изнеможении прекратили пальбу и атаки.
В то время как на правом берегу Ней упорно сдерживал наступление войск Дунайской армии, на левом берегу кипел не менее жестокий бой, почти у самой переправы. Витгенштейн начал атаку в 9 утра. В рядах его армии, как мы уже отмечали, было более 30 тыс. человек. Однако он выдвигал свои части очень осторожно и неторопливо: сначала отряд Властова, затем Берга и, наконец, только после полудня, резерв Фока - всего 14-15 тыс. человек.
Бой начался атаками русских войск на правое крыло корпуса Виктора, где, как уже отмечалось, стояла баденская бригада, которая поддержала здесь свою уже надежно укрепившуюся репутацию мужественных воинов. Весь день стоя под непрерывным огнем артиллерии и пехоты, она отражала попытки русских частей пробиться к мостам. Потери бригады Хохберга были ужасающими. Не уступив ни пяди земли, баденские полки потеряли убитыми и ранеными 1128 человек из 1828, вступивших утром в бой.
Тем не менее к часу пополудни русские войска, используя свое значительное" численное превосходство, охватили 9-й корпус. Одна русская батарея была выдвинута на крайний левый фланг Витгенштейна, почти к самой реке, и продольными выстрелами стала накрывать толпы «одиночек» у мостов, другие пушки выкатились на гребень холмов, которые словно амфитеатром окружали позиции Виктора, и также открыли интенсивный огонь. Гранаты русских «единорогов» рвались прямо в гуще отставших, устремившихся к переправам. Ядра, пробивая кровавые борозды, рвали на части людей и лошадей, в щепки разбивая повозки и экипажи. Именно в этот момент в скопище «одиночек», с утра пытавшихся, толкая друг друга, добраться до мостов, возникла дикая паника, страшные подробности которой дошли до нас в десятках мемуаров. «Произошла давка, подобной которой, надеюсь, я никогда больше не увижу, да и не пожелаю никому видеть: страшное и безобразное зрелище! - вспоминал кирасирский офицер Огюст Тирион. - Те самые солдаты, которые ранее бросились бы на выручку товарищей, думали теперь только о сохранении своей собственной жизни, хотя бы ценой жизни своих товарищей. Если кто ослабевал и падал, то толпа наступала на него и давила его насмерть. Валились стиснутые с боков лошади и так же, как и люди, уже более не вставали. Иногда падавшая таким образом лошадь, желая встать на ноги, отчаянно билась и сбивала ближайших к ней людей... и они уже вместе с лошадью больше не вставали»94. «Едва только раздались залпы пушек, - рассказывает другой очевидец, - как... мужчины, женщины, повозки, пушки, фуры, экипажи — все устремилось к узким мостам и смешалось в неописуемом беспорядке... Это была ужасающая давка... Огромная толпа колебалась и волновалась, подобно колосьям под ураганом. Несчастье тому, кто оказался поблизости от реки - страшное давление толпы сбрасывало его в воду, и можно было видеть людей, которые, катясь вниз, пытались уцепиться за опоры мостов и за обледенелые берега. Отброшенные толпой, они падали, исчезали под водой, появлялись снова на поверхности, подобные страшным призракам, и исчезали в пучине уже навсегда. Экипажи и повозки опрокидывались на несчастных, оказавшихся поблизости. Отовсюду доносились крики бегущих, моления и стоны раненых, искалеченных или растоптанных, предсмертные хрипы умирающих, призывы тех, кто искал свои полки. Повсюду валялись кучи оружия, одежды, груды трупов. Рев этого огромного стада, скрип повозок, вопли, путаница - все смешалось в одной картине, грандиозной в своем ужасе» 95.
Впрочем, подобными описаниями полны все книги, где упоминается Березинская переправа. Однако очень мало где говорится, что все эти обезумевшие люди (за исключением, конечно, некоторого количества раненых) были отставшими намеренно от своих полков и что, пока они давили друг друга, вопили в истерике и тонули в реке, всего в нескольких сотнях шагов от них солдаты, верные долгу, погибали как подобает мужчинам и воинам, причем погибали, чтобы спасти хотя бы часть этой потерявшей человеческий облик толпы.
Для того чтобы не дать русской батарее, выдвинувшейся к реке, вести огонь по переправам, в атаку на рощицу был брошен единственный французский батальон, оставшийся в корпусе Виктора. Этот маленький отряд численностью в 213 человек под начальством командира батальона Жуайе, поддержанный действиями баденской бригады, устремился вперед. В упорном бою он оттеснил русскую пехоту и вынудил батарею откатиться назад, тем более что с другого берега реки открыла огонь гвардейская артиллерия. Однако за этот небольшой успех батальон Жуайе заплатил дорогую цену. В течение десяти минут он потерял более трех четвертей своего состава, и в его строю к концу боя останется лишь 42 человека!
Одновременно, чтобы заставить артиллерию на гребне холма также отодвинуться назад «и помешать русским добраться до Березины, маршал Виктор отдал приказ генералу Дама атаковать с бергской бригадой возвышенности, находившиеся перед ним. Построившись в две колонны, величиной приблизительно по батальону каждая, бригада спустилась в низину, - рассказывает граф Хохберг. - Линия неприятельских стрелков немедленно удалилась, но зато за несколько шагов до выхода из леса наши колонны наткнулись на русскую пехоту, которая встретила их сильнейшим залпом»96. Силы были слишком неравны, и несмотря на отчаянные попытки бергских батальонов взять штурмом русские позиции, им это не удалось. Командир бригады генерал Дама получил легкое ранение, а генералу Гейтеру оторвало ядром руку. Более того, русская пехота двинулась в штыки и смяла остатки бергских полков.
В этот критический момент маршал Виктор приказал горсти своей кавалерии сделать невозможное и остановить русский натиск. 350 гессенских шеволежеров и баденских гусар устремились сквозь начавшуюся метель навстречу пулям и ядрам в немыслимую атаку. Недаром в воспоминаниях немецких солдат она получит название «Смертельная атака». Силы были чудовищно неравны, но кавалерия должна была пожертвовать собой для спасения пехоты, для спасения остатков армии. Легкоконная бригада, ведомая полковником фон Ларошем (а не генералом Фурнье, как это обычно пишут все французские авторы, Фурнье незадолго до этого был ранен и покинул поле боя), обрушилась на русскую пехоту. Дерзкая атака немецких кавалеристов была столь неожиданна, что на первых порах увенчалась полным успехом. В мгновенье каре 34-го егерского было прорвано, а пехотинцы, избежавшие ударов сабель, сдались. Здесь шеволежеры п гусары взяли несколько сот пленных (500, согласно рапорту Хохберга). Ободренные этим успехом, немцы, не приводя себя в порядок, продолжили атаку. В этот момент навстречу им выдвинулась русская тяжелая кавалерия - эскадрон кавалергардов и эскадрон конно-гвардейского полка. Ряды баденцев и гессенцев были расстроены и, как указывал полковник шеволежеров Дальвиг, их усталые изможденные кони не могли выдержать удара тяжелой конницы на хороших лошадях. Завязалась кровавая рубка на саблях и на палашах. Полковник фон Ларош, уже раненый до этого штыком, получил вдобавок удар острием клинка по левой стороне лица, пуля пробила его кивер. Тяжело раненный, он был захвачен в плен русскими конногвардейцами, но подлетевший вахмистр Шпрингер отбил своего командира из рук неприятеля... На исходные позиции вернулось не более сотни человек, остальные погибли или, израненные, попали в плен.
В момент, когда началась «Смертельная атака», маршал Виктор подскакал к польской пехоте Жирара и крикнул: «Храбрые поляки, вперед!», тотчас же вслед за конницей в контрнаступление ринулись испанские ветераны 7-го и 9-го полков. В своем рапорте, написанном вечером того же дня (!), Виктор пишет: «После короткой и плотной пальбы они двинулись в штыки... и опрокинутая (кавалерией) колонна была полностью взята в плен или уничтожена. Генерал Жирар, который с отвагой и напором вел в атаку бригаду, был ранен пулей в живот»97.
Адам Козловский из 9-го польского пехотного полка вспоминал: «Нам удалось опрокинуть неприятеля и даже загнать его вплоть до зарослей, из которых он выдвигался. Неподалеку от зарослей мы и остановились в сомкнутых колоннах, и тут началась сильная канонада с обеих сторон. Неприятель не покидал более скрывавших его зарослей... Баварцы (автор имеет в виду бергскую бригаду) привели себя в порядок и встали в резерве, а саксонская бригада мужественно сражалась рядом с нами» 98.
Действительно, саксонская пехота также безупречно действовала в этот день. Она несла огромные потери, но, как и поляки и баденцы, не делала ни шагу назад: «Капитаны Оберниц и Бозе упали, сраженные насмерть вражеским огнем, — вспоминает майор из полка фон Рехтен, - полковник Айнзидель был ранен картечью в грудь, полковой адъютант Дюрфельд ранен в бедро, а другому полковому адъютанту, фон Хельдрайху, оторвало гранатой ногу... капитан Дёрринг был ранен пулей в рот, а мне пуля зацепила голову...»99Документы подтверждают ранения всех этих офицеров, из них можно также узнать, что лейтенант фон Дюрфельд, фон Хельдрайх, а также капитан фон Дерринг умерли от ран и что полк потерял еще пятеро офицеров ранеными.
9-й корпус усеял своими трупами холмы, окружавшие переправу, однако его самоотверженность не пропала даром. Когда вечерняя мгла окутала поле битвы и остановила разбитых от усталости солдат обоих армий, уже ставший крошечным корпус Виктора стоял все на тех же позициях, которые он занимал утром! Последние выстрелы прогремели где-то около пяти-шести часов вечера уже в темноте, а солдаты Виктора продолжали оставаться на месте до девяти часов вечера, когда, согласно приказу, они должны были начать отход. Чтобы остатки 9-го корпуса могли добраться до переправ, 150 понтонеров, также продолжавших до конца исполнять свой долг, занялись разборкой завалов, образовавшихся у входа на мосты. Как рассказывает полковник Шапель, «необходимо было сделать некое подобие траншеи в груде трупов людей и лошадей, среди разбитых и перевернутых экипажей». Он же утверждает, что «9-й корпус покинул свои позиции в 9 часов вечера, оставив на левом берегу небольшие посты и арьергард для наблюдения за противником. Корпус прошел по мостам в порядке, увезя с собой всю артиллерию»100.
Самое удивительное, что, когда темнота разделила сражающихся, оставшиеся на левом берегу «одиночки» с редкой беспечностью развели костры и стали готовить себе ужин - благо топлива и конины было навалом. Ночью переправа опять была свободна! Напрасно генерал Эбле посылал офицеров предупредить, что мосты будут сожжены - «одиночки» в каком-то странном отупении не двинулись ни на шаг от своих костров. В 6.30 утра 29 ноября последние посты Виктора покинули позиции и ушли за реку. Это вдруг, словно электрическая искра, заставило засуетиться толпу, которая снова кинулась топтать и давить друг друга у мостов, в несколько уменьшенных масштабах повторяя ужасы предыдущего дня...
В 8.30 утра мосты были подожжены, а в 9 утра армия Витгенштейна, впереди которой шли отряды казаков, обрушилась на безоружную, беззащитную кучку так и не сумевших переправиться «одиночек» и штатских лиц. Здесь попало в плен, очевидно, около пяти тысяч человек* обоего пола и всех возрастов, было захвачено несколько пушек, а также бесчисленное множество экипажей, повозок и телег...
Битва при Березине закончилась. Наполеоновская армия, понеся тяжелые потери, сумела прорваться сквозь сжимавшееся кольцо окружения, и не просто прорваться, но и отбросить пытавшиеся атаковать ее войска. Конечно, назвать битву при Березине блестящей победой Наполеона, как это делают некоторые историки во Франции, просто язык не поворачивается. С другой стороны, говорить о полном разгроме остатков Великой Армии, как это часто делали историки в России, тоже невозможно. Отступающие войска понесли тяжелые потери - около 25 тыс. убитыми, ранеными и пленными (вместе с дивизией Партуно)** , однако почти половина из них приходилась на «одиночек», маркитанток и гражданских лиц, сопровождавших армию. Однако Наполеону удалось достичь почти что максимально возможного результата. Он не просто сумел спастись сам и вывести с собой цвет своего генералитета, большую часть офицерского корпуса и Гвардию, но и нанести преследовавшим его войскам чувствительный удар, особенно это касается армии Чичагова. Общие потери русских войск за четыре дня операций на Березине мы оцениваем примерно в 14 - 15 тыс. человек***.
Битва на берегах Березины стала поистине битвой Наполеоновской Европы. Воины всех наций, составлявших Великую Армию, проявили здесь редкое мужество и самопожертвование, особенно это относится к корпусу Виктора, состоявшему, как уже было отмечено, практически полностью из иностранных частей. Всего же из двадцати тысяч солдат, реально принявших участие в бою 28 ноября, не более пяти тысяч принадлежали к французским полкам. Если же принять во внимание, что и в рядах «французских» полков примерно четверть солдат была иностранного происхождения, мы получим, что примерно 80% из тех, кто заслонил своими телами переправы, были нефранцузами! Эта цифра полностью подтверждается сведениями по потерям в офицерском составе.
Согласно данным справочника Мартиньена, из 753 офицеров и генералов, раненых при Березине 28 ноября****, только 165 были французского происхождения, а остальные 588, или 79%, были уроженцами всех стран наполеоновской Европы. Кроме баденцев, у которых были убиты и ранены 61 офицер, особо жестокий урон понесли швейцарские полки -83 офицера. Наконец, ужасающие опустошения были в рядах 123-го линейного полка, потерявшего в этом бою 44 офицера голландского происхождения. Факт наличия очень высокого процента офицерских потерь, примерно 1 офицер на 13 солдат, вместо обычного соотношения 1 к 20-25, связан с тем, что в строю многих частей оставалась лишь горсть солдат. Так, 4-й линейный полк из корпуса Нея, согласно воспоминаниям его командира, в день боя 28 ноября состоял всего из трех взводов, один из которых был офицерским.
* Несмотря на астрономические цифры околоисторических книг, именно на такое количество оставшихся на левом берегу людей указывают все серьезные и беспристрастные источники обеих сторон. Количество пушек, оставшихся у мостов, колеблется в этих же источниках от 4-х до 12-ти.
** Ориентировочно потери можно определить следующим образом:
9-й корпус Виктора (не считая дивизии Партуно) около 4,5 тыс. человек
Войска, сражавшиеся 28 ноября на правом берегу около 5 тыс. человек
Дивизия Партуно 4 тыс. человек
Небоеспособные (в основном взятые в плен) 10-11 тыс. человек
Итого: около 25 тыс.
*** Потери Дунайской армии Чичагова в бою под Лошницей и Борисовым 24 ноября около 2 тыс. человек
Потери той же армии в бою 28 ноября около 7 тыс. человек
Потери армии Витгенштейна в бою с Партуно не меньше 1 тыс. человек
Потери той же армии в бою 28 ноября около 4-5 тыс. человек
Итого: 14-15 тыс. человек
**** Мы учитывали только тех, кто был убит или ранен в бою, а не на переправе через реку. Последние отмечены в справочнике вежливой фразой «ранен у мостов при Березине».
Итак, как мы видим, солдаты иностранных контингентов и иностранных полков в целом не только героически сражались бок о бок со своими товарищами по оружию французского происхождения на первом этапе кампании, но и сохранили свой боевой дух, несмотря на сам факт отступления и первые серьезные неудачи Наполеона. Однако окончательная катастрофа Великой Армии в России не могла не отразиться на настроениях в странах наполеоновской Европы: «Печаль, вызванная этим огромным бедствием... в Голландии, Бельгии, Швейцарии, во всей Италии от Милана до Неаполя и от Венеции до Турина, даже вплоть до Иллирийских провинций... подготовила распадение наполеоновской Империи на мелкие части. Ведь погибшие в России были главным образом немецкие, итальянские и иные генералы, офицеры различных наций, которые верили в звезду Императора и обеспечивали ему верность своих соотечественников; ведь это были чужеземные полки, которые он закалил в бою, артиллерия, которую он организовал, солдаты, которые научились выкрикивать на всех языках Европы "Да здравствует Император!" и рисковать своей жизнью за его похвалу в Бюллетенях или за крест Почетного Легиона», - справедливо писал Альфред Рамбо. Действительно, в бескрайних русских просторах погибла не просто армия, здесь погибла наполеоновская Европа. «Ее место готовилась занять другая Европа, она заявила о своем пришествии 30 декабря 1812 г. неожиданной изменой Йорка фон Вартенбурга»101. В этот день командующий прусским контингентом, намеренно отстав на марше от франко-польских частей Макдональда, подписал так называемую Таурогенскую конвенцию, согласно которой прусские войска объявлялись нейтральными. Хотя король Пруссии в ужасе дезавуировал демарш своего генерала и формально отрешил его от командования, остановить начавшийся лавинообразный процесс было невозможно - катастрофа Великой Армии резко изменила отношение к Наполеону в Германии. Конечно, в политике проигравший никогда не пользуется сочувствием, и от него отворачиваются его вчерашние друзья, однако эта, в общем, вполне закономерная реакция проявилась в Пруссии, где имелось более чем достаточно причин для недовольства наполеоновской системой, в особо резкой форме.
Начиная с января 1813 г. вся страна была охвачена националистическим подъемом, который был столь силен, что король под общим давлением и нажимом русских подписал 28 февраля 1813 г. договор о союзе с Россией. Отложение Пруссии от наполеоновской системы стало фактом большим, чем переход одного из государств «Империи Европы» в стан ее противников - это было начало новой Германии и, более того, начало совершенно другого взгляда на мир.
Наполеоновская Империя, выросшая из последствий волны национального подъема во Франции, в эпоху Революции была парадоксальным образом связана по своему духу с Европой века Просвещения с его почти полным отсутствием национализма, а с расширением Империи она все больше проникалась идеями «Римского мира» и Европейского единства. Не случайно в официальных речах, письмах, воззваниях Наполеон почти никогда не обращался к национальным героям Франции. Зато почти всегда говорил об Александре Македонском, Цезаре, Августе, Карле Великом... Нигде и никогда Наполеон не объявлял какие-либо из народов недоразвитыми, а французов «сверхчеловеками». Да, он отдавал предпочтение материальным интересам «старых департаментов», но не из-за того, что считал Францию пупом земли, а потому, что рассматривал ее как наиболее верную лично ему часть Империи. Выдающийся специалист современности по истории Империи Жан Тюлар справедливо отмечает: «Вопреки тому, что иногда пишут, Наполеон старался избегать ломки местных особенностей, он уважал язык, религию и традиции стран, находившихся в его Империи. Он старался привлечь к себе местные элиты и никоим образом не покушался на своеобразие народов, входящих в орбиту французского влияния. Нигде в наполеоновской Империи вы не найдете ни следов геноцида, ни интеллектуального империализма, ни презрения к побежденным. Единственное, что требовалось - это принятие учреждений и законодательства Французской Империи, среди которых первое место занимал Гражданский кодекс»102.
Во всех его действиях куда больше прослеживается стиль императора Траяна, чем буржуазный национализм эпохи Директории. Именно поэтому с такой легкостью, а подчас с восторгом, вставали под знамена, увенчанные бронзовыми орлами, итальянцы, поляки, немцы, швейцарцы, бельгийцы, голландцы...
«Пассионарный взрыв» (как сказал бы Лев Гумилев), который произошел в Германии в начале 1813 г. был пронизан совершенно другими идеалами. Государственные деятели, священники, писатели и поэты на все лады призывали немцев к «настоящей войне», проповедовали богоизбранность Германии и ненависть к чужаку. Впервые среди лязга оружия в унисон священникам зазвучали и голоса «ученых мужей»: «...именно в вас изо всех новых народов определенно видны задатки человеческого совершенствования, и вам вручается прогресс дальнейшего развития», - проповедовал знаменитый профессор Иоганн-Готлиб Фихте в своих «Речах к немецкому народу», произнесенных с кафедры Берлинского университета. Поистине патологической кровожадностью и слепой ненавистью переполнены строки немецких «романтических» писателей и поэтов того времени: Клейста, Кернера, Рюкерта, Уланда, Платена и Шенкендорфа.
В произведении Клейста, в котором он описывает битву в Тевтобургском лесу, где, как известно, германские племена разгромили римлян (в этом образе, разумеется, выведены французы Наполеоновской эпохи), есть эпизод, когда Арминий, вождь германцев, переполненный ненавистью, восклицает по поводу доброго поступка римского центуриона: «Я не хочу любить это злое дьявольское отродье! Пока оно будет хвастаться здесь, в Германии, ненависть - моя обязанность, и мщение — моя добродетель».
«Теперь пусть ваша возлюбленная сотрясает воздух и мечет искры, - писал Кернер в "Брачном гимне сабле". - Настает свадебное утро! Да здравствует железная невеста!»
Эти настроения со всей очевидностью отразились и в военной эстетике, появившейся в 1813 г. в Германии, - черные мундиры, черные кресты, черные знамена, черепа со скрещенными костями, церемонии с факелами, - словно все мрачное, древнетевтонское вырвалось на поверхность...
Конечно, не следует преувеличивать результаты этого идейного сдвига - в обществе того времени было еще достаточно много консерватизма и инерции, чтобы быть полностью охваченным новым влиянием. Однако идеологический выброс произошел, и, хотя он найдет свое полное логическое завершение лишь в Германии второй четверти XX в., его последствия не замедлили сказаться и на Германии наполеоновской поры.
Нужно также подчеркнуть, что катастрофа в России и взрыв германского шовинизма не оборвали историю иностранных контингентов, сражавшихся в рядах наполеоновского войска и, тем более, иностранных полков на службе Франции. Однако роль и тех и других становится все более второстепенной. За исключением польских полков, все также отважно бьющихся за свободу своей отчизны, и итальянцев (северной Италии), не желавших возвращения австрийского господства, иностранные солдаты все с меньшей охотой шли в огонь. Европейская империя отныне потеряна и война становится делом прежде всего французов, которые сражаются за интересы Франции. Интересно, как остро в это время простой пехотный офицер наполеоновской армии ощутит на себе резкое изменение обстановки. 6 марта 1813 г. он написал: «Еще сосем недавно, в счастливые времена, когда я приближался к границам Франции после долгого отсутствия, я почти не испытывал никаких чувств - Европа была моим отечеством. Теперь я вернулся к более скромным понятиям, и вид французского берега Рейна произвел на меня совершенно новое, сильное впечатление» 103.
Все сказанное выше представляет собой, конечно, лишь глобальный процесс, происходивший в 1813 г. Совершенно очевидно, что он развивался не просто и не прямолинейно. Для начала необходимо отметить, что государства Рейнской конфедерации в 1813 г. выставили контингенты, которые потребовал у них Наполеон:
| Бавария | 9000 человек |
| Саксония | 15 000 человек |
| Вюртемберг | 9500 человек |
| Баден | 7000 человек |
| Вестфалия | 8000 человек |
| Берг | 800 человек |
| Мелкие германские государства | 9300 человек |
| Итого: | 58 600 человек |
Итальянское королевство поставило под ружье 28 тыс. солдат, Неаполь - 13 тыс., Дания - 12 тыс. Польша из последних сил мобилизовала еще 25 тыс. рекрутов, в результате чего численность польских войск снова увеличилась до 37 540 человек, вместе же с поляками на французской службе в рядах Великой Армии сражалось до 40 тыс. уроженцев берегов Вислы и Варты.
В результате в рядах наполеоновского войска в начале 1813 г. было не менее 150 тыс. солдат иностранных контингентов. Равным образом из примерно шестисот тысяч солдат, состоявших на службе во Французской армии, около четверти, т. е. также 150 тыс. человек, были нефранцузами. Таким образом, и в 1813 г. Великая Армия будет во многом сохранять свой интернациональный характер.
Войска союзников и в эту кампанию будут совершать подвиги. Не говоря уже о поляках и итальянцах, сражавшихся с отвагой и постоянством, все так же безупречно, как в предыдущей войне, дрался баденский контингент. 18 апреля под Веймаром блистательной атакой баденские драгуны разгромили прусских гусар. Среди раненых пруссаков был и командир отряда подполковник Блюхер, сын знаменитого фельдмаршала. А за доблесть в битве под Люценом, свидетелем которой был маршал Ней, полк баденских драгун получил 25 крестов Почетного Легиона.
Но, пожалуй, самым удивительным «рудиментом» наполеоновской Европы стал гарнизон Данцига под командованием неутомимого Раппа. Здесь, в крупном порту и городе-крепости на побережье Балтики, собрались остатки многих разноязычных полков, принявших участие в Русской кампании. Здесь же они были блокированы в самом начале 1813 г. Отрезанные от своих стран и правительств, от воздействия настроений на родине каждого из них, они оказались в замкнутом воинском коллективе, на который их энергичный командир сумел повлиять, воздействуя на благородные струны человеческой души: солдатское товарищество, чувство долга, братство перед лицом опасности. Он смог не только удержать войска в подчинении и верности присяге, но и повести их на подвиг. В то время как в рядах главной армии все более и более чувствовалась апатия союзников Франции, и прежде всего немцев, в гарнизоне Данцига, как еще недавно, плечом к плечу отважно сражались поляки, французы, баварцы, испанцы, вестфальцы, неаполитанцы и даже... африканцы! Противник пытался разложить гарнизон, подбрасывая в Данциг подрывные листовки. «Но я знал верность моих войск, - пишет Рапп, - и полностью им доверял. Я дал им доказательство своего доверия. Если какая-нибудь прокламация попадала к нам, ее зачитывали перед фронтом войск. Солдатам понравилась эта откровенность... и у них было только больше презрения к врагу, который надеялся сломить их честь и отвагу» 104.
Гарнизон Данцига сражался с удивительной доблестью: «Поляки были несравненны в бою, все - командиры и солдаты - бросались на врага с таким порывом и самоотверженностью, которые не знают себе равных... Неаполитанцы были не менее отважны... Генерал Пепе, полковник Лебон, командиры батальонов Банатье и Сурде, капитаны Шивандье и Чианкулли проявили себя как отличные командиры, возбуждая храбрость бойцов и являя им образец и пример»105. А вот как сражался маленький отряд 13-го баварского, окруженный во время вылазки союзниками и сумевший закрепиться в небольшом доме: «Оставленные совершенно одни, без продовольствия, без боеприпасов, умирая от жажды, среди пожара, охватившего дом, они не испугались никаких угроз, отвергли все предложения о сдаче и презрением ответили на все посулы врага...» Чтобы спасти храбрую горстку солдат, на следующий день была произведена атака силами батальона, который, несмотря на тяжелые потери, сумел освободить храбрецов. «Естественно, - рассказывает Рапп, - я выразил всю свою признательность этим людям в приказе на день. Я перечислил те опасности, которым они подвергались, и рассказал об отваге, которую они проявили. Раненых я разместил в своем особняке и каждый день приходил их проведать и узнавал, хорошо ли за ними ухаживают»106.
Однако подобное поведение союзных немецких контингентов в кампанию 1813 г. можно рассматривать скорее как исключение. В большинстве своем они сражались все более вяло. 6 сентября 1813 г. под Денневицем саксонский корпус предался панике, а еще через месяц с небольшим в великой битве народов под Лейпцигом саксонская пехота просто-напросто перешла на сторону врага и открыла огонь по дивизии Дюрютта - своим недавним товарищам по оружию. Вюртембергская кавалерия Нордмана и саксонская легкая кавалерия также перешли на сторону коалиции прямо в ходе битвы. Дни наполеоновской Германии были сочтены. Саксонский король, бывший до этого верным союзником Императора, вынужден был влиться в ряды антифранцузской коалиции. В октябре 1813 г. рухнуло также и Вестфальское королевство, перешла на сторону союзников Бавария. 2 ноября Вюртембергский король Фридрих заключил с Австрией договор в Фульде, за ним то же самое сделал Великий герцог Гессен-Дармштадский, 20 ноября присоединился к коалиции Великий герцог Баденский, последний, правда, выразил Наполеону... свое «живейшее и искреннее сожаление». Эти вести докатились и до далекого Пиренейского полуострова, где 10 декабря 1813 г. полковник фон Крузе, командир 2-го полка Нассау, воспользовавшись ночным маршем, перешел со своим полком и Франкфуртским батальоном на сторону англичан. (Впрочем, на испанском театре военных действий в ходе долгой войны солдаты союзных контингентов, с одной стороны, более чем где бы то ни было привыкли идти плечом к плечу вместе со своими французскими товарищами по оружию, а с другой стороны, здесь для решительно не желающих воевать за Императора представлялось тысяча возможностей дезертировать, что они, разумеется, уже давно и сделали. Поэтому здесь данный эпизод являлся исключением.)
Реакцией на эти события, последовавшие за битвой под Лейпцигом, был Императорский декрет от 25 октября 1813 г., который официально ставит точку на мечте о Великой Империи Европы. В письме военному министру герцогу Фельтрскому от того же дня Император разъясняет причину и резюмирует суть данного документа: «Очевидно, что в том положении, в котором мы находимся, мы не можем больше доверять ни одному иностранцу. Поэтому мне не терпится получить известие о том, что все части, включенные в декрет от сегодняшнего дня, разоружены. Это даст нам недостающие ружья и отнимет их у врага» 107.
Согласно декрету, расформировывался 4-й иностранный (вспомним, что это бывший Прусский полк), а из 1-го и 2-го иностранных полков должны были быть исключены и разоружены все немцы. Распускался также Иллирийский полк. Хорватские полки упразднялись и превращались в так называемые «пионерные батальоны», точнее, в «стройбат»*. Равным образом полк Жозефа Наполеона разоружался и трансформировался в три «пионерных» батальона. Распускалась испанская королевская гвардия. Французы, служившие в ней, должны были быть направлены в Бордо для дальнейшего включения во французские части, а из испанцев формировались все те же «пионеры». То же самое предписывалось проделать и с прочими испанскими формированиями на службе короля Жозефа, а также и с остатками Португальского легиона. Но самым, пожалуй, жестоким пунктом этого декрета было то, что все вестфальские, баденские, вюртембергские и нассауские части, сражавшиеся в Испании, должны были быть немедленно разоружены и отправлены во Францию как военнопленные!
* В данном случае «пионерные» означает не просто синоним «саперных», речь идет о саперах-рабочих, которым не доверялось оружие, а позволялось действовать только киркой или лопатой. Во всех смыслах аналог советских стройбатов.
И. Лекомт. Встреча Наполеона и Великого герцога Вюрцбургского Фердинанда-Иосифа 3 октября 1806 г. Исп. в 1813 г. Версальский музей.
Этот декрет потряс солдат и офицеров союзных контингентов, продолжавших сражаться под знаменами Империи. Маршал Сюше, который как дисциплинированный военный и аккуратный администратор прилежно исполнил данный ему приказ, не мог не отправить по инстанции письмо, которое заслуживает того, чтобы мы привели его почти полностью: «Маршал Сюше - военному министру.
Генеральная квартира в Хироне, 26 декабря 1813 г.
После измены союзников на севере я хотел сам узнать, каково настроение немецких войск, входящих в мою армию. Я, к своему глубокому удовлетворению, нашел офицеров, безукоризненно следующих принципам чести и желанию славы. Я решил испытать их верность и 1 декабря, атакуя врага, приказал вестфальским шеволежерам и элитным ротам 10-го легкого полка Нассау двинуться одним в авангарде. Они выполнили свою боевую задачу с рвением, и ни один из них не дезертировал...
Я должен был исполнить императорский декрет. Разоружение произошло одновременно в разных местах. Полк Нассау сложил оружие в Барселоне, вестфальские шеволежеры спешились в Сен-Селони. Генерал Ордонно доложил, что многие из них были в слезах и восклицали: "Пусть нас поведут на врага - и тогда увидят, готовы ли мы пожертвовать жизнями за Императора Наполеона!.."»108
Гвардейские эскадроны князя Нассау спешились в Хнроне и Фигейрасе. Майор барон Оберкампф, который командовал этим полком, был в отчаяньи и выразил свои чувства следующими словами: «В течение пяти лет я служу во французских рядах. Я получил много лестных отзывов командования о моем поведении и поведении моего полка, и я хочу сохранить вечное доказательство этому, получив крест Почетного Легиона»109.
Вюрцбургский батальон был разоружен в Пюисерпа. Вольтижер Ланц из 1 -го Нассауского желал любой ценой остаться в рядах 18-го легкого полка: «Я был три раза ранен в Каталонии, - говорил он, - сражаясь плечом к плечу с французскими солдатами, с ними я получил награду, и с ними я хочу окончить мою жизнь...»110 Не менее трогает своим благородством и рыцарственными чувствами письмо, которым полковник Мебер, командир 1-го полка Нассау, ответил на самые выгодные предложения английского генерала Клинтона: «Барселона, 20 декабря 1813 г.
Господин генерал, мне доставили письмо, которое Вы написали мне из Виллафранки 18 числа сего месяца. Для человека чести Ваше предложение слишком оскорбительно и неприемлемо.
У меня нет ничего более святого, чем сражаться за дело Его Величества Императора Наполеона Великого ... Ваше предложение лишь еще больше укрепило меня и мой полк быть верным долгу. Как человек чести и верности я считал своей обязанностью передать Ваше письмо моему дивизионному генералу и еще раз уверить его в преданности моего полка»111.
Октябрьский декрет произвел впечатление удара грома не только на личный состав частей сражавшихся в Испании, но и на солдат иностранных полков. Месяц спустя после подписания этого документа 500 человек - остатки полка Жозефа Наполеона - собрались для последнего смотра. В рядах застыли ветераны Русского похода и кампании 1813 г. Генерал Тилли прочитал императорский декрет по-французски, а Кинделан перевел его на испанский язык. «Наименование "пионеров" произвело на солдат впечатление, которое можно передать только одним словом - отчаяние, - писал в своем рапорте Тилли. - Воины, покрытые ранами в последних кампаниях, были возмущены тем, что им дали наименование саперов-рабочих, они сказали, что, если так их отблагодарили за службу, они никогда не возьмут в руки кирку»112.
Действительно, нельзя не признать, что декрет от 25 октября 1813 г., несмотря на всю критичность положения, в котором находилась Империя, был скорее продиктован эмоциями, которые вызвала у Наполеона измена союзников Рейнской конфедерации, чем жесткой необходимостью. Он обрушился всей тяжестью как раз на тех, кто, несмотря ни на что, остался в строю: те, кто не хотел оставаться, давно уже разбежались.
Без сомнения, вопрос присутствия на службе Франции иностранных контингентов в условиях отложения союзных государств, а также присутствия в иностранных полках подданных этих государств требовал скорейшего разрешения, но, возможно, имелись способы сделать это более тактично, уважая заслуги тех, кто проливал свою кровь за общее дело.
К началу 1814 г. на службе Императора оставалось лишь считанное число иностранных частей:
■ Вислинский пехотный полк (остатки одноименного легиона);
■ три иностранных полка - 1-й, 2-й, 3-й;
■ швейцарские полки;
■ польские гвардейские конные полки и вислинские уланы;
■ наконец, ряд экзотических формирований типа «ионических» или албанских подразделений, находившихся в далекой Иллирии. О них, очевидно, просто забыли.
Кроме того, вся армия Итальянского королевства до последнего часа существования Империи продолжала сражаться под знаменами Наполеона.
Разумеется, в рядах французских полков оставалось большое количество итальянцев, немцев левого берега Рейна, голландцев, бельгийцев, некоторое количество поляков (офицеров).
Почти во всех боях короткой и трагической кампании 1814 г. доблестно сражались отважные польские уланы, в рядах гвардейских гренадеров бились голландцы - остатки 3-го гвардейского гренадерского полка, в строю армейских пехотных и кавалерийских полков солдаты и офицеры родом из «новых департаментов». Однако их отвага и самопожертвование отныне были отданы лишь Франции. В письме Ожеро от 7 февраля 1814 г. Наполеон давал такой рецепт успеха: «Нужно снова наполниться решимостью и надеть сапоги 93 года». Нужно сказать, что и в смысле национальной политики он тоже вынужден был вернуться к истокам, к тем силам, которые привели его на трон. Народ Франции, патриотизм, жертвенность во имя Отечества - вот что стало лозунгом дня. Разумеется, иностранцы были здесь лишними. Те же из них, кто продолжал идти за Наполеоном, либо связали окончательно свою судьбу со своим новым отечеством, либо сражались лично за Императора, говоря языком средневековья, как «верные вассалы, не желающие покидать своего сюзерена в трудный час». Последнее особенно характерно для поляков. Они, конечно, испытывали довольно теплые чувства по отношению к Франции, ставшей для многих из них почти что второй родиной, и все же они прежде всего видели Императора, их Императора - «короля народа», монарха справедливого и честного, великого полководца, когда-то вернувшего свободу и честь далекой отчизне, снова исчезнувшей по милости врага с карты Европы. Полк польских улан-разведчиков под командованием Юзефа Дверницкого был единственным, который не последовал за маршалом Мармоном в то время, когда он перешел на сторону неприятеля. До самого отречения Наполеона ни один польский отряд не покинул его армию.
Но преданность этой горсти ветеранов уже не могла спасти Империю, Император отрекся, и с ним исчезла не только наполеоновская Европа, но и наполеоновская Италия и сама наполеоновская Франция.
По возвращении Императора с острова Эльбы в период Ста дней армия Франции приобрела практически гомогенный национальный состав. Из полков исчезли солдаты - выходцы из новых департаментов, ни одно иностранное государство не присоединило свои контингенты к войскам Империи. Однако, желая пополнить как можно быстрее свою небольшую армию опытными солдатами, Император решил прибегнуть к созданию иностранных частей. Декретом от 11 и 15 апреля, а также 20 мая 1815 г. было создано восемь иностранных пехотных полков:
1-й - преимущественно из пьемонтцев
2-й - преимущественно из швейцарцев
3-й - преимущественно из поляков
4-й - преимущественно из немцев
5-й - преимущественно из бельгийцев
6-й - преимущественно из испанцев и португальцев
7-й - преимущественно из ирландцев
8-й - преимущественно из итальянцев (не пьемонтцев)
Был воссоздан также 7-й шеволежерский полк (из поляков), а 16-й конно-егерский должен был быть укомплектован бельгийцами.
Речь отныне шла лишь о подобии «иностранного легиона». Хотя энергичное обращение призывало иностранцев, бывших солдат Великой Армии, снова встать под знамена Императора, но декрет от 31 марта 1815 г. фактически перечеркивал красивые слова этого обращения, так как он постановил, что «никакой иностранец не может быть допущен в гвардейские части»113, ставя тем самым нефранцузов на службе Империи в положение людей второго сорта. Последний декрет, впрочем, не распространялся на гвардейских польских улан, которые сопровождали Императора на о. Эльбу и которые под командованием полковника Жермановского позже героически сражались при Ватерлоо.
Основная же масса иностранных полков находилась лишь в состоянии формирования, когда началась новая война, и до момента окончательного падения Империи под их знамена в общей сложности было набрано лишь 548 офицеров и 2694 солдата. Исключение составил 2-й иностранный полк, который был достаточно быстро сформирован и принял участие в 1815 г. в составе корпуса Вандамма. В ряде второстепенных операций приняли участие также (3-й полк) и испанцы (6-й полк). Хотя кампания 1815 г. была еще более «французской, чем предыдущая, символично, что в последней кампании Империи - бою под Роканкуром 1 июля 1815 - кавалерия под командованием генералов Пире и Экэельманса разгромила прусскую кавалерийскую бригаду фон Зоора, - не последнюю роль сыграли июльские уланы 7-го шеволежерского полка.
Генерал Михал Сокольницкий (1760-1816). Польский офицер, участник восстания Костюшко, служил в польских легионах с момента их создания на французской службе, впоследствии генерал герцогства Варшавского, произведен в дивизионные генералы за отличие в боях под Сандомиром. В 1812 г. Сокольницкий был начальником контрразведки Великой Армии. В 1813 г. командовал кавалерийской дивизией. Защищал Париж в 1814 г. После первого отречения Императора вернулся в Польшу.
Наконец, одни из самых последних выстрелов Наполеоновской эпохи прогремели 3 июля 1815 г. на мосту Севра, где защищались польские пехотинцы.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что иностранцы, сражавшиеся под знаменами Императора, внесли огромный вклад в победы и славу Великой Армии. Без упоминания об их отваге и жертвах немыслимо описание войн наполеоновской Франции. Однако их роль в ходе этих войн была очень неодинакова в разные периоды времени; мы видели, как от весьма скромной в начале эпохи Империи она становилась постепенно все более значимой, пока не стала к началу войны 1812 г. определяющей. Армия Наполеона перестает быть французской, превращаясь фактически в армию Европы. Падение Великой Империи Запада естественным образом приводит и к исчезновению многонациональной армии, и она снова становится почти чисто французской.
Несмотря на это, память о былой славе в рядах Великой Армии еще долго жила в умах немцев, итальянцев, поляков и бельгийцев. Парадоксально, что эти воспоминания о былом могуществе породят первые ростки будущего национального возрождения, а офицеры-ветераны войн Империи станут в Италии первыми деятелями Риссорджименто, в Польше и Бельгии - героями национально-освободительных восстаний.
1 Ode. Allies (contingents) // Dictionnaire Napoleon. Sous la direction de Jean Tulard. P.. 1987, p. 72.
2 Armée militaire de la France. Sous la direction de Jean Delmas. P., 1992, p.3»9.
3 Bielecki R. Effort militaire polonais // Revue de l'institut Napoleon. 1976. p 164; Zaghi. C. L'ltalia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno. Torino, 1986, p. 545.
4 Bourgoing P.-C.-A. de. Souvenirs militaires du Baron de Bourgoing .1791-1815.P., 1897, p. 133.
5 Everts H.P. Campagne et captivite en Russie // Carnet de la Sabretache 1901 p. 623.
6 Jaime Bonaparte. Memoires et correspodances du roi Jerome et de la reine Catherine. P., 1861-1866, t. 2, pp. 32, 191.
7 Shzev. Les Allemands sous les aigles français. Essai sur les Troupes de la Confederation du Rhin 1806/1814. t. 5. Nos Allies les Bavarois. P., 1907,
8 Sauzey, op. cit., t. 2. Le Contigent Badois. P., 1904, p. 15.
9 Цит. по:Sauzey. Op. cit., t. 2. Le Contigent Badois...
10 Цит. по: Sauzey, op. cit., t 4. Les soldats de Hesse et de Nassau. P., 1912, p. 176-177.
11 Ibid.p. 178.
12 Ibid .p. 185.
13 Ibid. pp. 192. 195.
14 Belecki R. op. cit., p. 155.
15 Blayney A.T. Relation d'un voyage force en Espagne et en France dans les annees 1810 a 1814. P., 1815, t. 1, p. 30-31.
16 Correspondance... t. 18, p. 491.
17 Sauzey. Op. cit. t. 2. Le Contingent Badois... p. 30.
18 Gil J. H. With Eagles to Glory. Napoleon and his German Allies in the 1809 campagne.London, 1992, p. 153-154.
19 Pelet, Memoire sur la guerre de 1809 en Allemagne. 1825, t. 3, p. 307.
20 Gill J. H. With Eagles To Glory..., op. cit, p. 442.
21 L. de. Brotonne, Lettres inedites de Napoleon Ier. P., 1898, p. 187.
22 Jerome Bonaparte. Op. cit., t. 4, pp. 196, 198, 200.
23 Sauzey, op. cit, t 3. Les Saxons dans nos rangs. P., 1907, p. 50.
24 Ibid, p. 52.
25 Ibid.
26 Цит. по: Napo1eon Bonaparte. L'oeuvre et l'histoire. Sous la direction de Jean Massin, P., 1969, t. 5. p. 685.
27 Sołtyk R. Relation des opérations de l'armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant la campagne de 1809 en Pologne. P., 1841, p. 145-146.
28 Bilecki R.Wielka Armia. Warszawa. 1995, p. 467.
29 Correspondance:'... t. 16, p. 166.
30 Zaghi СOp. cit, p. 549-550.
31 Suchet L.-G. Memoires du marechal Suchet, due d'Albufera sur les campagnes en Espagne depuis 1808 jusqu'en 1814. P., 1828, t. 2, p. 98-99.
32 Suchet L.-G. Op. cit, t. 2, p. 107.
33 Bigarre A. Memoires du general Bigarre, aide de camp du roi Joseph. P., 1893, p. 21.
34 Ibid.
35 Ibid., p. 216-217.
36 Griois L. Memoires du general Griois (1792-1822). P., 1909,' t. 1, p. 354-355.
37 Correspondance... t. 21, p. 23.
38 Рeрe G. Memoires du general Рeрe sur les principaux evenements politiques et militaires de l'ltalie moderne. P., 1847, p. 374-375.
39 Ibid., p. 373.
40 Ibid., p. 386-387.
41 Ibid., p. 387-388.
42 Цит. по: Carnet de la Sabretache. 1901, p. 166-167.
43 Sarramon J. La bataille des Arapiles. Toulouse, 1978, pp. 19, 20.
44 Correspondance... t. 21, p. 276.
45 Madelin L. Histoire du Consulat et de l'Empire. P., 1940, t. 6, p. 237.
46 Balagny. Campagne de l'Empereur Napoleon en Espagne 1808-1809. P., 1902-1907, t. 2, p. 436.
47 Ibid., p. 427.
48 s.h.a.t.
49 Lejeune L.-F. Memoires du general Lejeune. P., 1895, t. 1, p. 167-169.
50 Brandt H. von. Souvenirs d'un officier polonais. Scenes de la vie militaire en Espagne et en Russie (1808-1812). P., 1877, p. 77.
51 Ibid., p. 183.
52 Fiefle E. Histoire des troupes etrangeres au service de la France depuis leur origine jusqu'a nos jours. P., 1990, . t 2, p. 121-122.
53 Ibid., p. 124.
54 Ibid., p. 126.
55 S.H.A.T. 23YC168.
56 Schaller H. de. Histoire des troupes suisses au service de France. Lau-zanne, 1883, p. 69.
57 Bielecki R. WielkaArmia... p. 429A-30.
58 Rigo. Le regiment Joseph Napoleon. Les espagnols dans la tourmente // Tradition. № 88, p. 23.
59 Ibid.
60 Van Hogendorp D. Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'Empire. P., 1887, p. 287.
61 Цит. по: Fieffe E. Histoire des Troupes Etrangères au service de France. P., 1990, t. 2, p. 157-158.
62 Correspondance... t. 20, p. 107.
63 Цит. по: Boppe P. La Croatie Militaire, 1809-1813. P., 1900, p. 36.
64 Цит. по: Fieffe E. Op. cit., t. 2, p. 161.
65 Driau. Revus des etudes napoleoniennes. Janv., 1930.
66 Laugier C. de. La Grande armée. Recits de Cesare de Laugier, officier de la garde du prince Eugene. P., s. d., p. 10.
67 Memoires de Mr. Mannlich dont le fils a fait la campagne de Russie en 1812 dans L'armée Bavaroise // Архив Военского К. А. Ф. On. 1. № 305.
68 Suckow K.-F.-E. von. Fragments demavie. D'lena a Moscou. P., 1901,p. 137.
69 Brandt H. von. Op. cit, p. 253.
70 Цит. по: Sauzey. Op. cit., t. 3. Les Saxons dans nos rangs... p. 158.
71 Ibid., p. 163-164.
72 Exner M. Der Antheil der kgl. Sachsischen armée am Feldzuge gegenRussland. Leipzig. 1896 // Цит. по: Sauzey. Op. cit., t. 3. Les Saxons dans nos rangs... p. 176.
73 Faber du Faur G. de. Campagne de Russie 1812 d'apres le journal illustre d'un temoin oculaire. P., 1895, p. 157-158.
74 Brandt H. von. Op. cit., p. 277.
75 Laugier С de. Op. cit., p. 82.
76 Лоссберг Ф.-В. фон. Поход в Россию в 1812 году. Письма вестфальского штаб-офицера Фридриха-Вильгельма фон Лоссберга // Приложение к Военно-историческому вестнику. Киев, 1912, с. 31, 32, 36.
77 Bourgoing Р.-С.-А. de. Op. cit., p. 244-245.
78 Цит. по: Bonnal H. Manoeuvre de Vilna. P., 1905, p.30.
79 S. H. A. T. C2130.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Chuquet A. 1812. La Guerre de Russie. Notes et Documents. P., 1912,t. 2, p. 124. •
84 S.H.A.T. C2130.
85 Chapelle. Relation du passage de la Berezina.S. H. A.T. C2 133.
86 Ibid.
87 S.H.A.T.C2133.
88 Цит. по: Sauzey. Op. cit., t. 2. Le Contigent Badois... p. 61.
89 Цит. по: Bielecki R. Berezyna. Warszawa, 1990, p. 172.
90 Bourgoing P.-C.-A. de. Op. cit, p. 211-212.
91 Langeron A. de. Memoires de Langeron, general d'infanterie dans L armée russe, campagnes de 1812, 1813, 1814. P., 1902, p. 74.
92 Souvenirs de Louis de Buman // Chuquet A. Op. cit, p. 191.
93 Bussy I.-M. Notes de Jean-Marc Bussy de Crissier // Soldats suisses au service etranger. Geneve, 1913, p. 290-291.
94 Thirion A. Souvenirs militaires. P., 1892, p. 249-250.
95 Laugier С de. Op. cit, p. 171-172.
96 Bade W. de. Memoires du Margrave de Bade. P., 1912, p. 130-131.
97 Цит. по: Langeron A. de. Op. cit:, p. 122.
98 Цит. по: Bielecki R. Berezyna. Warszawa, 1990, p. 189.
99 Sauzey. Op. cit, t. 3. Les Saxons dans nos rangs... p. 193.
100 S. H.A.T. C2133.
101 Lavisse E., Rambaud A. Histoire generate du IV siecle a nos jours. P., 1905, t. 2, p. 244.
102 Tulard J. Le Grand Empire 1804-1815. P., 1982, p. 188.
103 Fantin des Odoards L.-F. Journal du general Fantin des Odoards. Etapes d'un officier de la Garde armée, 1800-1830. P., 1895, p. 353.
104 Rapp J. Memoires du general Rapp, aide de camp de Napoleon, ecrits par lui-тёте. P., 1895, p. 216.
105 Ibid., pp. 226, 255.
106 Ibid., pp. 260-261.
107 Correspondance... t. 26, p. 466.
108 Sauzey. Op. cit, t. 6. Les soldats de Hesse et de Nassau... p. 279-280.
109 Ibid., p. 280.
110 Ibid.
111 Ibid., p. 281.
112 Rigo. Le regiment Joseph Napoleon... p. 30.
113 Цит. по: Fieffe E. Op. cit, t 2, p. 368.
Глава XIII. ГВАРДИЯ
Моя Старая Гвардия сделала больше, чем можно было ожидать от смертных.
Наполеон после битвы под Монмирайлем.
Следом за армейскими корпусами Наполеона шел и несравненный резерв - Императорская Гвардия, представлявшая славу и величие Империи. Все ее офицеры и солдаты были храбрецами, покрытыми боевыми шрамами, они прожили долгую жизнь за малое число лет...»1 - так коротко и точно характеризовал генерал Фуа воинов Гвардии Наполеона. Действительно, недаром образ седоусого гвардейского гренадера в высокой меховой шапке уже давно стал собирательным образом солдата Империи, символом отваги и воли, которую не могут сломить никакие испытания. Хотя в этом штампе много условного, нельзя не признать, что Гвардия являлась поистине квинтэссенцией армии Наполеона, ее цветом и гордостью. «Это было восхитительно, - вспоминал швейцарский солдат Жан-Луи Риё, - видеть среди всех боев, несчастий и непогоды корпус, который всегда оставался безупречным, дисциплинированным, марширующим и сражающимся так слаженно, словно он был одним человеком... душой которого был Наполеон»2. Не случайно поэтому об истории Императорской Гвардии во Франции написаны десятки объемистых томов, тысячи брошюр и статей. Наконец, и сам Наполеон обещал создать книгу о подвигах своих верных гвардейцев: «...нужно написать историю моей Гвардии. Эта книга будет вечным памятником, который я возведу в честь храбрецов, которыми больше всего должна гордиться Франция...» Хотя самому Императору не удалось реализовать этого замысла, он был осуществлен другими, и фактически все произведения, посвященные Гвардии от первой книги, изданной в 1821 г. (Перро и Амодрю «История экс-Гвардии»), до знаменитого труда майора Лашука «Наполеон и Императорская Гвардия», появившегося в 1957 г., представляют собой безапелляционный панегирик гвардейским частям.
Восторженный тон многих авторов, писавших на данную тему, вполне понятен: в истории найдется немного таких воинских соединений, где высочайшие боевые качества сочетались с подобным внешним блеском, эффектностью униформ и регалий, наконец, с удивительной судьбой, полной трагизма и героики.
Несмотря на огромное количество литературы, посвященной этому вопросу, нам кажется, что последнее слово здесь еще не сказано. В частности, в данной главе мы постарались, подойдя беспристрастно к объекту нашего исследования, рассказать не только о боевых подвигах Гвардии и блистательных парадах, но и показать весьма сомнительные стороны этого творения Императора, а также измерить цену, которую заплатила наполеоновская армия за создание столь элитного соединения.
Но будем последовательны и начнем с истории создания гвардейского корпуса.
Особенностью Консульской (а впоследствии Императорской) Гвардии является то, что она родилась из слияния двух параллельных структур, сходных по назначению, но совершенно различных как по своему происхождению, так и по заслугам перед молодым главой Французской Республики.
Первой, а быть может, более корректно, одной из этих составляющих явилось едва ли не самое старейшее воинское формирование в мире. В 1799 г. в момент прихода к власти Бонапарта оно называлось «Гвардия законодательного корпуса», но, несмотря на это вполне республиканское наименование, часть имела за плечами многовековую историю. В начале XIII в. в царствование Филиппа-Августа при королевском дворе был организован отряд «стражников с палицами» («sergents* a masse» или «sergents d'armes»), который, в частности, принял участие в знаменитой битве при Бувине (1214 г.). От этого первого гвардейского формирования, существование которого документально подтверждено, произошел ряд других гвардейских подразделений королевской Франции и, в частности, так называемая рота гвардейцев дворцового превотального** управления (Compagnie des Gardes de la Prevote de L’Hotel) - иными словами, дворцовая полиция, просуществовавшая до самого начала Великой французской революции. Рота обеспечивала порядок внутри дворцовых помещений, проверяя подозрительных лиц, оказавшихся в коридорах Версаля. Последних, видимо, было немало, ибо при Старом Порядке в определенные часы во дворец впускались все прилично одетые люди. Личный состав роты осуществлял также задержание особо важных государственных преступников - словом, выполнял полицейские функции.
* Иногда это слово переводится на русский язык как «сержанты». Так как средневековое значение слова «sergents» не имеет практически ничего общего с современным, подобный перевод, видимо, мало уместен.
** Прево - полицмейстер, в XVIII в. это слово существовало в русском языке в несколько измененном виде - «профос».
Рядом реформ с 1776 по 1786 гг. была распущена большая часть знаменитых частей королевской гвардии: мушкетеры, жандармы, шеволежеры, конные гренадеры, гвардейцы-привратники и т. д., однако рота дворцовой полиции пережила все эти штатные сокращения. Но особенно неожиданно сложилась ее судьба в эпоху Революции. В то время как новое правительство довершило дело разрушения королевской гвардии, рота дворцовой полиции не была расформирована. Дело в том, что 20 июня 1789 г., когда она была послана разогнать заседание депутатов третьего сословия, самовольно собравшихся в Зале для игры в мяч, ее чины не только не исполнили монарший приказ, но и более того, самым неожиданным образом провозгласили себя защитниками собравшихся депутатов! Подобная инициатива, разумеется, как нельзя более пришлась по душе «представителям нации». В результате рота сохранилась и продолжила службу уже под новым названием - «Гвардии Национальной Ассамблеи», а затем в 1791 г. была преобразована в специальный отряд, получивший наименование жандармов. В свою очередь, жандармы, подвергнувшись «чистке», были реорганизованы в роту так называемых гренадер-жандармов, затем 4 термидора III года (22 июня 1795 г.) это подразделение было переименовано вновь, получив название гренадеров при национальном правительстве, или гренадеров Конвента, а штаты его были серьезно увеличены. Наконец, 28 октября 1795 г. это своеобразное формирование получило название Гвардия законодательного корпуса, причем численность его была доведена до 1200 человек.
Несмотря на всю эту чехарду наименований и многочисленные кадровые изменения, задача отряда бывших гвардейцев дворцового превотального управления осталась прежней - охрана правительственных учреждений и, собственно, выполнение всех связанных с этим полицейских функций. Преемственность была столь сильна, что, невзирая на все революционные чистки, в 1796 г. Гвардия законодательного корпуса состояла под командованием «гражданина Вийемино», бывшего суб-лейтенанта дворцовых гвардейцев.
Параллельно с Гвардией законодательного корпуса 10 брюмера IV года (1 ноября 1795 г.) была создана и так называемая Гвардия Директории в составе двух рот пеших и двух рот конных гренадер (в общей сложности 224 человека).
Как уже указывалось в главе I, именно эти гвардейцы, призванные защищать существующее правительство, разогнали 19 брюмера по приказу Мюрата и Леклерка депутатов Совета пятисот, совершив тем самым переворот, установивший во Франции режим Консульства.
Уже через два дня после переворота генерал Бонапарт, проведя смотр Гвардии Директории и Гвардии законодательного корпуса, объявил им, что отныне они составляют единое формирование под названием «Гвардия Консулов», что и было официально закреплено декретом от 7 фримера VIII года (28 ноября 1799 г.). Несмотря на то что в день переворота защитники Директории благоуспешно разогнали охраняемые ими органы государственной власти, что навряд ли мог одобрить молодой генерал, он не мог не отблагодарить их за эту услугу, и с их штыками ему приходилось пока считаться. Тем не менее декрет о формировании Гвардии Консулов предполагал нечто большее, чем простую смену наименований. Всего через месяц (3 января 1800 г.) в состав Гвардии была включена рота конных егерей, представляющая собой новое начало в рядах, в общем-то, пока не изменившегося корпуса. Хотя история конных егерей не терялась в полулегендарном прошлом, зато была полна блистательных подвигов. Она началась с Итальянской кампании 1796 г. 30 мая в момент победоносного наступления штаб генерала Бонапарта расположился в деревне Валеджио. Было очень жарко, пехота отстала на марше и расположилась позади деревни. Все, в том числе и молодой полководец, отдыхали, многие были полураздеты. Вдруг раздался пушечный выстрел, несколько пистолетных хлопков и крики: «К оружию! Это неприятель!». В деревне был только штаб и несколько кавалеристов. Все бросились к лошадям, но они были расседланы. Бонапарту пришлось выскочить через заднюю дверь дома и, конфисковав лошадь убегавшего драгуна, спасаться в одиночку... Тревога оказалась, в общем-то, ложной: два полка неаполитанской кавалерии (союзников австрийцев), проезжая мимо деревни, решили разузнать, занята ли она французами. Канониры армии Бонапарта, которые по случаю находились в Валеджио, дали выстрел по врагу. В результате неаполитанская конница предпочла не ввязываться в дело и продолжила свое отступление.
Этот эпизод, в общем, казалось бы, малозначительный, сыграл тем не менее важную роль в истории наполеоновских войск. Бонапарт смог убедиться в том, насколько важно в условиях кампании обеспечение безопасности ставки и что пренебрежение этим простым правилом легко может обернуться катастрофой. Приказом по армии были расформированы 2 роты эскорта (пешая и конная), существовавшие к этому времени при штабе армии (подобные роты состояли на службе при главнокомандующих всех армий Республики). Вместо них была создана новая рота личной охраны главнокомандующего, в которую должны были принимать только отборных солдат.
Казалось бы, ничего кардинально нового не произошло - ведь и уже существовавшие до этого отряды эскорта также состояли не из худших солдат. Однако был важен сам факт создания нового подразделения. Расформирование прежнего эскорта подчеркивало, что отныне рота охраны создается на других основаниях. Она больше не представляла собой подразделение, волею судеб оказавшееся под командованием молодого полководца, а должна была являться его личной клиентелой, в некотором роде «королевским домом». Солдаты новой роты должны были нести службу иначе и, прежде всего, быть беззаветно преданными своему «сюзерену».
Командиром эскорта «Роты гидов главнокомандующего» (Companie des guides du general en chef) стал капитан 22-го конно-егерского полка Жан-Батист Бессьер, будущий маршал Империи, герцог Истрийский. Великолепный наездник, отважный солдат и хороший командир конницы Бессьер, по словам всех очевидцев, обладал самым важным на его посту качеством - безграничной преданностью своему повелителю. Всю оставшуюся жизнь до его трагической гибели 1 мая 1813 г. Жан-Батист Бессьер будет бессменно командовать гвардейскими конными частями... Пока же в 1796 г. его отряд насчитывал 136 человек (на 25 сентября), отобранных среди лучших конников Итальянской армии.
Несмотря на скромную численность отряда, храбрые «гиды» вписали не одну славную страницу в историю побед французской армии на полях Италии. Достаточно сказать, что в последние часы битвы при Арколе Бонапарт «приказал командиру эскадрона Эркюлю двинуться с пятьюдесятью гидами и четырьмя или пятью трубачами через кустарник, чтобы атаковать оконечность левого фланга врага...» Внезапная атака горсти смельчаков посеяла замешательство в рядах австрийцев «...и много способствовала успеху дня»3. Гиды отличились также при Лонато, Кастильоне, Ровередо, Риволи и Тальяменто. Отправляясь в далекий Египет, Бонапарт не преминул взять с собой отряд личной охраны, насчитывавший к этому времени уже 180 конных и 300 пеших гидов. Более того, уже на борту флагманского корабля «Ориан» молодой полководец предписал выбрать лучших солдат из состава линейных частей, довести численность своего элитного подразделения до 1244 человек, которые должны были составлять 5 пеших и 5 конных рот и полубатарею конной артиллерии (3 орудия и 60 человек). В составе гидов было также 20 музыкантов. Хотя, судя по боевым расписаниям Восточной армии, отряд гидов не достиг указанной численности, ясно, что из подразделения, выполнявшего исключительно функции эскорта, гиды превращались в некое отборное резервное формирование, способное решать на поле боя специальные тактические задачи, не забывая при этом, разумеется, своей основной функции — телохранителей. О том, насколько гиды преданно исполняли последнюю из названных миссий, убедительно говорит эпизод, произошедший под Сен-Жан д'Акром. 4 мая 1799 г. при осаде этой крепости Бонапарт находился в траншее. Внезапно рядом упала тяжелая бомба с горящим запалом. Бригадиры гидов Домениль и Карбонель, не колеблясь, бросились к своему генералу и закрыли его своими телами. По счастью, оба смельчака остались живы, тем более, не пострадал и сам главнокомандующий.
А. Ф. Ризинер. Портрет майора гвардейских конных егерей Домениля. 1811 г.
Наряду с этим на поле сражения конные гиды постоянно действовали как ударные кавалерийские части. Особенно это проявилось в ходе Сирийской кампании и, в частности, в знаменитой битве при Мон-Таборе, где их стремительная атака против намного превосходящей по численности турецкой конницы имела полный успех.
180 конных и 125 пеших гидов, отобранных как лучшие, сопровождали генерала Бонапарта в его опасном плавании к берегам Франции и в скором времени после брюмерианского переворота прибыли в Париж.
Слияние этих двух частей очень разного происхождения (Гвардии законодательного корпуса и Гвардии Директории, с одной стороны, и гидов Бонапарта - с другой), а также боевой опыт гидов в Египте, показывали, что отныне Гвардия приобретает иное предназначение, чем в предыдущую эпоху. Если при сменяющих друг друга революционных правительствах гвардейцы были лишь небольшой частью, выполнявшей, как уже отмечалось, прежде всего полицейские функции при государственных учреждениях, а в период Директории еще и служившей украшением благодаря своей нарядной форме официальных церемоний, то теперь Гвардия превращалась в отборную воинскую часть, главной задачей которой должна была стать охрана ставки главнокомандующего в ходе кампании, а также выполнение особых тактических задач на поле сражения. Разумеется, при этом не терялось и прежнее предназначение гвардейцев - обеспечение безопасности высших государственных учреждений и резиденции главы правительства, а также представительские функции.
В самом начале 1800 г. Гвардия Консулов состояла уже из:
■ двух батальонов пеших гренадер,
■ роты легкой пехоты,
■ двух эскадронов конных гренадер,
■ роты конных егерей,
■ артиллерийского подразделения.
Общая численность по штату - 2089 человек.
Как понятно из вышесказанного, пешими и конными гренадерами были бывшие гвардейцы эпохи Директории, а конными егерями и легкой пехотой - бывшие гиды Бонапарта. В течение короткого времени (с 21 октября 1799 по 16 апреля 1800 гг.)Консульской Гвардией командовал недавно ставший зятем Первого консула Мюрат, а затем его сменил на этом посту знаменитый дивизионный генерал Жан Ланн. Ланн стал вторым по счету и... последним командиром Гвардии. Бонапарт быстро осознал довольно простую истину: честолюбивый, отважный и к тому же популярный генерал во главе Гвардии может быть политически опасен. Тем более что Ланн очень скоро дал повод для размышлений в этом направлении... Вообще, быть другом и одновременно непосредственным подчиненным дело трудное, а когда речь идет о первых лицах государства - просто невозможное. Ясно, что достойный глава правительства не может позволить человеку, ранее бывшему его другом, фамильярничать с ним, тем более в обществе, и вовсе не обязательно по той причине, что он забыл о старой дружбе, а просто из уважения к другим людям, которым он просто не имеет права позволить ничего подобного. Не может первый человек страны и постоянно «прислушиваться» к советам друга - у него должна быть своя голова на плечах, и решения он обязан принимать, выслушав сотни советов, рекомендаций, переработав громадную информацию. Рано или поздно самое нормальное и достойное поведение главы государства должно привести к тому, что его подчиненный решит, что его забывают, им пренебрегают и что бывший друг, вознесшийся на вершины власти, стал «уже не тем» и т. д. Как неминуемое следствие - фрондерство подчиненного и соответствующая реакция начальника... Ну, а дальше логика событий может довести до самой трагической развязки... Мы привели это пространное рассуждение для того, чтобы показать, что в том, что произойдет между Жаном Ланном и Бонапартом, не было ничего особенного, из чего можно было бы делать далеко идущие выводы о деспотии. А произошло как раз то, о чем мы только что говорили. Ланн отказывался изменить свои манеры в отношении Первого консула. Он подчеркнуто фамильярничал с ним в самые неподходящие моменты, давал массу «дружеских советов» и т. п. Когда же он почувствовал холодность со стороны Бонапарта, у которого подобное поведение его подчиненного не вызвало бурного энтузиазма, Ланн стал рассматривать это как измену дружбе и открыто обсуждать с другими поведе - ние Первого консула. Он дошел до того, что стал чуть ли не заводилой в группе генералов, резко порицавших политику Бонапарта в отношении церкви и, в частности, заключение Конкордата. Молодой глава французского правительства проявил в данном случае твердость и прозорливость. Получив информацию (возможно от Бессьера) о беспорядке в финансовых делах Гвардии, он использовал этот проступок Ланна как удачный повод для смещения его с командного поста. В октябре 1801 г. Ланн должен был сложить полномочия командира гвардейского корпуса, а 14 ноября того же года он получил назначение послом в Лиссабон. Несмотря на возмущение, протесты и отчаяние Ланна, нельзя не сказать, что Первый консул поступил мудро. Он ликвидировал в зачатии возможный источник политических смут, а заодно спас то, что еще можно было спасти, в своих отношениях с Ланном.
С этого момента в Гвардии не будет другого главнокомандующего, кроме самого Наполеона Бонапарта; генералы, а впоследствии маршалы, получат в свое распоряжение лишь отдельные части элитного корпуса, но не весь корпус.
Вернемся, однако, к самым первым моментам существования Гвардии. Едва только Первый консул начал свою титаническую деятельность по наведению порядка в стране и организации армии и Гвардии, как последним пришлось проходить серьезные испытания на прочность в ходе стремительной кампании 1800 г. 14 июня этого года Гвардия Консулов получила боевое крещение в ходе знаменитого сражения при Маренго. Это боевое крещение нельзя не назвать суровым. В ходе битвы, когда французской армии пришлось отступать под давлением превосходящих, особенно в артиллерии и кавалерии, сил австрийцев, Первый консул ввел в дело Гвардию с целью замедлить продвижение неприятеля. В официальной реляции, составленной генералом Бертье на следующий день, говорилось: «Гвардейские гренадеры стояли, словно гранитный редут, посреди обширной равнины. Ничто не могло их сокрушить: кавалерия, пехота, артиллерия - все было направлено против одного батальона, но напрасно. Здесь ясно можно было увидеть, что может сделать горсть храбрецов»4. Эта версия почти безоговорочно принята французскими историками. Однако австрийские документы говорят обратное. В частности, весьма обстоятельная реляция, опубликованная впервые в «Австрийском военном журнале» в 1823 г., дает иную картину боя. Подтверждая, что Консульская Гвардия отбила атаку драгун Лобковица, реляция указывает, что затем гвардейцы развернулись в линию, чтобы вести огневой бой с пехотным полком Сплени. «Внезапно полковник Фримон выдвинул вперед свои четыре эскадрона гусар и атаковал с тыла Консульскую Гвардию... Гвардия была разбита и опрокинута, ее солдаты почти все убиты или ранены, артиллерия захвачена»5.
Планшет 26. Пешие гренадеры: рядовой, сержант и офицер 1805-1806 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Планшет 29. Конные егеря: офицер и рядовой 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
Хотя последний документ, так же как и реляция Бертье, не свободен от преувеличений, тем не менее в общем все описание битвы в нем гораздо более объектив - но, чем в официальном тексте Бертье, а описание боя гвардейского батальона содержит такие подробности, которые трудно выдумать. Конечно, пешая Гвардия не была вся уничтожена, как утверждает последний документ, однако она потеряла 50% своего личного состава убитыми и ранеными, в то время как общие потери по армии составили около 20%. Последнее явно более согласуется с австрийским вариантом видения событий.
Впрочем, это нисколько не умаляет отваги Гвардии в ее первой битве, где все солдаты сражались подобно барабанщику Денену, которому осколком гранаты перебило ногу, но он, истекая кровью, удерживаясь на одной целой ноге, продолжал выбивать сигнал атаки.
Доблестно сражалась под Маренго и конная Гвардия: 245 конных гренадеров и 185 конных егерей. В отчаянной рубке с намного превосходящим по численности врагом гвардейские кавалеристы оставили на поле боя больше трети своих товарищей. Вахмистра Рабюссона и четверых конных егерей в ходе боя окружили двенадцать австрийских драгун: троих из них отважный унтер-офицер зарубил на месте, остальные бежали, кроме их офицера, которого боевые товарищи Рабюссона взяли в плен. На трубача конных гренадеров Шмидта также напало сразу несколько вражеских кавалеристов. Шмидт зарубил одного их них, но другие осыпали его ударами палашей. Храбрец был изранен, труба перерублена у него на бедре, но он сумел вырваться из рук врага и доскакать до своих. Вахмистр конных гренадеров Ланселёр захватил австрийское знамя и семерых пленных, конный гренадер Леруа взял штандарт и пятерых пленных, конный гренадер Миле - штандарт и троих пленных...
Менее чем через месяц после этого славного дебюта, 13 июля 1800 г., Гвардия была уже в столице Франции, где покрытая пылью дорог и окутанная ореолом победы она была с иступленным ликованием встречена парижанами. Подобное стремительное возвращение Гвардии было еще одним точным политическим ходом Бонапарта. Он довел до экстаза восторг толпы тем, что почти сразу после известий о блестящей победе показал столице самих героев, которые по тем временам почти что мгновенно прибыли из далекой (опять-таки по масштабам эпохи) Италии. С другой стороны, это был и удачный ход в отношении самих гвардейцев, для которых подобный триумф был, без сомнения, великолепной наградой за героизм, но наградой особой, подчеркивающей их избранность.
Говоря об особых наградах, нельзя не вспомнить еще об одной, которую получил храбрый знаменосец пеших гренадер Леон Он. Бывший солдат 32-й линей-, ной полубригады, ставший гвардейцем, обладал легендарной отвагой и весь был покрыт шрамами от ранений. В битве при Маренго, хотя он и не получил новой раны, зато мундир и шляпа храбреца были все изрешечены пулями. Чтобы отблагодарить этого человека за его беззаветную отвагу, глава французского правительства лично устроил свадьбу бесстрашного солдата с очаровательной девушкой, носящей одну из самых знаменитых дворянских фамилий Европы - де Монморанси! Так постепенно зарождалась концепция «нового рыцарства», «слияние элит», о которой мы уже неоднократно упоминали в предыдущих главах. В день свадьбы был дан праздник, на который молодоженов пришли поздравить гвардейские офицеры, в числе которых были и знаменитый Бессьер и Евгений Богарне, приемный сын Первого консула...
Отвага Гвардии на поле битвы при Маренго, где гвардейцы показали себя настоящими героями, равным образом как и возвращение к монархическим формам правления заставляли Бонапарта непрерывно увеличивать численность «Гвардии Консулов», которая в 1802 г. получит название «Консульская Гвардия».
На первый взгляд - это лишь малозначительная модификация наименования, на самом же деле - достаточно очевидная политическая декларация. В августе 1802 г. было провозглашено пожизненное консульство, и Бонапарт стал почти что некоронованным монархом. Понятно, что в подобной ситуации Гвардия не могла оставаться Гвардией неких консулов вообще. Она должна была стать его Гвардией, по сути и по названию. Однако наименование «Гвардия Консула» или «Гвардия Первого консула» были бы слишком демонстративно персонифицированы и, следовательно, политически неразумны. «Консульская Гвардия» было названием, наиболее приемлемым как с точки зрения политических реалий, так и с точки зрения соблюдения необходимых условностей.
На смену относительно скромной Гвардии периода Директории приходит Гвардия, соответствующая по своему внешнему оформлению требованиям момента. Уже 1 фримера IX года (22 ноября 1800 г.) - Изабе и Карл Берне представляют публике ставшую знаменитой картину «Смотр Гвардии, проводимый Первым консулом», или, как ее еще назовут, «Смотр на Декади*». Удивительно, с какой быстротой происходит настоящий взрыв моды на пышность: уходят в прошлое относительно простые мундиры офицеров эпохи Республики, офицеры и генералы переднего плана облачаются в роскошные мундиры, словно облитые потоком золота, эполетов, шитья, аксельбантов, бахромы и т. п.
* Декади - десятый день недели по республиканскому календарю, заменивший собой воскресенье.
Наряду с увеличением численности гвардейского корпуса, в Гвардию вливаются все новые и новые формирования: отряд элитной жандармерии, гвардейские моряки, рота ветеранов Гвардии, экзотическая рота мамелюков, сформированная из жителей Египта, эвакуировавшихся из страны вместе с французской армией и, конечно, блистательная гвардейская конная артиллерия со своей материальной частью и обозом (см. список и историю отдельных гвардейских формирований в Приложении V).
Весна 1804 г. стала для Гвардии, как и для всей Франции, важным рубежом. Приказом на день от 20 флореаля XII года (10 мая 1804 г.) Гвардии было объявлено следующее:
«Гвардия информируется о том, что Сенат провозгласил Наполеона Бонапарта Императором французов и закрепил этот титул в качестве наследного в его семье.
Да здравствует Император!
Поклянемся же в беспредельной верности Наполеону I, Императору французов.
Сегодня Гвардия получает название - Императорская Гвардия...»6
К этому моменту Гвардия представляла собой уже настоящий гвардейский корпус, организованный следующим образом:
A. Главный штаб и военная администрация Гвардии.
B. Пехота:
1. Полк пеших гренадер;
2. Полк пеших егерей;
3. Рота ветеранов.
C. Кавалерия:
1. Полк конных гренадер;
2. Полк конных егерей с приданной ему ротой мамелюков.
D. Специальные войска:
1. Эскадрон конной артиллерии;
2. Легион элитной жандармерии;
3. Батальон гвардейских моряков;
4. Четыре роты артиллерийского обоза.
Е. Гвардейский госпиталь.
Всего по штату - 9798 человек.
Согласно декрету от 29 июля 1804 г., во главе Гвардии стояли четыре высокопоставленных военачальника - так называемые «генерал- полковники» Гвардии. Все эти высшие офицеры на самом деле были маршалами Империи и звание «генерал-полковник», отсутствующее в иерархии чинов наполеоновской,Франции, было не более чем дополнительным почетным титулом в многочисленных отличиях этих людей.
Четырьмя генерал-полковниками в 1804 г. стали следующие маршалы:
■ Даву - генерал-полковник пеших гренадеров (1804— 1814 гг.),
■ Сульт - генерал-полковник пеших егерей (18041814 гг.),
■ Мортье - генерал-полковник гвардейской артиллерии и моряков (позже также инженерных войск) (1804-1814 гг.),
■ Бессьер - генерал-полковник гвардейской кавалерии (1804-1813 гг.).
В принципе, предполагалось, что генерал-полковники будут командовать Гвардией по очереди, оставаясь на «дежурстве» по одной неделе каждый. По идее вся Гвардия находилась под командованием дежурного генерал-полковника, который должен был всегда находиться подле Императора, отвечая за его безопасность. В мирное время дежурному генерал- полковнику полагалось размещаться во дворце, где живет Император, а в военное - спать вместе с ним в его палатке.
Все приказы по Гвардии должны были отдаваться через дежурного генерал-полковника. Во время парадных выездов эти высшие офицеры должны были сопровождать карету Императора и скакать рядом с ее дверцами - двое с правой стороны и двое с левой. Наконец, они должны были командовать Гвардией на больших парадах.
В действительности же положения этого декрета в значительной степени остались мертвой буквой. Даву и Сульт с 1804 г. были постоянно задействованы в командовании крупными войсковыми соединениями и оставались по сути дела лишь почетными высшими офицерами Гвардии. Оба эти маршала разве что несколько раз имели случай надеть блистательные гвардейские мундиры. Напротив, Мортье и Бессьер практически всегда находились при Гвардии, выполняя функции командующих ее соединениями. Особенно большую роль сыграл в этом смысле маршал Бессьер, который стал фактически первейшим из гвардейских начальников. Хотя ни формально, ни реально он не являлся главнокомандующим гвардейским корпусом, тем не менее его функцию можно определить как заместитель командующего Гвардией, которым был лично Император, отныне ревностно следящий за тем, чтобы во главе Императорской Гвардии не было другого реального вождя, кроме него самого. Трагическая гибель маршала Бессьера от вражеского ядра под Риггпахом (1 мая 1813г.) привела к тому, что его пост оставался вакантным в течение сравнительно долгого времени - более шести месяцев, пока генерал-полковником гвардейской кавалерии не был назначен маршал Сюше, снискавший себе славу в Испанской кампании. Впрочем, для Сюше, занятого на далеком испанском театре военных действий, этот пост остался в значительной степени почетной синекурой и никакого серьезного следа в истории Гвардии, в отличие от своего предшественника, он не оставил.
Планшет 27. Пешие егеря: генерал-полковник (маршал Сульт),офицер, рядовые, сержант 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 28. Конные гренадеры: рядовой и офицер 1807-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Состав Императорской Гвардии постоянно изменялся. Не только каждый год, но почти что каждый месяц привносил какие-либо дополнения в организацию элитного соединения, численность которого продолжала непрерывно расти. Однако общая концепция Гвардии до конца 1808 г. в целом будет оставаться неизменной. Поэтому уместно прервать на время хронологическое повествование и обратиться к характеристике Гвардии в первые годы Империи.
С первых лет существования Гвардии Наполеон стремился сделать ее не просто частью, укомплектованной высокорослыми, хорошо сложенными солдатами, призванными блистать на парадах, подобно то- как это было в гвардиях многих государств Европы того времени, и даже не просто элитным боевым подразделением, состоящим из опытных бойцов. Наполеон поставил перед собой задачу создать некий эталон для остальной армии - Гвардию, которая должна была выделяться не только выигрышным внешним видом и высокими боевыми качествами, но и строгой дисциплиной и моральными качествами вообще. «Я хочу иметь в Гвардии не просто храбрецов, - говорил он, - но солдат, безупречное поведение и моральный облик которых могли бы быть поставлены в пример».
Совершенно не так обстояло дело с Гвардией в эпоху Директории: «Эта Гвардия... была в значительной степени составлена из бывших солдат полка пешей королевской Гвардии... и постоянно пополнялась самыми дурными элементами, - рассказывал генерал Матьё Дюма. - Я пытался утвердить в ее рядах строгую дисциплину, в чем мне помогал военный министр Петие. Все те, кто три раза отсутствовали на построении, отправлялись в Рейнскую армию»7.
Впрочем, как видно из вышесказанного, чистки в рядах Гвардии Директории и Законодательного корпуса не помешали им разогнать охраняемых законодателей. Этот пример был очень наглядным для Первого консула и Императора: «Если привилегированная часть не ведет себя сдержанно и достойно, ее необходимо тотчас распустить, - писал он. - Я хочу иметь в моей Гвардии солдат, прошедших огонь и воду, но я не потерплю, чтобы они позволяли себе быть недисциплинированными. Какая бы у подобных людей не была униформа, они в моих глазах всегда будут лишь янычарами или преторианцами».
Именно поэтому дисциплина, беспрекословное подчинение и высокие моральные качества стали неотъемлемыми требованиями, предъявляемыми к кандидату на вступление в Гвардию. Уже 7 фримера VIII года (28 ноября 1799 г.)8, т. е. спустя всего 18 дней после переворота, Первый консул набрасывает на бумагу основные идеи, касающиеся правил приема в Гвардию, которые были подтверждены постановлением от 8 сентября 1800 г. и окончательно утверждены 8 марта 1802 г.9 Параграф 32 консульского постановления гласил: «Военнослужащие всех родов войск могут быть включены в Гвардию Консулов. Их зачисление в ряды этого корпуса является наградой за храбрость и примерное поведение»10. Данная фраза особенно важна в понимании наполеоновской концепции Гвардии. Сама принадлежность к этому корпусу являлась наградой для воина. Поэтому и условия, которые предъявлялись кандидатам, были необычайно строгими. Необходимо было
1. Принять участие не менее чем в трех кампаниях (с 1802 г. - в 4-х кампаниях).
2. Иметь «награды, которые даются храбрецам за отличие в бою или получить боевые раны».
3. Состоять на действительной военной службе.
4. Иметь рост не менее 1 м 80 см для гренадеров и 1 м 70 см для егерей.
5. Отличаться безупречным поведением в течение всей предыдущей службы11.
Императорский декрет от 10 термидора XI года (29 июля 1804 г.) подтвердил во многом эти требования, однако несколько смягчил пункты, относящиеся к физическим данным кандидатов: отныне для вступления в ряды гренадер достаточно было иметь рост 1 м 76 см, а для егерей было достаточно роста 1м 67 см. Более «мягким» стало условие наличия в послужном списке кампаний: требовалось иметь за плечами лишь два военных похода.
Какие же в реальности были гвардейцы Императора Наполеона, насколько указанные требования к кандидатам отвечали действительности?
Регистры, сохранившиеся в архиве Венсеннского замка, позволяют дать достаточно убедительный ответ на данный вопрос12. Хотя, к сожалению, как уже отмечалось, из-за скупости данных послужных списков, а подчас из-за небрежности писарей, мы не можем получить всю интересующую нас информацию, общая картина прослеживается довольно четко.
Для анализа были исследованы послужные списки 215 солдат 1-го полка пеших гренадер, поступивших в полк с мая по октябрь 1806 г. Отдельно были рассмотрены также 488 человек, зачисленных в часть в январе 1807 г.* Данная выборка достаточно репрезентативна и позволяет произвести вполне убедительную качественную оценку состава гвардейских частей.
Средний возраст вступления в полк - 31,5 лет, причем эта цифра является не только средней арифметической, но и соответствует наиболее вероятному возрасту начала службы в Гвардии: 55% солдат, зачисленных в полк, были людьми в возрасте от 30 до 34 лет. Остальные принадлежали к самым различным возрастным категориям: от 20 до 50 лет - впрочем, подобные экстремальные цифры были крайне редкими. Только один из рассмотренных нами солдат был двадцатилетним, только один - пятидесятилетним.
* Данное пополнение, вследствие его особого характера, рассмотрено отдельно. Оно принадлежало к так называемым «велитам» - батальонам, составленным из молодых добровольцев, приданных частям Гвардии (см. ниже).
Возраст завершения службы в полку весьма разнообразен, но в среднем это 36-37 лет. Таким образом, в подавляющем большинстве солдаты и унтер-офицеры Гвардии были мужчинами в самом расцвете сил. Это, конечно, вносит некоторые коррективы в расхожий штамп убеленного сединами гренадера, о котором мы уже упоминали. Хотя указанный полк будет называться Старой Гвардией, понятие «старость» характеризует здесь лишь приобретенный в боях опыт, а не возраст солдат. Лишь очень немногие унтер-офицеры полка соответствовали образу старика-воина, ставшему популярным благодаря романтическим литографиям Шарле и Раффе. Всего 7% военнослужащих покинули полк в возрасте 40 лет и более, и только один из ста уходил из части в возрасте 50 лет или старше.
Хотя солдат Гвардии было трудно назвать стариками, их служба была поистине «старой». Средний срок выслуги у вступающих в полк был почти 13 лет, что означает (учитывая указанное выше время пребывания в полку), что в среднем гренадер 1-го полка имел за плечами 15-16 лет службы! Только 3% солдат вступили в часть, не имея регламентированных пяти лет выслуги. Не следует также забывать, что выслуга лет в это время означала не просто время, проведенное на воинской службе. В среднем вступающий в полк солдат прошел около 10 кампаний, а 55% из зачисленных в часть провели в различных военных походах от 11 до 15 лет! Учитывая же, что в рядах Гвардии солдаты прошли в среднем еще 3,5 кампании, то можно сказать, что покидавший полк воин имел за плечами около 14 военных походов.
Важно также отметить, что военнослужащие, зачисленные рядовыми в гвардейскую часть, были до этого момента не просто солдатами. К примеру, из 215 рассмотренных нами гренадеров до вступления в полк были Воинские звания вступивших в 1-й гренадерский полк
| рядовыми | 74 чел. | 34,4% |
| капралами, бригадирами, | 63 чел. | 29,3% |
| фурьерами | 43 чел. | 20,0% |
| сержантами, вахмистрами | 6 чел. | 2,8% |
| старшими сержантами | 12 чел. | 5,6% |
| жандармами в нац. жандармерии | ||
| нет сведений в регистре, не служил | ||
| 215 чел | 100,0% |
Как видно, более 60% личного состава полка (учитывая, что те, о которых нет сведений, достаточно пропорционально распределяются по всем категориям), прежде чем стать рядовыми Гвардии, имели воинское звание от капрала и выше или принадлежали к тщательно формируемому корпусу жандармерии. 4,2% военнослужащих, вступивших в полк, были либо награждены орденом Почетного Легиона, либо имели почетное оружие. В последние годы Империи, вследствие многочисленных награждений в ходе наполеоновских войн, эта цифра резко возрастет. Так, согласно Ипполиту де Модюи, служившему в 1815 г. в рядах гренадеров, в 1-м гренадерском полку было уже около тысячи кавалеров ордена Почетного Легиона, а в роте, где служил сам Модюи, из 160 унтер- офицеров и рядовых, 133 человека носили на груди орден на красной ленточке!13 Послужные списки указывают также, что 21,4% вступивших в полк имели одно и более ранений. Однако данная цифра скорее всего занижена. Дело в том, что факт получения ранения, особенно на предыдущей службе, далеко не всегда отмечался.
В рассматриваемый нами период часть была почти что мононациональной. Только 11 из 215 человек (т. е. 5,1%) были нефранцузами по происхождению. Десять из них - итальянцы, уроженцы недавно присоединенного Пьемонта, а один - немец с левого берега Рейна. Позже это соотношение, также как и в рядах линейных войск, сильно изменилось.
Судьба гвардейцев весьма отличалась от того, что мы видели в рядах линейной пехоты. Рассматриваемые нами 215 гренадеров завершили службу следующим образом:
солдаты 1-го гренадерского полка
| уволены в отставку | 52 | (24,2%) |
| переведены в ветераны | 11 | (5,1%) |
| убиты в бою или умерли от ран | 17 | (7,9%) |
| умерли от болезней | 12 | (5,6%) |
| вычеркнуты по причине долгого отсутствия | 9 | (4,1%) |
| произведены в унтер-офицеры Молодой Гвардии | 34 | (15,8%) |
| произведены в офицеры линейных частей | 7 | (3,2%) |
| произведены в офицеры Гвардии | 7 | (3,2%) |
| переведены унтер-офицерами в другой полк Старой Гвардии | 2 | (0,9%) |
| дезертировали | 2 | (0,9%) |
| высланы из полка за дурное поведение | 2 | (0,9%) |
| покончили жизнь самоубийством | 1 | (0,5%) |
| продолжали служить в 1814 г. | 14 | (6,5%) |
| пропали без вести во время отступления из России | 45 | (20,9%) |
| 215 | (99,7%) |
Несмотря на то что эти цифры можно рассматривать лишь как ориентировочные, качественное различие с аналогичными характеристиками для линейных частей очевидна. Разумеется, бросается в глаза ничтожное количество случаев дезертирства в Гвардии - менее 1%. Можно сказать, что в Старой Гвардии дезертирство присутствует лишь в виде отдельных фактов, связанных с личной драмой, острым служебным конфликтом и т. п., но не представляет собой обычное явление (среди 488 велитов, поступивших в гвардейский полк, дезертировали только трое, причем двое из них сами вернулись в строй). Обращает на себя внимание также факт невысокой смертности от болезней по сравнению с таковой в армейской пехоте. Конечно, это в значительной мере было связано с тем, что в Гвардию попадали также закаленные воины, прошедшие жесткий естественный отбор, однако сказывалось и то, что условия жизни на походе, равно как и медицинское обслуживание вне боевых действий, были значительно лучшими, чем в остальной части армии.
Более высокий, чем в армейских пехотных полках, процент пропавших без вести в России объясняется очень просто - для линейных войск нами была вычислена средняя цифра по различным частям, среди которых и такие, которые не участвовали в русской кампании. Для тех же, кто прошел тяжкий путь отступления 1812 г., процент потерь был еще большим, чем у гвардейцев.
Продвижение по службе происходило в Гвардии куда более интенсивно, чем в линейных частях: около 20% рядовых гвардейцев стали офицерами или унтер- офицерами Гвардии, сверх этого, более 3% из них стали офицерами линейных войск. Впрочем, не следует забывать, что более половины всех военнослужащих до поступления в Гвардию уже были капралами или унтер-офицерами.
Наконец, обращает на себя внимание то, что количество ушедших в почетную отставку или в ряды ветеранов Гвардии было в два с лишним раза больше, чем в линейных войсках.
В целом образ части, который сходит со страниц лишенных всяких эмоций документов, впечатляет. Перед нами фаланга испытанных воинов, прошедших тысячи опасностей, мужчин, полных сил и энергии и при этом имеющих огромный жизненный опыт. Многие из них на момент вступления в Гвардию уже были командирами. Не следует забывать, что звание старшего сержанта, которое имели перед зачислением в полк некоторые из гренадеров, предполагало нахождение на должности старшего унтер-офицера роты. Без сомнения, люди, прошедшие через выполнение подобных функций, знали, что такое ответственность, умели подчиняться и командовать. Никто (за редчайшим исключением) не покидал полк недостойным образом. Из подобной части уходят либо с почетом - в отставку, либо с повышением по службе, либо... в могилу.
Эта картина, воссозданная на основе документов, полностью подтверждается письмами, дневниками современников и мемуарной литературой. Вестфальский офицер фон Лоссберг увидел гвардейцев в 1812 г. на походе и пораженный сделал в своем дневнике короткую запись, которая словно моментальная фотография выхватывает для нас из тьмы времен образ гвардейцев Императора: «Я увидел ее (Старую Гвардию) в первый раз и никогда не забуду впечатление, которое на меня произвели гвардейские гренадеры. Вот это действительно солдаты в истинном смысле слова. Вообще, я видел людей более крупного роста, но никогда не видел в сборе такого числа бородатых, загорелых и вместе с тем интеллигентных лиц. Хотя многие из них были ростом не выше 5 футов 7 дюймов (181 см), но зато обладали крепким сложением и мускулистым телом. Я видел, как закаленные в войнах солдаты прошли мимо меня походным шагом, и при этом убедился в легкости их шага и в ловкости, с которой они носили свои ружья и ранцы»14.
Но особенно яркое и точное описание гренадера Гвардии оставил нам уже упомянутый сержант Ипполит де Модюи. Портрет, написанный Модюи столь живой и точный, что, несмотря на пространность, мы приводим его почти полностью:
«Испытанный в долгих маршах, познавший усталость, тяготы биваков, жару и холод, гренадер Старой Гвардии был подтянутым и сухощавым. Все у этих стальных воинов было испытанным: сердце, тело и ноги. С такими людьми можно было бы завоевать весь мир!
Загорелое и обветренное лицо, впалые щеки и орлиный нос — все это делало гренадера еще более воинственным... густые красивые усы, часто выгоревшие на солнце, подчеркивали его мужественность... а красиво завитая и напудренная коса дополняла ансамбль...
Особенностью и своеобразным кокетством гвардейских гренадеров были серьги в ушах. На них делали первые затраты, прибывая в часть. Обычно товарищ по полку протыкал новичку уши и вставлял в отверстие временную серьгу из свинцовой проволоки, которая носилась до тех пор, пока гренадер не накапливал денег, чтобы купить себе золотую серьгу диаметром с 3-франковую, а то даже и с 5-франковую монету.
Обычно протыкавший уши был и специалистом по татуировке, и кроме отверстий для серег, он проделывал "операцию" на груди и руках вновь прибывшего, потому что каждый гренадер должен был сохранить на своем теле нестирающийся рисунок символов любви и гренады...
Обычай требовал, чтобы гренадер имел и золотые часы с цепочкой, однако, чтобы приобрести их, требовался, по меньшей мере, год лишений и экономии. Первые же шесть месяцев пребывания в части солдат 1-го гренадерского должен был не покидать добровольно казарм и обходиться обычным солдатским рационом, отказывая себе в вине, чтобы восстановить свой лицевой счет на должном уровне, ибо денег, которые он получал, на покупку того, что мы называли "наша форма для города и салонов", не хватало. Эта форма состояла из мундира, коротких нанковых кюлот, белых чулок, туфель с серебряной пряжкой и шляпы, которую обычно носили лихо сдвинув набок.
Аккуратный в ношении униформы, человек порядка, организованный, словно бережливая хозяйка, гренадер Гвардии носил тем не менее на поясе то, что называлось "грушей для утоления жажды", т. е. кошелек, в котором было 20-30 наполеондоров...
Гауптвахта была для гренадера редкостью, и если, по случаю, какой-нибудь друг заставлял его выйти за пределы обычной привычки к сдержанности и достоинству, в неподобающем виде гренадер никогда не появлялся на улице. Униформу Старой Гвардии могли носить лишь те, кто держит прямо голову и тверд в ногах. Качающегося гренадера доставляли на извозчике за его счет, этим и исчерпывалось наказание.
Развлечения гренадеров были двух видов: так сказать, семейные, т. е. в кругу полка, и внешние. В казарме играли в карты в "империал" или "пике", но чаще всего в "дрог". Иногда занимались фехтованием, нередко танцами, последнее практиковалось особенно, если полковой "Вестрис"* узнавал какие-нибудь новые па, достойные, чтобы продемонстрировать их на балу.
* Вестрис - знаменитый французский танцовщик эпохи Империи. Здесь - учитель танцев, специалист в этой области.
Раз в день заходили в полковую столовую и, если хотели угостить приятеля, то обычно пили "вишню в водке", а не банальную водку, как в линейных частях. Нанося визит в столовую, не забывали поухаживать за буфетчицей, которая, впрочем, оставалась на положении доброй соседки, так что для этих посещений не приходилось особенно тратиться на наряды.
Вне казармы гренадеры любили отправиться на прогулку, на танцы или в театр, иногда в кафе, но очень редко - в кабаре: в последнем для них было слишком дурное общество.
Курбевуа, Сен-Дени, Сюрен, Рюэль, Нантер, Булонь и Сен-Клу - вот пригороды Парижа, куда гренадер отправлялся прогуляться с дамой, а иногда и в одиночестве, ибо всегда где-то поблизости можно было найти старого товарища по походам, ставшего зятем какой- нибудь прачки или живущего в уединении, после того как он отдал долг своему Отечеству.
Театрами Бульваров с их пошлыми комедиями гвардейские гренадеры пренебрегали, они любили спектакли, которые возвышали душу. "Триумф Траяна" была их любимой пьесой.
Хотя многие гвардейские гренадеры в совершенстве владели искусством фехтования, а некоторые из них даже имели удостоверения учителей фехтования, они никогда не были бретерами. Дуэль в полку была такой же редкостью, как совершение проступков, заслуживающих гауптвахты. Самое искреннее братство царило внутри полка и между родами оружия этого удивительного корпуса...
Хотя в день битвы гренадер был страшен, в Париже ребенок мог бы сделать с ним все, что он хотел, так что красивый рисунок, представляющий маленького ребенка, сидящего на коленях у гренадера и таскающего его за усы, можно сказать, сделан с натуры»15.
Все вышесказанное, за исключением отдельных нюансов, могло быть отнесено к любому из-тюлков Старой Гвардии (точнее, просто «Гвардии», ибо понятие «старая» появится лишь с появлением в рядах гвардейского корпуса частей, укомплектованных новобранцами), хотя, конечно, каждый из них имел свои особенности и характерные типические черты. Все те, кто служил в конных и пеших егерях Гвардии, любили подчеркивать живость и веселость солдат этих частей; и наоборот, считалось, что пешие и конные гренадеры отличались большей серьезностью и даже некоторой надменностью. «Каждый раз, когда мы, конные егеря, - рассказывает ветеран полка, - проезжали мимо рядов пеших егерей, разбрасывая пыль или грязь, с обеих сторон доносились шутки и смех. Совсем не так было, когда мы проезжали рядом с гренадерами, или "ворчунами", как их прозвали. Они совсем не смеялись...»16
Однако эти различия были не принципиальны. Главное - тщательный отбор поступающих, строгая дисциплина, высокие профессиональные качества, преданность Императору и беззаветная отвага были одинаково присущи всем, кто служил в гвардейских полках, составленных из старых солдат. Впрочем, всем им в равной степени было присуще и сознание своей исключительности, поддерживаемое целым комплексом привилегий и преимуществ, которыми обладали только гвардейцы.
Уже из приведенного выше портрета пешего гренадера, написанного Модюи, понятно, что гвардейцы не страдали от недостатка материальных средств. Действительно, Гвардия получала жалование гораздо более высокое, чем линейные части. Что касается офицеров - об их жаловании уже упоминалось в главе III. Конечно, скромные солдатские оклады очень отличались от щедрых пожалований привилегированному офицерскому корпусу, однако и они весьма разнились с тем, что получали рядовые обычных полков.
Жалованье пехоты линейных частей и Гвардии (во франках в день)
| Линейная пехота | Пехота Старой Гвардии | |
| Старший офицер | 0,85 | 2,67 |
| Сержант | 0,62 | 2,22 |
| Капрал | 0,45 | 1,67 |
| Барабанщик | 0,40 | 1,39 |
| Рядовой | 0,30 | 1,17 |
Как видно из этой таблицы, рядовой или унтер-офицер Старой Гвардии получали почти вчетверо большее жалованье, чем их коллеги в линейных полках; младшие офицеры получали примерно вдвое больше, чем армейские; и только на уровне старших офицеров происходило постепенное выравнивание доходов, хотя и здесь видно, что офицеры Гвардии находились в явно привилегированном положении.
Впрочем, на самом деле, разница в материальном положении была еще более значительной, так как Гвардия сверх жалованья получала дополнительные виды довольствия, а также премиальные, наградные и т. д.
Во время церемонии крещения Римского короля - сына Императора, родившегося в 1811 г., Гвардия стояла шпалерами по улицам, где проезжал парадный кортеж предполагаемого будущего наследника короны Великой Империи. Счастливый отец-Император решил, что все солдаты Гвардии должны порадоваться вместе с ним по этому случаю, и издал приказ, согласно которому все, кто стоял шпалерами и, вообще, те гвардейцы, кто был под ружьем в этот день на улицах Парижа, получили в качестве благодарности дополнительное месячное жалованье (как понятно из таблиц, приведенных на страницах нашей книги, - достаточно круглую сумму). Тотчас же засуетились все, кто имел хоть какое-то отношение к церемонии: офицеры штаба, чиновники военной администрации, обозники, которые привезли питание для гвардейцев в этот день, и так далее. Так что на столе у Императора, на радостях отдавшего этот приказ, скопилась вскоре целая стопка бумаг с просьбами о выплате премии для персонала, никакого отношения к крещению Римского короля не имеющего. Не без юмора Наполеон поставил короткую резолюцию на запросе военного министра в отношении выплаты премии для чиновников военной администрации и штабных: «А они что, стояли шпалерами под ружьем?»17
Кроме значительно более высокого жалованья, щедрых пожалований и наград, Гвардия содержалась в несравненно лучших условиях, чем линейные войска. Она была, например, единственным корпусом, вернувшимся из кампании 1805 г. в Париж - все другие остались нести службу на территории Германии. И хотя, конечно, размещение на кантонир-квартирах в Баварии или Бадене не относилось к числу тяжких обязанностей, тем не менее вернуться в столицу Империи овеянными блеском побед было куда приятнее.
В Париже Гвардия располагалась в значительно лучших казармах, чем линейные войска. Помещения были просторными, чистыми и хорошо проветриваемыми. Достаточно сказать, что гвардейские пешие егеря и гвардейские конные егеря размещались в шикарном здании Военной школы, где когда-то учился сам Император. Гвардейский госпиталь также содержался в образцовом порядке и был снабжен всем необходимым несравненно лучше, чем любой из армейских.
Что касается униформы, здесь вообще сложно сравнивать. Гвардия была всегда отлично одета и обута, и не только пыгпно и красиво, но и добротно. В линейных войсках довольно строго соблюдался принцип срока службы предметов обмундирования. Так, согласно регламенту, мундир было положено носить 2 года, шинель - 3 года, поэтому в каком бы состоянии они ни находились после тяжелого похода, другого мундира или шинели несчастный фузилер в принципе не должен был получать - выпутывайся, как знаешь! Иное дело в Гвардии. Здесь, если униформа поизносилась, немедленно заказывалась новая. Затраты были столь велики, что финансы Империи не могли поспеть за требованиями все новых и новых гвардейских частей. Но благо, поставщики были уверены в стабильности режима и изготовляли товар в долг... так что, когда Империя пала, еще в 1818 г. Королевское министерство финансов занималось погашением долгов за гвардейскую униформу. Если Людовик XVIII и не обладал умом и харизмой своего предшественника, то нельзя обвинить его правительство в финансовой непорядочности. Долги государства, даже того, к которому относились резко враждебно, оставались тем не менее долгами государства, и по ним продолжали аккуратно расплачиваться. В 1818 г. за униформу исчезнувшей Императорской Гвардии оставалось заплатить еще 1 477 479 франков 83 сантима18.
Важнейшей привилегией Гвардии было также превосходство в чинах по сравнению с линейными войсками. 20 сентября 1805 г. во дворце Сен-Клу Император подписал декрет, согласно которому солдаты и унтер-офицеры Гвардии имели старшинство в два чина по сравнению с армейскими военнослужащими. Таким образом, рядовой Гвардии был равен по званию сержанту линейных войск (вахмистру в кавалерии или конной артиллерии), капрал - старшему сержанту (вахмистр), сержант - старшему унтер-офицеру, старший сержант (старший вахмистр) - суб-лейтенанту. В случае действий Гвардии совместно с линейными войсками соблюдалось следующее правило: гвардеец имел право командовать всеми армейскими чинами, которые стояли ниже того звания в воинской иерархии, которому он соответствовал, но военнослужащим, званию которых формально соответствовал его чин, он должен был подчиняться. Иначе говоря, рядовой Гвардии мог отдать приказ любому капралу линейных войск, но должен был подчиняться всем армейским сержантам; капрал мог командовать всеми сержантами линейных войск, но должен был подчиняться старшим сержантам и т. д.
Что касается офицеров, они имели преимущество в одно звание над офицерами линейных войск.
Наряду с этими, весьма конкретными, привилегиями материального и иерархического характера, Гвардия имела и много других прерогатив, быть может, не столь важных с точки зрения чисто прозаических интересов, зато необычайно льстивших самолюбию гвардейцев и вызывавших зависть у военнослужащих армейских частей.
П.-А. Тоне. Триумфальное возвращение Императорской Гвардии в Париж через ворота Нантен 25 ноября 1807 г.
© Photo RMN - Arnaudet/ J. Schormans.
На картине изображен момент, когда полки Императорской Гвардии подходят к Триумфальной арке (временной), сооруженной у Нантенского барьера Парижа.
Императорский декрет от 14 мессидора ХII года (14 июля 1804 г.) определял следующие привилегии Гвардии:
«Повсюду, где войска Императорской Гвардии будут находиться вместе с линейными войсками, им будет принадлежать правый фланг в строю и прочие почетные места.
Офицеры и унтер-офицеры Императорской Гвардии имеют право командовать всеми офицерами и унтер- офицерами линейных войск, находящимися в равном с ними звании, если по долгу службы их отряды объединяются для выполнения совместных действий.
Когда часть или отряд Гвардии повстречает на пути часть или отряд линейных войск, последний должен развернуться во фронт и отсалютовать Гвардии, взяв ружья "на плечо" или сабли "наголо", если это кавалерия.
Знамена и штандарты должны быть склонены в приветствии, барабаны должны бить "поход", а трубы играть "Генеральный марш" до тех пор, пока войска Гвардии не пройдут мимо. Полковники или командиры отрядов должны взаимно поприветствовать друг друга. В этом случае проходящая гвардейская часть также приветствует линейные войска, но делает это, не останавливая своего движения.
Когда Император пересекает реку или, посещая морской порт, садится в лодку, чтобы выйти на рейд, только войска Императорской Гвардии имеют право охранять лодку Его Величества...
Во время путешествий... только Императорская Гвардия имеет право предшествовать и следовать за каретой Его Величества»19.
Мы дали далеко не полный перечень лишь официально закрепленных привилегий Императорской Гвардии. Забегая вперед, нужно сказать, что и эти, во многом заслуженные отличия вызывали ревность, а подчас и зависть простых армейских частей. Однако не менее, а, быть может, более чем они, раздражали не- гвардейцев полуофициальные привилегии. «Императорская Гвардия при распределении по квартирам обладала всеми преимуществами, - писал офицер штаба корпуса Нея. - Было весьма неприятно находиться в контакте с ней. Все, казалось, предназначалось только для нее, повсюду ее солдаты получали двойной рацион. Однажды обоз, который везли ослы, был представлен военному интенданту, и его сопровождающие потребовали положенного им рациона. Интендант выдал им боны на получение подобных рационов, но обозники воскликнули: "Но это же гвардейские ослы!" "Ну, тогда другое дело, - сказал интендант, - для гвардейских ослов - рацион мулов". Эта фраза стала вскоре крылатой в линейных войсках, и когда армейские полки оказывались рядом с Гвардией, они не забывали крикнуть: "Смотрите-ка, гвардейские ослы! Дайте им рацион для мулов !"»20 А вот, что писал своей матери офицер пеших гренадеров Фаре в 1813 г.: «Бедные линейные войска в самую ужасную непогоду спали на биваках. Мы же бивакировали за все это время не более двенадцати раз. Мы проделали два марша в Силезии, три - в сторону богемской границы. Все остальное время мы провели в Пирне и в Лейпциге, где, по правде говоря, были очень перегружены караульной службой, и, сверх того, нам пришлось потратить кучу денег на себя и наших лошадей (Фаре был полковым адъютантом, поэтому ему требовался конь); но, по крайней мере, каждый вечер мы спали в хорошей постели...»21 Впрочем, об этом вспоминали, конечно, не только и не столько гвардейцы. Вот что отметил Лежён в своих мемуарах, рассказывая о том, как январским вечером 1809 г. неподалеку от испанского городишка Бенавент ему пришлось добывать себе место для постоя: «Все дома и сараи были полны людьми и лошадьми, и мне пришлось сражаться долго и, наверное, более отчаянно, чем с англичанами, с занявшими их привилегированными войсками Императорской Гвардии, чтобы отбить у них хоть маленькое пространство и поставить лошадей в укрытие»22. Вспомним при этом, что Лежён был не просто офицером, а адъютантом самого Бертье!
Не стоит, конечно, воображать, что в тяжелых условиях зимней кампании в Польше в 1807 г. или тем более в период отступления из России Гвардия жировала, в то время как остальные умирали от голода. Трудно было всем, но совершенно очевидно, что место под крышей и регулярные раздачи продовольствия, если таковые возможно было организовать, были предназначены прежде всего для старых воинов элитного корпуса.
Постоянная близость к Императору и высшему командованию порождала порой и совсем уж неожиданные ситуации. Вот какой эпизод описывает в своих мемуарах офицер Вислинского легиона: «С нашим полковником произошел трагикомичный случай, который показывает, какое своеобразное положение занимали в армии эти старые солдаты, положение, с которым приходилось считаться даже очень высокопоставленным офицерам.
Дело было на биваке, за два дня до битвы под Смоленском. Я был поблизости от нашего полковника по фамилии Хлузевич, который брился, стоя у входа в палатку. Рядом на столе стоял тазик, наполненный водой. Вдруг здоровый белый спаниель вбежал в палатку и стал бесцеремонно лакать воду из тазика. Ни я, ни полковник не успели и глазом моргнуть, как следом за ним в палатку влез гренадер Старой Гвардии, который, пробормотав в усы "Извините, господа", стал надевать ошейник на свою собаку. Собака же начала вырываться и перевернула тазик с водой, а надо сказать, дело происходило на биваке, где было много пыли, зато мало воды. "Видели ли Вы подобную наглость!" – воскликнул разъяренный полковник и, взяв гренадера за плечи, вытолкнул его из палатки, и тот, оторопев, исчез вместе со своей собакой...
Планшет 33. Пешая артиллерия: рядовой, сержант, офицер 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 35. Батальон моряков: офицер, рядовой, унтер-офицер 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Полковник и думать забыл об этом случае, когда вдруг, два часа спустя, мы увидели хозяина спаниеля в сопровождении офицера генерального штаба. Оба были в парадной форме. "Господин полковник, - сказал офицер, - Вы нанесли оскорбление почтенному человеку, которого уважает весь полк. Я пришел от имени маршала Бертье, чтобы уладить это щекотливое дело, в надежде, что Ваших извинений будет достаточно". "По правде говоря, я вспылил, - произнес полковник, - я сожалею об этом и, конечно, сказал бы то же самое этапу достойному человеку, если бы он не исчез так быстро. Я очень доволен, что Ваш визит избавил меня от трудной миссии искать его, чтобы сказать, что я очень сожалею о том, что я весьма грубо обошелся с ним". "Надеюсь, гренадер, Вы больше на меня не сердитесь", - добавил он, протягивая руку старому "ворчуну", который сердечно пожал ее, сказав, что он получил самое лучшее извинение в мире. Полковник же, который в душе был не особенно доволен подобными извинениями, сказал мне позже, что сделал это, чтобы не навлекать на полк ненужные последствия. Может быть, это повлияло бы и на его повышение, потому что дело шло о его возможном вступлении в Гвардию...»23
Совершенно очевидно, что, если бы владельцем бесцеремонного пса был не гвардеец, а рядовой полка, которым командовал Хлузевич, солдат, вероятно, был бы очень рад, если бы для него весь этот эпизод исчерпался пинком под зад...
Ясно, что армейские офицеры никак не могли испытывать нежности по отношению к корпусу с такими привилегиями, амбициями и влиянием.
Тем не менее не приходится сомневаться в том, что в первые годы существования Империи, пока Гвардия была относительно малочисленна и состояла в основ - ном только, из прошедших через тысячу опасностей ветеранов, эти противоречия не имели большого значения. Ее солдаты гордые, а порой и заносчивые, были, несомненно, достойными и отважными воинами, вызывавшими не только зависть, но и всеобщее уважение. Наконец, их было не так уж много в масштабах армии, и многие армейские солдаты и офицеры просто- напросто не пересекались с ними ни на биваке, ни на марше, ни на службе.
Однако уже с 1804 г. в Гвардии появляется новая составляющая, огромный численный рост которой начиная с 1809 г. во многом изменит сущность этого учреждения.
Постановлениями от 27 фримера XII года (19 декабря 1803 г.) и 30 нивоза XII года (21 января 1804 г.) при полках пеших гренадер и пеших егерей было приказано сформировать по батальону 5-ротного состава «велитов». Названные так по образцу Древнего Рима батальоны велитов фактически были призваны стать неким подобием ускоренной военной школы, подготавливающей офицеров для линейных частей и унтер-офицеров для Гвардии. Велиты должны были быть добровольцами из числа призывников (по четыре от департамента), они должны были происходить из зажиточных семей, которые могли обязаться выплачивать им 200 франков в год сверх государственного жалования. «Эти формирования, - писал знаменитый военный администратор Лакюэ, - призваны выполнять двойную задачу: пополнять Гвардию и сделать систему конскрипции более приемлемой для обеспеченных слоев населения»24. Престижность службы в Гвардии и хорошее обеспечение (за свой счет) должны были подсластить пилюлю призыва на военную службу для выходцев из «приличных семей». Одновременно Гвардия получала резервуар для того, чтобы черпать в нем пополнение. В 1805 г. было создано еще два батальона велитов при пешей Гвардии, а также были организованы велиты при конных полках и артиллерии. Согласно Императорскому декрету от 15 апреля 1806 г., в момент отправления в поход роты велитов должны были вливаться в состав батальонов Гвардии таким образом, чтобы каждая рота состояла из 80 старых солдат и 45 велитов. Это должно было позволить, с одной стороны, сэкономить часть ветеранов, оставив их для охраны императорских дворцов и государственных учреждений, с другой стороны, давало хорошую школу молодежи. Вот что писал по этому поводу лейтенант гвардейских конных егерей Шевалье: «Велиты имели свой особый дух, отличающий их от других полков армии. В них было много гордости, рыцарственности, много самоуверенности и храбрости, самолюбия и отваги, а также доведенное до крайности желание отличиться. В общем, у этого корпуса было много воинских добродетелей, но и очень много недостатков. К счастью, едва мы выступали в поход, велитов распределяли по ротам так, что во взводе едва оказывался один велит. Их дух критики и неподчинения растворялся в здоровом коллективе старых служак. Из велитов вышло большое количество достойных офицеров редкой отваги»25.
Действительно, проведенный анализ послужных списков 488 велитов, поступивших в 1-й гренадерский полк 1 января 1807т., подтверждает слова Шевалье. Все зачисленные в этот день велиты поступили в батальон в 1804 г. и, следовательно, к 1807 г. имели за плечами примерно 2,5 года службы и приняли участие в двух походах 1805 и 1806 гг. Все они были людьми молодыми: самым младшим исполнилось 22 года, самым старшим - 26. Но подавляющее большинство из них, - 409 человек (83,8%) - прослужив в Старой Гвардии до начала 1808 г. (и пройдя соответственно еще одну кампанию), покинули ее ряды с повышением: 352 велита (72,1%) стали офицерами линейных войск, 57 из них (11,7%) - унтер-офицерами создававшихся полков Молодой Гвардии (см. ниже).
Таким образом, велиты прошли своеобразную, но, видимо, очень эффективную школу: служба в учебном батальоне, 3 похода с битвами, биваками и лишениями и, наконец, годовая служба в лучшем пехотном полку Империи. Можно было не сомневаться, что 25-26-летний молодой человек, прошедший такие «университеты» будет отличным командиром. Действительно, из велитов вышла целая плеяда отличных офицеров, среди них был и знаменитый французский полководец середины XIX в. - маршал Бюжо.
В 1806 г. велиты, в общем сохранив свои функции, были организованы в отдельные части, так называемые полки фузилеров Гвардии - полк фузилеров-гренадер и фузилеров-егерей (см. Приложение V).
Удачный опыт создания частей велитов (фузилеров) подсказал, по-видимому, Императору идею создания другого подобного формирования в рядах Гвардии - «Ордоннансовых жандармов» у организованного в сентябре-октябре 1806 г. Как уже отмечалось в главе III, эта конная часть вобрала в себя представителей лучших дворянских родов старой Франции. Необходимым условием вступления в нее было обмундирование, экипировка и покупка коня за свой счет, для чего, как гласил императорский декрет, «по прибытии в часть необходимо было сразу внести в ее кассу сумму в 1900 франков и доказать, что семья будет впоследствии выплачивать поступившему в жандармы дополнительный пансион в 600 франков в год, что вместе с жалованием, положенным в Императорской Гвардии, позволит ему вести достойный образ жизни...»26 Ясно, что подобное могли позволить себе лишь выходцы из очень состоятельных семей. Идти на войну солдатом, да еще за свой счет, причем за большие деньги (!) было не в стиле буржуазии, зато вполне вписывалось в дворянскую традицию старой Франции. В результате в ряды Ордоннансовых жандармов как из рога изобилия посыпалась состоятельная дворянская молодежь. «В Майнце, в котором, начиная с 20 октября 1806 года, должно было произойти формирование Ордоннансовых жандармов, - рассказывает д'Эспеншаль, - разместилась императрица Жозефина и часть двора, приехавшие сюда, чтобы быть ближе к тем великим событиям, которые должны были произойти (имеется в виду война с Пруссией). Маршал Келлерман, которому было поручено формировать часть, вложил в это всю возможную энергию, отвечающую тому рвению, которым пылала молодежь, прибывающая со всех концов Франции. Не прошло и двух месяцев, как рота численностью 150 человек была готова сразиться с врагом, а в скором времени была создана и вторая рота»27.
Создание этих блестящих дворянских отрядов не могло не вызвать противоречивых чувств у гвардейцев - ветеранов революционных войн. «Мы окажемся в довольно сложном положении, - пророчески писал своему отцу весной 1807 г. хорошо известный нам д'Эспеншаль. - Оно потребует от нас большого такта, ибо очевидно, что мы станем объектом ревности со стороны Императорской Гвардии, которая, возможно, увидит в нас слишком привилегированную часть, особенно, если принять во внимание ту службу, которую нам придется исполнять»28. Молодой офицер не ошибался, и едва Ордоннансовые жандармы прибыли к армии, как старые солдаты окрестили их малопочтительной кличкой «раззолоченные молокососы» 29. Впрочем, отвага молодых аристократов, проявленная ими в первых же боях, несколько поубавила поток шуток в их адрес. Рядовой де Норвен вспоминал: «Мы прибыли в Мариенвердер с гордостью молодых людей, заслуживших свои шпоры. В наших четырех ротах было немало плащей, порванных ударами сабель, киверов со сбитыми султанами... Те, кто вышли нам навстречу, - артиллеристы, драгуны и гвардейские егеря - как опытные ценители сразу поняли, что мы уже повидали виды. Это было очень приятно, так как мы хотели понравиться старым солдатам» 30.
Тем не менее Император почувствовал, что, несмотря ни на что, между «золотой молодежью» и ветеранами Гвардии сохранилась дистанция, да и командование Гвардии, больше являющееся рупором последних, явно не выразило бурного энтузиазма по поводу создания необычной части. «12 июля (1807 года) маршал Бессьер отдал приказ Орданнансовым жандармам собраться в конном строю и объявил им от имени Его- Величества Императора, что они расформированы»31. Тем не менее обещания в отношении производства в офицерское звание было выполнено: 118 жандармов первых трех рот, которые приняли участие в кампании, были произведены в звание суб-лейтенантов кавалерии, офицеры этих рот получили повышение и были направлены в армейские полки, а жандармы 4-й и 5-й рот, которые не успели еще побывать под пулями, были включены в состав эскадронов велитов и через год получили офицерские эполеты.
Несмотря на появление в гвардейском корпусе этих своеобразных частей, несмотря на значительное усиление гвардейской артиллерии (особенно за счет создания в 1808 г. полка пешей артиллерии), а также причисление к Гвардии польского полка шеволежер, принципиальная концепция Гвардии оставалась все же неизменной - относительно небольшое элитное соединение, состоявшее в большинстве из закаленных опытных воинов. В 1808 г. в Гвардии по штату было лишь 15 382 человека, что составляло не более 2,5% от общей численности вооруженных сил Французской Империи.
16 января 1809 г. в Вальядолиде Император подписал документ, положивший начало новому периоду в истории Императорской Гвардии, в течение которого эта концепция претерпела существенные изменения. Этим документом был декрет, согласно которому были созданы два новых полка: так называемых тиральеров-гренадер и тиральеров-егерей. Чуть позже, 29 и 31 марта того же года, были созданы полки, получившие названия новобранцев-гренадер и новобранцев-егерей (по два полка каждого типа, подробнее см. Приложение V). Наконец, 25 апреля было приказано организовать так же вторые полки тиральеров-гренадер и тиральеров-егерей («tirailleur-chasseur» - по-французски «стрелок», однако мы не переводим это слово на русский язык, а оставляемого французское прочтение; фактически оно употреблено здесь не в своем основном значении, а лишь как приставка, которая говорит о том, что речь идет не о «настоящих» гренадерах или егерях).
Планшет 38. Молодая Гвардия. 2-й полк новобранцев-егерей: офицер, сержант, рядовой 1809-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 36. Гвардейские саперы: офицер и рядовой 1810-1812 гг. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Для всех этих полков с довольно странными названиями появилось общее наименование: «Молодая Гвардия»*, которое, собственно говоря, раскрывает их суть гораздо лучше, чем малопонятное «тиральер-егерь» (tirailleur-chasseur - буквально: «стрелок-охотник»). Кстати, название Старая Гвардия появляется и утверждается именно в эту эпоху, так как до этого подобный эпитет следовал из названия Гвардия как само собой разумеющийся. Восемь первых полков, которые были созданы в 1809 г., явились принципиально новым по своей сути формированием в рядах наполеоновских войск. Дело в том, что эти «гвардейцы» не были отборными ветеранами и даже не являлись, подобно велитам, молодыми людьми из «приличных семей». Это были просто-напросто новобранцы. Впрочем, согласно императорскому декрету, сюда должны были отбираться новобранцы из числа самых здоровых и образованных (умеющих читать и писать) призывников.
Наполеон, создавая Молодую Гвардию, рассчитывал на то, что новобранцы, включенные в структуру Императорской Гвардии, пройдут лучшую школу, чем в линейных частях, что само наименование «Гвардия», ассоциировавшееся уже к этому времени с неким престижным положением, придаст дополнительную спайку и моральную силу этим частям, явившимся, в общем-то, своеобразной полугвардией (если не сказать «четверть-гвардией»). Кроме того, Император потребовал, чтобы стоимость полка Молодой Гвардии (на обмундирование и экипировку) ни в коем случае не превосходила стоимости линейной части соответствующей численности. Таким образом, с затратами, равными таковым же на содержание армейских полков, он надеялся получить части, более эффективные в боевом отношении и, кроме того, части, которые могли бы послужить резервуаром для пополнения Старой Гвардии. Предполагалось, что солдат, уже связавший свою судьбу с гвардейским корпусом, быстрее сумеет найти свое место в рядах его самых элитных частей.
Впрочем, всё перечисленное не раз уже было сказано французскими историками. Однако, насколько нам известно, ещё не было сделано попытки проанализировать, оправдались ли надежды, которые возлагал Император на Молодую Гвардию. Для того чтобы сделать это, мы обработали послужные списки 679 солдат Молодой Гвардии, а именно: 479 человек из 1-го, 2-го, 3-го и 4-го тиральерских полков (с 1810 г. 1-й и 2-й полки тиральеров-гренадер стали называться просто тиральерскими, а 1-й и 2-й полки новобранцев-гренадер получили названия 3-й и 4-й тиральерские) и 200 человек из 2-го полка новобранцев-егерей**32.
* Некоторое время параллельно с этим названием существовало и другое - «Nouvelle Garde» («Новая Гвардия»).
** Подобно тиральерским полкам, здесь также в 1810 г. произошло переименование: 1-й и 2-й полки тиральеров-егерей стали 1-м и 2-м вольтижерскими; 1-й и 2-й полки новобранцев-егерей стали 3-м и 4-м вольтижерскими.
Для начала отметим, что надежда на то, что в Молодую Гвардию пойдут добровольцы, явно не оправдалась. Из 463 тиральеров, о которых известно, каким образом они попали в полк, только пятеро (1,1%) оказались добровольцами, а из двухсот новобранцев- егерей (вольтижеров) -только один (0,5%)!
Возраст призывников, пришедших в полки тиральеров и новобранцев-егерей, оказался примерно одинаковым и в основном колебался от 18,5 до 24 лет. В этом возрастном интервале было 93,5% вновь прибывших в полк тиральеров и 96,3% новобранцев-егерей, что в общем соответствует возрасту призывников, приходивших в обычные линейные части. Рост тиральеров не указан в послужных списках, а рост новобранцев- егерей (см. Приложение XI) примерно соответствует росту солдат в линейной пехоте.
Как не трудно догадаться, никто не измерял силу призывников, так что сложно что-либо сказать об их телосложении, но, очевидно, ни зрелостью, ни ростом Молодая Гвардия особенно не отличалась от линейных войск. Это вполне подтверждается и свидетельствами современников, отмечавших далеко не безупречную выносливость солдат-новобранцев на марше. Вот что, в частности, написал Брандт о начале кампании 1812 г.: «Непосредственно впереди нас шла Молодая Гвардия, оставляя позади себя кучи выбившихся из сил солдат, лежавших по краям, а иногда прямо посреди дороги»33.
Прослеживая судьбу тиральеров и егерей, мы видим, впрочем, их некоторое отличие от линейных частей. Так, например, значительное количество тиральеров было зачислено в полки Средней Гвардии (14,2%). Тем не менее и в этом отношении данные части весьма походят на линейную пехоту. В частности, процент дезертиров, который, казалось бы, в Гвардии должен быть гораздо меньше, чем в обычных армейских частях, практически равен ему. Если 3,5% дезертиров в рядах тиральеров соответствуют таковым в благополучных в этом смысле частях, то 10,5% дезертиров в рядах новобранцев-егерей превосходят средний процент самовольно покинувших знамена в линейной пехоте.
В целом складывается картина частей, по качеству, быть может, несколько лучших, чем обычные линейные войска, но не отличающихся от них принципиально.
Что же касается «стоимости» полков Молодой Гвардии, то, несмотря на все благие пожелания, она все же оказалась куда более значительной, чем у обычных линейных войск. В рапорте генерала Шастеля военному министру от 22 октября 1810 г. говорится следующее: «Генеральный комиссар Императорской Гвардии в ответ на запросы, которые были ему направлены Вашим Превосходительством 3 апреля и 20 августа этого года, информирует, что он убедился в том, что генерал-полковники Гвардии не установили срок службы предметов обмундирования и экипировки вверенных им войск. Расходы на обмундирование частей Императорской Гвардии составили за последние четыре года около 20 млн. франков. Думается, что необходимо, чтобы Ваше Превосходительство положили предел этим все возрастающим расходам» 34.
Отметим, что речь в данном рапорте идет не только о частях Старой, но и о частях Молодой Гвардии.
Начиная с 1809 г. Гвардия стала стремительно разрастаться. В этот год, кроме указанных полков, были созданы так называемые батальоны туринских и флорентийских велитов. В 1810 г. был сформирован полк Национальной Гвардии в рядах гвардейского корпуса и роты саперов. Наконец, в его состав была включена голландская королевская гвардия, из которой были сформированы 2-й полк пеших гренадер и 2-й полк шеволежеров-улан.
Особенно «плодотворным» в этом смысле стал 1811 г., когда были созданы 5-й и 6-й полки тираль- еров, 5-й и 6-й полки вольтижеров, а также полк фланкеров-егерей. Увеличилась и численность Ста рой Гвардии за счет создания 2-го егерского и 2-го гренадерского полков (полк голландских гренадер по лучил номер 3). Наконец, при Гвардии был органи зован корпус воспитанников; одновременно в 1811 г. велиты конных полков и артиллерии были расфор мированы.
В результате к началу 1812 г. Гвардия насчитывала в своих рядах 22 пехотных полка, 5 кавалерийских, 2 артиллерийских, плюс многочисленные отдельные и специальные формирования - в общем более 50 тыс. человек (по штату в 1811 г. - 51 960 человек и в 1812 г.-56 169 человек)!
Стремительный рост Гвардии вызвал многочисленные кадровые перестановки. Для командования новыми полками требовались сотни офицеров и тысячи унтер-офицеров. Старших офицеров для полков Молодой Гвардии набирали в основном из рядов Старой Гвардии, переводя в Молодую с повышением, суб-лейтенантов брали из сливок выпуска Сен-Сира. Для заполнения образовывавшихся вакансий требовались новые и новые опытные кадры, которые набирались из линейных частей. Прослужившие несколько лет велиты (фузилеры Гвардии) производились в унтер- офицерские и офицерские звания, а их пустующие места тотчас заполнялись лучшимюиз новобранцев, «образованными, грамотными, физически крепкими и имеющими подходящий рост». Все это не могло не происходить без неизбежного ослабления линейных частей. Но самым главным последствием мощного численного роста гвардейского корпуса стало создание целой специальной инфраструктуры, обслуживающей только его, - сотни штабных офицеров, огромный штат чиновников военной администрации, обслуживающего персонала. У Гвардии появилась не просто своя сеть казарм и госпиталей и свои обозы, но и фактически независимая от армии система снабжения. Вместо небольшого отборного отряда ветеранов, служба в котором была как бы венцом карьеры для простого полуграмотного солдата, Гвардия превратилась в армию внутри армии, армию, живущую по своим законам.
В этом мире отныне установилась сложная иерархия, в которой далеко не всегда могли разобраться даже сами гвардейские офицеры и военные чиновники, не говоря уже о простых смертных. В течение 1811 г. маршал Бертье и генерал Кларк вели интенсивную переписку с Императором, пытаясь уяснить для себя хитроумную систему иерархических взаимоотношений в Гвардии. В результате к концу 1811г. выстроилась новая концепция гвардейского корпуса, который отныне уже вполне официально делился на Старую, Среднюю и Молодую Гвардию*.
* По уровню жалованья.
К Старой Гвардии относились полностью:
1-й полк пеших гренадер,
1-й полк пеших егерей, полк конных гренадер,
полк конных егерей и приданная ему рота мамелюков,
полк гвардейских драгун,
полк конной артиллерии,
полк пешей артиллерии,
легион элитной жандармерии,
батальон гвардейских моряков,
рота понтонеров,
рота гвардейских ветеранов;
и кроме того, офицерский и унтер-офицерский состав:
2-го и 3-го полка пеших гренадер,
2-го полка пеших егерей,
полка фузилеров-гренадер,
полка фузилеров-егерей, роты «новобранцев-канониров»;
■ а также офицеры от капитана и выше: полков тиральеров,
полков вольтижеров, полков фланкеров и национальной гвардии.
К Средней Гвардии относились
■ капралы и рядовые
2-го и 3-го полков пеших гренадер, 2-го полка пеших егерей, полка фузилеров-гренадер, полка фузилеров-егерей,
■ полностью
состав 2-го полка шеволежеров-улан, роты ветеранов Гвардии в Амстердаме, батальонов велитов Турина и Флоренции, роты артиллерийских рабочих, батальона гвардейского артиллерийского обоза.
К Молодой Гвардии относились
■ чины от лейтенантов и ниже полков тиральеров,
вольтижеров, национальной гвардии, фланкеров-гренадер,
■ полностью состав
батальона вещевого обоза Гвардии, полка воспитанников,
■ капралы и канониры рот новобранцев-канониров. Наконец, 1-й полк знаменитых польских шеволежеров-улан стоял на особом положении: он получал жалованье и довольствие кавалерийского полка Ста рой Гвардии, но формально частью Старой Гвардии не являлся.
Создание подобной громоздкой структуры с разветвленным аппаратом руководства, со своей независимой системой снабжения и обеспечения, где признавался только авторитет Императора, не могло не сказаться на отношениях Гвардии с линейными частями. Все вышеперечисленные отрицательные высказывания по отношению к гвардейскому корпусу относятся именно к этому периоду времени.
Насколько же были оправданны огромные финансовые затраты на содержание гвардейского корпуса, его привилегии, прерогативы, награды и поощрения, наконец, значительное ослабление линейных войск, вызванное кадровыми перестановками?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним вкратце боевой путь гвардейских частей.
В ходе кампании в октябре 1805 г. гвардейские конные егеря участвовали в ошеломляющем преследовании Мюратом войск эрцгерцога Фердинанда. «Сир, Ваши конные егеря устремлялись в бой с беспримерным порывом», - доносил Императору знаменитый командующий резервной кавалерии. 11 ноября гвардейские моряки участвовали в бою под Дюрнштейном (Кремсом), спасая пехоту дивизии Газана, попавшую в трудное положение на левом берегу Дуная. Гвардейская кавалерия принимала активное участие в авангардных боях под Брюнном и особенно отличилась в Аустерлицкой битве в легендарной схватке с российской гвардейской конницей (см. гл. IX).
В отличие от австрийской кампании, в 1806 г. гвардейские части практически не принимали участие в боях, зато в следующем году им предстояло не раз оказаться в самом пекле. Почти столь же известной, как аустерлицкий подвиг, стала атака гвардейской кавалерии под Эйлау 8 февраля 1807 г., где конные егеря и конные гренадеры понесли тяжелые потери. Под ураганом картечи генерал Лепик, обращаясь к пригнувшим головы конным гренадерам, бросил фразу, надолго оставшуюся в памяти гвардейцев: «Выше голову, черт возьми! Картечь не дерьмо!»
Впервые в деле приняла участие и пехота Императорской Гвардии*. Батальон 1-го гренадерского полка, ведомый самим генералом Дорсенном, отразил атаку отряда русской пехоты, которая прорвалась чуть ли не до императорской ставки. Храбрый генерал Дорсенн также не приминул отдать приказ, соответствующий духу Старой Гвардии. В тот момент, когда один из офицеров собирался скомандовать гренадерам открыть огонь, генерал крикнул: «Ружья под курок! Старая Гвардия дерется только штыками!»
* Мы говорим здесь именно об Императорской Гвардии, поэтому, разумеется, битва при Маренго не в счет.
Отдельные отряды Гвардии приняли участие и в ряде других боевых эпизодов этой кампании. Гвардейские фузилеры и Ордоннансовые жандармы отличились при штурме хорошо укрепленного городка Ной-гартен в Померании. Жандармы покрыли себя славой и в боях вокруг осажденного французами Кольберга, а фузилеры отважно сражались под Гейльсбергом и Фридландом.
В 1808 г. некоторые подразделения Гвардии были отправлены в Испанию. В состав элитного отряда, прибывшего в апреле этого года в Мадрид, было 1050 фузилеров, 429 моряков, 244 конных егеря и мамелюка, 314 шеволе-жеров, 111 драгун, 211 конных гренадеров, 50 жандармов, а также артиллеристы, обслуживающие шестиорудий-ную батарею. На Пиренейском полуострове гвардейцам довелось принять участие в ряде боев, в частности, при Медина дель Рио Секо, где гвардейская кавалерия, ведомая Бессьером и Лассалем, снова вписала славные страницы в летопись Наполеоновской эпохи.
С приездом Императора в Испанию прибыли и главные силы Гвардии. Мы уже описали фантасмагорическую атаку польских шеволежеров, которая прославила как польские полки на французской службе,так и всю Гвардии. Куда менее удачными оказались действия гвардейских конных егерей, которые попали в ловушку, расставленную отступавшими английскими войсками при переправе через речку Эсла, неподалеку от Бенавента. Атакованные значительно превосходящими силами врага три эскадрона гвардейских конных егерей и рота мамелюков были отброшены и понесли тяжелые потери. В плен попал командир гвардейских конных егерей генерал Лефевр-Денуэтт. Из Испании Гвардии пришлось не идти, а почти что лететь на крыльях на поле новых битв в Баварии и Австрии, где развернулись главные события кампании 1809 г. Чтобы максимально быстро перебросить гвардейские части с одного театра военных действий на другой, марш по территории Франции и союзных с ней государств гвардейская пехота осуществляла... на дилижансах, колясках, повозках и телегах, которые были наняты по приказу Императора.
Э. Детайль. Генерал Лепик в битве при Эйлау. На картине изображен момент, когда генерал Лепик, обращаясь к своим солдатам, произносит фразу, вошедшую в историю.
На полях Австрии гвардейцам нашлось немало работы. Под Эсслингом опять мужественно сражались гвардейские фузилеры. Когда же необходимость отступления французской армии стала неминуемой, ее прикрыла собой пехота Старой Гвардии: «По нам било пятьсот орудий, а мы не могли сделать ни шагу вперед, ни выстрелить из ружья, - рассказывает Куанье. -У нас было только четыре пушки, две стояли перед нами, а две перед егерями. Ядра крушили нашу линию и вырывали из строя целые ряды, от взрывов гранат меховые шапки подлетали на двадцать футов вверх. Но едва только ядро вырывало из строя несколько солист, я командовал: "Направо сомкнись!" И храбрые гренадеры, не моргнув глазом, смыкали свои ряды... У наших пушек были перебиты все артиллеристы. Генерал Дорсенн заменил их двенадцатью гренадерами, наградив их крестами, но все эти храбрецы пали у своих орудий. Больше не было ни упряжных лошадей, ни обозных солдат. В щепки были разбиты колеса и лафеты, пушки валялись на земле, как чурбаны... Потери ором времени стали столь велики, что нам пришлось перестроиться в одну шеренгу, чтобы для неприятеля издали казалось, что мы все также многочисленны»35.
Отвага гренадеров Старой Гвардии помогла спасти армию после неудачного сражения, а через месяц с небольшим в битве при Ваграме Гвардия довершила победу. На этот раз снова в бой была брошена часть гвардейской кавалерии: конные егеря и польские шеволежеры. Последние в ходе схватки с австрийскими уланами завладели их пиками и так ловко орудовали ими в бою, что Император после Ваграма повелел вооружить весь польский полк этим оружием.
Несмотря на все эти славные дела, несмотря на то, что гвардейские части в составе двух дивизий Дюмустье и Роге отважно сражались в 1810-1811 гг. на Пиренейском полуострове, преследуя банды гверильясов, все-таки никак не отделаться от впечатления, что здесь не хватает чего-то более значимого... И действительно, в классической исторической литературе часто можно найти фразу о том, что Гвардия Наполеона выполняла роль резерва, который и решал участь генеральных сражений. В широко известной «Истории XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо говорится: Гвардия всюду его (Наполеона) сопровождает, сражается только у него на глазах и обыкновенно лишь в качестве резерва, чтобы решить участь сражения»36. Еще более категорично пишет по этому поводу видный советский военный историк Е. А. Разин: «Резервы... теперь превратились в главное средство для решения исхода боя. В руках Наполеона резерв являлся мощным средством для разгрома противника. Таким резервом являлась его Гвардия и его стратегическая конница»37.
Нельзя отказать указанным авторам в определенной логике. Действительно, создание такого дорогостоящего во всех смыслах слова корпуса было бы оправдано лишь при условии решения им глобальных стратегических или оперативных задач - для надежной охраны ставки и лично Императора вполне хватило бы небольшого элитного отряда, подобно тому, который представляла собой Консульская Гвардия. Первая же и основная задача, которая напрашивается сама собой, - это выполнять роль главного резерва в день генерального сражения, резерва, который вступает в бой и решает дело в тот момент, когда линейные войска своими многочисленными жертвами подготовили условия для нанесения последнего удара по врагу.
Увы, ни на одном из приведенных нами этапов своего боевого пути Гвардия не выполняла подобной функции. Все ее «включения» в дело носили лишь эпизодический характер. Даже под Аустерлицем, где гвардейские эскадроны внесли довольно значительный вклад в победу, нельзя не отметить, что сражение было выиграно еще до их атаки. Русская конная гвардия своим героическим самопожертвованием старалась лишь замедлить уже победоносное продвижение Великой Армии. Не случайно поэтому великий князь Константин, в галоп подскочив к кавалергардам, перед атакой взволнованно воскликнул: «Выручайте пехоту!»
Венгандт. Портрет генерала Лефевра-Денуэтта (1773-1822). Исп. 1807. На мундире генерала, кроме ордена Почетного Легиона, звёзды Вестфальского и Баварского орденов.
Что же касается Эйлау, то роль пешей Гвардии в этой битве свелась к обычной функции охраны ставки: была отражена атака одного из русских батальонов, прорвавшихся в глубину расположения Великой Армии*. Наконец, чисто символическим было участие Гвардии в сражении при Медина дель Рио Секо и при Ваграме.
Таким образом, к тому времени, когда в июне 1812 г. гвардейский корпус** готовился перейти границы России, он еще ни разу не решал участь сражений. С начала кампании вплоть до 7 сентября 1812 г. Императорская Гвардия нигде не вступала в бой. За все это время, когда армия потеряла тысячи людей убитыми и ранеными, в Гвардии было ранено лишь два младших офицера - некто Фэ, суб-лейтенант 4-го полка тиральеров, который получил ранение 17 августа на аванпостах, и некто капитан Дюпюи из 1-го вольтижерского, который принял каким-то образом участие в битве под Смоленском (16 августа). Соответственно, ориентируясь на обычную количественную пропорцию между убитыми и ранеными солдатами и офицерами, можно предположить, что гвардейцы потеряли за этот период кампании не более нескольких десятков человек, раненных в схватке с заблудившимся отрядом казаков или задетых шальным ядром.
* Во французской исторической литературе вокруг этого эпизода выросла целая легенда, согласно которой батальон Старой Гвардии разгромил... четыре тысячи русских гренадеров!
** Согласно расписанию на 1 июня 1812 г., на территории Германии и Польши находилось 50 716 солдат и офицеров Императорской Гвардии. Далеко не все они двинулись в поход. 24-25 июня Неман перешло 33 400 гвардейцев.
Но вот 7 сентября загрохотали пушки Бородина. В этот день рано утром Гвардия, как и вся армия, облачилась в парадную форму: «Гвардия готовилась словно к параду, а не к битве, - рассказывает очевидец. - Невозможно вообразить ничего более впечатляющего, чем хладнокровие этих старых солдат: на их лицах не было написано ни беспокойства, ни радости. Для них новая битва означала лишь очередную победу, чтобы проникнуться этой уверенностью, достаточно было на них посмотреть»38. В этот день в строю Императорской Гвардии было 18 000 человек: дивизия Старой Гвардии Кюриаля, дивизия Молодой Гвардии Роге, кавалерия, артиллерия, инженерные войска и штаб. Формально к Гвардии была также приписана дивизия Клапареда - три пехотных полка Вислинского легиона (3500 человек).
Битва началась в 6 часов утра ужасающей канонадой, за которой последовал быстрый захват французами села Бородина и отчаянная борьба за Багратио- новы флеши, прикрывавшие левый фланг русской армии. Последние исследования российских историков не оставляют сомнения в том, что Великой Армии удалось полностью овладеть флешами к 10 часам дня39. Примерно в это же время в момент контратаки русских гренадеров пал смертельно раненный командующий 2-й западной армией Петр Иванович Багратион. Левый фланг русских войск находился в критическом положении. «В 10 часов утра вся 2-я армия была уже опрокинута, - писал Барклай де Толли, - все редуты и несколько артиллерии взяты неприятелем»40. Примерно тогда же 30-й линейный полк из дивизии Морана ворвался на батарею Раевского и занял этот ключевой пункт русской позиции. В этот момент подкрепления, которые русское командование перебрасывало из тылов и с северного крыла, были еще на марше. В сражении наступила первая кульминационная ситуация, когда Император Наполеон мог превратить сражение в решающую победу своей армии. «Общее движение вперед на русскую армию, которая была поколеблена этим напором, - считал участник битвы генерал Гриуа, - вероятно, прижало бы ее к лесу, находящемуся у нее в тылу и затрудняющему перемещение вследствие узости лесных дорог. Но для этого было необходимо присутствие Императора, он же оставался неподвижным на командном пункте, наблюдая за происходящим в подзорную трубу, и не появился на боевых линиях. Если бы он употребил решительные меры, которые так часто приносили ему победу, если бы он появился перед солдатами и генералами, чего бы только не сделала его армия в такой момент!»41
Впрочем, было еще действительно слишком рано. Понятно, что Император остерегался вводить в дело сразу все силы спустя всего четыре часа после начала генерального сражения, тем более что у русских оставалось еще немало свежих войск. Только тщательно все взвесив, Наполеон приказал бросить в огонь дивизию Фриана, а Клапареду продвинуться несколько вперед, чтобы при необходимости служить связующим звеном между Евгением Богарне, ведущим бой вокруг батареи Раевского, и дивизиями 3-го и 1-го корпусов под общим командованием Нея, которые сражались западнее флешей.
К этому времени русские подкрепления вступили в дело. Батарея Раевского была отбита, а за деревню Семеновское и одноименный овраг завязался упорный бой. Мы не ставим целью описывать здесь в деталях этот весьма важный эпизод сражения. Главное то, что приблизительно к 12.30 дивизия Фриана окончательно овладела деревней Семеновское и укрепилась на противоположном берегу оврага. С обеих сторон ожесточенно сражались массы кавалерии и пехоты, неся ужасающие потери. Силы противников в этой ключевой точке сражения были взаимно истощены, но если у русских генералов не оставалось больше резервов, - в бой были брошены практически все части, - у Наполеона все той же грозной массой нависали над левым флангом россиян гвардейские дивизии. «Это было зрелище, производящее неизгладимое впечатление, - вспоминает офицер артиллерии Булар, - Гвардия, стоящая в глубоком молчании. И это молчание неожиданным образом контрастировало с диким грохотом, который доносился до нас. Речь шла о судьбах мира, и эти судьбы : были самым неразрывным образом связаны с нами...»42
Примерно около 15 часов дня стремительная атака пехоты Жерара и кирасиров Коленкура на батарею Раевского увенчалась успехом. Дивизия генерала Лихачева, героически защищавшая укрепления, была практически вся уничтожена, а сам генерал, израненный упарами штыков, был взят в плен. Примерно тогда же корпус Понятовского овладел Утицким курганом и начал медленно наступать вглубь расположения крайнего левого фланга русской армии. Вестфальцы Жюно полети вытеснить русскую пехоту из леса и, выдвинув - пшсь вперед, примкнули к правому флангу группировки Нея. В сражении наступил новый кульминационный момент. «К середине дня, - пишет Сегюр, - правое французское крыло, - Ней, Даву и Мюрат - отбросив Багратиона и половину русской армии, стояли перед ее оттесненным флангом и уже видели ее резервы, ее покинутые позиции и признаки отступления. Но чувствуя, что они слишком ослаблены, чтобы броситься в эту брешь, за которой стояли еще большие силы, они призывали Гвардию: "Дайте Молодую Гвардию! Пусть она хотя бы следует за нами, пусть она появится на высотах и сменит нас! Тогда у нас будет достаточно сил, чтобы довершить победу!"»43
В этом описании Сегюра немало преувеличения и бахвальства. Русская армия не отступала - она погибала, не сходя с места. Но есть и абсолютная истина: русские войска были совершенно истощены, также как и... французские. С обеих сторон полки отныне представляли собой лишь группы по несколько сот человек, стоящих вокруг знамен; остальные либо рассыпались в длинные густые цепи стрелков, либо были убиты, либо отводили назад раненых товарищей. И русские, и французские солдаты не хотели отступать, — они вели ожесточенный огневой бой - но равным образом не могли и двинуться в атаку: их моральные и физические силы были на пределе. Наступил тот великий миг, для которого, собственно, и была создана Гвардия, ради чего затрачивались огромные материальные и моральные ресурсы, то мгновение, когда она могла сыграть роль, которую отводил ей в своих мыслях Император, - быть последней непобедимой фалангой, которая, вступив в дело в момент наивысшего напряжения сил в генеральном сражении, должна была порвать натянутую до предела струну равновесия. Это понимала, чувствовала всеми порами чуть ли не вся армия. Начальник штаба Мюрата Бельяр прискакал на взмыленном коне на командный пункт Императора и доложил, что «со своих позиций французы уже видят Можайскую дорогу, что позади русской армии видны толпы беглецов вперемешку с ранеными и укатывающимися пушками... что нужен только один удар, чтобы прорваться до этого беспорядка и решить судьбу войны!..»44 Тотчас после Бельяра Дарю, которого подталкивали Дюма и Бертье, доложил Императору, что со всех сторон раздаются крики: «Час бросить Гвардию в бой наступил!»45
Все эти люди, конечно же, понимали, что победа будет достигнута в яростной борьбе, все они видели, как героически дрались и умирали русские солдаты, и, вероятно, догадывались, что Гвардии придется положить в ожесточенной схватке несколько тысяч лучших солдат... Но, ведь, если беречь солдат Гвардии, то за них все равно придется погибать другим, с той только разницей, что они умрут напрасно, так как у них нет больше сил для последнего рывка. Эти силы могло дать только появление на поле боя гвардейских дивизий. Зная дух армии Наполеона, можно не сомневаться в том, что, если бы в этот час под звуки победных маршей в прорыв двинулись бы легендарные гвардейские части, у всей армии, пусть усталой и истекающей кровью, открылось бы второе дыхание, что те солдаты, которые уже бессильно опускали руки, снова с остервенением ринулись бы вперед. Ведь с точки зрения чисто численной, у французов оставалось еще более чем достаточно линейных войск, но эти войска считали, что они уже выполнили свой долг, и не видели возможности, не хотели одними своими силами продолжать попытки сломить сопротивление русской армии. Маршал Сен-Сир, который, как мы уже упоминали, хотя и не обладал даром харизматического лидера, но был прекрасным специалистом в деле тактики и оперативного искусства, анализируя Бородинское сражение, абсолютно категорично утверждал: «Зачем тратить огромные средства на элитный корпус, зачем его холить и беречь, если не для того, чтобы в подобных обстоятельствах добиться великого результата, с лихвой возместившего все те неудобства, которые создавало для остальной части армии его формирование. Если бы Гвардия была вся брошена в бой, - добавляет он, - то нет сомнения в том, что ведомая с твердостью и умом, которые отличали ее командиров, под взглядом своего Императора, она совершила бы чудеса, и русская армия была бы не просто побеждена, а разбита, опрокинута, обращена в бегство и частично уничтожена, а ее остатки отброшены вглубь Империи... В такой ситуации Наполеон мог бы делать далее все, что пожелает - либо расположиться на зимних квартирах в Москве и весной развивать свой успех, либо предложить Императору Александру приемлемые условия мира...»46
«Сир, мне кажется, Вы должны будете бросить в бой Гвардию», - обратился к Императору его верный генерал-адъютант Рапп, когда его, раненного в двадцать второй раз (!), проносили мимо ставки. - «Нет, я этого не сделаю, - произнес в ответ Наполеон. - Я не хочу, чтобы она понесла тяжелые потери. Я уверен, что выиграю битву и без нее»47.
Л.-Ф.Лежен. Битва па Москве реке 7 сентября 1812 г. © Photo RMN - Arnaudet / J. Schormans.
На картине изображен момент взятия батареи Раевского пехотой дивизии Жерара и кирасирами генерала Коленкура.
Впрочем, также как и на картине «Сражение при Сомо-Сьерре», художник соединил в полотне эпизоды, произошедшие в разные моменты времени и в разных местах поля битвы. Слева па картине принц Евгений Богарне укрылся в каре 84-го линейного полка от атаки русской кавалерии. Офицер, показывая на знамя, говорит принцу: «Монсеньор, вы находитесь в каре 84 го полка, и Вы можете себя чувствовать здесь так спокойно, как в Вашем дворце в Милане». Чуть правее маршал Мюрат дает указания офицерам своего штаба. Еще правее и ниже французский гренадер подводит захваченного в плен генерала Лихачева к маршалу Бертье. Наконец, в самом низу в центре, изображен смертельно раненный лейтенант Ларибуазьер и его отец, генерал Ларибуазьер.
Эта фраза, пожалуй, лучше всего раскрывает суть произошедшего на Бородинском поле. Император остерегался не за резерв вообще - двинул же он в бой дивизию Фриана и всю резервную кавалерию, хотя рельеф местами совершенно не благоприятствовал применению последней. Наполеону не хотелось, чтобы его отборная, прекрасная, блистательная Гвардия... «понесла тяжелые потери»! В результате кровью истекали другие. Но самое главное даже не это. Главное, что около трех часов пополудни 7 сентября 1812 г. на поле боя при Бородине Наполеон по терял свою корону и Европейскую Империю... Конечно, он этого не знал, об этом не мог догадываться ни кто ни в русском, ни во французском лагерях в те минуты... но зато об этом можно с уверенностью сказать сейчас, когда прошло около двух сотен лет после этих событий.
Мы полностью разделяем мнение Сен-Сира, да и девяноста процентов солдат и офицеров Великой Армии - тех, кто бился тогда на флешах и с батареей Раевского - введение Гвардии в бой дало бы Наполеону новый Аустерлиц, после которого сложно себе представить дальнейшее сопротивление Императора Александра. Напротив, получив малоубедительную, пиррову победу, Наполеон упустил последний шанс, который давала ему судьба в этой войне. Таким образом, желание сохранить во что бы то ни стало Гвардию стало для Императора роковым.
Единственное сражение, которое могло бы стать образцовым с точки зрения применения гвардейского корпуса, не состоялось. В армии это понимали и открыто поносили гвардейцев и особенно их командира маршала Бессьера, который был одним из немногих, кто категорически не советовал бросать в бой Гвардию.
Подобным образом командование гвардейского корпуса вело себя уже не в первый раз. Чуть более чем за год до этого, 5 мая 1811 г., в битве при Фуэнтес д'Оньоро на другом конце Европы решалась участь другой войны - войны на Пиренейском полуострове. Веллингтон со своей армией довольно самоуверенно вышел из Португалии, служившей ему базой и опорным пунктом. «Железный герцог» сделал это под впечатлением неудачного похода Массена на Лиссабон и оказался в ситуации, когда он мог подвергнуться атаке превосходящих сил французов. Для этого маршалу Бессьеру необходимо было прийти на помощь Португальской армии Массена. Однако Бессьер прибыл к своему коллеге лишь с символическим подкреплением в виде небольшого отряда гвардейской кавалерии, находившейся тогда в его распоряжении в Северной армии. Вследствие этого бой начался не в столь благоприятной для французов ситуации, как это могло бы быть. Тем не менее даже с имевшимися силами Массена удалось пробить брешь в обороне англичан. Возникла возможность полного разгрома Веллингтона, а следовательно, и победы в войне; но необходимо было срочно подкрепить атакующих свежими силами. В резерве под рукой у Массена был отряд, приведенный Бессьером - 800 конных гренадеров и драгунов Императорской Гвардии под командованием генерала Лепика. Французский главнокомандующий тотчас послал своего адъютанта (сына маршала Удино) с приказом к Лепику немедленно атаковать. «Массена считал каждую минуту... наконец Удино прискакал весь в поту и пыли. Еще издалека увидев его, маршал закричал: "Где гвардейская кавалерия?!" - "Князь, я не смог сдвинуть ее с места!" - "Как это?!" - "Генерал Лепик сказал, что он подчиняется только герцогу Истрийскому (Бессьеру) и даже не вынет сабли из ножен без его приказа"»48. Что же касается маршала Бессьера, его невозможно было найти на поле боя, ибо... он уехал осматривать, как были сделаны фашины, с помощью которых французские солдаты форсировали накануне боя болото, преграждавшее дорогу к правому флангу англичан! Фуэнтес д’Оньоро окончилось точно так же, как и Бородино. Ценой больших потерь французам удалось потеснить неприятеля, и только. Последний шанс выиграть войну в Испании был упущен. Веллингтон, который из-за излишней самоуверенности оказался на грани катастрофы, преспокойно ушел обратно в Португалию, откуда, пользуясь ослаблением императорских войск на Пиренеях в 1812 г., он снова начнет свое, на этот раз практически безостановочное, наступление.
Наконец, еще раньше, в 1809 г. при Ваграме также произошел сходный эпизод. Когда колонна Макдональда (см. гл. VII) вломилась в центр австрийского расположения и отразила направленные на нее контратаки вражеской конницы, возник удачный момент для массированной атаки французской кавалерии. «Когда дым немного рассеялся, - вспоминал Макдональд, - я увидел неприятеля в самом жутком беспорядке, который еще более усилился с его отступлением... Я приказал генералу Нансути атаковать, направив также просьбу командующему кавалерийскими массами, которые я видел позади себя, сделать тоже самое...» Это была гвардейская кавалерийская дивизия генерала Вальтера и... она не двинулась с места. Уже когда бой подходил к концу, Макдональд случайно встретился с Вальтером: «"Это Вы командовали блистательной и многочисленной кавалерией, которую я видел позади себя?" - "Да, я". - "Так почему же, черт возьми, Вы не атаковали врага в то время, как я посылал Вам просьбу за просьбой сделать это? Император будет недоволен и уже, очевидно, недоволен неподвижностью своей гвардейской кавалерии, в то время как она могла внести столь славную лепту и, без сомнения, добиться огромных результатов!" - "В Гвардии, - ответил он, - нам нужен либо непосредственный приказ Императора, либо нашего начальника маршала Бессьера, а так как последний был ранен, то приказать нам мог только сам Император, от него же мы никаких приказаний не получали". - "Но, - ответил я, - есть же особые случаи, нельзя подобное правило возводить в абсолют, вот, например, и эта ситуация. Император только приветствовал бы Ваши действия, так как они принесли бы ему огромную выгоду и привели бы к разгрому значительной части австрийской армии. А если бы вместо успеха, которого мы добились, враг бы нас отбросил, Вы что, не прикрыли бы нашего отхода и покинули бы поле битвы, не сражаясь?.." На эти вопросы он не смог ответить и отсалютовав мне, уехал к своим войскам» 49.
Планшет 32. Конная артиллерия: офицер 1807-1812 гг. Пояснения см. Приложение П.© С. Летин.
Планшет 34. Артиллерийский обоз: офицер, унтер-офицер, рядовой. Пояснения см. Приложение II.© С. Летин.
Конечно, этот эпизод не столь однозначен, как предыдущие, ведь Макдональд все-таки не был начальником для Вальтера, да и значение его не сопоставимо с отсутствием гвардейцев не только в Бородинской битве, но и при Фуэнтес д'Оньоро. Тем не менее и ваграмский случай, который был также известен в армии, усугубил недоброжелательное отношение линейных частей к Гвардии. Многие из простых армейских солдат и офицеров вспоминали о Гвардии с раздражением, а некоторые даже высказывали сомнения в ее боевых качествах. Капитан Дебёф, сражавшийся в Испании, писал: «По возвращении во Францию я очень удивлялся той репутации, которой пользовалась Императорская Гвардия, и той малой известностью, которую имели вольтижеры. Последних, кажется, даже не особенно отличали от обычных рот фузилеров. Однако вольтижеры сражались в тысячу раз чаще, чем Гвардия. Они были всегда впереди, а она всегда позади. Не одного выстрела из ружья не обходилось без вольтижеров, а Гвардия редко принимала участие даже в малых боях и еще реже в битвах. Так что я предпочел бы для атаки иметь под рукой триста вольтижеров, а не пятьсот гвардейцев... И действительно, где великие подвиги этой элитной армии? Что она делала под Аустерлицем, Иеной и Ваграмом? Кто решил успех этих великих битв? Пехотные дивизии. Можно сказать больше, Гвардия принесла погибель Императору, ибо если бы по просьбе Нея и Мюрата он ввел бы ее в дело под Бородиным, как всякое другое соединение, то русская армия была бы уничтожена... Добавим, что в битвах под Ваграмом и Фуэнтес д'Оньоро Гвардия, которая могла разгромить врага, ответила, что она подчиняется лишь приказам маршала Бессьера, а так как последнего не было поблизости, она так и осталась стоять сложа руки».50 Ну а желчный генерал Тьебо, вспоминая о действиях Гвардии в Испании, не стесняется в выражениях: «...Гвардия была словно армией в армии и, следовательно, имела свой штаб в генеральном штабе. Привилегии чинов и должностей, более высокое жалованье соединялись с такими претензиями, которые сложно было удовлетворить. Превосходство Гвардии не оспаривали, но и не прощали. Оно обижало одних и возвышало других. Гвардия вызывала зависть и ревность, сея вокруг себя куда больше соперничества, чем согласия. Вследствие этой ревности и соперничества линейныечасти и их командиры, когда они находились в контакте с Гвардией, сражались с меньшим энтузиазмом, чем обычно...»51
После Бородина пересуды в армии по поводу гвардейцев еще больше усилились, а московский пожар, надломивший дух армии, оказался сильнее обычной выдержки гвардейских солдат. В главе XI были приведены выдержки из приказов по гвардейским частям и по армии в отношении беспорядков, чинимых в горящем городе. Но особенно показателен приказ на день по Гвардии от 29 сентября 1812 г. В нем говорится:
«Беспорядки и грабежи снова начались вчера, и прошлой ночью, и сегодня в них еще более активно участвует Старая Гвардия, поступая самым недостойным образом.
Император видит с сожалением, что элитные войска, предназначенные для охраны его особы, которые должны были бы подавать при всех обстоятельствах пример порядка и субординации, забылись до такой степени, что сами совершают предосудительные поступки.
Пришло время положить конец жалобам на гвардейцев. Солдат Гвардии, который не умеет ценить честь принадлежать к этому корпусу, не достоин в нем находиться»52.
Но гвардейцы не просто участвовали в грабеже. Используя свои привилегии, они захватывали самые богатые особняки. «18 октября... мы, как и каждый день до этого, собрались унтер-офицерской компанией, - рассказывает сержант фузилеров-гренадер Бургонь, - мы возлежали, как паши, на горностаевых и соболиных мехах, на львиных и медвежьих шкурах... из роскошных трубок мы курили индийский розовый табак, а посреди нашего крута в большой серебряной вазе русского боярина горел чудовищный пунш из ямайского рома, над которым плавилась огромная сахарная голова, лежавшая на скрещенных штыках»53. «Я представлял себе Самарканд, взятый Тамерланом», - рассказывает другой очевидец.
Хотя грабили все, но участие в грабежах гвардейцев не прошло незамеченным для солдат линейных частей, которые обратили особое внимание на то, что солдаты Гвардии продавали, как лавочники, награбленное добро и провизию.
Бесчисленные привилегии Гвардии, ее неучастие в боях и, прежде всего, в Бородинском сражении, наконец, ее поведение в Москве, вызвали открытую враждебность со стороны линейных частей по отношению к отборному корпусу. «Московские торгаши» - так малопочтительно стали именовать гвардейцев армейские солдаты. Случайно отбившихся от своих солдат Гвардии отталкивали от костров, отказывали в помощи тогда, когда еще помогали другим. «А, Императорская Гвардия?! За дверь его!» - раздались отовсюду крики, когда сержант Бургонь в Смоленске случайно попал в погреб, где грелись «одиночки» из линейных частей54. Хотя эта реакция исходила от потерявших дисциплину и забывших честь воина людей, она, увы, была всеобщей. Вот что писал военному министру в своем отчете о состоянии армии вышедший из России майор Бальтазар: «Гвардия полностью пала в глазах всех тех, кто в ней не состоит. Она стала предметом всеобщей антипатии»55.
Однако это было уже, скорее, по инерции. Час Гвардии, ее трагический и высокий час, уже пробил...
Говорят, что скупой платит дважды. За «бережливость» по отношению к Гвардии при Бородине пришлось заплатить во сто крат, причем той же Гвардией. Начиная от Красного, большинство солдат линейных частей, находящихся в остатках главной армии, уже влились в толпу «одиночек». В порядке шли лишь гвардейские полки и Вислинский легион, впрочем, так же приписанный к Гвардии. Это, казалось бы, противоречит нашей версии, высказанной в XI главе, - ведь если разложение армии было связано с московским грабежом, почему тогда Гвардия, которая «отличилась» в нем, не претерпела такого же разложения, как армейские части? Ответ здесь довольно прост. Средний возраст солдата Старой Гвардии был, как мы уже отметили, 30-37 лет, а количество пройденных кампаний — свыше десяти. Запас моральной прочности у таких солдат - опытных бойцов и зрелых мужчин - был, конечно же, гораздо выше, чем у молодежи линейных полков. Даже наполнив ранцы наживой, они сохранили свои принципы и понятия о долге. «Если мы были несчастны и умирали от голода и холода, - вспоминал Бургонь, - у нас оставалось то, что нас поддерживало - честь и отвага»56.
Корпоративная солидарность в привилегированном корпусе, который постоянно находился поблизости от Императора, удерживала солдат, конечно же, сильнее, чем в обычном полку; эта корпоративная солидарность воздействовала и на солдат Молодой Гвардии, хотя, несомненно, в гораздо меньшей степени - соответственно, и их потери были на порядок выше, чем у старых солдат. Наконец, не следует скидывать со счетов и весьма приземленный мотив - все то немногое, что еще оставалось из продовольствия и фуража, выдавалось прежде всего Гвардии.
Вследствие всех этих причин накануне битвы под Красным, 12 ноября 1812 г., только пехота Старой Гвардии насчитывала в своих рядах 183 офицера и 5777 унтер-офицеров и рядовых, кавалерия сохранила почти 2000 человек в конном строю и почти 2000 в пешем. Полки Молодой Гвардии имели более 300-400 человек в каждом, но именно им предстояло ценой самопожертвования дать возможность главным силам (а точнее, их остаткам) прорваться через кольцо русских армий, сжимавшееся под Красным.
В ночь с 15 на 16 ноября дивизия Роге (фузилеры- гренадеры, фузилеры-егеря, 1-й тиральерский, 1-й вольтижерский и фланкерский полки) внезапно атаковала отряд генерала Ожаровского в деревне Кутьково. При свете горящих изб завязался отчаянный рукопашный бой. «В течение более чем часа дивизия дралась штыками, смешавшись с неприятелем, - докладывал в своем рапорте Роге. - Наконец, устрашенные ужасающей резней, солдаты противника, еще оставшиеся в живых, бросились назад...»57
Путь для отступающей армии был свободен, но необходимо было прикрыть отход. 17 ноября дивизии Делаборда и Роге приняли на себя удар главных сил русской армии. «Наполеон в тот же самый день предполагал двинуться с находившимися под его непосредственным началом пятнадцатью тысячами человек Гвардии против Кутузова, у которого, не считая войск Милорадовича и Остермана, было двойное, а вместе с ними даже тройное превосходство»58, - пишет знаменитый историк войны 1812 г. Богданович. Действительно, гвардейским дивизиям пришлось принять неравный бой. Особенно несоразмерным было соотношение артиллерии. Офицер Молодой Гвардии так вспоминал об этом дне: «Русские, черные и глубокие массы войск которых показались вдали, выставили с утра 30-орудийную батарею, и скоро число пушек в ней удвоилось.
Первый раз наши молодые солдаты услышали резкий свист ядер и более глухой гул пролетающих гранат, за которыми следовал грохот разрывов. Наш старый генерал (Делаборд) медленно проезжал вдоль строя и приговаривал: "Ну, ну, ребята, поднимите выше носы, когда-нибудь нужно понюхать пороха в первый раз!" Эти слова генерала солдаты встретили радостными восклицаниями и криками "Да здравствует Император!"»59
Чтобы хоть как-то помешать русским орудиям расстреливать части Молодой Гвардии, генерал Рапп выдвинул вперед 1-й вольтижерский полк под командованием командира батальона Пиона (в строю полка в этот день оставалось не более 300 человек). «Командир батальона Пион двинулся вперед со всей неустрашимостью и, видя, что неприятель ослабил огонь, решил, что может продолжить движение вплоть до леса, занятого противником»60. Но атака увлекшихся боем вольтижеров, продолженная слишком далеко от основной боевой линии, оказалась роковой для них. Полк был со всех сторон атакован кирасирами генерала Дуки. Построившись в каре, вольтижеры, впрочем, сумели отразить первые наскоки кирасиров. Тогда русские выкатили несколько орудий и чуть ли ни в упор открыли огонь картечью. «Мы услышали звуки частых выстрелов, - продолжает свой рассказ офицер дивизии Делаборда, - это картечь обрушилась на каре, затем начался непрерывный треск ружейной пальбы. Мы ясно различали голоса наших двадцатилетних солдат, которые кричали свой обычный боевой клич, клич верности Императору, смешивающийся с криками "Ура!" атакующих, а потом вдруг наступила тишина.
"Неужели они погибли?" - спрашивали мы друг друга с болью и беспокойством.
"Нет, нет. Слышите, они кричат «Vive L'Empereur!» с новой энергией. Они хотят, чтобы мы узнали, что они еще живы, что они отбили и эту атаку"»61.
Но героическое сопротивление каре 1-го вольтижерского не могло быть бесконечным. «Ревельский и Муромские полки под личным командованием князя Шаховского ударили на него в штыки, а кирасиры Дуки (Новгородский и Малороссийский полки) ворвались в каре и довершили истребление вольтижеров»62.
Из 300 человек в живых осталось только 50 солдат и 11 офицеров, большей частью раненных ударами палашей и штыков. Все они были взяты в плен.
Под Красным также почти полностью погиб и 3-й гренадерский полк, который сражался в этот день в рядах Молодой Гвардии. Из 305 солдат и офицеров, которые стояли накануне боя в рядах части, к концу дня оставалось только 36 человек!
С наступлением сумерек маршал Мортье отдал Молодой Гвардии распоряжение отступать. «Он приказал трем тысячам солдат, которые у него еще оставались, медленно отходить под напором пятидесятитысячной армии неприятеля. "Слышите, солдаты! - крикнул генерал Лаборд. - Маршал приказал тихим шагом! Тихим шагом, солдаты!" И эти храбрые и несчастные войска, уводя раненых под ливнем пуль и картечи, медленно уходили с поля страшного побоища, держа равнение так, как если бы они были на учебном плацу»63.
После Красного положение остатков Великой Армии стало еще более катастрофичным. Вся надежда оставалась только на Гвардию. В эти тяжелые дни Наполеон словно сбросил с себя ту апатию, которая охватила его в начале кампании. «Я достаточно был Императором, пора снова становиться генералом», - произнес он перед битвой под Красным. В Орше он приказал выстроить Старую Гвардию, и впервые за весь трагический поход он лично обратился к солдатам:
«Вы стали свидетелями разложения армии. Большинство ваших соратников в результате рокового стечения обстоятельств бросили оружие. Если вы последуете их примеру, надежда будет потеряна. Судьба армии в ваших руках. Я уверен, вы оправдаете это высокое доверие, которое я испытываю к вам. Нужно нетолько, чтобы офицеры поддерживали среди вас строгую дисциплину, но чтобы и сами солдаты наказывали тех, кто попытается покинуть ряды. Я надеюсь на вас. Поклянитесь же не покидать вашего Императора!»64 «Клянемся!» - с суровой решимостью произнесли хором все. Эту клятву Старая Гвардия сдержала. Несмотря на все невзгоды, на холод и опасности, она шла сомкнутыми, готовыми к бою колоннами. Вот как описывает встречу своего отряда со Старой Гвардией знаменитый поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов: «Мы помчались к большой дороге и покрыли нашей ордою все пространство от Аносова до Мерлина... Наконец, подошла Старая Гвардия, посреди которой находился сам Наполеон. Это было уже далеко за полдень. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, видя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и оставались невредимыми... Я никогда не забуду свободную поступь и гордую осанку сих, всеми родами смерти угрожаемых воинов! Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, -в белых ремнях, с красными султанами и эполетами, - они казались как маков цвет среди снежного поля!.. Я, как теперь, вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казацкого полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к самому фронту, - но все было тщетно!.. Гвардия с Наполеоном прошла посреди казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками»65.
Несмотря на всю отвагу и стойкость этих солдат, после перехода через Березину холод и голод нанесли жестокий удар остаткам Старой Гвардии и добили практически полностью Молодую Гвардию. В конце 1812 г. в Кенигсберге собралось 177 офицеров и 1312 солдат пехоты Старой Гвардии (из 180 офицеров и 6235 солдат, ушедших в поход). Это были, конечно, страшные потери, однако, как видно из приведенных цифр, командные кадры почти полностью сохранились, что позволило, особенно с учетом наличия солдат в гвардейских депо, без каких-либо непреодолимых препятствий, восстановить полки Старой Гвардии. Особенно стойкими показали себя во время страшного отступления польские кавалеристы. 1-й полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии насчитывал в это же время еще 478 человек в строю (61 офицер и 416 рядовых) - из 1165 ушедших в поход. Причем из 19 недостававших офицеров было убито, взято в плен, или отстало только 9 человек, остальные просто перешли в другие части66.
Что же касается Молодой Гвардии, она практически перестала существовать. Во всей дивизии Делаборда осталось лишь 84 офицера и 61 солдат (из 109 офицеров и 3411 рядовых).
На смотре весной 1813 г. в Тюильри перед Императором предстали остатки некогда блистательных полков. В 5-м тиральерском, одном из тех, который наиболее пострадал, в строю стояли полковник, несколько офицеров, унтер-офицеров и... один барабанщик!67 Правда, около двадцати солдат и офицеров были оставлены в Познани, тем не менее даже с учетом наличия этих людей, потери были чудовищными.
Несмотря на это, по приказу Императора воссоздавались не только части Старой Гвардии, что было вполне естественным, но, хотя и с гигантскими трудностями, вновь формировались полки Молодой Гвардии, причем количество их должно было не только не сократиться, но и удвоиться!
Опуская детали многочисленных кадровых изменений, формирований и расформирований, отметим только, что в марте - апреле 1813 г. было декретировано создание 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го тиральерских полков, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го вольтижерских, полка фланкеров-гренадер, четырех полков так называемой Почетной Гвардии (см. Приложение V), а в декабре было принято решение о создании еще трех конных полков «разведчиков».
Все это сопровождалось ростом численности артиллерийского парка, обозных служб и вообще всего персонала Гвардии. Всего (по штату) в строю Гвардии должно было быть теперь 92 472 человека! Хотя в реальности на 1 октября 1813 г. Гвардия насчитывала 48 953 солдата и офицера, находящихся на театре боевых действий. Это была огромная цифра, особенно если принять во внимание, что вся главная армия, которой располагал в это время Император, не превышала 190 тыс. человек. Следовательно, гвардейцы составляли уже более четверти всего состава армии!
Разумеется, по качеству эти вновь сформированные контингенты (речь идет, разумеется, не о полках Старой Гвардии) были далеки даже от полков, собранных в 1809-1812 гг. Впервые было отмечено значительное дезертирство из рядов Молодой Гвардии. В рапорте военного министра от 30 июня 1813 г. говорится, что в тюрьмах Монтегю и Аббе находятся 320 арестованных военнослужащих, дезертировавших из гвардейских полков. В отношении этих людей военный министр предлагал принять следующие меры: «Так как будет не слишком разумно направлять под трибунал столь большое число гвардейцев, я имею честь предложить Вашему Величеству осудить лишь 20 из этих военнослужащих, дезертирство которых сопровождалось отягчающими обстоятельствами. Другие могут быть направлены в части, состоящие из уклоняющихся от военной службы»68. Император утвердил это предложение.
Впрочем, престиж гвардейского мундира был столь велик, а боевой дух, который продолжал жить в рядах элитного корпуса, столь высок, что даже эти «импровизированные» гвардейцы дрались, как бешеные. Тем более что возможность подраться представилась им в полной мере. Молодую Гвардию бросали в огонь под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, а под Дрезденом и Ганау в бой двинулись даже и некоторые части Старой Гвардии.
В битве при Люцене Император сделал то, что он должен был сделать восемь месяцев назад. Он лично встал во главе первой дивизии Молодой Гвардии генерала Дюмустье и направил ее в атаку на ключевой пункт позиции, деревню Кайя, вокруг которой уже много часов кипел ожесточенный бой. Наступление гвардейской пехоты было поддержано ураганным огнем 80 орудий гвардейской артиллерии Друо. Остатки корпуса Нея в центре, корпус Макдональда слева, а Мармона справа, увидев наступление гвардейских частей, ринулись вперед. Солдаты Дюмустье вломились в деревню, где разыгралась страшная бойня. Под маршалом Мортье, который направлял атаку Гвардии, была убита лошадь, генерал Дюмустье был ранен; но пруссаки выброшены из Кайи, а судьба битвы решена. В восторге перед отвагой молодых солдат Гвардии «храбрейший из храбрых» маршал Ней воскликнул: «Эти юноши - герои! С ними я мог бы совершить что угодно!»
Под Лейпцигом Молодая Гвардия сражалась не менее бесстрашно. Вот что вспоминает офицер конноегерского полка, ирландец Вольф Тон о последнем дне этого грандиозного сражения: «Героическая отвага Молодой Гвардии проложила нам путь. Отразив атаку врага, она построилась по краям дороги и прикрыла ее, словно две стальные стены, извергающие пламя... Я никогда не забуду этого величественного зрелища, которое являла собой Гвардия, которая умела умирать, но не умела сдаваться...»69
Но поистине жестокой и отчаянной битвой Гвардии стало сражение при Ганау... После перехода Баварии в лагерь союзников 43-тысячный австро-баварский корпус под командованием графа Вреде у города Ганау преградил дорогу остаткам Великой Армии, отступавшим после битвы под Лейпцигом. Армии Бернадотта и Блюхера отрезали войска Наполеона с севера, Шварценберг, двигаясь вдоль левого берега Майна, - с юга. Необходимо было любой ценой прорваться. 30 октября 1813 г. на подходе к Ганау у Наполеона под рукой было не более 10 тыс. гвардейцев и 17 тыс. солдат линейных войск—остатки корпусов Макдональда, Виктора, Мармона и Бертрана. Передовые части завязали стрелковый бой, однако, чтобы отбросить врага, их сил было явно недостаточно. Но вот на поле боя показалась Гвардия. На этот раз выбора у Императора не было. В бой были брошены гвардейские конные гренадеры, драгуны, польские уланы, конные егеря, почетные гвардейцы, мамелюки, второй полк пеших егерей Старой Гвардии и, конечно, артиллерия под командованием неустрашимого Друо.
Маршал Макдональд вспоминал: «Подошли четыре батальона егерей (Старой Гвардии)... Они вступили в дело - один только вид их меховых шапок заставил врага откатиться назад»70. Впрочем, на этот раз одного вида оказалось недостаточно. Пешие егеря столкнулись с австро-баварцами в яростной штыковой схватке. В рядах сражавшихся егерей оказался молодой кавалерист Почетной Гвардии, который незадолго до этого лишился своего коня. Этот юноша из интеллигентной семьи, получив разрешение встать в ряды ветеранов, принял участие во всех их атаках и спустя несколько месяцев подробно описал свои впечатления от наблюдения за этими необычными солдатами. Он рассказывал: «Мы углубились в лес и, несмотря на ливень пуль, ядер и гранат, обрушились на баварские батальоны... Мы опрокинули их в овраг, из которого они едва могли выбраться. Там егеря устроили им настоящую бойню. Один из егерей приблизился ко мне и, смеясь, сказал: "Ну что, почетный гвардеец, страшно?" "На, посмотри, - ответил я, протягивая ему свою ладонь, - дрожит ли она!" Тогда он по-дружески сильно сжал мою руку, молча показав мне, что ответ ему понравился.
Но вот спешно прибыли новые вражеские батальоны, чтобы усилить, а точнее, заменить предыдущие, потому что они были почти полностью уничтожены... Тогда вся колонна двинулась вперед по страшной команде "В штыки! Шагом атаки!". Мы снова сбросили их в овраг, который мы перешли в третий раз, но на этот раз по мосту из трупов»71.
«Атака батальона егерей под командованием генерала Кюриаля, ринувшегося вперед и опрокидывающего все, что ему противостояло, вызвала восхищение у всех, кто был тому свидетелем»72, - подтверждает слова молодого кавалериста маршал Мармон.
С не меньшим порывом действовала и гвардейская кавалерия: «Мы обрушились, как молния, на вражескую колонну в тот момент, когда она расстроила ряды. Это была самая страшная резня, которую я когда-либо видел»73, - рассказывал Куанье. Однако австро-баварская кавалерия значительно превосходила по численности французскую. Поэтому на долю конной Гвардии выпала нелегкая задача. Особенно тяжело пришлось гвардейским драгунам. В этом бою они потеряли 9 офицеров убитыми и ранеными. Среди последних был и командир эскадрона Тесто-Ферри. Ядро убило под ним коня, и он оказался под копытами вражеских лошадей. Окруженный со всех сторон врагом, отважный офицер дрался до последнего. Он получил 22 раны: рубленых - от ударов палашей и колотых от ударов пик неприятельских кавалеристов. Каска Тесто-Ферри, вся изрубленная, покореженная и смятая, хранится сейчас в одной из частных коллекций во Франции и является немым свидетелем отваги Гвардии в этом отчаянном бою74. Самое удивительное, что бесстрашный офицер, став командиром 1-го полка разведчиков Гвардии, меньше чем через два месяца снова был в строю и снова в гуще схватки.
Бой при Ганау 30 октября 1813 г. Гравюра немецкого художника Ругендаса.
Планшет 30. Драгуны: трубач, полковник, рядовой 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Планшет 37. Элитная жандармерия: рядовой 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
Особенно же в бою при Ганау отличилась гвардейская артиллерия под командованием Друо. Своим метким огнем она нанесла тяжелые потери австро-баварцам и во многом способствовала победе (см. гл. IV, о Друо).
Гвардия проложила дорогу во Францию, но следом за отступающей армией Наполеона границы Империи перешел первый эшелон союзных армий: 250 000 солдат Блюхера и Шварценберга, а за ними подходили новые и новые соединения. На пути врага стояло менее 60 тыс. французских солдат. Силы были слишком неравными.
Новая кампания, кампания 1814 г. стала войной Императорской Гвардии. Не имея возможности в течение месяца воссоздать новую армию, Наполеон фактически будет пополнять только Гвардию. В результате сложится парадоксальная ситуация: в то время когда в линейных частях будет чудовищный некомплект, в Гвардии будут создаваться даже новые полки!* На главном направлении боевых действий гвардейцев было чуть ли не столько же, сколько солдат линейных войск. 25 января 1814 г., когда в Шалоне Император снова принял командование армией, под его началом было 71 012 человек солдат и офицеров, среди которых 26 433 человека (т. е. 37%) были гвардейцами. Согласно подробному расписанию Гвардии на 1 января 1814 г., хранящемуся в Архиве исторической службы французской армии в Венсенне, в рядах гвардейского корпуса было под ружьем 39 722 человека, а вместе с теми, кто находился в госпиталях и депо, - 51 375 человек75. Всего же по новому штату Гвардия должна была иметь в своих рядах 112 482 человека! И это притом, что армейские полки насчитывали по 100-300 человек, а то и менее того. В дивизии Рикара из корпуса Мармона примерно в то же время численность полков была следующей:
2-й легкий -112 человек,
4-й легкий - 136 человек,
6-й легкий - 197 человек,
50-й линейный - 190 человек,
169-й линейный - 99 человек и т. д.
* 11 января 1814 г. были созданы 14-й, 15-й, 16-й полки вольтижеров и тиральеров, а 21 января- 17-й, 18-й, и 19-й полки тех же родов оружия.
Казалось бы, все это похоже на абсурд. На самом деле, это был, быть может, один из немногих способов, с помощью которого Император мог попытаться поправить дело. Включая необученных мальчишек в ряды элитного корпуса, он надеялся, очевидно, что сами слова «Императорская Гвардия» помогут удержать их от дезертирства и послужат мощным моральным стимулом в бою.
В общем, так оно и было, хотя, конечно, подобный метод действий вряд ли можно назвать естественным и надежным: проистекал он из абсолютно экстремальных обстоятельств.
В результате, как уже было отмечено, вся война 1814 г. на главном направлении станет отчаянной борьбой Молодой Гвардии и горсти старых солдат, ведомых Императором против намного превосходящих по численности союзных армий.
Отступив после тяжелейшей битвы при Ла Ротьере, где 36 тыс. французов дрались против 122 тыс. союзников, Наполеон сумел использовать промах союзников, и когда армии Блюхера и Шварценберга разделились, чтобы было легче двигаться к Парижу, он обрушился со своим крошечным войском на армию старого прусского фельдмаршала, растянувшуюся на пути к столице. 10 февраля Наполеон одержал первую решительную победу в кампании Шампобер, 11 февраля - новый блистательный успех - Монмирайль, 12 февраля - опять победа - разбит прусский корпус Йорка под Шато-Тьерри, а через два дня Император громит самого Блюхера под Вошаном и Этожем...
Во время этой череды удивительных успехов Гвардия была на высоте. После победы под Монмирайлем Император в восторге не мог найти слов, чтобы охарактеризовать доблесть своих гвардейцев. Вот что он писал вечером после битвы в послании к Савари: «Моя конная и пешая Гвардии покрыли себя славой... То, что они совершили, словно сошло со страниц рыцарских романов, где закованные в броню герои на могучих конях дрались один против трехсот-четырех- сот врагов...»76 А королю Жозефу он сообщает: «Силезской армии больше не существует. Мы взяли все их пушки, обозы, тысячи пленных... Все это сделано только половиной моей Старой Гвардии, которая совершила больше того, что можно было ожидать от смертных... Моя пешая Гвардия, мои драгуны, мои конные гренадеры поистине творили чудеса»77.
Не стоит, конечно, искать документальной точности в этих словах Императора, особенно когда дело идет о потерях неприятеля. Но то, что в них совершенно искренне, - это неподдельное восхищение великого полководца подвигами гвардейцев, которыми были переполнены эти дни.
Под Монмирайлем четыре батальона Старой Гвардии вел в атаку лично маршал Ней. Спрыгнув с коня, он в пешем строю с обнаженной шпагой встал перед шеренгами бесстрашных воинов. Маршал приказал высыпать порох с ружейных полок- отныне гвардейцы не могли стрелять, а должны были драться штыками. Под ураганным огнем батальоны устремились в атаку и смели все, что встало у них на пути.
Рядом с полками ветеранов мчались во весь опор молодые кавалеристы Почетной Гвардии. «Ферма Марше и позиции неприятеля в мгновение ока были захлестнуты этой атакой, - рассказывает Сегюр. - Нет слов, чтобы достойно восславить отвагу этих людей»78.
Однако ни успехи в боях с силезской армией, ни победы под Монтеро и Морманом, ни последняя блестящая победа под Реймсом не могли изменить ход войны. Силы были слишком неравными - союзники вступили в Париж...
3 апреля во дворе Фонтенбло построились все гвардейские части, которые можно было собрать. Император, обойдя шеренги старых усачей и молодых солдат, успевших закалиться в этой короткой войне, вышел в центр огромного каре. Барабаны пробили сигнал «Слушай!». Наступила тишина, в которой Наполеон произнес твердым голосом: «Солдаты! Враг обогнал нас на три марша и захватил Париж, его нужно выбросить оттуда. Недостойные французы, эмигранты, которых мы в свое время простили, надели белые кокарды и присоединились к нашим врагам. Трусы! Они будут наказаны за эту гнусность. Поклянемся же победить или умереть и заставить уважать наш трехцветный стяг, который в течение уже 20 лет вел нас по пути чести и славы!»79 Громовые крики «Да здравствует Император!.. На Париж! На Париж!» были ответом на эту страстную речь. В 6 часов вечера вся Гвардия двинулась вперед.
«Было что-то величественное и торжественное, — писал полковник Кох, - в этом молчаливом движении колонн, слышен был лишь мерный лязг сабель и штыков. Мужество отражалось на лицах солдат, прошедших столько битв... Под впечатлением только что произнесенной клятвы, вспоминая о двадцати годах побед, они готовились в героическом самоотречении закончить свой жизненный путь под стенами или на развалинах столицы»80.
Но великая битва за Париж не состоялась. Измена Мармона и нежелание значительной части других маршалов продолжать борьбу вынудят Императора отречься.
В этот момент политическая история Франции и Европы на несколько мгновений переплелась с историей Императорской Гвардии, ибо в ее власти было во многом изменить ход событий. Солдаты и офицеры гвардейских полков не только не желали отречения, но и были готовы на все ради своего полководца.
Весть об измене маршала Мармона и генерала Суама, обманом уведших 6-й корпус в лагерь врага, привез молодой гвардейский офицер Поль де Бургуэн. Когда Император узнал все детали произошедшего, он с горечью спросил посланника: «А моя Молодая Гвардия, неужели она тоже думает о том, чтобы меня покинуть?» Бургуэн вспоминает: «При этом вопросе, наполненном болью и горечью, я почувствовал, как самые сильные чувства переполнили меня, и я воскликнул: "Сир, Молодая Гвардия и вся молодежь Франции готовы умереть за Вас!"» Бургуэн рассказывает также, что «ни одного признака отчаяния не было видно в наших рядах - все молодые офицеры, с которыми я говорил, были уверены, что Император пойдет вперед и атакует союзную армию»81.
Когда 4 апреля Ней, Лефевр, Макдональд, Монсей и Удино вошли без разрешения в кабинет Императора и стали требовать отречения, ему стоило лишь открыть дверь и приказать гвардейскому офицеру, командующему караулом, арестовать их, что и было бы немедленно исполнено. Но Император знал, что арест нескольких маршалов будет лишь началом. Отныне, чтобы продолжать борьбу, ему придется вести не просто войну, а начать еще и гражданскую войну. В Париже находились союзные войска, с благословения которых было учреждено временное правительство. И хотя три четверти Франции были за Наполеона и, более того, находились под контролем его администрации, раскол произошел. Внутри страны не было более единства. Пришлось бы вести борьбу политическую, пропагандистскую, со всей той грязью, которую она за собой влечет; страна снова, как в эпоху Революции, была бы разделена на два лагеря, снова бы текла кровь мирных жителей, пылали пожары, а люди ненавидели бы друг друга. Наполеон был, конечно, воином - вид крови и пожарищ совершенно не пугал его, но он был «слишком» воином и потому ненавидел внутреннюю смуту, путаницу, политические склоки... Именно поэтому он не открыл дверь и не позвал своих верных гвардейцев арестовать маршалов, а вместо этого подписал отречение.
Мартине. Рядовой 2-го полка Почетной Гвардии. Раскрашенная гравюра 1813 г.
Низверженному властелину, удалившемуся в ссылку на о. Эльба в Средиземном море союзники разрешили взять несколько сот гвардейцев (1 батальон пехоты, 1 эскадрон польских улан и взвод гвардейских моряков - всего 724 человека).
20 апреля, прежде чем отправиться к месту изгнания, Император вышел проститься со своей Старой Гвардией. Это было в полдень. Во дворе, где еще недавно собирались войска для похода на Париж, теперь застыли в безмолвном молчании 1200 гренадеров и егерей. Император вышел в сопровождении только одного человека - маршала Монсея. Он подошел к строю и произнес речь, на всю жизнь врезавшуюся в память всех тех, кто его слушал в этот день.
«Офицеры и солдаты Гвардии, я пришел, чтобы проститься с вами. В течение 20 лет я вел вас по дороге побед. В течение 20 лет вы служили мне верно и честно. Примите же мою благодарность. Моей целью было счастье и слава Франции. Теперь обстоятельства изменились... С вами и храбрецами, которые остались мне верны, я мог бы продолжать борьбу, но я разжег бы гражданскую войну во Франции, в нашем Отечестве.
Офицеры и солдаты, не покидайте же вашу Родину, страну так долго несчастную, подчиняйтесь своим командирам и идите всегда по пути чести, по которому мы шли с вами так долго вместе.
Не беспокойтесь о моей судьбе, мне остались воспоминания о великих делах, я найду достойное занятие для себя... я напишу мою и вашу историю.
...Я не могу обнять вас всех, но обниму вашего генерала. Прощайте, мои дети! Прощайте, друзья!.. Помните обо мне... Подойдите же, генерал!» Император обнял генерала Пети, а затем подозвал орлоносца и со слезами на глазах три раза поцеловал полотнище: «С этим поцелуем помните обо мне... Прощайте, мои дети... Прощайте, мои солдаты!»82
Старые воины, стоявшие в строю, хладнокровно прошедшие через тысячи опасностей, не могли и не хотели сдерживать своих чувств. По загрубевшим в походах и лишениях щекам гвардейцев текли слезы.
Загрохотали колеса кареты, Император, в последний раз опустив стекло своего экипажа, бросил прощальный взгляд на своих солдат. Его лицо тоже было в слезах...
Однако Наполеон прощался навсегда не со всеми из своих гвардейцев. Через месяц батальон, составленный из самых дреданных солдат, погрузившись на корабли в небольшом итальянском порту Савона, приближался к острову Эльба. 26 мая гренадеры и егеря высадились в Порто-Ферайо - столице крошечного островка. Гвардейцы вступили в этот маленький город в таком же виде, как они блистали когда-то на параде в Тюильри, - подтянутые, вычищенные, выбритые. Во главе их шел полковник Камбронн, которому всего лишь через год суждено будет обессмертить свое имя. За ним шли командир батальона Малле, капитаны Ла- борд, Ламуре, Комб, Лубер, Юро де Сорбе - с их именами мы еще встретимся.
Император бросился им навстречу. «Я плохо жил здесь без вас, ну вот мы наконец вместе - теперь все плохое в прошлом!» - воскликнул он. «Ружья задрожали в руках гвардейцев, их загорелые лица сморщились, и по ним потекли слезы. Солдаты плакали от счастья, они кричали, смеялись, пели, как сумасшедшие. Все повторяли друг другу слова, только что сказанные Императором... Эти слова, его приветствие, его взгляд вознаградили их сторицей за их труды. Они уже больше не думали о своих родственниках, оставшихся где-то далеко, о продвижении по службе, которым они пренебрегли, о нищете, которая их ждала, о ссылке, на которую они сами себя обрекли. Они сожалели только об одном - они не знали, как высказать всю признательность тому, ради кого они оставили все в этой жизни...»83
Впрочем, жизнь шла своим чередом, и в то время, пока верные гвардейцы встречались с изгнанным Императором на о. Эльба, во Франции новое правительство решало вопрос о том, что делать с основной частью Гвардии.
Как уже указывалось выше, Бурбоны не расформировали полностью императорскую армию, а лишь сильно ее сократили. Полной ликвидации подверглась только Молодая Гвардия, полки которой были распущены, а кадры влиты в состав сохранившихся линейных частей. Зато Старую Гвардию королевские власти не осмелились трогать. Ее лишь уменьшили в численности, а также изменили наименования полков.
Полки пеших гренадер отныне стали называться «Королевский корпус гренадер Франции». Этот корпус состоял из четырех батальонов, и им командовал генерал Фриан.
Соответственно, пешие егеря превратились в «Королевский корпус пеших егерей Франции», также из четырех батальонов. Командовал ими генерал Кюриаль.
Все полки кавалерии были сокращены до четырех эскадронов и получили следующие наименования:
■ конные гренадеры - Королевский корпус кирасир Франции (командующий - генерал Гийо);
■ конные егеря - Королевский корпус конных егерей Франции (командующий - генерал Лефевр-Денуэтт);
■ драгуны - Королевский корпус драгун Франции (командующий - генерал Орнано);
■ 2-й полк шеволежеров-улан - Королевский корпус шеволежеров-улан Франции (командующий - генерал Кольбер).
Артиллерия, моряки и саперы Гвардии были расформированы, а их личный состав влит в соответствующие линейные формирования. Наконец, полк польских шеволежеров-улан был выслан из Франции как иностранный и передан в распоряжение... российского императора.
У старых ворчунов, продолжавших службу в Гвардии под новым командованием, была тысяча поводов ненавидеть власть Бурбонов. Они презирали ее уже хотя бы потому, что она пришла во Францию в «фургонах союзников», потому что представителями власти были те люди, с которыми они воевали уже двадцать лет. К этому добавились и новые обиды. Гвардейцев выслали подальше из Парижа в провинциальные города, жалование сократили на треть, многих просто-напросто уволили в отставку. Наконец, было приказано воссоздать «Королевский дом» - старорежимную Гвардию - в таком виде, в котором она была даже не накануне Революции, а еще до 1776 г. Вернулись из небытия Мушкетеры короля, Жандармы короля, Шеволежеры, Гард-дю-Кор, Сто швейцарцев, Гвардейцы дверей и т. д. Дело, конечно, не в том, что эти учреждения были сами по себе дурными, но в конкретных исторических условиях воссоздание их казалось чудовищной несправедливостью по отношению к реально существующим элитным войскам. С насмешкой и озлоблением смотрели покрытые шрамами воины императорской армии на эти раззолоченные отряды, составленные либо из старцев, все достоинство которых заключалось в том, что в течение почти четверти века они жили вдалеке от родины, либо из мальчишек, ни разу не нюхавших пороха, зато родившихся в эмиграции.
Нетрудно понять поэтому, что бывшие гвардейцы Императора с восторгом восприняли известие о высадке своего кумира в бухте Жуан 1 марта 1815 г.
К сожалению, в данной работе нам не представляется возможным описать удивительное событие, вошедшее в историю под названием «Полет орла». Отметим лишь, что в народном движении, которое поднялось во Франции при появлении на ее земле Наполеона и которое смело с трона Бурбонов, гвардейцы сыграли не последнюю роль. Доблестный «батальон Эльбы» с восторгом шел навстречу смертельной опасности - несколько сотен человек против армии и жандармерии целой страны! Благодаря своим верным гвардейцам, Император смог выйти навстречу 5-му линейному полку, который первый перешел на его сторону, положив тем самым начало удивительному превращению королевской армии в армию императорскую. Не случайно поэтому, еще не достигнув Парижа, еще не став полностью хозяином страны, 13 марта Наполеон, находясь в Лионе, подписывает декрет о воссоздании Императорской Гвардии во всех ее функциях и привилегиях, одновременно приказывая распустить «Королевский дом».
Двадцатого марта 1815 г. в 9 часов вечера, исступленно приветствуемый ликующей толпой, Наполеон вернулся в Тюильри. Король бежал. На следующий день в 13 часов Император провел смотр войскам парижского гарнизона и гвардейцам, прошедшим за ним фантастическую эпопею «Полет орла».
«Солдаты! - обратился он к замершим в парадном строю батальонам. - Я прибыл во Францию с 600 человеками, потому что я рассчитывал на любовь народа и на воспоминания старых воинов. Я не обманулся в своих ожиданиях, и я благодарю вас, солдаты...» Затем, показывая на командиров гвардейцев, он произнес: «Вот офицеры батальона, который сопровождал меня в несчастье. Они все мои друзья, они все дороги моему сердцу. Каждый раз, когда я смотрел на них, я думал о всей армии, потому что в рядах храбрецов, которые шли за мной до конца, были представители всех полков...»84
В этот же день Наполеон подписал очередной декрет, подтверждающий воссоздание Императорской Гвардии. Этот декрет был дополнен и уточнен постановлениями от 8 апреля, 3 и 12 мая 1815 г. В соответствие с этими документами Гвардия отныне должна была включать в себя
1. штаб
2. 4 полка пеших гренадер;*
3. 4 полка пеших егерей;
4. 8 полков тиральеров;
5. 8 полков вольтижеров;
6. 2 полка конных егерей** (один из них Старой Гвардии, другой Молодой Гвардии);
7. полк конных гренадер;
8. полк драгун;
9. полк шеволежеров-улан;
10. эскадрон элитной жандармерии;
11. подразделения моряков;
12. 10 рот артиллерии;
13. батальон обоза;
14. госпиталь Гро-Кайу;
Общая численность по штату - 25 870 человек.
* Все полки пехоты были 2-батальонного состава, в каждом батальоне было по четыре роты.
** Все кавалерийские полки имели в своем составе 4 эскадрона, кроме конно-егерского полка Старой Гвардии, состоявшего из 5 эскадронов.
Таким образом, по отношению к периоду 1812-1814 гг. численность Гвардии значительно сократилась, однако не следует забывать, что и численность линейных войск также сильно уменьшилась.
Обращает на себя внимание значительное увеличение Старой Гвардии - до 8 полков! На самом деле только первые два полка гренадер и первые-два полка егерей действительно рассматривались как Старая Гвардия. Хотя текст декрета 21 марта безапелляционно называл третьи полки гренадер и егерей Старой Гвардией, из последующих документов явствовало, что третьи, а также созданные 9 мая четвертые полки обоих родов оружия следовало рассматривать как Среднюю Гвардию. Более того, даже 1-й и 2-й полки (как гренадер, так и егерей) не были равны по способу комплектования, а следовательно, и по привилегиям. Чтобы быть допущенным в 1-й полк, требовалось иметь за плечами не менее 12 лет службы, для вступления во второй полк было достаточно 8 лет службы. Этот же срок выслуги требовался для того, чтобы быть зачисленным в кавалерию, артиллерию и инженерные части. Наконец, для поступления в 3-й и 4-й полки было достаточно прослужить четыре года.
Война стояла у порога, и Император приказал немедленно направить в Париж из каждого полка линейной и легкой пехоты по 25-30 унтер-офицеров и солдат, имеющих за плечами указанный срок выслуги для пополнения рядов Гвардии. Формирование частей Молодой Гвардии происходило несколько сложнее. Добровольцев было мало, а восстановить сразу систему конскрипции, отмена которой дала в свое время важный политический козырь Бурбонам, Император не решился. В результате полки медленно пополнялись за счет солдат, уволенных до этого в долгосрочный отпуск и вновь призванных на службу.
К началу новой войны были полностью или почти полностью укомплектованы лишь три полка тиральеров и столько же вольтижеров. Так как 2-й тиральер- ский и 2-й вольтижерский были направлены в Вандею для того, чтобы в составе корпуса генерала Ламарка усмирять роялистский мятеж, в главных событиях кампании 1815 г. приняли участие лишь четыре полка Молодой Гвардии (1-й и 3-й тиральерские, 1-й и 3-й вольтижерские).
В общей сложности в поход в составе так называемой Северной армии (группировка войск, собранных на бельгийской границе под личным командованием Императора) выступило 19 769 гвардейцев (не считая штабных); 2506 человек - пехота Молодой Гвардии - находились в Анжере, Амьене, Руане и Лионе; наконец, 6060 человек оставались в депо различных гвардейских частей в Париже и Версале85.
О быстротечной июньской кампании, продлившейся всего лишь четыре дня, написано столько литературы, сколько, наверное, ни о какой другой войне Императора. Поэтому, когда мы разбирали многие общие вопросы, касающиеся армии Наполеона, мы предпочитали обращаться к ней как можно меньше, тем более что нездоровая популярность битвы при Ватерлоо связана в наше время не столько с действительно огромной исторической ролью этого сражения, сколько с доминированием в мире англо-американской культуры. Тем не менее, рассказывая о Гвардии, просто невозможно обойти вниманием ее роль в последнем сражении Императора.
Самый короткий поход Наполеона начался утром 15 июня 1815 г., когда Северная армия форсировала пограничную реку Самбру у города Шарлеруа. Целью наступления был последовательный разгром армий Веллингтона и Блюхера до того, как коалиция подтянула бы громадные силы к границам Франции.
16 июня прусская армия фельдмаршала Блюхера в кровопролитной битве при Линьи потерпела поражение и откатилась на север. В ходе сражения Император ввел в дело дивизию Молодой Гвардии Дюэма, которая штурмом овладела деревней Сент-Аман. Когда же день клонился к вечеру, пруссаки были выбиты из Линьи бешеной атакой 2- го и 4-го гренадерских полков (всего 3 батальона, так как 3-й гренадерский полк был недоукомплектован и состоял лишь из 1 батальона) - «деревня была взята в штыки, и все было опрокинуто и сокрушено»86.
Тем не менее главная цель битвы не была полностью достигнута - пруссаки хотя и потерпели поражение, но отошли в порядке и не потеряли связь с английской армией...
И вот, наконец, настал день 18 июня 1815 г., о котором столько будут спорить историки, писать литературные произведения писатели, слагать стихи поэты, день, которому посвятят музыкальные произведения, картины и кинокартины...
Что произошло под Ватерлоо? Почему пылающим отвагой французским войскам, ведомым самим Наполеоном, не удалось сбросить с высот Мон-Сен-Жан англо-голландскую армию? Были ли это просчетом Императора или злым роком? Ответы на эти вопросы потребовали бы целой книги, мы же ограничимся лишь констатацией факта: к 18 часам вечера, после шести с половиной часов боя, несмотря на отчаянные атаки французской пехоты и особенно кавалерии, где отличились и гвардейские эскадроны, оборона англо-гол- ландцев не была прорвана. Да, армия Веллингтона истекала кровью, некоторые полки просто убежали с поля боя, но оставшиеся силы продолжали упорно отражать натиск французов. К тому же к описываемому моменту времени англичане были уже не одни...
В 13 часов дня к полю сражения приблизился 30-тысячный прусский корпус Бюлова, не участвовавший до этого в битве при Линьи и, следовательно, совершенно свежий. В 16 часов пруссаки навалились на правое крыло армии Наполеона и оттянули на себя значительные силы французов. С минуты на минуту можно было ожидать появления и всей недобитой прусской армии маршала Блюхера. Здесь на правом крыле войск Наполеона, у деревни Плансенуа, впервые в этот день вступила в бой пешая Гвардия, о роли которой при Ватерлоомы и хотели рассказать в завершение главы.
После того как передовые бригады Бюлова смяли слабый корпус Мутона (около 7 тыс. человек), Император приказал подкрепить правое крыло дивизией Молодой Гвардии Дюэма - 3800 человек*. Эта дивизия отважно пошла в бой и на некоторое время сумела задержать наступление пруссаков. Однако силы были слишком неравными, кроме того, как отмечал полковник Понтекулан, Молодая Гвардия состояла «из солдат-новичков, задачей которых было сделать численность элитного корпуса более впечатляющей, однако от Гвардии у них было разве что название. Они не обладали ни той стойкостью, ни той преданностью, какими обладали старые солдаты»87. В результате все силы, выдвинутые французами на оконечность правого крыла, отступали. Молодая Гвардия, отстреливаясь от пруссаков, покидала последние дома Плансенуа, а прусские ядра начали поражать резервы Северной армии. Тогда Император приказал отбить Плансенуа во что бы то ни стало. Для этой контратаки было выделено два батальона Старой Гвардии: первый батальон 2-го егерского полка (командир батальона Коломбан) и второй батальон 2-го гренадерского полка подполковника Гользио. Егерей лично повел в атаку генерал Пеле, а командир гренадерского батальона перед атакой получил наставление от самого Императора, который приказал не стрелять, а обрушиться на врага в штыки. Пеле вспоминал: «Вступив в Плансенуа, я встретил несчастного генерала Дюэма, которого везли то ли умирающего, то ли уже мертвого на его коне, и вольтижеров, отходящих в полном беспорядке... я встретил полковника Юреля и еще нескольких офицеров, но все отступали. Я обещал им задержать врага, попросив, чтобы они меня поддержали...»88 После первого стремительного натиска бой рассыпался на сотни отдельных схваток. «...В деревне, - продолжает Пеле, -мне приходилось носиться взад и вперед, в одном месте бить атаку, в другом сбор, в другом приказывать построиться, но никак не удавалось собрать и взвода. Наконец, когда я был уже в самом трудном положении, вдруг неизвестно откуда появился взвод гренадер. Я собрал несколько егерей, затем мы обрушились в штыки без выстрелов, гренадеры шли в атаку как стена, они снесли все, что им попалось на пути...» 89 Подошедшие гренадеры были солдатами батальона Гользио, вместе с егерями они бросились как бешеные на пруссаков и учинили им жестокую бойню по всей деревне. Это был удивительный бой, где 1100 солдат Старой Гвардии громили шеститысячную бригаду Гиллера, позади которой шла на помощь ей еще примерно такая же по численности бригада. Прусская ненависть 1813 г. здесь сполна получила возмездие: гренадеры и егеря убивали врагов без пощады, отчаянно и безостановочно работая штыками, так что они были по самое дуло залиты кровью, а тамбур-мажор 2-го гренадерского полка Стюбер мозжил головы неприятельских пехотинцев своим огромным жезлом с металлическим набалдашником.
* Утром 16 июня дивизия насчитывала в своих рядах 4283 человека. Однако она понесла потери в бою при Линьи.
В дикой панике солдаты бригады Гиллера бросились бежать, увлекая за собой войска, шедшие во втором эшелоне. В общей сложности два батальона Старой Гвардии разгромили здесь девять батальонов неприятеля, а девять других заставили откатиться назад!
Но это было только началом боя за Плансенуа. После этого первого успеха французов, желая любой ценой отбить у них деревню, Бюлов бросил в атаку три бригады: Гиллера, Рисселя и Теппельскирха (из 2-го корпуса) - в общей сложности 27 батальонов, поддержанных сильной артиллерией!
Деревня запылала от беспрерывного артобстрела. На ее развалинах волну вражеского натиска снова встретили все те же два батальона Старой Гвардии, поддержанные частью дивизии Дюэма. Отчаянный бой за Плансенуа продлится до глубокой темноты. Особенно жестокая схватка кипела вокруг деревенской церкви и на кладбище: «Свет пожарищ освещал сражающихся, наполнявших воздух своими исступленными криками, что придавало всему происходящему какой- то свирепый вид, - вспоминал очевидец, - но еще более страшное зрелище являла собой внутренность церкви: когда вдруг свет от пожара проник через окна и осветил убитых, изуродованные тела раненых и умирающих, которые загромождали весь зал»90. В этом месте, напоминающем видения Дантовского ада, примерно в 9 вечера погибали последние защитники Плансенуа. Однако они сделали больше того, что «можно было бы ожидать от смертных». Один батальон гвардейских гренадер и один гвардейских егерей, поддержанных в лучшем случае двумя тысячами солдат Молодой Гвардии (всего, видимо, не более трех тысяч штыков) сумели парализовать около 18-20 тыс. человек неприятеля, с которыми они сражались в течение трех часов!
Героический бой Гвардии в Плансенуа дал возможность Наполеону продолжить сражение с англо-голландской армией и использовать последний шанс добиться успеха. Около семи часов вечера Император решился наконец бросить в атаку против войск Веллингтона главные силы своей пешей Гвардии. На этот момент он располагал двенадцатью батальонами Старой и Средней Гвардии*, однако батальон 1-го егерского полка под начальством командира батальона Дюринга был оставлен у фермы Кайу для охраны главной квартиры и казны армии. Этот батальон нельзя было назвать бездействующим. Уже в 17-18 часов справа от него появились прусские колонны, угрожавшие тылам армии. Дюринг выслал против них стрелков, а с остальной частью батальона занял позиции у фермы. Егеря Дюринга занимались также тем, что останавливали покинувших поле боя солдат и пытались использовать их хотя бы для прикрытия фермы91.
* В начале кампании в 8 полках Старой и Средней Гвардии было 15 батальонов, так как 4-й гренадерский полк состоял только из одного батальона. После битвы при Линьи 4-й егерский, понесший серьезные потери, был также сведен в один батальон. Таким образом, 18 июня 1815 г. в строю Старой и Средней Гвардии было 14 батальонов. Два из них, как уже было отмечено, сражались в этот момент в Плансенуа.
В качестве последнего резерва был оставлен 1-й гренадерский полк целиком (батальоны Лубера и Комба). Этот полк стоял по краям у главной дороги неподалеку от фермы Мезон дю Руа.
Таким образом, в наступление двинулись 9 батальонов гвардейской пехоты. Однако поблизости от фермы Бель-Альянс, слева от все той же главной дороги, по приказу Императора остались еще три батальона (см. схему). Это были батальоны 1-го и 2-го егерского, а также батальон 2-го гренадерского, под командованием, соответственно, Ламуре, Момпе и Мартено. Этот отряд, при котором находились генералы Камброн и Кристиани, должен был служить резервом атаки.
Сражение при Ватерлоо (18 июня 1815 г.). Положение сторон к 18 часам вечера.
Сражение при Ватерлоо (18 июня 1815 г.). Расположение батальонов Гвардии во время атаки на плато Мон-Сен-Жан.
Таким образом, как это не удивительно, ни один из батальонов Старой Гвардии не был двинут на штурм плато.
В атаку пошли только шесть батальонов Средней Гвардии - всего не более трех тысяч человек, однако их повел в бой сам Император. Под звуки «Марша меховых шапок» Гебауэра, держа равнение как на параде, сомкнутые колонны двинулись навстречу жерлам орудий.
При виде строя гвардейцев, впереди которого ехал человек на белом коне в легендарной треуголке, словно электрическая искра пробежала по опустившим уже обессилено оружие батальонам линейных войск. «Гвардия идет!» - от этой вести армия словно обрела второе дыхание, французские полки снова подались вперед, артиллерия открыла частый огонь, даже раненые вставали в строй...
У самого подножия плато Гвардия сделала последнюю остановку перед штурмом. В качестве непосредственного резерва атаки в тылу был оставлен еще один батальон - 2-й из 3-го гренадерского полка (командир батальона - Белькур) вместе с генералом Роге. Таким образом, для последнего броска должны были быть направлены лишь пять батальонов (около 2500-2600 человек). Каждый из этих батальонов построился в каре - вероятно, французские генералы понимали, что придется драться почти что в полном окружении. Император остался с батальоном Белькура, а непосредственно командовать атакой было поручено маршалу Нею. Более того, вместе с ним впереди батальонов Гвардии встал поистине цвет французского генералитета. Правофланговое каре* поведет за собой герой всех войн четверти века, прозванный в Египте «Султаном огня» генерал Фриан вместе с генералом Поре де Морваном. Таким образом, этот батальон лично вел в атаку маршал Империи и два известнейших генерала! Со следующим батальоном** шел генерал Арле, при центральном батальоне*** находился генерал Мишель, следующий за ним батальон**** вел генерал Малле, наконец, последним батальоном***** командовал генерал Анрион.
* 1-й батальон 3-го гренадерского (командир батальона - Гийемен).
** Батальон 4-го гренадерского (командир батальона - Лафарг).
*** 1-й батальон 3-го егерского (командир батальона - Кардиналь).
**** 2-й батальон 3-го егерского (командир батальона - Анжеле).
***** Остатки 4-го егерского (командир батальона Аньес).
Между каждым из этих батальонов, которые двинутся в атаку «поэшелонно правым крылом вперед» (см. схему), встали по две пушки гвардейской артиллерии - всего 8 орудий под командованием майора Дюшана. Эти пушки должны были поддерживать атаку пехоты.
Выдвижение Гвардии для последнего броска не могло остаться незамеченным англичанами. С высот плато Мон-Сен-Жан Веллингтон мог прекрасно разглядеть приближающиеся темно-синие батальоны в высоких меховых шапках. Кроме того, еще до начала атаки английский главнокомандующий был предупрежден о готовящемся наступлении изменником, перебежавшим к союзникам прямо в момент боя. У англо-голландцев была возможность приготовиться к отражению штурма. Хотя, конечно, утверждение майора Лашука о том, что атаке Гвардии Веллингтон противопоставил 50 000 человек, относится к эпическим преувеличениям, нет сомнения, что пять батальонов гвардейцев поджидали на плато не менее 12 тыс. пехотинцев (бригады Мэйтланда, Бинга, Адама, Детмерса, д'Обреме и Брауншвейгский отряд), усиленные 1,5-2 тыс. кавалеристов. Наконец, около 50 орудий должны были встретить Гвардию картечным огнем.
Стрелки часов показывали 19.30. Вечерний сумрак медленно опускался над полем великой битвы. В этот момент Император отдал приказ начинать атаку. Гвардейская пехота двинулась вперед по раскисшему от грязи склону навстречу жерлам английских пушек. Они шли молча, сомкнутыми рядами, держа ружья «под курок»... Едва гвардейские батальоны вышли на край плато, как загрохотали все английские пушки, обрушив на них шквал картечи. Но все так же молча, держа равнение как на параде, гвардейцы смыкали ряды и неумолимо шли вперед. Под маршалом Неем убили коня, забрызганный кровью и грязью он вытащил саблю и, встав рядом с батальоном, в пешем строю продолжал вести солдат в огонь.
Внезапно головной батальон был контратакован брауншвейгскими отрядами, а затем бригадой Колина Хэлкетта. Однако одного гвардейского батальона, ведомого Неем, Фрианом и Поре де Морваном оказалось достаточно, чтобы смять четыре вражеских в коротком штыковом бою и, захватив вдобавок батарею, продолжить свое неумолимое движение вперед. В это время генерал Фриан получил серьезное ранение и был принужден покинуть ряды своих войск. Проезжая мимо Императора, стоявшего поблизости от батальона Белькура у подножья плато, Фриан крикнул: «Все идет хорошо!»
Однако именно в этот момент батальон был обстрелян с фланга батареей, приблизившейся к нему вплотную, и контратакован бригадой Детмерса (около 3 тыс. человек). Командир батальона Гиймен вспоминал: «Храбрый генерал Поре де Морван... приказал нам построиться в каре и открыть огонь рядами. Мы довольно долго сражались в этом положении... Маршал Ней вошел внутрь каре и сказал генералу Морва- ну: "Генерал, нужно умереть здесь!" Мы продолжали отстреливаться от наседающего врага, но ружейный огонь и картечь так захлестнули нас, что в скором времени батальон перестал существовать...»92
Равным образом плотный ружейный и картечный огонь остановил следовавший позади и немного левее эшелон 4-го гренадерского, ведомый Арле и командиром батальона Лафаргом. Но особенно страшный удар пришелся на 3-й егерский полк, следовавший еще немного левее. Батальоны этой части, потеряв в момент атаки дистанцию, оказались почти что рядом. Несмотря на ядра и картечь, они уверенно поднимались вверх, как вдруг по команде самого Веллингтона: «Up guards! And at them!»* - прямо перед ними выросла стена английских солдат. Это были гвардейцы бригады Мэйтланда, которые залегли во ржи и поджидали приближения французов... Воздух распорол треск ружейных залпов, выпущенных с расстояния двадцати шагов! Буквально в несколько мгновений 3-й егерский потерял сотни людей, рухнул пронзенный насмерть пулей генерал Мишель, упали, обливаясь кровью от смертельных ран, командиры батальонов Кардиналь и Анжеле и командир полка генерал Малле. Потеряв своих командиров, 3-й егерский не смог предпринять никакого решительного действия, а стал пытаться развернуться для ответного огня. Есть историки, которые, «критикуя» действия 3-го егерского, отмечают, что было бы лучше немедленно двинуться в штыковую атаку, а не топтаться на месте под убийственным огнем. В общем, это, наверное, так... однако эта замечательная мысль, столь очевидная в тиши рабочего кабинета, не успела прийти в голову офицерам этого полка, расстреливаемого в упор и фактически оказавшегося без командования. Все произошло настолько неожиданно, что в мгновенье ока были убиты или ранены все старшие начальники, почти все капитаны и лейтенанты. Солдаты еще некоторое время пытались вести ответную стрельбу, но в конечном итоге полк, захлебываясь в крови, начал отходить назад.
* Встать гвардейцы! И по ним!
Внезапно около двух тысяч англичан по команде полковника Сэлтоуна ринулись в штыки на эту потерявшую управление, истерзанную ливнем свинца, группу французских гвардейцев. «Мы были отброшены, - вспоминал офицер 3-го егерского, - однако враг не допустил оплошность и не стал нас преследовать»93. На гребень плато стал выходить последний штурмовой эшелон - 4-й егерский полк. Англичане, в свою очередь, откатились на исходные позиции, и гвардейцам даже на некоторое время удалось перейти в наступление, однако прибытие слева двухтысячной британской бригады Адама заставило егерей повернуть назад...
Все было кончено. Атака Средней Гвардии длилась примерно 20 минут. Оставив на плато груды трупов, Гвардия отступала...
В то время как батальоны Средней Гвардии отхлынули к подножью плато Мон-Сен-Жан, и по рядам в один миг разнесся слух: «Гвардия отходит!», главные силы Блюхера обрушились на правое крыло и тылы французов. Это был конец. Истощенная многочасовым боем, деморализованная известием о неудаче атаки гвардейцев, армия не выдержала нового страшного удара многократно превосходящих сил. Кони, люди, повозки, пушки - все хлынуло назад в ужасающем беспорядке. Поле было покрыто бегущими, вопящими солдатами, которых рубили и топтали проносящиеся прусские эскадроны и безуспешно пытались собрать мечущиеся по полю офицеры французского штаба... В этом невообразимом хаосе, среди дикой паники и обезумевших толп беглецов полки Старой Гвардии, построенные в каре, казались гранитными утесами, возвышающимися над бурлящим морем. Наполеон находился неподалеку от гренадерского батальона Белькура (2-й батальон 3-го гренадерского полка), которому было приказано двинуться вперед, чтобы прикрыть отступление остатков Средней Гвардии. Для этой же цели вперед и несколько левее двинулся 2-й батальон 1-го егерского полка под начальством Камбронна (командир батальона Ламуре); наконец, в контратаку были брошены дежурные гвардейские эскадроны. Однако, словно через прорванную плотину, хлынул поток, который уже ничто не могло остановить. Дежурные эскадроны были смяты, а выдвинутые вперед батальоны, на какое-то мгновение задержав продвижение врага, сами начали отступление вдоль Брюссельского шоссе. Было чуть больше восьми вечера...
На отходящие каре со всех сторон обрушились «черные» брауншвейгские гусары, кавалерийские бригады Вивиана и Ванделера; била картечью английская артиллерия. Несмотря на огромные потери, гвардейцы смыкали ряды и, перешагивая через трупы своих товарищей, продолжали свой марш, прокладывая дорогу штыками. Анри Уссе наглел очень точное определение для этого геройского отступления; он пишет, что гвардейские каре шли «как затравленный мощный зверь, отбивающийся от своры лающих и кусающих его гончих».
Особенно тяжело пришлось каре 2-го батальона 1-го егерского полка, во главе которого стоял генерал Камбронн. В разодранном мундире, весь черный от порохового дыма, генерал, не сходя с коня, командовал из центра батальона. Каре было последовательно атаковано то английской пехотой, то кавалерией, то обстреливалось артиллерией с короткой дистанции. Именно в этот момент произошел эпизод, ставший впоследствии известным всему миру: «английские генералы, проникнувшиеся восхищением к доблести этих храбрецов, решили предложить им сдаться... Генерал Камбронн произнес в ответ: "Гвардия умирает, но не сдается!.."»94. Эта цитата, взятая из «Газетт де Франс» от 24 июня 1815 г., представляет собой, скорее всего, не более чем легенду... Однако что же произошло на самом деле? Прервем на миг наше повествование для того, чтобы ответить на этот вопрос. Для большинства современных историков и литераторов, писавших о Ватерлоо, в этом отношении нет сомнений - Камбронн крикнул англичанам: «Дерьмо!» Однако подобно тому как заслуживающие уважения источники начала XIX в. не подтверждают версию «Газетт де Франс», они равным образом хранят молчание и относительно второго приведенного нами варианта ответа. Впервые такой ответ приписал Камбронну некто Жанти, представитель... парижской богемы во время дискуссии в 1830 г. в кафе «Деодан», очень модного в те времена у поэтов и художников «нонконформистов». Как легко может догадаться читатель, Жанти никогда не служил в 1-м егерском, да и ни в каком другом полку императорской армии, и знал о битве при Ватерлоо лишь понаслышке. Его слова никак не могут рассматриваться как заслуживающий внимание источник.
Однако версия Жанти понравилась богеме своим эпатажем - слово «дерьмо», звучащее почти что как ласкательное в устах современного парижского молодого художника, тогда казалось верхом непристойности. И вот уже это слово подхватил известный писатель Шарль Нодье, а вслед за ним и Виктор Гюго в своем бессмертном романе «Отверженные». Переходя из одного художественного произведения в другое, это слово стало казаться во второй половине XX в. единственно возможным ответом гвардейцев. На самом деле Камбронн впоследствии вообще отрицал, что он что-либо отвечал англичанам. С другой стороны, уже в эпоху Второй Империи ряд ветеранов, дравшихся под Ватерлоо в рядах Старой Гвардии, под присягой подтвердили, что они не только слышали, но и хором вместе с другими произносили: «Гвардия умирает, но не сдается!» Скорее всего Камбронн, а может быть, и другие офицеры и солдаты отвечали выкриками и проклятьями на неоднократные предложения англичан сдаться. Но все это тонуло в грохоте канонады, в треске ружейной пальбы, в воплях раненых и криках сражающихся. Кто и что кричал, никто не мог бы, наверное, толком вспомнить и час спустя. Сам Камбронн был ранен осколком гранаты в голову и упал с коня без сознания на груды трупов. Его подобрали англичане...
Камбронн был ранен около 20.30, очень скоро после этого его каре было почти полностью уничтожено, а его остатки присоединились к другим гвардейским частям.
Также героически, как егеря Камбронна, вели бой гренадеры Роге (2-й батальон 3-го полка, командир батальона - Белькур). Это каре отступало по направлению к Бель-Альянсу под непрерывными атаками пехоты Мэйтланда и Митчелла, английских легких драгун и Брауншвейгских улан. Несколько раз артиллерия била по гренадерам картечью с дистанции 200 шагов. Очевидец вспоминает, что когда до Бель- Альянса оставалось всего несколько туазов, кавалерия в очередной раз обрушилась на каре, уже превратившееся от тяжелых потерь в треугольник, каждая сторона которого была лишь тонкой линией. Солдаты понимали, что новой атаки они не смогут отразить, и тогда раздался крик «Мы не сдадимся!..» Этот крик подхватили все гренадеры: «Да, умрем здесь! Умрем здесь! Да здравствует Император!» Еще через несколько мгновений маленькое каре было раздавлено массой кавалерии. Большинство гренадер погибло, лишь некоторые, пользуясь темнотой, сумели прорваться из окружения мелкими группами 95.
Как видно из последнего описания, если Камбронн и не произнес своей знаменитой фразы, то вечером 18 июня 1815 г. она явно носилась в воздухе.
Каре Роге и Белькура погибло примерно между 20.3021 часами. Примерно в это же время окруженное английскими стрелками было разбито каре 1-го батальона 2-го гренадерского полка, которым командовали генерал Кристиани и командир батальона Мартено.
Последний из трех батальонов Старой Гвардии, оставленных в резерве атаки (2-й батальон 2-го егерского, командир батальона - Момпе), находился на месте, до темноты прикрывая отступление других частей. Затем батальон, сократившийся до горсти солдат, начал отступать и также был рассеян врагом. От всего батальона осталось не более 30 человек, которые сумели сохранить орла, переданного им генералом Камбронном.
Батальоны Пеле и Гользио, дравшиеся в Плансенуа, вырвались из деревни примерно около 20.30 вечера. От них также оставалась лишь горсть солдат и офицеров. Уже в сгущающихся сумерках они встретились с отступающими солдатами Момпе и в свою очередь приняли под защиту спасенного Орла. О том, с каким самозабвением дрались все гвардейцы, говорит тот факт, что уже сразу после боя генерал Пеле мог вспомнить о том, что происходило вокруг него, разве что с помощью своих подчиненных. «Баррик (лейтенант 2-го полка) рассказал мне, - записал он в своем "Журнале", - что я поцеловал Орла с самым сильным излиянием чувств и, подняв шляпу, воскликнул: "Друзья, умрем все вокруг него, но не отдадим врагу!" Когда мы оказались в каком-то углублении, которое артиллерия почти не на - крывала своим огнем, я сказал: "Ставь здесь своего Орла, Мартен (так звали орлоносца)", - а затем крикнул: "Ко мне, гвардейские егеря! Собирайтесь вокруг своего Орла и своего генерала!" Я собрал немало людей и держался довольно хорошо. Скоро стало ничего не видно в четырех шагах. В этот момент нас кто-то окружил.
Я думал, что это французские уланы, так, по крайней мере, мне сказали, но это оказался неприятель, и мы бросились на него в штыки. Мы также стреляли из ружей, хорошо или плохо... я не знаю» 96.
Итак, приблизительно в половине десятого вечера все гвардейские батальоны, которые участвовали в атаке на плато Мон-Сен-Жан или составляли ее резерв, были разбиты, равным образом как и те, что сражались в Плансенуа. От них оставались лишь отдельные группы солдат, которые, спасая полковые святыни, отходили, а скорее, прорывались к Брюссельскому шоссе в направлении фермы Кайу.
В сомкнутом строю оставались лишь два батальона 1-го гренадерского полка генерала Пети и 1-й батальон 1-го егерского полка (командир батальона- Дюринг). Последний, как уже указывалось, с утра охранял главную квартиру и казну армии. Вокруг в ночи, при свете горящих вдали деревень, бежали тысячи людей, скакали кавалеристы, обрубив постромки, уносились на упряжных лошадях ездовые артиллерии. Со всех сторон доносились вопли, выстрелы, проклятья, призывы и команды, которых уже никто не слышал. Обезумевшую от паники толпу рубили вражеские кавалеристы. Где-то грохотали прусские пушки, которые без разбора палили по своим и по чужим.,
Наполеон с несколькими генералами был в этот момент в центре каре 1-го гренадерского. Пети вспоминал: «По приказу Императора я отдал распоряжение барабанщикам бить "гренадерский бой". Солдаты Гвардии из разбитых полков присоединялись к моему каре, и в скором времени их оказалось столь много, что в каре вместо трех шеренг стало шесть. Император приказал отходить, и мы проделали это в идеальном порядке, двигаясь с частыми остановками, иногда я отдавал команду "На месте... Шагом марш!" - и солдаты исполняли ее, как на учебном плацу. Затем оба наших каре объединились на дороге. Мы перестроились в колонну. Враг шел за нами по пятам, но не осмеливался атаковать» 97.
Примерно так же действовал и егерский батальон Дюринга, который отходил в столь же образцовом порядке: «Я построил батальон в колонну подивизионно, - писал Дюринг, - на взводных дистанциях. Офицеры и солдаты всех полков хотели встать в ряды, но я никого не принимал, потому что тогда было бы невозможно сохранить порядок. Однако потом я разрешил вставать в наш строй солдатам Старой Гвардии, и вскоре мои дивизионы стали насчитывать каждый человек по 300*»98.
* Изначальная численность дивизиона (1/4 батальона в строю) в 1-м егерском была 150 человек. Следовательно, батальон увеличился количественно примерно вдвое и достиг, очевидно, 1200 человек.
На поле, усыпанное тысячами трупов, опустилась ночная тьма. Одна из самых драматических страниц Наполеоновской эпохи была перевернута.
Гвардия принесла в этом сражении страшную искупительную жертву. Ее привилегии, ее заносчивость, ее неучастие в битве при Фуэнтес д'Оньоро и при Бородине - за все это было сполна заплачено грудами трупов, оставшихся на плато Мон-Сен-Жан, на Брюссельском шоссе, в развалинах Плансенуа. Для того чтобы оценить урон, понесенный Гвардией при Ватерлоо, мы просмотрели в Архиве исторической службы французской армии в Венсеннском замке послужные списки всех солдат, служивших в гвардейских пехотных полках периода Ста дней (всего 17030 человек)99. К сожалению, против фамилий тех, кто остался на поле Ватерлоо, стоит чаще всего весьма неопределенная запись: «Считается военнопленным, 18 июня». Если принимать эти формулировки буквально, то окажется, что в этот день убитых и раненых в Гвардии... почти не было. Так, в 3-м егерском, понесшем самые тяжелые потери, вообще не отмечено ни одного убитого. Подобная «небрежность» писарей была связана с тем, что полки претерпели такие колоссальные потери, что невозможно было точно засвидетельствовать гибель того или иного солдата. Поэтому ответственные за послужные списки во всех случаях, когда у них не было полной уверенности, предпочли выбрать столь обтекаемую фразу, что за ней фактически могло стоять все что угодно. Таким образом, цифры, которые мы приведем в таблице на следующей странице, нужно рассматривать как суммарные потери: убитых, раненых, пленных и отставших (по тем или иным причинам к полку более не присоединившихся), наконец, как мы увидим ниже... убитых в плену(!). Рядом мы привели также цифры, характеризующие численность гвардейских полков на утро 16 июня 1815 г. (по боевому расписанию из Архива Венсеннского замка)100. Необходимо добавить при этом, что Молодая Гвардия, а также 3-й и 4-й гренадерские полки в битве при Линьи потеряли около 300 человек, поэтому внизу таблицы мы приводим суммарный процент потерь с учетом этой корректировки.
Эти цифры говорят сами за себя. Особенно бросается в глаза страшный урон, понесенный Средней Гвардией - ей досталась наиболее тяжелая участь. Относительно умеренные по масштабам битвы потери понес лишь 1-й гренадерский, который, как видно из описания боя, лишь отражал отдельные кавалерийские атаки в момент отступления. Однако искупительная жертва Гвардии не ограничилась потоками крови, пролитыми в день битвы.
После сражения, в Плансенуа «пруссаки утоляли свою ненависть на всех, кто носил униформу Императорской Гвардии, - рассказывает Ипполит де Модюи, - они не щадили наших несчастных товарищей, попавших к ним в плен или искалеченных сталью или свинцом... Какая же тут была резня!»101Та же жестокость именно по отношению к гвардейцам была проявлена англичанами. Французский историк Лашук в своей знаменитой работе «Наполеон и Императорская Гвардия» приводит письмо фурьера гвардейских гренадеров, которое он направил своему отцу из лагеря для военнопленных под Суассоном 26 июня 1815 г.: «Нас было около сорока человек, почти все из Гвардии. Мы переоделись в шинели линейных войск, потому что если бы узнали, что мы из Гвардии, нас расстреляли бы, как и тех четырехсот солдат, которых отделили от нашего отряда. Их отвели на полтора лье вперед, там им приказали сойти налево с дороги, и негодяи расстреляли этих несчастных солдат с пятнадцати шагов» 102.
В последнем эпизоде ожесточение бойцов, которое в последние годы Империи пришло на смену относительно сдержанным «классическим» войнам, переросло в политическую ненависть. В гвардейцах видели не просто французских солдат, а бонапартистов, людей лично преданных Наполеону, его верных сторонников... и англичане в общем не ошибались... Французские историки второй половины XIX в., и особенно, XX в. положительно писавшие об эпохе Империи, часто старались и стараются привести эту преданность в соответствие с либерально-буржуазными идеалами. Поэтому нередко в описаниях отваги и верности Старой Гвардии фигурируют такие понятия, как Отечество, свобода, достоинство нации и т. п. Почитав их, можно подумать, что гвардейцы отдавали жизнь за родину и чуть ли не за свободную рыночную экономику. Без сомнения, гвардейцы, как и солдаты периода Ста дней, пользовались выражениями, почерпнутыми из лексикона революционной Франции, но делалось это лишь с целью противопоставить наполеоновскую Францию Франции Бурбонов и союзным монархам. Главным мотивом героизма и самопожертвования Гвар - дии стала прежде всего их верность тому, кого они рассматривали как своего «царя», как воплощение идеального сюзерена - справедливого, мудрого и отважного. Себя же они видели как его «старшую дружину», как его «телохранителей».
Самым лучшим подтверждением этому является отношение к гвардейцам не только со стороны прусских солдат или английского командования, но и со стороны тихих благонамеренных и, конечно же, «патриотичных» французских буржуа. Когда 22 июня 1815 г. Император был вынужден отречься от престола вторично и уже окончательно, новое правительство немедленно приказало Императорской Гвардии отойти за рубеж реки Луара, и там, вдали от столицы, гвардейские полки должны были подвергнуться расформированию. 11-го сентября состоялась церемония расформирования 1-го полка пеших гренадер, в октябре-ноябре в Мулене, Бурже и Шартре, были расформированы конные полки Гвардии и т. д.
По дорогам Франции с ранцем за спиной пошли тысячи людей в истертых солдатских шинелях, возвращаясь в свой дом, если он еще где-то был, или хотя бы в город или деревню, где они родились. Денег у них почти не было — оставалось надеяться лишь на доброту обывателей, которые, как им, вероятно, казалось, должны были бы приютить и обогреть защитников Отечества. Но их выталкивали на улицу, отказывались обслуживать в придорожной таверне. «Луарские бандиты», - произносили благопристойные буржуа, показывая пальцем на усталых голодных солдат. Их проклинали, им плевали вслед.
Численность и потери гвардейских пехотных полков в битве при Ватерлоо
| Полки | Численность гвардейских пехотных полков 16 июня 1815 г. | Потери гвардейских пехотных полков в битве при Ватерлоо и последующем за ней отступлении (18-19 июня 1815 г.) | |||||
| офицеров | рядовых | всего | офицеры (по Мартиньяну) | рядовые и унтер-офицеры | всего | % к общей численности | |
| 1-й гренадерский | 41 | 1239 | 1280 | 12 | 145 | 157 | 12,3 |
| 2-й гренадерский | 36 | 1055 | 1091 | 16 | 314 | 330 | 30,2 |
| 3-й гренадерский | 34 | 1130 | 1164 | 16 | 657 | 673 | 57,8 |
| 4-й гренадерский | 27 | 493 | 520 | 17 | 219 | 236 | 45,4 |
| 1-й егерский | 36 | 1271 | 1307 | 7 | 323 | 330 | 25,2 |
| 2-й егерский | 32 | 1131 | 1163 | 11 | 282 | 293 | 24,2 |
| 3-й егерский | 34 | 1028 | 1062 | 25 | 1123* | 1163 | 54,5 |
| 4-й егерский | 30 | 1041 | 1071 | 15 | |||
| 1-й тиральерский | 26 | 1083 | 1109 | 6 | 660 | 666 | 60,0 |
| 3-й тиральерский | 28 | 960 | 988 | 8 | 290 | 298 | 30,2 |
| 1-й вольтижерский | 31 | 1188 | 1219 | 10 | 200 | 210 | 17,2 |
| 3-й вольтижерский | 32 | 935 | 967 | 9 | 393 | 402 | 41,6 |
| Итого: | 387 | 12554 | 12941 | 152 | 4595 | 4747 | 36,7 |
| С учетом потерь | -12600 | 37,7 % | |||||
* В связи с тем что значительная часть егерей Средней Гвардии была переведена из одного полка в другой без фиксации этого факта в послужном списке, можно вывести только суммарные потери по 3-му и 4-му егерским полкам.
«Бандиты Наполеона,
Мы наденем вам всем петлю на шею
И вздернем всех до одного...»
- распевали в Каоре, неподалеку от Бержерака почтенные отцы семейств, пока их песня не была прервана ударами кулаков гренадеров, сидевших в том же зале 103.
Разумеется, правительство Бурбонов не осталось в стороне от травли Императорской Гвардии и всячески инициировало и