Читать онлайн Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век бесплатно
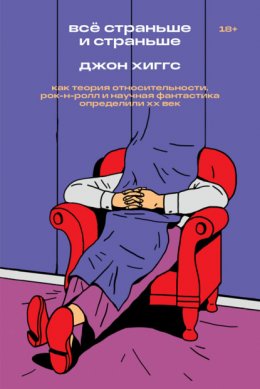
John Higgs
Stranger Than We Can Imagine. Making Sense of the Twentieth Century
© 2015 by John Higgs
© Николай Мезин, перевод, 2022
© Андрей Касай, обложка, 2021
© ООО «Индивидуум Принт», 2022
* * *
Для Лии – неожиданного сюжетного поворота после титров двадцатого века, и Айзека – увлекательного вступления перед двадцать первым.
Посвящается Нику, Эбби и Сету
Нам нужно было делать то, что хотелось.
– Кит Ричардс
Введение
В 2010 году в лондонской галерее Тейт Модерн проходила выставка Поля Гогена, французского художника-постимпрессиониста. Посетитель на несколько часов погружался в гогеновские образы романтических островов южного Тихого океана, вдохновленные Таити конца XIX столетия. Это мир ярких красок и беззастенчивой сексуальности. Вселенная Гогена не знает разницы между человеком, божеством и природой, и с этой выставки зритель как бы выносил постижение Рая.
Но в следующем зале посетителей ждало искусство XX века. И никто не готовил их к тому, сколь жестоким будет переход из одного мира в другой.
Там висели работы Пикассо, Дали, Эрнста[1] и многих других. В голову сразу приходил вопрос, не случилось ли чего с освещением – но нет, холодной комнату делали сами картины. В палитре преобладали коричневый, серый, синий и черный. Изредка вспыхивал ярко-красный, но и тот не добавлял уюта. За исключением одного позднего портрета Пикассо, нигде не было ни желтого, ни зеленого.
Неземные пейзажи, невообразимые конструкции, ночные кошмары. Редкие образы людей – абстрактны, упрощены и оторваны от живой природы. Столь же недружелюбны скульптуры. Вот, например, «Подарок» («Le Cadeaux») Мана Рэя[2] – скульптура, изображающая утюг с торчащими из его подошвы гвоздями, готовыми изорвать в клочья любую ткань, которую вы решитесь им гладить. Для сознания, настроенного на образы Гогена, воспринимать все это – не самая приятная задача. В этом зале нет сопереживания. Вы ступили на территорию абстракции, теории и концептов. Резкий скачок от искусства, обращенного в душу, к искусству, нацеленному исключительно в мозг, может быть травматичен.
Гоген творил до самой смерти в 1903 году, и было бы, кажется, логично ожидать более плавного перехода между залами. Спору нет, его живопись не назвать типичной для своего времени и признание он получил лишь посмертно, но столь ошеломительный контраст не дает отмахнуться от самого главного вопроса: что за чертовщина случилась в начале XX века с человеческой психикой? Тейт Модерн – подходящее место для таких вопросов, ведь она своего рода святилище XX века. Значение слова «модерн» в искусствоведении навсегда закреплено за этим периодом истории. Поэтому популярность галереи высвечивает и наше очарование теми годами, и стремление их понять.
Две выставки разделял аванзал. Главным экспонатом в нем был пейзаж: промышленный город XIX века, нарисованный греко-итальянским художником Яннисом Кунеллисом прямо на стене углем. Рисунок упрощенный, людей на картине нет. А чуть выше, прибитые стрелами к стене, висели мертвые птицы – галка и ворона. Не знаю, что хотел сказать автор, но для меня эта комната послужила своего рода предупреждением о том, что меня ожидало в следующем зале. Со стороны Тейт было бы человечнее предназначить это помещение для галерейной декомпрессии, чтобы защитить посетителей от «кессонной болезни» визуального восприятия.
Сопроводительный текст пояснял, что мертвые птицы «символизируют смертельную агонию свободы воображения». Но в контексте перехода от Гогена к искусству XX века более подходящей кажется другая интерпретация. Если что-то и умерло над этим промышленным городом XIX столетия, то уж точно не свобода воображения. Напротив, это чудовище вот-вот возникнет из преисподней.
Недавно, покупая подарки к Рождеству, я зашел в местный магазин за книжкой Люси Уорсли, любимого историка мой дочери-школьницы. Если вам повезло иметь дочь-школьницу, у которой есть любимый историк, вы особо не раздумываете, стоит ли поощрять это увлечение.
Исторический отдел я нашел в дальнем углу на пятом, последнем, этаже: будто история – это рассказ о чокнутых предках, которых нужно прятать на чердаке, как персонажей «Джейн Эйр». Нужной мне книги в магазине не оказалось, так что я достал телефон, собираясь купить ее онлайн. Закрыл новостное приложение, ткнул не ту иконку и нечаянно запустил видео – речь президента Обамы, произнесенную несколькими часами ранее. Дело было в декабре 2014 года, и президент говорил о том, нужно ли считать актом войны хакерскую атаку на Sony Entertainment, в которой он обвинил Северную Корею.
В жизни порой случаются моменты, когда замечаешь, какой странной может быть жизнь в XXI веке. Вот я, в Брайтоне, в Англии, держу в руках тонкую пластинку из стекла и металла, сделанную в Южной Корее, прошитую американским софтом, которая показывает мне, как президент США угрожает верховному лидеру Северной Кореи. Я внезапно понимаю, сколь непохожим было начало XXI столетия на все былые эпохи. Какие детали этой сцены показались бы самыми невероятными в конце прошлого века? Существование устройства, которое позволяет мне за рождественским шопингом увидеть президента Соединенных Штатов? Определение войны, изменившееся настолько, что оно стало включать в себя неудобства, доставленные директорам компании Sony? Или то, что другие покупатели так легко простили мне нечаянную трансляцию?
В тот момент я стоял возле полок с историей XX века. Меня окружали прекрасные книги, толстые тома, подробно рассказывающие об эпохе, знакомой нам лучше всех других. Эти книги – вроде дорожной карты, содержащей все детали путешествия, которое мы проделали, чтобы оказаться в нынешнем мире. Они подробно описывают великие геополитические сдвиги: Первая мировая война, Великая депрессия, Вторая мировая война, век Америки, падение Берлинской стены. Но повествование почему-то не приводит нас к тому миру, где мы теперь существуем, подвешенные в паутине непрерывной слежки и гиперконкуренции, дрейфующие в океане фактов и небывалых возможностей.
Представьте себе XX век в виде расстилающегося перед вами пейзажа. Горы, реки, леса и долины – все это исторические события. Проблема не в том, что эта эпоха от нас скрыта, а в том, что мы помним ее слишком хорошо. Мы все знаем, что в этом пейзаже есть горы Перл-Харбор, Титаник или Апартеид. Знаем, что в центре лежит пустыня Фашизма и неопределенности холодной войны. Мы знаем, что здесь живут жестокие, отчаянные и запуганные люди, и знаем, почему они такие. Эти земли подробно картографированы, описаны, каталогизированы. Лавина информации.
Каждая книга передо мной прокладывает свой маршрут по этой земле, но эти пути не так разнятся между собой, как кажется на первый взгляд. Многие из них написаны политиками, политическими журналистами или политически ангажированными авторами. В их представлении именно политики определили характер тех тревожных лет, и все эти авторы следуют маршрутом именно такого толкования событий. Другие выбирают ориентиры из науки и техники или искусства той эпохи. Их книги, пожалуй, полезнее, но могут показаться абстрактными и оторванными от человеческих судеб. И при всей разнице этих маршрутов они сходятся на широких торных дорогах.
Прокладывать новую тропу сквозь эти земли страшно. Путешествие через XX век представляется нам великой эпопеей. Отважные первопроходцы, высаживающиеся на этот берег, первым делом должны схватиться с тремя великанами, которых мы привыкли называть лишь по фамилиям: Эйнштейн, Фрейд и Джойс. Им предстоит путь через лес квантовой неопределенности и замок концептуального искусства. Путешественникам стоит опасаться горгон Жана-Поля Сартра и Айн Рэнд, чей взгляд обращает в камень – если не физически, то эмоционально. Им придется ломать голову над загадками сфинксов Карла Юнга и Тимоти Лири. И вот тут начинается самое сложное. Последний вызов – пробраться через болото постмодернизма. Если честно, прогулка не из приятных.
Из тех смельчаков, что занялись XX веком, лишь единицы смогли не увязнуть в постмодернизме и выйти на другой берег. Большинство сдались и вернулись на базу. В мир, каким его понимали в конце XIX столетия, на ту сторону рубежа, на безопасную территорию. Великие открытия того времени понятны, мы легко объясняем новации вроде электричества или демократии. Но не стоит ли нам сменить дислокацию? Через оптику XIX века XXI кажется абсолютно бессмысленным.
На карте XX столетия темнеют пятна дремучих лесов. Протоптанные дороги обычно идут в обход, ненадолго ныряя туда и торопливо устремляясь прочь, словно в страхе заблудиться. Эти леса – относительность, кубизм, битва при Сомме[3], квантовая механика, ид[4], экзистенциализм, Сталин, психоделика, теория хаоса и изменение климата. На первый взгляд они кажутся непролазными, но чем больше в них углубляешься, тем интереснее становится. Каждый из этих лесов вызывал столь радикальные перемены, что человечеству приходилось полностью пересматривать существовавшую картину мира. Раньше они нас пугали, но теперь это не так. Теперь мы граждане XXI века. Вчерашнее осталось позади. Мы на пороге завтрашнего. И нам по силам даже самые темные чащи XX столетия.
Поэтому план таков: мы совершим путешествие по XX веку, но не пойдем торными дорогами, а двинем прямо в дремучие леса за сокровищами. Мы понимаем, что границы столетия условны. Историки говорят о «долгом девятнадцатом» (1789–1914) и «коротком двадцатом» (1914–1991) веке, поскольку у этих периодов есть четкие границы. Но для наших целей вполне сгодится и календарный век, потому что мы начнем с того места, где реальность утратила смысл, и закончим там, где мы сейчас.
Чтобы пройти этот путь до конца, придется от чего-то отказываться. Рассказ о XX веке мог бы охватывать миллионы тем, но далеко мы не продвинемся, если будем по воле ностальгии зацикливаться на любимых. За каждой находкой, которая нас ждет, – море литературы и нескончаемые споры, но мы без сожалений обойдем их, чтобы не погрязнуть навечно. Это экспедиция, а не круиз. Мы беремся за дело не как историки, а как любопытные путешественники или первопроходцы с четкой целью, и потому, отправляясь в путь, мы ясно понимаем, на что будем обращать внимание.
Наш план – изучить то, что было воистину ново, неожиданно и революционно. Последствия нам не так важны; просто примите как данность, что каждый пункт путешествия вызывал в свое время скандалы, гнев и яростное неприятие. Эти последствия – важная глава истории, но, всматриваясь в них, можно не разглядеть проступающую тенденцию. Мы же будем изучать направление, которое указывали эти новые идеи. А направление это более или менее общее.
У каждого поколения есть момент, когда память превращается в историю. XX век отступает вдаль и обретает новые очертания. События тех лет уже кажутся историческими, пришло время подвести итоги.
Итак, перед вами – новая дорога через XX век. Ее назначение – то же, что у любой другой. Она приведет нас туда, куда мы идем.
Глава 1. Относительность. Уничтожение омфала
15 февраля 1894 года французский анархист Марсьяль Бурден покинул свою съемную комнату на лондонской Фицрой-стрит, захватив с собой самодельную бомбу и приличную сумму денег. День был сухой и ясный. У Вестминстера Бурден сел в открытый конный трамвай и отправился на другой берег Темзы, в Гринвич.
Сойдя с трамвая, он зашагал к королевской обсерватории. Бомба сработала до срока, пока анархист шел по Гринвичскому парку. Обсерватория не пострадала, а Бурдену взрывом оторвало левую руку и разнесло живот. Раненого обнаружили школьники; не в силах подняться с земли, он растерянно просил отвести его домой. Кровь и останки позже нашли в пятидесяти с лишним метрах от места взрыва. Через полчаса Бурден умер, не оставив никаких объяснений своего поступка.
Об этом событии польский писатель Джозеф Конрад позднее написал роман «Тайный агент» (1907). Конрад резюмировал общее изумление поступком Марсьяля, описав его акцию как «кровавую нелепость столь вздорного характера, что невозможно было никаким разумным и даже неразумным ходом мысли доискаться до ее причины […] оставалось только принять факт: человек разлетелся на куски просто так, а вовсе не за что-то, пусть даже отдаленно напоминающее идею – анархистскую или какую угодно другую»[5].
Но Конрада озадачили не политические воззрения Бурдена. Значение термина «анархизм» за последние сто лет изменилось, и сегодня его обычно понимают как полное отсутствие законов, когда всякий волен делать что хочет. В эпоху Бурдена целью анархистов скорее было непринятие государственных институтов, чем безграничная свобода личности. Анархисты XIX века не провозглашали права на тотальную свободу, но требовали свободы от тотального контроля. Они не признавали, как гласил один из их лозунгов, «ни богов, ни господ». С точки зрения христианского вероучения анархисты впадали в грех гордыни. Главный грех Люцифера и причина, по которой он был низвергнут с небес, – Non serviam, «Не буду служить».
Замысел взорвать бомбу Конрада тоже не удивлял. Случай Бурдена пришелся на середину лихого тридцатилетия анархистов-бомбистов, начавшегося в 1881 году убийством русского царя Александра II и продолжившегося до Первой мировой войны. Предпосылками бомбизма стали легкая доступность динамита и родившееся в анархизме понятие «пропаганда действием», предполагавшее, что индивидуальные акты террора ценны сами по себе, поскольку вдохновляют новых борцов. Таких, к примеру, как анархист Леон Чолгош – в сентябре 1901 года он застрелил президента США Уильяма Маккинли.
Нет, Конрад не мог понять другого: если ты анархист, разгуливающий по Лондону с бомбой, зачем тебе ехать в королевскую обсерваторию? Чем эта цель привлекательнее Букингемского дворца или Парламента? Оба здания располагались ближе к дому Бурдена, они важнее обсерватории, они символизируют собой власть государства. Почему выбор пал не на них? Похоже, Бурден видел в королевской обсерватории какой-то символ, уничтожить который он был готов любой ценой.
В событиях и текстах, вдохновленных историей Бурдена, объекту его атаки почти не уделяют внимания. Взрыв в Гринвичском парке художественно осмыслил Конрад, книгой которого вдохновлялся американский террорист Тед Качински, более известный как Унабомбер. Альфред Хичкок написал на основе этого случая сценарий картины «Диверсия» (1936), но в его осовремененном сюжете террорист едет по Лондону на автобусе. У Хичкока бомба срабатывает, когда автобус едет по Стрэнду[6]: пугающее предсказание реального события, произошедшего спустя шестьдесят лет, когда боевик ИРА по ошибке взорвал себя в автобусе, выезжавшем на Стрэнд.
Но если Конрада маршрут Бурдена приводил в недоумение, это не значит, что сам анархист плохо понимал, куда идет. Как скажет позже Уильям Гибсон, американский писатель-фантаст: «Будущее уже здесь. Просто оно еще неравномерно распределено». Идеи распределяются неравномерно и двигаются с непредсказуемой скоростью. Как знать, не разглядел ли Марсьяль Бурден проблески какой-то идеи, вовсе не видимой Конраду. С началом XX столетия его логика начала понемногу проясняться.
Земля несется по небесам. А на ее поверхности джентльмены сверяют свои карманные часы.
Это произошло 31 декабря 1900 года. Земля завершила оборот вокруг Солнца, а минутная стрелка обежала круг по циферблату. Обе стрелки указали на двенадцать, и это означало, что планета, совершив путь в тысячи километров, достигла нужной точки на своем ежегодном маршруте. В этот миг началось XX столетие.
В античной истории есть понятие омфала. Омфал – это центр мира, или, точнее, место, где культура установила этот центр. В религиозном смысле омфал считался связующей нитью между землей и небесами. Его называли пуповиной мира или axis mundi — мировой осью, а физической его репрезентацией чаще всего были столб или камень.
Омфал – универсальный символ, присущий практически всем культурам, только помещавшийся в разных местах. Для древних японцев это была гора Фудзи. Для индейцев сиу – Блэк-Хилс[7]. В греческой мифологии Зевс послал на поиски центра вселенной двух орлов. Они столкнулись над городом Дельфы, обозначив тем самым место для греческого омфала. У римлян омфалом служил сам Рим, в который вели все дороги, а позже на географических картах христиан центром мира стал Иерусалим.
В новогоднюю ночь 1900 года всемирным омфалом была Гринвичская королевская обсерватория на юге Лондона.
Обсерватория – изящное здание, заложенное при Карле II в 1675 году и спроектированное сэром Кристофером Реном. В 1900 году линия, проведенная через это здание с юга на север, служила началом отсчета при измерении мира. Об этом стандарте шестнадцатью годами раньше договорились представители двадцати пяти стран на конференции в Вашингтоне, голосованием утвердив Гринвич как место с нулевой долготой. Против голосовал Сан-Доминго, воздержались Франция и Бразилия, но конференция была скорее формальностью, поскольку 72 % судоводителей в мире уже пользовались картами, где нулевой меридиан проходил через Гринвич, а в США установили систему поясного времени с отсчетом от Гринвича.
Гринвич стал центром мира, престолом науки, утвержденным королями. Оттуда открывался вид на Лондон, столицу величайшей империи всех времен. XX век начался лишь в тот момент, когда его объявили часы обсерватории, потому что время на них выставлялось по положению звезд точно над крышей. Новый, научный, омфал тоже служил связующей нитью между землей и небом.
Если вы приедете в обсерваторию после наступления сумерек, нулевой меридиан предстанет вам в виде направленного в небо зеленого лазерного луча, прямого и неподвижного. Он бьет из здания обсерватории и точно совпадает с линией нулевой долготы. В 1900 году лазера, конечно же, не было. Линия была мнимой, мысленно спроецированной на физический мир. От нее сеть таких же линий-меридианов уходила на запад и восток, вокруг Земли, пока не сходилась на ее противоположной стороне. На нее накладывалась другая сеть – географических широт, «натянутая» от экватора к северному и южному полюсам. Получившаяся мнимая паутина образовала универсальную систему счисления времени и определения местоположения, которая позволила соотнести все места и предметы на Земле.
В новогоднюю ночь 1901 года люди в разных городах и странах высыпали на улицы, чтобы приветствовать наступление нового века. Спустя почти столетие торжества по случаю прихода нового тысячелетия состоятся перед наступлением 2000-го, а не 2001-го. Строго говоря, на год раньше срока, но это мало кого волновало. Сколько бы ни объясняли ученые из Гринвичской обсерватории, что новое тысячелетие начнется только 1 января 2001 года, этих буквоедов никто не стал слушать. Однако в начале XX века обсерватория пользовалась авторитетом, и мир жил по ее календарю. Гринвич был важным местом. Так что присутствовавшие там представители викторианского общества с особым удовлетворением поглядывали на часы, дожидаясь той самой минуты, когда родится новый век.
На первый взгляд, он обещал быть разумным и понятным. Викторианское восприятие мира покоилось на четырех столпах: монархия, церковь, империя и Ньютон.
Эти столпы казались незыблемыми. Через несколько лет Британская империя будет охватывать четверть мировой суши. Несмотря на унизительное поражение в Первой англо-бурской войне[8], мало кто понимал, насколько пошатнулась империя, и почти никто не осознавал, как скоро она рухнет. Столь же прочным, при всех успехах науки, казалось и положение церкви. Дарвин и открытия в геологии как будто посягали на авторитет Библии, но общество находило невежливым слишком уж вдаваться в эти материи. Законы Ньютона были всесторонне проверены, и закрепленная в них упорядоченная механика Вселенной казалась непреложной. Да, были еще кое-какие загадки, над которыми ученые ломали головы. Например, наблюдения показали, что орбита Меркурия несколько отличается от расчетной. И оставался вопрос эфира.
Эфир был гипотетическим веществом, которое считали тканью вселенной. Широко признавалось, что эфир должен существовать. Физические опыты раз за разом показывали, что свет распространяется волнами. Но световой волне, чтобы двигаться, нужна среда, как океанским волнам – вода, а акустическим – воздух. Световые волны, летящие от Солнца к Земле, должны сквозь что-то проходить, и этой средой назначили эфир. Беда была в том, что эксперименты, которые ставились, чтобы доказать его существование, раз за разом ничего не подтверждали. Однако ученые не видели в этом проблемы. Просто нужно работать дальше и ставить более тонкие опыты. Открытия эфира ожидали примерно так же, как «поимки» бозона Хиггса до появления ЦЕРНовского Большого адронного коллайдера. Наука утверждала, что он должен существовать, поэтому приходилось организовывать все более и более дорогостоящие эксперименты, чтобы найти наконец этому доказательства.
На заре нового века ученые были полны уверенности. Они располагали стройной системой знаний, которую не поколеблют никакие дополнения и уточнения. Как, по легенде, заметил в лекции 1900 года лорд Кельвин: «В физике больше нельзя открыть ничего нового. Дальше просто будет расти точность измерений». Это был довольно распространенный взгляд. «Все самые важные фундаментальные законы и факты физического мира уже открыты, – писал в 1903 году немецко-американский физик Альберт Майкельсон, – и они сегодня столь прочно установлены, что вероятность их отмены вследствие каких-то новых открытий выглядит абсолютно эфемерной». Говорят, астроном Саймон Ньюком объявил в 1888 году, что человечество, «вероятно, приблизилось к пределу того, что можно узнать в астрономии».
Один из преподавателей великого немецкого физика Макса Планка, носивший прекрасное имя Филипп Жолли[9], советовал ему бросить физику, потому что «почти всё уже открыто и остается только заполнить несколько малозначительных пробелов». Планк ответил, что не стремится открывать новое, а хочет лучше понять основы своей науки. Возможно, он не слышал старой поговорки о том, что рассмешить Бога можно, рассказав ему о своих планах, и стал в итоге родоначальником квантовой физики.
Конечно, каких-то открытий ученые все-таки ожидали. Работы Максвелла в области электромагнетизма наталкивали на мысль, что на обоих концах спектра электромагнитного излучения должны обнаружиться новые формы энергии, но эти энергии, как предполагалось, будут подчиняться уже известным формулам. Периодическая таблица Менделеева подсказывала, что где-то в природе должны быть новые формы материи, которые надо найти и назвать, но она же предполагала, что эти новые вещества точно встанут в ее ячейки и будут подчиняться общему порядку. И микробная теория Пастера, и дарвиновская теория эволюции указывали на существование еще не известных форм жизни, но были готовы классифицировать их, когда те будут обнаружены. Иными словами, считалось, что предстоящие научные открытия будут значительны, но не удивительны. И научное знание в XX веке останется таким же, как в XIX, только увеличится в объеме.
Между 1895 и 1901 годами Герберт Уэллс написал несколько книг, в том числе «Машину времени», «Войну миров», «Человека-невидимку» и «Первых людей на Луне». Так он заложил основы научной фантастики, нового жанра размышлений о будущих технологиях, который придется по сердцу XX столетию. В 1901 году Уэллс написал «Прозрения: Опыт пророчества» – серию статей, в которых он попытался предсказать ближайшее будущее и закрепить за собой репутацию главного футуролога своего времени. Взирая на эти статьи из нашего времени и закрывая глаза на откровенный расизм некоторых фрагментов, мы видим, что Уэллс оказался весьма успешным прогнозистом. Он предсказал механические летательные аппараты и сражения в воздухе. Он предвидел машины и поезда, ежедневно перемещающие людей, заселивших пригороды. Предрек фашистские диктатуры, мировую войну около 1940 года и Европейский союз. Он даже предвидел сексуальное раскрепощение мужчин и женщин – этот прогноз он сам старательно подтверждал, постоянно вступая во внебрачные связи.
Но кое-чего Уэллс просто не мог предвидеть: относительность, ядерное оружие, квантовую механику, микросхемы, черные дыры, постмодернизм и многое другое. Не столько непредвиденные, сколько непредвидимые в принципе. Предсказания писателя во многом сходились с ожиданиями ученых: он тоже отталкивался от уже известных фактов. Вселенная же, по словам, которые приписывают английскому астрофизику сэру Артуру Эддингтону, оказалась не просто «страннее, чем мы себе представляем, она страннее, чем мы можем представить»[10].
Этим непредвидимым открытиям предстояло случиться не в Гринвиче и не в Британии, где аристократов вполне устраивала существующая картина мира. И не в Соединенных Штатах – по крайней мере, начались они не там, хотя открытие примерно в то же время залежей нефти в Техасе оказало мощное воздействие на мировую историю. На заре XX века настоящие революционные идеи зарождались в кафе, университетах и журналах Германии и немецкоговорящих Швейцарии и Австрии.
Если бы нам пришлось выбрать один город как место рождения XX века, первым кандидатом стал бы Цюрих – старинный городок на берегах реки Лиммат, на северных склонах швейцарских Альп. В 1900 году Цюрих процветал: улицы, обсаженные деревьями, здания, одновременно изящные и величественные. Именно тут, в цюрихском Политехникуме, двадцатиоднолетний Альберт Эйнштейн и его подруга Милева Марич стали худшими студентами своего курса.
Начало пути Эйнштейна не сулило ему блестящего будущего. Он был вольнодумцем и бунтарем, который успел отказаться как от своего иудейского вероисповедания, так и от германского гражданства. Шестью месяцами раньше, в июле 1899 года, во время неудачного физического опыта Альберту повредило взрывом правую руку, и ему пришлось на время оставить любимую скрипку. Его вольнолюбивый характер приводил к конфликтам с академическим начальством и не позволил занять ученую должность, когда он наконец получил диплом. Вряд ли кто подумал бы, что научный мир когда-нибудь заметит этого молодого бузотера и упрямца.
Биографы спорят о том, какую роль в ранних достижениях Эйнштейна сыграла Милева Марич, на которой он в 1903 году женился. Марич не относилась к тому типу женщин, который в начале XX века пользовался одобрением общества. Она стала одной из первых в Европе студенток, изучавших математику и физику. Немало толков вызывало ее славянское происхождение и ее хромота. Эйнштейн, однако, чихать хотел на глупые предрассудки своего века. В Милеве он чувствовал неистовство, увлекавшее его. Как свидетельствуют многочисленные письма Эйнштейна, Марич была его «ведьмочкой» и его «сорванцом-дикаркой»; по крайней мере, несколько лет этим двоим не нужен был никто другой.
Марич верила в Эйнштейна. Гению ученого, как дару художника, порой нужна муза. Чтобы лишь помыслить о том, что предстояло совершить Эйнштейну, нужна редкая даже для юности самоуверенность. С любовью Милевы, что поддерживала его веру в себя, и с интеллектуальной свободой, которой он не знал бы, если бы остался работать в академической среде, Альберт Эйнштейн перевернул наше понимание Вселенной.
«Так чем ты занимаешься, – писал Эйнштейн своему другу Конраду Хабихту в мае 1905 года, – мороженый ты кит, копченая ты душа? Между нами повисло такое гробовое молчание, что я уж стал подозревать, не сболтнул ли в пустом трепе какого кощунства…»
Далее в «пустом трепе» Эйнштейн между делом упомянул четыре научные статьи, над которыми работал. Любая из них могла бы составить основу блестящей научной карьеры. Почти невероятно, что Эйнштейн завершил все четыре в столь короткое время. Историки физики привыкли говорить о 1905 годе как о «чудесном годе Эйнштейна». А слово «чудесный» далеко не самое обычное в лексиконе ученых.
В своих работах 1905 года Эйнштейн возвращается к открытиям Ньютона, сделанным в 1666 году, когда из-за чумы закрылся Кембриджский университет и ученый вернулся в материнский дом в пригороде Линкольншира. Время в деревне Ньютон проводил за разработкой математического анализа, теории цвета и законов всемирного тяготения, которыми обессмертил себя как величайшего ученого в истории Великобритании. Достижения Эйнштейна впечатляют еще больше, если учесть, что он не прогуливался по яблоневому саду, а целый день проводил в офисе. Он был служащим бернского патентного бюро, поскольку не смог получить академическую работу. И свои четыре статьи он написал, как ни удивительно, в свободное время.
«Первая [из задуманных статей] – о радиации и энергии света, и она по-настоящему революционна», – писал Эйнштейн. И он не преувеличивал. В этой статье он доказывал, что свет состоит из отдельных частиц – сегодня мы называем их фотонами, – а эфира не существует. Как мы увидим далее, этой статьей Эйнштейн невольно заложил основы квантовой физики и столь странной и контринтуитивной модели Вселенной, что и самому ему пришлось большую часть жизни разбираться с последствиями.
«Вторая статья – об оценке истинных размеров атома». Это была наименее противоречивая из четырех работ: полезная физика, не переворачивающая никаких установленных истин. Она принесла Эйнштейну докторскую степень. В третьей статье Эйнштейн путем статистического анализа взвешенных частиц, движущихся в воде, непреложно доказывал существование атомов, которое широко признавалось, но до тех пор не было убедительно продемонстрировано.
Важнейшее из открытий Эйнштейна стало итогом его размышлений о кажущемся противоречии между двумя физическими законами. «Четвертая статья – пока еще сырой черновик, она об электродинамике движущихся тел, несколько меняющей теорию времени и пространства», – писал Эйнштейн. Эти размышления станут в итоге специальной теорией относительности. Вместе с более широкой общей теорией относительности, которую Эйнштейн разработает через десять лет, она опрокинет уютный стройный космос, описанный Ньютоном.
Относительность показала, что мы живем в сложном и странном мире, где время и пространство не постоянны, а могут растягиваться под влиянием массы и движения. Это ир черных дыр и искривленного пространства-времени, имеющий вроде бы мало общего с той повседневной реальностью, в которой существуем мы. Относительность нередко описывают так, что ее суть кажется непостижимой, но ее главную, основополагающую идею можно передать и понять на удивление легко.
Представьте себе самый далекий, темный и пустой участок космоса, какой только есть, – вдали от звезд, планет и любого внешнего влияния. Теперь представьте, что вы парите в этой полной пустоте, от которой вас защищает теплый и уютный скафандр. Важно, чтобы вы представили себя висящим неподвижно.
Затем представьте, как мимо вас медленно проплывает, исчезая вдали, чашка чая.
Вроде бы вполне возможная ситуация. Первый закон Ньютона гласит, что тело, на которое не действует никакая внешняя сила, остается в покое или движется по прямой с постоянной скоростью. Кажется, он идеально описывает происходящее и с вами, и с чашкой.
Но как понять, что вы находитесь в покое, спросил бы Эйнштейн. Откуда мы знаем, что не чашка стоит на месте и не вы пролетаете мимо нее? С вашей точки зрения оба сценария будут выглядеть одинаково. И ровно так же одинаково – с точки зрения чашки.
В 1630-х годах Галилею говорили: невозможно, чтобы Земля вращалась вокруг Солнца, потому что люди на Земле не чувствуют движения. Но Галилей знал, что если движешься ровно, без ускорения или замедления, и нет никаких визуальных или акустических показателей движения, то понять, что ты движешься, невозможно. Никто не может быть уверен, что «неподвижен», утверждал Галилей, поскольку разница между движением и покоем незаметна без тех или иных внешних ориентиров, с которыми можно сравнить свое положение.
Это может показаться каким-то софизмом. Разумеется, можете подумать вы, объект или движется, или неподвижен, даже если рядом нет ничего. Для кого утверждение «Я стою на месте» может выглядеть абсурдом или бессмыслицей?
В школе нас учат определять положение объектов с помощью системы координат, показывающей удаление предмета от некой фиксированной точки по высоте, длине и глубине. Эти измерения называются осями x, y и z, а фиксированную точку обычно помечают буквой O, от слова origin (начало). Это тоже омфал, от которого отмеряются все расстояния. Эта модель именуется декартовой системой координат. В ней вы легко поймете, движутся ли астронавт и чашка чая, просто отследив, меняются ли со временем значения их координат.
Но если бы вы показали такой чертеж Эйнштейну, он взял бы ластик и первым делом стер «О», а потом уж заодно и все три оси.
Этим он убрал бы не «пространство», а только систему ориентиров, которой мы пользовались, чтобы это пространство измерить. И он сделал бы так потому, что в реальном мире этой системы координат нет. Декартовы оси – такое же творение человеческого ума, как и разбегающиеся от Гринвича линии долготы, и мы проецируем эти модели на мироздание, чтобы как-то его описать. Эти сущности мнимы. Более того, они произвольны. Центр такой системы координат можно расположить где угодно.
Инстинктивно мы чувствуем, что движение астронавта или чашки должно замечаться на каком-то определенном «фоне». Но если это так, что может выполнять его функцию?
В нашей повседневной жизни твердая почва под ногами служит нам ориентиром, к которому мы неосознанно привязываем всё. Существование такой понятной и незыблемой отправной точки мешает нам представить ситуацию, когда ничего подобного нет. Но насколько незыблема земля? Теория тектонических плит, получившая признание в 1960-х, научила нас, что континенты медленно дрейфуют. Так что, если мы ищем неподвижную точку, под ногами ее не найти.
Может быть, сориентируемся по точке в центре нашей планеты? Она тоже не статична, потому что Земля летит вокруг Солнца со скоростью более 100 000 километров в час. Тогда, может, зацепимся за Солнце? Оно мчит со скоростью 220 километров в секунду вокруг центра нашей Галактики. Галактика, в свою очередь, несется на 552 километрах в секунду относительно остальной Вселенной.
Ну а что же собственно Вселенная? В последней отчаянной и уже радикальной попытке найти точку неподвижности не объявить ли нам омфалом центр Вселенной? Ответ тот же: нет. Центра Вселенной, как мы увидим далее, вовсе не существует, а пока мы отвергнем эту идею из-за ее полнейшей неосуществимости.
Но как тогда положительно утверждать что-либо о положении астронавта (нас) и чашки? Пусть «неподвижной точки», которую можно взять за ориентир, не существует, но у нас ведь еще есть координатные модели, и мы можем прикладывать их где хотим. Например, если мы нарисуем сетку с центром в нас самих, то сможем сказать, что чашка движется относительно нас. А если поместим в центр координат чашку, получится, что это мы движемся относительно чашки. Но мы не можем утверждать, что одна из моделей правильная или в чем-то лучше другой. Сказать, что чашка проплывает мимо нас, значило бы лишь обнаружить свое врожденное предубеждение к чайным чашкам.
В книге Эйнштейна «Относительность» 1917 года есть хороший пример, поясняющий, почему ни одна система координат не важнее любой другой. В оригинальном немецком издании автор упоминает в качестве точки отсчета берлинскую Потсдамскую площадь. В английском переводе ее заменили на Трафальгарскую. К тому моменту, когда книга превратилась в общественное достояние и в интернете появилась ее цифровая копия, площадь превратилась в нью-йоркскую Таймс-сквер, потому что редактор именно ее считал «самым известным и узнаваемым местом для англоязычного читателя наших дней». Иначе говоря, о точке отчета важно знать то, что она устанавливается произвольно. В общем-то, она может быть где угодно.
Посему первый шаг к пониманию относительности таков: нужно принять, что любые утверждения о расположении объекта имеют смысл лишь тогда, когда оно определяется вместе с системой координат. Систему мы можем выбрать любую, но не можем говорить, что она правильнее остальных.
С этим пониманием мы вернемся в Цюрих 1914 года.
Эйнштейн садится в поезд в Цюрихе и отправляется в Берлин. Он покидает жену Милеву и двух детей, уезжая в новую жизнь, к собственной кузине, с которой позже сочетается браком. Представим себе, что поезд движется по прямой с постоянной скоростью 100 км/ч и что в какой-то момент этой поездки Эйнштейн поднимается на ноги, вытягивает вперед руку и бросает на пол сосиску.
Отсюда возникает два вопроса: как далеко упадет сосиска и почему он бросил свою жену? Сам Эйнштейн счел бы более увлекательным первый вопрос, так что на нем мы и остановимся.
Предположим, он поднял сосиску на высоту 1,5 метра над полом вагона. Она падает, как можно ожидать, к его обшарпанным ботинкам, строго под вытянутой рукой. Можно заключить, что сосиска пролетела точно полтора метра. Как мы только что видели, подобные утверждения имеют смысл, только когда мы договорились о системе координат. Здесь мы выберем систему координат Эйнштейна – интерьер вагона, и относительно нее сосиска пролетает полтора метра.
Можем ли мы избрать другую систему координат? Представим, что между рельсов сидит мышь и поезд как раз проносится над ее головой, когда Эйнштейн роняет свою сосиску. Какое расстояние пролетит сосиска, если мы примем за точку отсчета эту мышь?
Сосиска по-прежнему падает из руки Эйнштейна и приземляется у его ног. Но для мыши и Эйнштейн, и сосиска еще и проезжают мимо. За время от момента, когда Эйнштейн ее бросил, до момента, когда она коснулась пола, сосиска проехала какое-то расстояние по рельсам. Точка, где располагаются ноги Эйнштейна в момент, когда сосиска касается пола, находится дальше по дороге, чем точка, где располагалась его рука в момент, когда он бросил сосиску. Сосиска по-прежнему летит на полтора метра вниз, с точки зрения мыши, но, кроме того, она пролетает какое-то расстояние в направлении движения поезда. Если нам вздумается измерить расстояние, которое сосиска пролетает между рукой и полом с точки зрения мыши, траектория полета будет не вертикалью, а наклонной линией, а значит, сосиска пролетит больше полутора метров.
Этот вывод с непривычки ошеломляет. Расстояние, преодоленное сосиской, меняется в зависимости от системы координат. С точки зрения мыши сосиска летит дальше, чем с точки зрения Эйнштейна. А выбрать «более правильную» систему координат, как мы убедились, невозможно. И если так, что определенного способны мы сказать о расстоянии? Нам остается только отметить, что сосиска пролетает некоторое расстояние, зависящее от системы координат, и это расстояние может оказаться разным, если мы продолжим измерять его в новых координатных моделях.
И это лишь начало наших трудностей. Как долго продолжается падение сосиски? Мы можем предположить, что сосиска, которая летит больше полутора метров, будет падать дольше, чем та, которая пролетает ровно полтора. И это приводит нас к тревожному выводу о том, что падение сосиски для Эйнштейна происходит быстрее, чем для железнодорожной мыши.
Мы живем, постоянно имея под ногами твердую почву в качестве фиксированного начала координат, и потому думаем, будто где-то постоянно тикает некое незыблемое универсальное время. Представьте себе уличную толпу, текущую через Вестминстерский мост в Лондоне, здание Парламента и циферблат Биг-Бена над ними. Башенные часы парят над морем пиджаков, и жизни, протекающие внизу, никак не влияют на безукоризненно мерный ход стрелок. Вот приблизительно так мы и представляем себе феномен времени. Оно выше нас, и на него никак нельзя воздействовать. Однако Эйнштейн увидел, что время устроено иначе. Как и пространство, оно бывает разным в зависимости от обстоятельств.
Что ж, похоже, это все ставит нас в щекотливое положение. Измерение времени и пространства зависит от используемой системы координат, при этом не существует «правильной» или «абсолютной» системы, которую мы могли бы закрепить. Наблюдаемое зависит, кроме прочего, и от наблюдателя. Ситуация складывается безвыходная: все измерения относительны, никакие нельзя считать окончательными или «истинными».
Чтобы выйти из этого тупика, Эйнштейн обратился к математике.
Согласно общепринятой физической теории, свет (и все иные виды электромагнитного излучения) распространяется в вакууме с постоянной скоростью. Эта скорость, равная примерно 300 000 000 метров в секунду, обозначается в математике как постоянная величина c, а у не-математиков известна как «скорость света». Но как такое возможно, если любые меры относительны и зависят от точки отсчета?
Яркий пример – закон сложения скоростей. Рассмотрим сцену из бондианы, где в агента 007 стреляет подручный главного злодея. За жизнь Бонда волноваться не стоит, поскольку эти подручные заведомо никудышные стрелки. Давайте лучше прикинем, с какой скоростью летит пуля над головой супершпиона. Допустим, для примера, что из ствола пуля вылетает со скоростью 1500 км/ч. И если в момент выстрела злодей мчится в сторону Бонда на снегоходе, а снегоход идет со скоростью 120 км/ч, тогда скорость пули будет суммой этих значений, то есть 1620 км/ч. Если Бонд при этом удирает от злодея на лыжах со скоростью 30 км/ч, это тоже придется учесть, и тогда относительно Бонда пуля будет двигаться со скоростью 1590 км/ч.
Вернемся к пассажиру Эйнштейну, который успел сменить сосиску на карманный фонарик и светит им в конец вагона-ресторана. С точки зрения Эйнштейна, фотоны, испускаемые фонариком, движутся со скоростью света (строго говоря, чтобы они ее достигли, в вагоне должен быть вакуум, но подобными тонкостями мы пренебрежем, чтобы ученый не задохнулся). Но для статичного наблюдателя, находящегося не в поезде, такого, как наша знакомая мышь или, например, барсук под ближайшим деревом, фотоны будут двигаться со скоростью света плюс скорость поезда, что, очевидно, даст уже другую скорость света. Что ж, мы, кажется, пришли к фундаментальному противоречию между законами физики: законом сложения скоростей и правилом о том, что электромагнитное излучение распространяется с постоянной скоростью.
Что-то здесь не стыкуется. В попытках разрешить противоречие мы можем усомниться в истинности закона сложения скоростей или оспорить неизменность скорости света. Эйнштейн рассмотрел оба закона, увидел, что они оба верны, и пришел к потрясающему выводу. Камень преткновения не в том, что скорость света равна 300 000 000 метров в секунду, а в «метрах» и «секундах». Эйнштейн понял, что, если объект движется с высокой скоростью, расстояния становятся короче, а время течет медленнее.
Это смелое озарение Эйнштейн подтвердил математическими выкладками. Главным инструментом, который он применил, был метод, известный как преобразование Лоренца, – он позволил Эйнштейну переводить друг в друга измерения, полученные в разных системах координат. Математически выведя за скобки эти разные системы, Эйнштейн смог объективно рассуждать о времени и пространстве и продемонстрировать, как именно на них влияет движение.
Дополнительно ситуацию усложняет то, что не только движение способно сжимать время и пространство. Подобной властью обладает гравитация, как установит Эйнштейн в своей общей теории относительности десятью годами позже. Жилец первого этажа стареет медленнее соседа со второго, поскольку сила тяготения на какую-то долю сильнее у поверхности Земли. Разница, конечно же, ничтожна. Меньше миллионной доли секунды на восемьдесят лет жизни. И тем не менее этот эффект есть, и он измерен в реальном мире. Предположим, у вас есть два одинаковых безупречно точных хронометра; если один из них поместить в самолет, а другой оставить в аэропорту, то хронометр, который летел над землей, немного отстанет от того, что остался на земле. Спутники, данные с которых получает навигатор в вашей машине, только потому могут точно показывать положение объектов, что, определяя его, учитывают действие земной гравитации и скорость собственного движения. Именно математика Эйнштейна, а не наше обыденное представление о трехмерном пространстве точно описывает Вселенную, в которой мы живем.
Как не-математикам понять эйнштейновский математический мир, который он назвал пространством-временем? Мы находимся в плену координатных систем, которыми пользуемся для постижения обычного мира, и не можем вырваться в Эйнштейновы математические высоты, где противоречия между системами отсчета испаряются. Нам остается только обратить взгляд вниз, представить более ограниченную перспективу, доступную нашему пониманию, и использовать ее как аналогию для моделирования пространства-времени.
Представим двухмерный мир – плоский, в котором есть длина и ширина, но нет высоты. Викторианский мыслитель Эдвин Эбботт Эбботт описал такой мир в удивительном романе «Флатландия». Даже если вы не знакомы с этой книгой, плоский мир вы представите легко, взяв в руки лист бумаги и вообразив, что он обитаем.
Если бы этот лист бумаги был миром, где обитают маленькие плоские существа, придуманные Эбботтом, то они не могли бы знать о том, что вы держите их мир в руках. Им недоступно восприятие трехмерного пространства, у них нет понятий верха и низа. И если вы сложите лист пополам, они не заметят, потому что не способны видеть измерение, в котором это действие осуществилось. Для них мир остался незыблемо плоским.
Теперь представим, что вы свернули лист в трубку. Наши плоские друзья вновь не заметят никаких перемен. Но они удивятся, обнаружив, что, если двигаться в одну сторону достаточно долго, не достигнешь края мира, а окажешься в том же месте, откуда вышел. Если их плоский мир примет форму трубки или шара, оболочки мяча, как смогут маленькие существа объяснить эти удивительные путешествия, которым нет конца? Человечество далеко не сразу уяснило, что живет на сферической планете, и это при том, что у него были мячи и понимание, что такое сфера, а у этих плоскатиков даже нет образа шара, который мог бы натолкнуть на верную мысль. Им придется ждать, пока среди них родится плоский аналог Эйнштейна, который при помощи таинственных математических построений докажет, что их плоский мир существует во вселенной с бо́льшим числом измерений, где какая-то трехмерная свинья с какими-то непонятными целями скручивает этот плоский мир в трубку. Остальным плоским созданиям эти рассуждения покажутся диковатыми, но со временем они увидят, что их измерения, эксперименты и регулярные долгие прогулки подтверждают теорию плоского Эйнштейна. Тут им придется примириться с тем, что лишнее измерение все-таки существует, каким бы смехотворным это ни казалось и как бы немыслимо ни было его представить.
Мы находимся в том же положении, что и наши плоские друзья. У нас есть измерения и данные, которые объясняет только математика пространства-времени, и при этом пространство-время остается для большинства из нас непостижимым. Игривость, с которой ученые описывают наиболее странные аспекты относительности – вместо того чтобы объяснять их в отношении к миру, каким мы его знаем, – тоже не служит к пользе дела. Многие из вас, возможно, слышали такой пример: если бы вы падали в черную дыру, удаленному наблюдателю ваше падение казалось бы бесконечным, а вам самим – моментальным. Физики любят такие шарады. Недоумение – это их допинг, но не каждый из нас найдет в нем пользу.
С точки зрения человека, пространство-время – весьма странное место, где время оказывается просто еще одним измерением и привычные понятия «прошлого» и «будущего» не имеют смысла. Но красота пространства-времени в том, что, когда мы его понимаем, оно выводит нас из тупика, а не ведет в него. Любые аномальные явления, например орбита Меркурия или свет, огибающий массивные звезды, получают непротиворечивую разгадку. История с чайной чашкой, которая не то пролетает мимо вас, не то просто висит в глубинах космоса, становится прозрачной и логичной. Ничто не находится в покое иначе как умозрительным допущением.
Общая теория относительности сделала Эйнштейна мировой знаменитостью. Он сразу понравился публике – спасибо газетным фотографиям с растрепанными волосами, мятой одеждой и добрыми смешливыми глазами. Образ «забавного маленького человека» из континентальной Европы, уму которого открывается недоступное другим, оказался симпатичным архетипом, и ему нашла применение Агата Кристи, придумав в 1920 году Эркюля Пуаро. А то, что Эйнштейн был немецким евреем, лишь добавляло интереса.
Отношение к Эйнштейну и относительности показывает, что мир больше заинтересовался не идеями, а личностью. Многие авторы с видимым удовольствием и почти с радостью отмечали, что не смогли разобраться в теории Эйнштейна, и вскоре повсюду возобладало мнение, что обычным людям понять относительность не под силу. Газеты тех лет утверждали, что во всем мире только двенадцать человек понимают, о чем писал Эйнштейн. В 1921 году Эйнштейн посетил Вашингтон, и сенат США счел необходимым обсудить его теорию, причем многие сенаторы утверждали, что ее невозможно понять. Президент США Гардинг с радостью признавал, что не смог в ней разобраться. В плавании через Атлантику Эйнштейна сопровождал Хаим Вейцман, будущий первый президент Израиля. «Во время всего плавания Эйнштейн объяснял мне свою теорию, – вспоминал он. – И к моменту прибытия я окончательно убедился, что он действительно ее понимает»[11].
Для Марсьяля Бурдена теория относительности появилась слишком поздно. Он хотел взорвать Гринвичскую обсерваторию, служившую символическим омфалом Британской империи, и весь британский порядок, захвативший планету. Но омфалы, как показал нам Альберт Эйнштейн, абсолютно произвольны. Дождись Бурден общей теории относительности, возможно, он осознал бы, что закладывать бомбу необязательно. Нужно всего лишь увидеть, что омфал – это не более чем вымысел.
Глава 2. Модернизм. Шок новизны
В марте 1917 года американский художник-модернист Джордж Биддл нанял сорокадвухлетнюю филадельфийскую немку позировать для его картины. Она пришла к нему в студию, и Биддл сказал, что хотел бы увидеть ее голой. Натурщица распахнула свой пурпурный плащ. Под ним не было ничего кроме бюстгальтера, сделанного из двух консервных банок и зеленого шнурка, и висящей на шее крохотной клетки с заморенной канарейкой. Кроме того, на руку женщины были нанизаны кольца для штор, недавно похищенные в универмаге, а голову покрывала шляпка, украшенная морковками, свеклой и другими овощами.
Бедняга Джордж Биддл. Он-то думал, что он художник, а женщина перед ним – его натурщица. Одним движением модель, баронесса Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен показала, что художник здесь она, а Биддл – не более чем зритель.
Известная фигура нью-йоркского художественного авангарда тех лет, Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен была поэтессой, скульптором и акционисткой. Она носила торты вместо шляп, ложки вместо серег, красила губы черной помадой, а на лицо вместо косметики приклеивала марки. Эльза жила в нищете, деля квартиру с собаками, а также мышами и крысами, которых сама подкармливала и привечала. Ее то и дело арестовывали и отправляли в тюрьму за разные правонарушения вроде мелких краж или публичного обнажения. В дни, когда требования общества к внешнему виду женщины едва начали смягчаться, она могла обрить голову или выкрасить волосы в ярко-красный цвет.
Ее работы ценили Эрнест Хемингуэй и Эзра Паунд, она водила дружбу с художниками, включая Мана Рэя и Марселя Дюшана, и все кто знакомился с ней, забывали ее не скоро. Вместе с тем в большинстве работ об искусстве начала XX века Эльза остается невидимкой. Мы натыкаемся на нее в письмах и дневниках того времени, где ее описывают как упрямую, замкнутую, а иной раз откровенно безумную, нередко отмечая исходящий от нее запах. Почти все, что мы знаем о начале ее жизни, почерпнуто из черновика автобиографии, написанного ею в берлинской психиатрической лечебнице в 1925 году, за два года до смерти.
В глазах большинства знакомых ни образ ее жизни, ни ее искусство не имели ни малейшего смысла. Возможно, она слишком опередила свое время. Сегодня ее признаю́т первой американской дадаисткой, но, пожалуй, столь же верно будет сказать, что она была первым нью-йоркским панком. Феминистский дадаизм Эльзы Фрейтаг-Лорингофен получил признание лишь в начале XXI столетия. Позднейшая переоценка ее наследия наталкивает на интересную гипотезу: не баронесса ли Эльза вызвала к жизни произведение искусства, которое часто называют самым знаковым в XX столетии?
Эльза Хильдегард Плёц родилась в 1874 году в прусском городе Швинемюнде (ныне это польский Свиноуйсьце) на Балтийском море. В девятнадцать лет, после смерти матери, скончавшейся от рака, и физического насилия со стороны буйного отца, девушка покинула дом и отправилась в Берлин, где стала работать моделью и хористкой. Хмельные дни сексуальных экспериментов закончились лечением от сифилиса в клинике, после чего Эльза свела знакомство с художником Мельхиором Лехтером, любившим носить женские платья, и стала вращаться в кругах авангардистов.
С этого момента граница между ее жизнью и искусством все больше размывается. Как следует из ее поэзии, для Эльзы не существовало четкого рубежа между интеллектуальным и сексуальным, который предпочитало соблюдать современное ей европейское искусство. С возрастом Эльза становилась все более андрогинной, вступала в многочисленные браки и связи, часто с гомосексуальными мужчинами и импотентами. Одному из мужей она помогла инсценировать самоубийство, и эта история привела ее сначала в Канаду, затем в США. Следующий брак, с бароном Леопольдом Фрейтаг-Лорингофеном, принес ей титул, хотя барон не имел ни гроша и работал посудомойщиком. Вскоре после их бракосочетания вспыхнула Первая мировая, и барон вернулся в Европу воевать. Он взял с собой все деньги, что были у Эльзы, и вскоре после отъезда покончил с собой.
Примерно в это время баронесса познакомилась с франко-американским художником Марселем Дюшаном и безгранично им очаровалась. Один из спонтанных перформансов Эльзы состоял в том, что она взяла статью о картине Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» и натерла ею каждый дюйм собственного тела, как бы соединяя знаменитую картину-ню с голой собой. После этого она продекламировала стихотворение, кульминацией которого было восклицание «Марсель, Марсель, я чертовски влюблена, Марсель!».
Дюшан деликатно отклонил ее ухаживания. Он не был кинестетиком и не любил, когда его трогали. Но он разглядел самобытность и значимость ее искусства. Однажды он сказал: «[Эльза] – не футуристка. Эльза – само будущее».
Дюшан известен как родоначальник концептуализма. В 1912 году он бросил писать на холстах и начал картину на огромном листе стекла, но не мог закончить ее десять лет. Чего ему на самом деле хотелось – это творить за пределами традиционной живописи и скульптуры. В 1915 году его посетила идея метода «готовых вещей», или «реди-мэйд» (как он его назвал): выставлять как произведения искусства бытовые предметы, например винную полку или лопату для чистки снега. Велосипедное колесо, прибитое им к стулу в 1913 году, впоследствии признали первой из его «готовых вещей». Это был вызов современному рынку искусства: разве становится предмет, найденный художником на улице, произведением искусства только от того, что его выставили в галерее? Или, пожалуй, точнее: настолько ли идея бросить вызов рынку искусства, выставив найденный на улице предмет, интересна, чтобы эта идея считалась произведением искусства? При таком подходе именно идея становится искусством, а сам предмет – не более чем сувениром, который галеристы и коллекционеры могут выставлять или перепродавать.
Самая знаменитая из «готовых вещей» Дюшана называется «Фонтан». Это писсуар, перевернутый и представленный на выставку Сообщества независимых художников в Нью-Йорке в 1917 году за авторством вымышленного художника Р. Мутта. Организаторы собирались выставить все представленные им произведения искусства, так что, отправляя им писсуар, Дюшан провоцировал их согласиться с тем, что это тоже искусство. Однако организаторы отказались это признать. Что произошло с писсуаром, точно не известно, но в экспозицию он не попал, и, скорее всего, его вынесли на помойку. Дюшан в знак протеста вышел из кураторского совета, и тень отвергнутого «Фонтана» омрачила все событие.
В 1920-е годы Дюшан оставил искусство и посвятил себя шахматам. Но слава «Фонтана» мало-помалу росла, и молодое поколение художников заново открыло Дюшана в 1950-х и 1960-х. Увы, до тех пор дошло ничтожно мало его оригинальных работ, и он стал штамповать репродукции самых знаменитых шедевров. Одного «Фонтана» было сделано семнадцать копий. За ним гонялись галереи всего мира, несмотря на то что выставлять его приходилось под плексигласовым колпаком, поскольку слишком многие любители искусства пытались «взаимодействовать с шедевром», то есть мочиться в него. В 2004 году пятьсот почтенных искусствоведов голосованием признали «Фонтан» Дюшана самым знаковым произведением модернизма в XX веке.