Читать онлайн Дихотомия «Свой/Чужой» и ее репрезентация в политической культуре Американской революции бесплатно
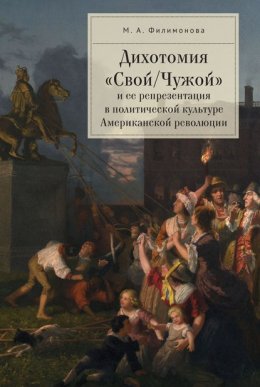
Введение
«Мы» и «Они» – одна из древнейших бинарных оппозиций человеческого сознания. Представление о себе всегда формируется в связи с представлением о другом1. Соответственно, образы Других складываются во все эпохи и у всех народов. Ц. Тодоров определял Других как группу, к которой Мы не принадлежим. Для мужчин это женщины, для бедных – богатые и т.п.2 Образы Других, следовательно, могут быть гендерными, социальными, этническими, религиозными и т.д.
Особенно актуальной политика образов становится в переломные эпохи, в частности, в периоды революций. Революция сопровождается сломом традиционных представлений в самых разных сферах жизни. Возникает потребность в новых образах. Меняется, иногда весьма радикально, набор представлений о прошлом и будущем. Пересматривается набор значимых имен и меняются их оценки. Прежние герои теряют актуальность, а то и демонизируются, на их место приходят новые персонажи национального пантеона. Конечно же, ломается вся существующая система потестарной имагологии – и конструируется заново. В ходе революции также изменяется представление нации о самой себе, своих союзниках и врагах. Революции Нового времени, как правило, сопровождаются активным нациестроительством.
Американская революция конца XVIII в. не была здесь исключением. Она стала толчком и основой для создания новой американской нации. Внешнеполитические образы в сознании американцев также радикально изменились за время революции. Характерный пример – трансформация образов Англии и Франции в ходе Войны за независимость. Англия из «родины-матери» превращается во «враждебного чужого». В восприятии Франции исчезает традиционный антикатолицизм, сменяясь доброжелательством к главному союзнику США. Поэтому исследования ментальности Американской революции представляются важными и целесообразными.
Имагология – одно из актуальных, бурно развивающихся направлений исторической науки. Впервые проблему изучения «чужого в культуре» поставили еще основатели школы «Анналов» Л. Февр и М. Блок. Имагология как самостоятельное научное направление стала оформляться в середине XX в. Причем первым из ее многочисленных ныне подразделений стала компаративная имагология, т.е. изучение образов Других, национальных образов, этнических стереотипов. В последнее время появился термин аллология, т.е. изучение Других в широком смысле, не обязательно связанное с внешней политикой.
На теоретическом уровне проблему поставили постструктуралисты. Именно они обратили внимание на то, что текст сообщает читателю не только то, что туда закладывал автор: текст может выражать сам себя. Они пришли к выводу, что источник сообщает не только и не столько о событиях, сколько об образах событий. И они же поставили вопрос об изучении дискурса, риторики. Текст требует не только прочтения, но и расшифровки его языка, содержащихся в нем клише и стереотипов. М. Фуко, Р. Барт, Х. Уайт и другие постструктуралисты поставили проблему отличия образа от реальности. С их точки зрения, исторические источники отражают именно образы, риторические практики, дискурс3. Постструктурализм послужил мощным толчком к развитию имагологии. Работы пост-структуралистов показали, что язык не является нейтральным средством трансляции мыслей и чувств человека. Языковые средства могут быть использованы также для навязывания обществу определенных представлений4. На этой базе имагология начала успешное развитие. К 1980-м гг. во Франции, Германии, Нидерландах были созданы имагологические научные центры.
Важным стимулом для имагологических исследований стали новые концепции национальной идентичности, сложившиеся во второй половине XX в. Две различные школы историков и политологов, сложившиеся в XX в. – примордиалисты и конструктивисты – по-разному трактуют природу и происхождение наций. Примордиалисты (К. Гирц, Э. Шилз, У. Коннор) считают этнос сообществом, скрепленным прежде всего кровнородственными связями5. Конструктивисты (Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, С.Г. Кара-Мурза) считают, что нация – искусственный конструкт6. Для его возникновения, в частности, и нужны образы Других: союзников, врагов, объектов мессианистских устремлений или, напротив, моделей для подражания. При сравнении с Другими формируется собственная идентичность.
Наконец, весьма влиятельной оказалась концепция «ориентализма» Э. Саида, который подчеркивает искусственный характер существовавшего на Западе образа Востока. Ориентализм выступал как особый язык и стиль мышления. Он проявлялся через различные культурные механизмы: научный дискурс, литературные клише, поэтические образы и т.п. При этом образ Востока ни в коем случае не являлся нейтральным; он служил созданию и поддержанию западной гегемонии на Востоке. Э. Саид показывает, что те знания о Востоке, которые были распространены на Западе, мало что говорили о самом Востоке, но больше о стремлении Запада навязать свои представления людям и культуре народов, которые подпали под его власть. Это позволяет объяснить, каким образом небольшая кучка европейцев удерживала власть над огромным населением Азии и Африки. Вообще, культурные связи здесь играли куда более важную роль, чем прямое господство и грубая сила. Важным фактором в этой «микрофизике» империализма являлся «объединяющий дискурс» империализма. Все делалось для того, чтобы связать западную и местную культуру неразрывно, чтобы перемены стали невозможными. Саид выделяет зоны понимания, которые стали общими и для колонизаторов, и для колонизуемых, и составляли основу «культурного империализма». В итоге имперская власть предстает не как материальный феномен, а как эпистемологическая система. Необходимая часть демонтажа западного господства – «деколонизация языка»7.
Методологические подходы, описанные выше, заметно повлияли на исследования ментальности Американской революции в США. В современных исследованиях преобладает конструктивистская концепция американской идентичности.
В формулировке, использованной С. Хантингтоном, идентичность «столь же обязательна, сколь и не отчетлива»8. Тем не менее, он старается найти для идентичности четкое определение и приходит к мысли, что она заключается в представлении об особых качествах, отличающих Нас от Них. Новорожденный получает латентную идентичность (пол, гражданство, этническая принадлежность), которая актуализируется при ее осознании ребенком. Идентичность может быть индивидуальной или групповой. Идентичность – это конструкт, «воображаемая сущность» (парафраз знаменитой концепции П. Андерсона «Воображаемые сообщества»). Идентичность как индивидов, так и групп не является цельной; разные групповые идентичности одного и того же коллектива могут дополнять друг друга или конфликтовать. Значимость той или иной конкретной идентичности ситуационна9. С. Хантингтон выделяет в качестве основы американской идентичности «английский язык, десять евангельских заповедей, английские же представления о главенстве закона, ответственности правителей и правах отдельных личностей, а также “раскольнические” протестантские ценности – индивидуализм, рабочая этика, убежденность в том, что люди могут и должны создать рай на земле – или “град на холме”»10.
В последние десятилетия появилась новая школа историков, изучающих американский национализм и его ритуалы. Их исследования показывают глубину изменений, происшедших в ментальности колонистов, ставших американцами. Основной вывод, сделанный этими исследователями: вокруг новых революционных ритуалов складывалась новая американская идентичность11. В то же время целый ряд историков не без оснований подчеркивает хрупкость новорожденной национальной идентичности12. Изучаются и другие частные вопросы, связанные с формированием национального самосознания: его отражение в театре, архитектуре, географических картах и др.13
Л. Риордан в монографии, посвященной среднеатлантическому региону, подчеркивает политизацию религиозной, расовой, этнической принадлежности в период Американской революции; ре-моделирование идентичности было частью процесса превращения британских подданных в граждан США и частью стратегий адаптации в новом революционном и постреволюционном обществе14.
Существуют и другие точки зрения. Так, Дж.П. Грин подчеркивает континуитет идентичности в колониальной и постколониальной Америке. Он считает, что американская ментальность, сложившаяся ко второй половине XVIII в., формировалась под влиянием трех факторов: особенностей английской колонизации, условий жизни в колониях и природы британской колониальной администрации15. По мнению Дж. Эплби, идеальное государство для американцев означало «единого короля, единую церковь и единый язык»; соответственно, Американская революция, ничего подобного не предложившая, не создавала также интегративной национальной идентичности16. Следует признать, что концепция Дж. Эплби в данном случае выглядит спорной. Здесь американцам XVIII в. приписывается средневековая концепция общества, ничего общего не имеющая ни с господствующими просвещенческими теориями (для них единый народ-суверен был куда важнее единого монарха), ни с реальным положением дел в колониальной Америке – полиэтническом, мультирелигиозном обществе.
Что касается собственно имагологических исследований периода Американской революции, то они в большинстве своем посвящены «внутренним Другим» – тем, с кем белые американцы XVIII в. могли контактировать внутри собственного социума: женщинам, афроамериканцам, индейцам. При этом исследователи приходят к предсказуемо негативным (и односторонним) выводам относительно Американской революции и ее результатов. Например, в исследовании К. Смит-Розенберг акцент делается на том, как по контрасту с Другими создавалась идентичность поколения «отцов-основателей». Для того, чтобы новая нация, лишенная общего прошлого, религии и культуры, могла ощутить собственное единство, ее идеологи прибегли к маргинализации Других: афроамериканцев, индейцев, женщин, неимущих. Соответственно, Американская революция предстает как источник расизма, сексизма и ксенофобии17. Для Р.Г. Паркинсона основной частью революционной пропаганды является создание «образа врага» и игра на расовых предрассудках. Революционный дискурс строился на таких концептах, как «мятежники у нас дома» и «безжалостные дикари». Как вывод, автор утверждает, что расизм стал краеугольным камнем США с момента основания18.
Выводы У.Х. Трюттнера, пожалуй, демонстрируют другую крайность. Этот ученый, изучая изображения индейцев в ранней американской живописи, выделял, в частности, образы «благородного дикаря» и «республиканского индейца»19. «Безжалостных дикарей» в его исследовании просто нет, хотя для американцев XVIII в. они определенно существовали.
Существуют и монографии, посвященные образам других меньшинств Американской революции, например, католиков20 или евреев. Интересную концепцию в отношении этих последних выдвигает Л. Харап. Исследователь делает вывод, что за границами американской идентичности в XVIII в. оставались как евреи, так и католики, а также протестанты-диссентеры (квакеры, баптисты). При этом парадоксальным образом положение евреев было в США лучшим, чем, например, положение квакеров. При сохранении бытового антисемитизма, гражданские права евреи все же получили. Так что история данной этнорелигиозной группы демонстрирует оптимистическую сторону Американской революции21.
Гораздо меньше в американской историографии собственно аллологических исследований, посвященных европейским Другим Американской революции. В основном речь идет об образах англичан и французов. В первом случае показательны работы, прочитывающие Американскую революцию через призму постколониальных исследований. Концепции Э. Саида в области культурного колониализма породили схожие подходы в применении к колониальной и постколониальной Америке. В частности, К. Акеми Йокота подчеркивает, что политическая независимость США не отменяла у их граждан ощущения сохраняющейся культурной зависимости от Великобритании и собственного периферийного положения22.
Что касается образа французов, то здесь можно выделить исследования, посвященные этническим стереотипам, ассоциирующимся с этим народом, а также персонально образу Ж. де Лафайета. У.Л. Чью приходит к выводу об устойчивости стереотипа: трэвелоги XVIII – начала XIX вв. содержали многие клише относительно французского национального характера, которые можно встретить в голливудских фильмах23. Коллективная монография, посвященная взаимовосприятию французов и американцев, подчеркивает, что «национальный характер» является на самом деле конструктом, чье распространение и рецепция зависят от исторической обстановки. У.Л. Чью, в частности, подчеркивает несовпадение американского образа Лафайета и реальных политических убеждений последнего. В США Лафайета приветствовали как борца за демократию, моделируя его образ в соответствии со своими представлениями о революционном герое. С умеренным либерализмом реального Лафайета это никак не коррелировало24.
Но в целом, аллологические образы Американской революции остаются практически неизученными.
В отечественную науку термин «имагология» вошел в середине 1980-х гг. Исследование образов Других – одно из ключевых направлений развивающейся отечественной имагологии. Однако еще до появления отдельного направления, в 1970-х гг. имагологические подходы использовал Л.А. Зак при исследовании внешнеполитических стереотипов, используемых дипломатией западных стран25. В этом же ключе изучали образ Африки А.Б. Давидсон и В.А. Махрушин26. Н.Е. Ерофеев исследовал взаимовосприятие России и Великобритании27.
В 2000 г. на базе РУДН был создан центр сопоставительно-антропологических исследований «Историко-антропологическая компаративистика», в проблематику которого, в частности, включены изучение специфики мировосприятия и стереотипов различных исторических эпох, латентной картины мира России в ключевые периоды ее истории28.
Поле имагологических исследований постоянно расширяется. В частности, М.А. Бойцов занимается имагологией власти, О.И. Тогоева – имагологией судебной процедуры в средневековой Европе и т.д.29 Авторы приходят к интересным и ценным выводам. Так, М.А. Бойцов и О.Г. Эксле, исследуя образы власти, обращают внимание на сложное взаимодействие образных рядов, навязанных сверху и существующих в сознании подданных, причем сценариев такого взаимодействия может быть бесконечно много30. Многочисленными являются аллологические исследования31. Неотъемлемой частью имагологических исследований является изучение образа врага и ксенофобии32.
При этом используются современные методологические подходы. Так, Л.П. Репина выделяет такие ключевые для имагологии методологические принципы, как необходимость учета психологической составляющей процесса формирования этнических представлений; принцип отражения в образе другого народа черт собственной коллективной психологии33. С.И. Лучицкая анализирует термины, используемые для обозначения мусульман в средневековых западноевропейских текстах, определяет основные темы, связанные в этих источниках с мусульманами (особенности религиозного культа, нравственность и интеллект, военное искусство, политические институты и т.д.)34.
В отечественной американистике имагологические исследования проводятся главным образом при изучении российско-американских отношений. В.И. Журавлева ставит перед собой задачу выявить источники представлений о России в США; факторы, определившие конструирование ее образов; репертуары смыслов различных американских дискурсов, заданных текстом о России. Исследовательница приходит к выводу о том, что существует несколько различных устойчивых американских дискурсов о России: либерально-универсалистский, консервативно-пессимистический и др. В итоге американцы «изобретали» Россию, приписывая ей различные характеристики в соответствии с собственными идеологическими установками. Она также обращает внимание на такой феномен, как «персонификация» происходивших в России процессов в восприятии американских наблюдателей, когда те или иные изменения российской политики воспринимались через призму деятельности ее правителей35. В.И. Журавлева выдвигает теорию о том, что основополагающим американским контекстом, определяющим механизмы использования русского Другого, были социокультурные и политические особенности самого американского общества; текущее состояние отношений с Россией играло лишь вспомогательную роль36.
И.И. Курилла определил проблематику своего исследования так: что именно интересовало американцев в России и русских в Америке? Как они сами воспринимались местными жителями? Как на их отношение влияла политика и «домашние» стереотипы? Насколько опыт их знакомства с чужим обществом мог повлиять на политику и образ этой страны в собственном отечестве? В итоге он приходит к выводу, что ни образ России в США, ни образ США в России не были однородными и не оставались неизменными. В обеих странах существовали как позитивные, так и негативные оценки «заокеанского партнера». В американском обществе наблюдалось улучшение отношения к России в связи с модернизационными шагами Николая I и реформами Александра II. В России образ Америки как страны по преимуществу торговой и сельскохозяйственной сменялся в 1840-х гг. представлением о США как о «рассаднике промышленности». Зато в 1850-х гг. русские обращали внимание преимущественно на проблему рабства в США37.
Имагологии российско-американских отношений на рубеже XX–XXI вв. посвящена монография Э.Я. Баталова, В.Ю. Журавлевой и К.В. Хозинской «Рычащий медведь на диком Востоке». Авторы выделяют следующие особенности внешнеполитического образа: он имеет интерактивную природу, эмоционально окрашен, не совпадает с реальностью и способен изменяться или оставаться неизменным независимо от эволюции стоящего за ним объекта. Международный имидж государства может способствовать проведению успешной внешней политики или тормозить ее; он влияет на судьбу страны. В формировании внешнеполитического образа участвуют самые разные субъекты: государство, СМИ, экспертные сообщества (авторы называют их «фабриками мысли»)38.
При этом в отечественной, как и в американской историографии отсутствуют комплексные исследования, посвященные имагологии Американской революции, включавшей многочисленные образы Других: метрополии, стран европейского континента, соседей по североамериканскому материку (индейцев, канадцев) и «чужих» внутри социума (католиков, квакеров, лоялистов и др.). Мир внешнеполитических образов Американской революции был чрезвычайно многообразен. Создать исчерпывающе полную картину в рамках одной монографии невозможно. Однако автор ставит перед собой задачу хотя бы отчасти заполнить существующий пробел и создать репрезентативную картину массового сознания США в первые годы их существования, где отразилось бы восприятие далеких и близких Других, образы друзей и врагов и просто экзотических стран, какой была для американцев XVIII в. Россия.
Хронологические рамки исследования охватывают предреволюционный и революционный период – 25 лет между окончанием Семилетней войны (1763) и ратификацией современной конституции США (1788). В это время шло активное становление вигской идеологии, а затем и новой государственности. Зарождалось новое национальное самосознание. Как уже сказано, процесс сопровождался повышением политической активности масс. Все это не могло не влиять на существующие имагологические представления. Одни из них стремительно теряли актуальность, менялись стереотипные оценки, существовавшие веками, но другие сохраняли устойчивость.
Отчасти процесс был осознанным и направлялся лидерами мнений того времени – редакторами газет, памфлетистами, писателями и др., прежде всего, принадлежавшими к вигскому лагерю. Внутри сообщества вигов, конечно, существовали свои различия. С самого начала выделялись умеренные и радикальные виги, с различным отношением к ключевым проблемам внутренней политики. В 1780-х гг. наметился конфликт между националистами и локалистами – сторонниками и противниками централизации США. Существовали также трения между Югом и Севером, приатлантическим побережьем и фронтиром, крупными и малыми штатами. Но в это время, в отличие от ситуации 1790-х гг., все существующие различия между вигами слабо отражались на внешнеполитических образах.
Внешнеполитические образы могли отражаться в текстах и быть выражены эксплицитно, но такая ситуация нетипична. Чаще представления о Других специально не вербализировались. Они проявлялись в праздничных ритуалах и формулах рекламных объявлений, стереотипных визуальных образах и речевых клише. Собственно говоря, каждый образ другого народа, если он был достаточно разработан, включал в себя целый конгломерат представлений о географических особенностях страны, национальном характере, истории, материальной культуре. Образ Англии – это и последние акты парламента, и Великая хартия вольностей, и лондонская мода.
Соответственно, проблема изучения образов Других прежде всего сталкивается с проблемой источниковой базы. Как известно, еще Л. Февр и М. Блок поставили проблему расширения круга традиционных исторических источников. В настоящее время текст, разумеется, уже не выступает как единственно возможный источник. Так, уже упоминавшийся М.А. Бойцов пишет об обонятельных, тактильных, акустических и, конечно же, визуальных образах власти39. Видимо, то же можно сказать об образах той или иной страны. Скажем, Канада у солдат Континентальной армии ассоциировалась не только с абстрактными представлениями вроде «объект освобождения», но также с непривычно сильными морозами и вкусом березового сока. Соответственно, круг источников, в которых отражаются образы Других, может быть чрезвычайно широк. Об этом свидетельствуют и существующие монографии по аллологической тематике. Например, Е.В. Папилова при исследовании образа немца в русском фольклоре использует материал пословиц, былин, сказов, ратных заговоров, исторических песен, ярмарочных зазываний, анекдотов и др.40 В.И. Журавлева и И.И. Курилла изучают взаимные репрезентации России и США на материале школьных учебников41. Богатый материал по истории визуальных образов дает карикатуристика42. Очень много информации может содержаться в речевых клише. Б.И. Колоницкий, изучая дискурс 1917 г. в России, обращает внимание на то, что введение политических терминов в свою речь не проходит бесследно для людей43. Речевые штампы могут определять восприятие. В период Американской революции происходит радикальное изменение политического языка, включая стереотипные формулы, описывающие Других. Особенно хорошо это видно на примере терминологии, описывающей метрополию и Францию. Для изучения стереотипных речевых формул в данной монографии использован метод контент-анализа, позволяющий отследить частоту их употребления и включающий их контекст, оценить эмоциональную окраску тех или иных образов.
При этом образ Другого в массовом сознании не представляет собой связного нарратива и не является цельным и логически непротиворечивым. Совсем напротив, историки, занимающиеся имагологией, обращают внимание на сосуществование в одном и том же обществе противоречащих друг другу образов одного и того же объекта44. Все они также приходят к выводу о том, что реальные особенности объекта могут не иметь к его образу никакого отношения45. М.А. Бойцов подчеркивает, что образ действительности служит одновременно ее отражением и способом воздействия на нее46.
Все указанные выше особенности образа Другого приводят к выводу, что имагологическое исследование, как никакое иное, требует обширной источниковой базы. Более того, задача имагологического исследования – выявить в источниках то, что было для авторов «само собой разумеющимся» и, следовательно, не нуждающимся в специальной вербализации. Исследование визуальных образов в данном случае затрудняется также слабым развитием как живописи, так и карикатуристики в колониальной и революционной Америке.
Определение необходимого для исследования корпуса текстов также в определенной мере представляет собой проблему. Источниками представлений о Других для американцев XVIII в. могли быть личные контакты, связанные то с негативным опытом (таким стала, например, для лоялистки Мэри Олми французская бомбардировка Ньюпорта), то с позитивным (такими были для солдат Континентальной армии их первые контакты с канадцами). Опыт прямого контакта мог вступать в сложное взаимодействие с уже существующими в культуре стереотипами. Так, бесцеремонное поведение английских солдат, расквартированных в Бостоне, вызывало тем больший шок, что сталкивалось с официальным и принятым на веру представлением о доброжелательной метрополии, «родине-матери». Зато впечатления американцев, побывавших в России, в основном подтверждали уже сложившийся стереотип деспотического государства. Итак, образы Других могли формироваться в результате личного контакта с их объектами. Примером здесь могут служить образы Канады, сложившиеся у солдат Континентальной армии, образы Великобритании, Франции или России, формировавшиеся у путешественников, посещавших эти страны. Но чаще американцы получали сведения о европейских странах опосредованно: из географических сочинений, трэвелогов, исторических трудов, публицистики, романов. При этом информация на самом деле могла и не быть актуальной; так, в 1790-х гг. американские журналисты пытались понять национальный характер французов через сведения о галлах, содержащиеся в «Записках» Юлия Цезаря47. Здесь, помимо слабой доступности информации, свою роль сыграли особенности просвещенческой ментальности. Культура Просвещения обладала развитым историческим сознанием. Болингброк, например, уверял, что «любовь к истории кажется неотделимой от человеческой природы»48. История выступала как «учительница жизни», как источник готовых моделей, пригодных для использования в настоящем49. Соответственно, закономерной частью образов Других, конструируемых в культуре XVIII в., служили исторические факты и исторические мифы.
Из сказанного можно сделать вывод, что образы Других могли отражаться в множестве разнородных источников: протоколах Континентального конгресса, в дебатах ратификационных конвентов 1787–1788 гг., в частных письмах и дневниках, в романах и в исторических сочинениях. Лишь привлекая самый широкий круг источников, можно выявить «имагологические мотивы»50, обладающие определенной устойчивостью и переходящие из одного текста в другой.
Документы официального происхождения: конституционные и законодательные акты, протоколы Континентального конгресса, Конституционного конвента 1787 г. и ратификационных конвентов51 – позволяют выявить имагологические мотивы, формировавшиеся и распространявшиеся в обществе официальной пропагандой. Перед американскими вигами стояла грандиозная задача создания и навязывания самым широким массам колонистов совершенно новых представлений о метрополии, о власти и свободе, о прошлом и будущем Америки. Для этого использовались самые различные вербальные и невербальные средства пропаганды: памфлеты и газетные статьи, карикатуры и праздничные церемонии, изменения ментальной географии и «новый ряд веков». Частью общего процесса революционного изменения ментальности была и политика образов. И именно ее позволяют оценить прежде всего официальные документы Американской революции. Скажем, такой важнейший документ, как Декларация независимости США, формировал совершенно определенный образ метрополии. О восприятии лоялистов в рамках официальной пропаганды много говорит репрессивное законодательство Американской революции.
С этой точки зрения, к официальным документам могут примыкать памфлетистика, речи 4 июля, проповеди, также порой отражавшие точку зрения революционных властей на инаковость. Здесь, разумеется, многое зависело от личной позиции автора. Образы Англии и Франции, например, могли быть полярными в торийской и вигской публицистике. Известные «памфлетные дуэли» предреволюционного времени, такие как «Массачусеттензис» Д. Леонарда и «Нованглус» Дж. Адамса, «Письма вестчестерского фермера» С. Сибери и ответная серия памфлетов А. Гамильтона52, отражали не только различия политических взглядов, но и представления их авторов об Америке и метрополии. Другие образы, не имевшие столь же острой злободневности, могли быть общими для вигов и тори.
Столь же значимым источником является пресса, уверенно наращивавшая свое влияние в революционной Америке. Живо реагируя на текущие события, газеты, кроме устойчивых имагологических мотивов, ярко отражали ситуативные трансформации образов Других.
Большое значение для исследования любых тем, связанных с историей повседневности, имеют трэвелоги. Путешественники могли ошибаться в оценке распространенности того или иного явления, могли неверно его интерпретировать. Но в то же время они могли подметить феномены ментальности, бывшие для их носителей само собой разумеющимися и потому не фиксировавшиеся. В монографии использованы рассказы путешественников по колониальной Америке и позже по США, в основном с Британских островов или из Франции53. При этом следует учитывать, что в данном случае впечатления о США преломлялись через призму политических взглядов путешественника и его ожиданий, зачастую сформировавшихся еще до самой поездки. Так, английские путешественники, как правило, акцентировали внимание на антибританских протестных акциях и антилоялистской политике. Французы, в свою очередь, часто идеализировали США, воспринимая их то как руссоистский идеал близости к природе, то как реинкарнацию античной героики54. Степень надежности сообщений из трэвелогов также различна. Например, путевые заметки маркиза де Шастеллю55, прибывшего в Америку в составе экспедиционного корпуса графа Рошамбо, требуют повышенной критичности; еще современники замечали в них многочисленные неточности. Однако эти заметки все же могут быть использованы, поскольку содержат ряд интересных наблюдений за жизнью в США.
Привлечены также дневники, незаменимые при исследовании отражения имагологических мотивов в повседневной жизни людей. В монографии использованы дневниковые записи известных политиков, таких как Джон Адамс, и обычных американцев, таких как филадельфийки Сара Ив и Элизабет Дринкер, хирург Континентальной армии Дж. Тэтчер и другие56. С той же целью использованы мемуары и автобиографические произведения генерала Чарльза Ли и рядового Джозефа Мартина, купца Элканы Уотсона и будущего президента Томаса Джефферсона и др.57
Нельзя не упомянуть и такой ценный источник, как переписка. XVIII век – век расцвета эпистолярного жанра. Для данного исследования особое значение имел корпус писем делегатов Континентального конгресса в 26 томах58. Он охватывает весь период деятельности Конгресса, от его первого созыва в 1774 г., до прекращения его работы в 1788 г. Среди эпистолярных материалов есть как деловые, так и личные письма. Поскольку же делегаты Конгресса представляли все тринадцать штатов, они представляют собой репрезентативную выборку мнений белых образованных мужчин из политической элиты США, и их письма могут быть использованы как материал для контент-анализа.
Художественная литература и порождает образы Других, и транслирует уже сложившиеся в культуре стереотипы. Американская литература во второй половине XVIII века находилась на стадии зарождения, и тем не менее уже пользовалась достаточной популярностью, чтобы выполнять обе эти функции. Романы Х.Г. Брекенриджа, Ч. Брокдена Брауна, пьесы Мерси Отис Уоррен, Р. Тайлера59 демонстрируют стереотипные представления о далеких и близких Других, о Франции и о России, об индейцах и англичанах.
Историографическая традиция в Америке в изучаемое время также находилась на стадии формирования. Тем не менее, исторические труды Мерси Отис Уоррен, Дэвида Рамсея и других ранних историков60 содержат ценный имагологический материал.
Описанный круг источников, при всей обширности, накладывает на исследование определенные ограничения.
Изучение образов, существовавших в общественном сознании XVIII в., – это в основном по необходимости исследование ментальности белых мужчин из образованной элиты. Также исследование сосредоточено в основном на представлениях американских вигов. В определенной мере это оправдано, поскольку именно мужчины-виги сумели завоевать то, что А. Грамши называл «гегемонией». Именно они определяли культурный пейзаж Американской революции. Однако это не значит, что другие группы населения исследованием не затронуты. Женские дневники и письма, например, составили важную и ценную часть источниковой базы. О позиции тех, кто оставался за пределами образованной элиты, судить сложнее. В какой-то мере, о существовавших в самых широких кругах социума стереотипах позволяют узнать материалы фольклора, в частности, фразеология или народные баллады.
Глава 1. Просвещение, революция и инаковость: Социокультурные и геополитические факторы
Культурная эволюция колоний была противоречива. Впрочем, то же самое можно сказать о Европе, где просвещенческий рационализм уживался с развитием методизма и пиетизма. В Северной Америке происходили аналогичные процессы. Религия здесь сохраняла важные позиции в жизни общества. В 1730-х гг. Америку охватил мощный всплеск религиозного энтузиазма, получивший название «Великого пробуждения». Франклин так описывал его проявления в Филадельфии: «В образе жизни населения нашего города произошла поразительная перемена. Если раньше о религии не думали или были к ней безразличны, то теперь, казалось, весь свет стал религиозным; вечером нельзя было пройти по улицам города, чтобы не услышать пения псалмов, доносящегося из каждого дома»61.
В течение столетия укрепилась протестантская идентичность американцев. Единственная католическая колония – Мэриленд – потеряла свои религиозные особенности. В результате Славной революции там была установлена в качестве государственной англиканская церковь. В 1704 г. в Мэриленде было запрещено публично отправлять католические службы: служить мессу, производить крещение и венчание по католическому обряду. Была введена также пошлина в 20 шиллингов на ввоз в колонию сервентов-ирландцев, чтобы ограничить католическую иммиграцию. В 1718 г. католики были лишены права голоса. Веротерпимость в Мэриленде была, таким образом, ликвидирована.
Параллельно укреплялся традиционный для английской культуры антикатолицизм. Его развитию, как будет показано ниже, способствовали также события международной жизни. Восприятие католических стран, например, Франции и Испании было, соответственно, негативным.
Но все же XVIII век в Северной Америке, как и в Европе, стал Веком Просвещения.
Как и в Европе, здесь можно проследить, хотя и в более скромных масштабах, типичные феномены просвещенческой культуры: повышение доступности знаний, развитие средств массовой информации, стремление интеллектуальной элиты стать частью интернациональной «республики словесности» (République des lettres).
Создавались новые колледжи со светской учебной программой, такие как Королевский колледж в Нью-Йорке и Филадельфийский колледж. Дартмутский колледж был основан с целью обучения индейцев. Йельский колледж и колледж Вильгельма и Марии были реформированы: в их программы были включены натурфилософия, математика, астрономия. Похожие изменения происходили в Принстоне и Гарварде.
В колониях расширялась сеть типографий. К 1765 г. издавалось уже 43 газеты62. Их выпуск в основном был сосредоточен в северных и среднеатлантических колониях.
Создавались и библиотеки. В 1731 г. по инициативе Франклина был осуществлен сбор средств на закупку книг; их приходилось заказывать у лондонских книготорговцев, и членам франклиновской «хунты»63 с их скромными средствами такое было не по карману. В результате удалось собрать 45 ф. ст. и закупить 45 книг; большую часть из них составляли книги по истории и географии, а также путевые заметки. В числе авторов в каталоге значились Тацит и Плутарх, Пуффендорф и Алджернон Сидней. Из английской классики были выбраны сочинения Аддисона и подшивки знаменитых альманахов «Tatler» («Болтун») и «Spectator» («Зритель»). Зато религиозных сочинений поначалу вообще не было64. Пользоваться библиотечным фондом можно было по подписке. Здесь же было создано что-то вроде кунсткамеры, где хранились античные монеты, окаменелости и даже рука египетской мумии. И здесь же Франклин проводил свои первые опыты с электричеством. Так была основана «Библиотечная компания» – старейшая библиотека в Америке, действующая и по сей день. Филадельфийскому примеру вскоре последовали в других городах Америки, от Сэйлема до Чарльстона. В 1754 г. была открыта Нью-йоркская общественная библиотека, ютившаяся поначалу в одной из комнат ратуши на углу Уолл-стрит и Брод-стрит (ныне здание Федерал-холл).
В 1743 г. появилось на свет Американское философское общество во главе все с тем же Франклином.
Вопрос о роли Просвещения в идеологической подготовке Американской революции долгое время оставался дискуссионным. Крайнюю точку зрения выражал представитель школы «консенсуса» Д. Бурстин. Он доказывал, что Просвещение вообще не имеет к идеологии Американской революции никакого отношения65. С ним неожиданно солидаризировался неопрогрессист Дж. Э. Фергюсон, который считал, что Просвещение в Америке было достоянием образованной элиты66. Г.С. Коммаджер, напротив, развивал тезис о том, что в Америке воплотились в жизнь идеи «Царства Разума», выдвинутые европейскими просветителями67. Обе «крайних» точки зрения, как почти всякая крайность, мало приемлемы. США, разумеется, не были утопическим Царством Разума; Просвещение здесь никогда не достигало такого развития и распространения, как во Франции. И все же его влияние на американских революционеров становится очевидным при самом поверхностном знакомстве с их работами. В них легко найти базовые концепции, выработанные европейскими просветителями: естественное право, договорное происхождение государства, суверенитет народа и др. В настоящее время в американской историографии идет спор скорее о датировке эпохи Американского просвещения, чем о самом факте его существования. В частности, Р.А. Фергюсон предлагает датировать начало Американского просвещения серединой XVIII в.68 Дж. Макгрегор Бернс склонен относить его зарождение к первой половине столетия69.
Следует отметить, что XVIII век в Америке был эпохой смены культурных парадигм, т.е. основополагающих кодов культуры70. Уходит в прошлое господствовавшая в XVII в. парадигма, которую часто называют пуританской. Однако поскольку пуританизм господствовал далеко не во всех американских колониях и поскольку сходные особенности ментальности наблюдались и в до-просвещенческой Европе, было бы более точно назвать эту парадигму традиционной. В XVIII в. во всем ареале европейской метацивилизации она вытесняется просвещенческой культурной парадигмой71.
Просвещение претендовало на монопольное преобладание в умах людей и действительно меняло все стороны жизни европейской цивилизации. Религия рационализируется; Богу отводится роль творца Вселенной, который в дальнейшем уже не вмешивается в жизнь своего творения. Падает вера в чудеса и сверхъестественные явления. Картина мира становится абстрактно-математической. «Мир уже не Бог, – писал Д. Дидро, – а машина с колесами, веревками, шкивами, пружинами и гирями»72. Механицизм распространялся и на восприятие человека. Известное произведение Ж.О. де Ламеттри так и называлось: «Человек-машина»73. Государство также представлялось машиной. Так, Дж. Адамс писал: «Я долгое время считал армию часовым механизмом, которым следует управлять при помощи принципов и максим, столь же точных, как принципы механики… Я сильно склоняюсь к мысли, что правительство должно руководить обществом таким же образом и что это – тоже механизм»74. Возрастал интерес к точным знаниям и науке вообще. Американское Просвещение, по замечанию историка Дж. Макгрегора Бернса, при этом отличалось повышенной тягой к практическому применению наук. Знание должно было быть полезным75. Роль науки и технического прогресса в мышлении американцев XVIII в. демонстрируется частым обращением к сравнениям и метафорам, заимствованным именно из этой сферы. Так, делегат Конгресса Д. Хоуэлл называл финансовые проекты Р. Морриса «монгольфьерными», а пенсильванский политик и просветитель Б. Раш сравнивал почтовую связь с электрическими проводами.
Центральным объектом изучения в философии и науке в целом становится человек. Распространяется вера в его способность к самосовершенствованию и совершенствованию окружающей его среды. С этим связан и господствующий в просвещенческой мысли рационализм. В эпоху Просвещения он превращается в универсальный критерий при анализе любых проблем. Просветители нередко отдавали ему предпочтение перед эмпирическим опытом. Дидро писал: «Одно-единственное доказательство поражает меня больше, чем 50 фактов»76. Рационалистически, не придавая значения конкретным историческим данным, реконструировали Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и другие просветители картину происхождения государства путем общественного договора. Столь же рационалистически создаются политические и экономические программы просветителей: они всегда ориентированы не на возможное, а на разумное, и это придает почти всем проектам той эпохи оттенок радикализма и утопизма. Не случайно XVIII в. дал человечеству огромное количество утопий самого разного типа: от классических утопий, описывающих воображаемое общество, отделенное от реальности временем или пространством (Эльдорадо в вольтеровском «Кандиде», история троглодитов в «Персидских письмах» Ш.Л. Монтескье), до утопий-проектов, реализация которых в принципе допустима («Идея совершенного государства» Д. Юма; «Об общественном договоре» Ж.Ж. Руссо; трактат И. Канта «О вечном мире»).
Органически связана с предыдущей и следующая черта – отрицание традиции. Традиционное просветители почти неизменно воспринимают как неразумное, дикое, противоречащее человеческой природе, словом, не-просвещенное. Исключение делается лишь для античности: идеализированные образы античных полисов и героев греческой и римской истории прочно занимают место образцов для подражания. Статическая концепция общества, господствовавшая в XVII в., сменяется динамической: рождается понимание того, что общество меняется в зависимости от исторических условий. Не случайно именно в это время создается и утверждается оптимистическая концепция прогресса. Яркое изображение непрерывного прогресса, прекрасного даже среди жестокости мировой истории, дал молодой Ж.P. Тюрго, будущий либеральный министр Людовика XVI: «Мы видим, как образуются общества, формируются нации, которые поочередно то властвуют над другими нациями, то подчиняются им. Империи возвышаются и рушатся; законы, формы правления сменяют друг друга; изобретаются и совершенствуются науки и искусства… Корысть, честолюбие, суетная слава постоянно меняют лицо мира, заливают землю кровью; но посреди разрушений нравы смягчаются, просвещается человеческий ум; изолированные нации сближаются друг с другом; торговля и политика объединяют, наконец, все части света; и весь род человеческий… идет неизменно, хоть и медленным шагом, к все большему совершенству»77.
Представление о власти в эпоху Просвещения секуляризируется: теория «божественного права» королей окончательно уступает место представлению о государстве как о продукте общественного договора, связанном условиями договора и естественным правом. В североамериканских колониях секуляризация власти осуществлялась в самом прямом смысле. На протяжении XVIII в. теряли политическую власть различные конфессиональные олигархии, контролировавшие некоторые колонии. Уже Славная революция отняла контроль у католиков в Мэриленде и у пуритан – в Новой Англии. Куда дольше удерживали власть пенсильванские квакеры, успешно правившие местной Ассамблеей. Но их господству угрожали, с одной стороны, губернаторы, все более сближавшиеся с пресвитерианами, с другой – сложившаяся в 1720-х гг. оппозиция во главе с Франклином и известным в колониях адвокатом Эндрю Гамильтоном. В 1756 г. под давлением этих двух сил квакеры-лидеры Ассамблеи подали в отставку, и господство квакерской олигархии закончилось.
Веротерпимость считалась одним из основных признаков идеального «Царства Разума». Не случайно вступавший в «Хунту» Франклина должен был вначале подтвердить, что любит «вообще человечество, независимо от профессии и религии людей»78.
Просвещение претендовало на универсализм. Свою систему ценностей оно объявляло одинаково актуальной в любых условиях, независимо от времени и пространства. В истории это ярче всего проявлялось в попытках отождествить цели Катона, Брута и других римских республиканцев с целями революционеров конца XVIII в. «Пространственный» универсализм особенно ярко проявляется в повестях Вольтера, где носителями просветительских идеалов являются представители древневосточных народов («Задиг», «Мир, каков он есть»), или в «Индийской хижине» Бернардена де Сен-Пьера, где индийский парий наставляет путешествующего англичанина в принципах руссоистской философии.
Но одновременно просвещенческая культура демонстрировала высокую степень интереса к Другому. Именно в XVIII в. начинается осмысление этнографических данных, накапливавшихся со времени Великих географических открытий. В это время началось планомерное исследование Австралии и Океании. В североамериканских колониях и затем в США с огромным энтузиазмом изучали прошлое своего континента, от окаменевших раковин в Аппалачах до цивилизации ацтеков и обычаев современных им индейских племен. Собранный материал осмысливался в рамках различных парадигм: концепции «доброго дикаря» (Руссо, Дидро), концепции географического детерминизма (Монтескье), стадиальной теории прогресса (Тюрго, Кондорсе). Соответственно, Другой мог восприниматься как находящийся на другой стадии исторического процесса либо сформировавшийся под влиянием иной среды или иного политического строя. Человеческая природа при этом предполагалась неизменной.
Просвещение выработало жесткие критерии прогресса, который мыслился как универсальный и общий для всех времен и всех народов. В числе признаков прогресса выделялись политическая свобода и религиозная терпимость, развитие наук и искусств, в целом усвоение европейской культуры и ценностей самого Просвещения. Бюффон выработал определенную иерархию народов в соответствии как с физическими признаками, так и с развитием разума. Признаками развития разума выступали, в частности, такие признаки, как язык, законы, политический строй. В результате получалась евроцентричная картина, в которой европейцы находились на высшей ступени развития, а низшую делили североамериканские индейцы и австралийцы79. Исследователи, изучающие концепцию Другого, давно пришли к выводу, что в рамках характерной для Просвещения дихотомии цивилизация/варварство Другой часто мог рассматриваться как «варвар». Американский социолог Б. Макгрейн выделял несколько концепций Другого, сменявших друг друга от античности до XX в. Так, в Средневековье Другой воспринимался прежде всего как язычник, в эпоху Просвещения – как невежественный дикарь80. Отечественная исследовательница М.В. Лескинен также говорит о противопоставлении цивилизованных и нецивилизованных народов как об основной призме восприятия Другого в эпоху Просвещения81.
Представление о «варварстве», «дикости» – характеристика предположительно более низкой ступени развития, но она также имела расовые, этнические, социальные импликации. Дикость – это не характеристика исключительно незападных обществ. Даже в самых развитых западных странах были свои «дикари», вернее, люди, рассматривавшиеся в соответствии с этим стереотипом. В качестве «варваров» могли описываться индейцы или шотландские горцы, французские крестьяне или (в период Американской революции) лоялисты. Основанием для отнесения определенной группы к «варварам» могли быть самые различные представления о чертах, характерных для недостаточно «прогрессивных» общностей, будь то повышенная жестокость или отсутствие политической свободы. Следует сразу оговорить, что в полной мере такое представление о Другом могло быть распространено лишь в странах, составлявших ядро тогдашней западной метацивилизации. Но для народов, находившихся на ее периферии, – а именно таково было положение североамериканских колоний, – Другими были как «дикари», находящиеся на более низкой ступени цивилизации, так и представители более «цивилизованных», чем они сами, европейских народов.
Стоит также задаться вопросом, как в XVIII в. воспринимались проблемы межэтнических различий и образы различных наций. Можно констатировать, что Просвещение так и не смогло выработать единого непротиворечивого представления о проблеме национальной идентичности. С базовым представлением об универсальности человеческой природы, без которого философия Просвещения вообще немыслима, сосуществовал прямо противоположный тезис. Руссо сформулировал его следующим образом: «Свобода – это не плод, созревающий под всеми небесами, поэтому она доступна и не всем народам»82. Это предполагало признание принципиальной разницы между разными народами. Ш.Л. Монтескье создал последовательную теорию «духа законов», который должен соответствовать особенностям каждой конкретной нации. По мнению философа, «общий дух народа» определяется целым рядом факторов, причем некоторые из них носят постоянный и не зависящий от человеческой воли характер: климатом, почвой, режимом питания, религией, формой правления, историей83. Похожие идеи развивал Ламеттри. Он связывал различия между нациями с «различием пищи, которой они питаются, различием семени их предков, а также хаосом различных элементов, плавающих в бесконечном воздушном пространстве». Например, англичанам он приписывал жестокость, связанную с привычкой к бифштексам с кровью84.
«Дух народа», по Монтескье, очень устойчив, изменить его сложно, а без необходимости и не следует. Тем не менее, мудрый Законодатель может при помощи законов скорректировать некоторые национальные пороки и привить этносу отсутствовавшие ранее достоинства85. Руссо считал, что фундаментальная ошибка Петра I заключалась именно в том, что он недостаточно целенаправленно конструировал идентичность русской нации: «Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских»86. С Жан-Жаком соглашались и американские националисты. В частности, один из авторов журнала «American Museum» уверял, что «практика заимствования манер у других наций столь же абсурдна, как и пересадка апельсинового дерева в Канаду»87.
Несколько иной точки зрения придерживались К.А. Гельвеций, считавший, что характер народа зависит от господствующей системы воспитания, и неизменно популярный в предреволюционной Америке шотландский философ Д. Юм. Последний в своем эссе «О национальных характерах» склонялся к мысли, что в каждом народе определенные свойственные ему качества можно встретить чаще, чем у других наций. В то же время он подчеркивал относительность подобных характеристик: «Мы имеем основание ожидать большего остроумия и веселости от француза, чем от испанца, хотя Сервантес и родился в Испании». На национальный характер, по его мнению, влияли такие факторы, как «форма правления, социальные перевороты, изобилие или нужда, в которых живет население, положение нации в отношении своих соседей и тому подобные обстоятельства»88. А вот географические факторы, такие как климат, философ отрицал89.
Примечательно в этой теории то, что она не допускала поли-культурности в рамках одного государства90. Это представление впоследствии органично вошло в систему взглядов американской партии федералистов. Ее лидер А. Гамильтон уверял: «Безопасность республики зависит более всего от силы общенационального чувства, от единообразия принципов и привычек»91. Дж. Вашингтон считал желательной полную ассимиляцию иммигрантов92.
Интересно также, что национальная идентичность для просветителей не есть нечто, существующее от природы. Напротив, «в норме» она создается Законодателем искусственно. Следовательно, она может и изменяться; мнения философов расходятся скорее в том, легко или сложно осуществить такое изменение.
Все эти представления в той или иной мере влияли на формирование образов Других в Американской революции.
Для Америки этого периода можно составить своеобразную ментальную карту, показывающую различных Других, при сопоставлении с которыми конструировалась американская идентичность. Среди них есть «внутренние Другие» – лоялисты, которых «отцы-основатели» США рассматривали как прямую противоположность не только собственной политике, но даже собственной морали и моделям повседневности. «Близкими Другими» можно считать индейцев и канадцев, с которыми колонии вступали в постоянные контакты, будь то мирные или военные. Известным парадоксом этого периода можно считать то, что о жизни более удаленных географически европейских стран американцы зачастую знали больше, чем о непосредственных соседях. Их интерес к европейским делам был более активным, чем интерес к Канаде. Это хорошо видно на примере колониальной прессы. Так, «Pennsylvania Gazette» в 1723–1765 гг. уделяла европейским новостям до 49% своих новостных колонок. Новостям из Америки доставалось не более 21%93. Первое место среди «европейских Других» естественным образом занимала для американцев метрополия. Страны европейского континента, прежде всего Франция, также постоянно присутствовали на «ментальной карте мира». Наконец, совсем уже отдаленные страны занимали нишу «экзотических Других»: о них мало что знали, и их образ во многом формировался под влиянием европейской литературы; здесь можно назвать Россию или Турцию.
Образы Других в американской ментальности, естественно, не оставались неизменными. Среди различных факторов, влиявших на их эволюцию, можно выделить как долговременные, так и ситуативные. К первой группе относятся традиции восприятия, сложившиеся в английской культуре или относившиеся к более широкому, общеевропейскому контексту просвещенческой культуры. Ко второй группе относились текущие события, иногда радикальным образом менявшие оценку того или иного Другого, превращая заклятого врага в союзника или наоборот.
Важную роль играли особенности самого американского общества. Население будущих США в середине XVIII в. насчитывало примерно 1,2 млн переселенцев европейского происхождения и 0,25 млн афроамериканцев. Это составляло около четверти населения метрополии94. При этом численность населения быстро росла. По оценке Б. Франклина, среднее число детей в колониальной Америке составляло восемь на одну семью; шансы дожить до совершеннолетия были примерно у половины из них95.
Быстрому демографическому росту соответствовала бурная политическая, экономическая и культурная эволюция колоний.
Региональные различия, разумеется, сохранялись. В их основе лежали экономические особенности каждого из регионов, резко отличавшие плантационную экономику южных колоний от более диверсифицированного хозяйства Новой Англии и среднеатлантических колоний. Экономические характеристики отражались и на ментальности колонистов. Современники четко осознавали разницу между «аристократическим» Югом, мультикультурализмом среднеатлантического региона и пуританизмом Севера. И в то же время усвоение определенных социокультурных стандартов было характерно для всех тринадцати колоний, составивших впоследствии новое государство.
В политическом и, как будет показано ниже, в культурном отношении колониальное общество реципировало стандарты метрополии. В XVIII в. управление колониями унифицировалось. Моделью для него служило традиционное английское «смешанное правление», предполагавшее сосуществование «монархической», «аристократической» и «демократической» ветвей власти. Основным критерием их выделения в тогдашней политической философии было количество управляющих; т.е. монархия, например, отличалась не столько наследственным характером власти, сколько ее сосредоточением в одних руках. Соответственно, аристократия понималась как правление немногих, а демократия – как власть народа. В колониальных условиях «монархическую» ветвь представлял губернатор, «аристократическую» – Совет, «демократическую» – Ассамблея. Английские конституционные традиции, английское законодательство могли напрямую воспроизводиться в Америке или служить образцом для местного законотворчества.
На протяжении XVIII в. укреплялся политический контроль со стороны Лондона. Большая часть собственнических или корпоративных колоний перешла под прямое королевское управление. После Славной революции закрепилось подчинение короне Массачусетса, Нью-Гэмпшира и Нью-Йорка. В результате в Северной Америке сохранялись лишь две собственнические колонии – Мэриленд (после 1715 г.) и Пенсильвания. Две колонии оставались корпоративными – Коннектикут и Род-Айленд. Остальные принадлежали короне. Все это закрепляло в сознании колонистов представление об особой роли монархии в структуре Британской империи и, возможно, способствовало длительному сохранению наивного монархизма в Америке.
Изменялся и стиль повседневной жизни. Он приближался к европейским просвещенческим стандартам. В обычай вошла роспись потолков, стен, дверей и резьба по дереву для украшения интерьера, обои в готическом и китайском стиле. Рос спрос на дорогую мебель, изделия из серебра. В интерьере получил распространение стиль рококо.
Перемены касались не только южных колоний, где плантаторы пытались подражать английскому дворянству, но и тех, где в XVII в. господствовали конфессии, резко осуждавшие роскошь. В Филадельфии подчеркнутая простота одежды квакеров уступила место ярким, иногда даже кричащим тонам светской моды XVIII в. Местные франты начали носить кружева и украшения из драгоценных металлов. Сходную эволюцию переживала пуританская Новая Англия. Здесь, как и в политическом, и в религиозном аспекте, колонии старались приблизиться к стандартам метрополии. Английская культура также оказывала на колониальную огромное, во многом определяющее влияние.
Известный исследователь ориентализма Э. Саид сделал вывод, что колониализм проявляется не только через политическое и экономическое господство, но также через культурные практики: открытия в гуманитарных науках, анализ психологии, ландшафтные и социологические описания, в целом через конструирование Другого96. Это справедливо и в отношении североамериканских колоний в XVIII в. Историки, изучающие культурные практики колониальной Америки, обнаружили, что в этом аспекте зависимость от метрополии была очень велика и сохранялась еще долгое время после того, как была достигнута политическая независимость США. Так, современный американский историк Д. Гудмэн считает, что концепция «британскости» (Britishness) сохраняла свое значение для американцев даже через полтора столетия после 1776 г.; память об общем прошлом не уходила97.
Мало того, что постоянный приток новых переселенцев с Британских островов препятствовал креолизации колониального общества. Современные исследователи приходят к выводу, что на протяжении XVIII в. шла дополнительная «англизация» политической системы колоний, их экономики, материальной культуры, религии. Более того, тринадцать колоний накануне Войны за независимость были более «британскими», чем когда-либо прежде98. Колониальное самосознание изначально строилось на тех же базовых концептах, которые ассоциировались и с английской идентичностью; в их числе британская конституция, протестантизм. Сюда же включалось определенное представление о собственной истории, высокая оценка имперских бытовых привычек, будь то чаепитие или лондонские моды. Все это не обязательно было отвергнуто с провозглашением независимости, но могло сохраняться в трансформированном виде в постколониальной культуре. Британская драматургия, например, использовалась в революционной пропаганде. Показательным примером может служить представление пьесы Дж. Аддисона «Смерть Катона» в лагере Континентальной армии в Вэлли-Фордж. Темы патриотизма и борьбы за свободу здесь приобретали антибританский смысл. По замечанию историка Дж. Шеффера, те самые пьесы, которые должны были формировать пробританские убеждения в колониальный период, во время революции оказались проамериканскими99.
Имперская идентичность задавала определенные стандарты в восприятии Других, как, например, более низкую оценку католиков в сравнении с протестантами, абсолютистских государств в сравнении с британской конституционной монархией и т.п. Она предполагала также идею расового и этнического превосходства британцев над неевропейскими народами и европейцами неанглийского происхождения (включая шотландцев, ирландцев, валлийцев). Эту идею разделяли многие «отцы-основатели». Например, Б. Франклин в своем эссе «Наблюдения, касающиеся умножения человечества» (1751) мечтал о чисто «белой» Америке, причем должной белизной кожи в его глазах не обладали не только неевропейские народы, но и большинство европейцев. По его суждению, смуглотой отличались не только испанцы, итальянцы, французы, но также шведы, русские и большая часть немцев. Подобные соображения вступали в противоречие с просвещенческим универсализмом, и завершал Франклин чем-то вроде извинения: «Но, возможно, я неравнодушен к цвету кожи моей страны, ибо такая пристрастность естественна для человечества»100.
Зато по отношению к Англии сами колонисты испытывали чувство неполноценности. Франклин отмечал господствующее в колониях «восхищение всем британским»101. Жительница Южной Каролины Элиза Пинкни противопоставляла жизнь в Англии, «посреди сцен развлечений и удовольствия в свете, ученых занятий и утонченных забав у себя дома», и прозябание в американской глуши, где кроме визитов, нечем рассеять скуку102. Один из лидеров патриотического лагеря Дж. Отис вопрошал: «Разве обитатели Британской Америки все – сосланные воры, грабители и мятежники или происходят от таковых?» И пытался доказать, что в колониях можно встретить родичей Стюартов и Тюдоров103, выдавая тем самым, насколько важна для него позитивная идентификация с метрополией.
Из метрополии заимствовался не только образ ее самой, но и некоторые внешнеполитические установки. Прежде всего, это касалось Франции. XVIII столетие вошло в историю международных отношений как «вторая столетняя война» между Францией и Англией. Со стороны Англии она имела ярко выраженный идеологический смысл, воспринималась как борьба за свободу и протестантскую веру против тирании и католицизма. Католическая религия при этом, уже в силу исторического опыта Англии, считалась способствующей возникновению деспотизма. Знаменитый виргинский оратор П. Генри писал: «Религия Рима, кровавая, идолопоклонническая и враждебная протестантизму, всегда будет толкать своих приверженцев на попытки, роковые для всех, кто отличается от них религиозной и гражданской политикой»104. Устойчивость стереотипа была связана и с тем, что он уходил корнями в глубинные структуры просвещенческой ментальности, для которой Миф о Свободе и Тирании был одним из базовых элементов. На нем строилось все великолепное здание тогдашней политической философии.
Согласно выводам современных исследователей, Франция была для Великобритании XVIII в. «конституирующим Другим», при сравнении с которым определялась ее собственная идентичность105. Соответственно, в XVIII в. в английской культуре уже сложился стереотипный образ Франции, сочетающий политический и религиозный деспотизм, неравенство и порой неприятные для англичан бытовые привычки. Великий английский лексикограф С. Джонсон рассуждал: «Знать во Франции купается в роскоши, остальные же бедствуют. У них нет того, что есть у нас, – золотой середины, среднего сословия»106. И конечно, Франция воспринималась как постоянный и непримиримый враг. Недаром в одной из английских комедий того времени порох получал псевдонаучное наименование pulvis antigallicus107. Соответствующий образ Франции был воспринят в североамериканских колониях Англии и распространен также на французские колонии: Луизиану и Канаду.
На примере конкретных образов Других можно проследить взаимодействие традиционных стереотипов, укоренившихся в культуре, и ситуативных представлений, навеянных текущими событиями.
Глава 2. Отчуждение Другого: Англия
Одним из ключевых событий, изменявших восприятие Британской империи и ее противников в Америке, стала Семилетняя война (1756–1763). Она стала центральным эпизодом «второй столетней войны». Она имела два театра боевых действий – в Европе, где основными участниками конфликта были Австрия и Пруссия (Россия также выступала на стороне Австрии), и в Америке, где Англия вела боевые действия против Франции. Военные действия здесь начались еще до официального объявления войны, с вооруженных столкновений в Канаде в 1754–1755 гг.
До 1758 г. перевес оставался на стороне французов. Но осенью 1758 г. британский премьер-министр Уильям Питт-старший перебросил в Америку значительные подкрепления, которые и решили исход противостояния. Для Британской империи переломным стал 1759 год. Ее войска одержали победы при Миндене и Кибероне, и писатель Г. Уолпол иронизировал: «Мы должны каждое утро спрашивать, что за победа одержана, – из опасения пропустить какую-нибудь»108. Для судеб Америки особенно важным событием стало взятие Квебека. В мае 1759 г. англичане высадились в долине р. Св. Лаврентия. 13 сентября они под командованием генерала Вольфе одержали решающую победу на Полях Авраама (ныне пригород Квебека). Еще через год был взят Монреаль. Французская Канада была покорена. По итогам войны Великобритания получила внушительное приращение своих владений; она вытеснила французов из Индии, получила опорные пункты на западном побережье Африки, не говоря уже о Канаде. Согласно Парижскому миру 1763 г., Франция потеряла почти все свои владения на североамериканском континенте. Все это во многом предопределяло то восторженное отношение к метрополии, которое ярко проявлялось у колонистов в 1760‐х гг. Историк Т. Брин отмечал, что для части колонистов Семилетняя война приобретала характер крестового похода, а победа Вольфе на Полях Авраама была равнозначна триумфу протестантизма над католицизмом109.
Но Семилетняя война имела и гораздо менее благоприятные последствия для Британской империи. Британский историк П.М. Кеннеди приходит к выводу, что даже самые процветающие и самые модернизированные государства XVIII в. не могли финансировать войны, не создавая при этом государственный долг. В частности, расходы Великобритании во время Семилетней войны составили более 160,5 млн ф. ст.; более 37% расходов при этом были покрыты за счет займов110. Современники вполне осознавали масштаб проблемы. «Войной в Америке министерство ввело нас в тягчайшие расходы», – констатировал Сэмюэль Джонсон111.
Было и еще одно обстоятельство, связанное с завоеванием Канады. Еще в XIX в. британский историк Дж.Р. Грин считал возможным вести начало Соединенных Штатов именно отсюда; военные победы в Новом свете уничтожили угрозу, страх перед которой привязывал колонистов к метрополии, а заодно и открыли им путь на Запад вплоть до Миссисипи112. После окончания Семилетней войны североамериканские колонии Англии находились в состоянии перманентной нестабильности.
Премьер-министр Р. Уолпол в свое время говорил, что вводить налоги в Америке не рискнет: «Этой мерой я вооружил против себя Старую Англию; неужели вы думаете, я захочу повторить это с Новой?»113 Но по итогам Семилетней войны у метрополии, собственно, не было выбора. Столкнувшись с сопротивлением в Англии, британское правительство, начиная с 1763 г., искало выход из положения в использовании ресурсов империи. В 1764 г. были повышены пошлины на ввоз в Америку ряда товаров, в частности, сахара и испанских вин. Ужесточались ограничения на торговлю американских колоний между собой, с Великобританией и с третьими странами. Были предусмотрены новые репрессивные меры против контрабандной торговли.
В первые годы после Семилетней войны были приняты и другие меры, призванные упрочить контроль метрополии за колониями и их экономикой. За ними стоял не только кабинет министров, но и король Англии Георг III, вступивший на престол в 1760 г. и являвшийся сторонником жесткой колониальной политики. Денежный акт 1764 г. окончательно запрещал выпуск колониальной бумажной валюты. Не случайно В.В. Согрин выделял 1764 год в качестве отправной точки развития революционной идеологии114. В октябре 1763 г. был принят Аллеганский акт, запрещавший жителям колоний селиться западнее Аллеганских гор.
22 марта 1765 г. английский парламент принял печально известный Акт о гербовом сборе. Предполагалось, что он даст казне метрополии до 60 тыс. ф.ст. в год. Налогом облагались все печатные издания, официальные документы, брачные контракты, торговые соглашения и прочие документы, писавшиеся на гербовой бумаге. Во многих случаях гербовый сбор в несколько раз увеличивал стоимость сделки или покупки. За нарушение закона предусматривались суровые наказания.
Гербовый сбор вызвал массовый протест в колониях. В октябре 1765 г. по инициативе Массачусетса был созван межколониальный конгресс в Нью-Йорке. В его работе приняли участие девять колоний. Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Джорджия, Виргиния не были представлены, хотя и прислали сообщения о своей солидарности. Конгресс принял Декларацию прав и жалоб британских колоний в Америке, а также петицию к королю и парламенту с просьбой отменить гербовый сбор. 1 ноября 1765 г., день вступления Акта о гербовом сборе в силу, было объявлено днем траура. Кампания против гербового сбора сопровождалась бойкотом английских товаров, что, по мысли американцев, должно было заставить английских купцов потребовать от короля и парламента выполнить пожелания колоний.
В ходе конфликта в колониях сложились два основных политических лагеря. Защитники прав американских колоний называли себя патриотами или вигами; сторонники подчинения метрополии – лоялистами или тори.
Но с самого начала дело не ограничивалось просто появлением в колониях новых политических партий. Современный исследователь К. Грассо с полным основанием подчеркивает, что протесты против гербового сбора создавали в Америке альтернативный политический дискурс, причем такой, который тори отказывались признавать115. Тори и виги становились друг для друга «враждебными Другими». Их структура ценностей, картина мира, ментальность были различны и с течением времени отличались все больше.
Ментальность американских вигов эволюционировала от традиционной парадигмы с ее признанием естественности иерархии в человеческом обществе, статической картиной мира и ценностями закона, порядка и традиции, к просвещенческой парадигме, с ее культом разума и прогресса, с ее стремлением к уничтожению разнообразных форм неравенства.
Структура ценностей вигов и тори на ранних стадиях конфликта и сходна, и различна. Например, обе партии равно провозглашали высшую ценность свободы. Но для тори М. Говарда свобода – это свобода британских подданных, и заключается она прежде всего в личных правах. Она – необходимый элемент знаменитой локковской триады: жизнь – свобода – собственность – и в этом качестве имеет отношение лишь к индивидам. Колонии в своем корпоративном качестве обладают лишь теми правами, которые метрополия пожелала им даровать и которые явно выражены в хартиях. Формула «No Taxation without Representation» для Говарда не входит в понятие свободы.
С самого начала конфликта вигские памфлетисты подчеркивали иной аспект свободы: она возможна лишь там, где существует народный суверенитет. Уже в 1764 г. Т. Фитч писал: «Согласно конституции, системе управления и законам Великобритании, англичане являются свободным народом. Их свобода состоит главным образом, если не целиком, в следующей общей привилегии: “Никакой закон не может быть создан или аннулирован без их согласия, данного через их представителей в парламенте”»116. Такое подчеркивание народного суверенитета, в целом, не характерно для английской конституционной мысли117, но нельзя сказать, что оно вовсе не было известно английскому Просвещению. Впечатляет совпадение аргументации американских патриотов со сходными по тематике «Письмами Суконщика» и другими памфлетами Дж. Свифта, посвященными положению Ирландии. «Шестая [причина благосостояния всякой страны заключается] в том, чтобы народ управлялся только теми законами, кои учреждены с собственного его согласия, ибо в противном случае он не будет свободным. А потому все мольбы о справедливости и просьбы о благосклонности и привилегиях, обращенные к чужому государству, свидетельствуют лишь о бессилии страны», – писал Свифт118.
Обе партии в равной мере делали основанием своей этики гражданскую добродетель, т.е. активное служение родине и предпочтение ее блага личным интересам. Но и добродетель они понимали по-разному. Для вигов она заключалась прежде всего в борьбе за свободу, для тори – в умении жертвовать частными колониальными интересами во имя блага империи. Виги считали, что даже в относительно спокойные периоды постоянная готовность к борьбе за свободу является нормой поведения. «Постоянная ревностная забота о свободе совершенно необходима во всяком свободном государстве», – подчеркивал Дж. Дикинсон119. Отказ от борьбы за свободу, по их мнению, ни при каких обстоятельствах не мог быть оправдан и заслуживал самого сурового осуждения. Говард же описывал идеальную модель поведения в терминах безусловного подчинения, но также и в терминах отказа от группового и личного эгоизма. Он ставил в пример беспокойным американским вигам поведение английских копигольдеров, также лишенных права участвовать в выборах парламента: «Они не выражают свое частное недовольство против конституции своей страны, но с радостью подчиняются тем формам правления, под власть которых их в своей благости поместило Провидение»120.
Не удивительно, что обе партии с трудом понимали друг друга. Для вигов тори были единственным Другим, чей образ не включал никаких положительных коннотаций. Так же воспринимали своих идеологических противников тори.
Размах протестного движения в колониях был таков, что 18 марта 1766 г. правительство метрополии было вынуждено аннулировать Акт о гербовом сборе. Одновременно был принят Декларативный акт, или, как его еще называли, Акт о верховенстве, подтвердивший власть парламента над колониями во всех вопросах. Но правительство не отказалось от мысли о налогообложении колоний. В июне-июле 1767 г. были одобрены парламентом Акты Тауншенда, названные по имени предложившего их английского министра финансов. Первый из них предполагал пустить сборы от таможенных пошлин на продукцию английских мануфактур, ввозимую в Америку, на выплату жалованья королевским чиновникам и судьям в колониях. Таким образом, колониальная администрация приобретала источник дохода, не зависящий от колониальных Ассамблей. Этот акт лишал Ассамблеи традиционных средств давления на исполнительную власть. Второй акт предписывал создание Американского таможенного управления, которое должно было обеспечить точное соблюдение всех законов о торговле. Наконец, третий приостанавливал деятельность нью-йоркской Ассамблеи, которая не согласилась с условиями Акта о постое 1765 г. Акты Тауншенда предсказуемо привели к новому обострению отношений метрополии с ее колониями.
В апреле 1771 г. злополучные акты были отменены. Сохранялась лишь пошлина на чай как подтверждение права парламента вводить налоги в колониях. Эти меры оказались недостаточными и запоздалыми. Протесты против Чайного акта были не менее масштабны, чем во времена Гербового сбора. Кульминацией их стало Бостонское чаепитие 16 декабря 1773 г.
В ответ на это событие в 1774 г. Англия приняла ряд репрессивных законов, известных как «нестерпимые акты». Первый из них устанавливал блокаду бостонского порта, куда впредь допускались лишь корабли, снабжавшие английский гарнизон в городе или осуществлявшие каботажный подвоз продовольствия. Второй изменял хартию Массачусетса, заменял выборный Совет назначаемым и давал губернатору право назначения судей. Третий обеспечивал защиту королевских чиновников: согласно ему лица, преступившие закон в ходе подавления мятежей или обеспечения сбора налогов, направлялись для суда в Англию или любую английскую колонию по выбору губернатора. Четвертый предусматривал расквартирование британских войск в любых нежилых помещениях по выбору офицеров. К «нестерпимым актам» примыкал Квебекский акт. Он устанавливал в Квебеке французское гражданское законодательство и поземельные отношения феодального типа, гарантировал свободу католического вероисповедания и в то же время расширял территорию колонии Квебек до р. Огайо на юге и до р. Миссисипи на западе. Жителям других британских колоний было запрещено там селиться. Квебекский акт задевал религиозную идентичность американцев, а поскольку в Квебеке не предусматривалось представительных учреждений, то он казался воплощением традиционного кошмара протестантов: сочетания католицизма, феодализма и абсолютизма. Американцы расценили новое законодательство как попытку установления деспотизма в Америке.
Особое значение для сплочения всех патриотических сил имел созыв осенью 1774 г. Первого континентального конгресса, на котором были представлены двенадцать колоний (помимо Канады и Флориды, от участия в его работе воздержалась Джорджия). Конгресс осудил Квебекский акт и «нестерпимые акты». Были одобрены резолюции графства Суффолк (Массачусетс), призывавшие жителей колонии не платить налоги, создавать и обучать отряды милиции, полностью разорвать экономические отношения с метрополией. На Конгрессе была принята «Декларация прав и жалоб» колонистов, требовавшая от метрополии отмены актов, «направленных на порабощение Америки». Но наиболее важным документом, принятым на Конгрессе, была «Ассоциация» – соглашение о запрете импорта и потребления любых товаров из Великобритании и Ирландии, а также о прекращении экспорта колониальной продукции в Англию и английские колонии. Решения Конгресса получили широкую поддержку.
Непосредственным развитием этого противостояния и стала революция.
В феврале 1775 г. английская Палата общин объявила Массачусетс в состоянии мятежа. В апреле король приказал губернатору колонии направить против мятежников регулярные части, конфисковать у них оружие и боеприпасы и арестовать лидеров революционного Провинциального конгресса Массачусетса. В ночь на 19 апреля 700 королевских гренадеров, высадившихся с кораблей, двинулись к городку Конкорд, где располагались склады с боеприпасами массачусетской милиции. Война за независимость США началась.
Историк Б. Ирвин приходит к выводу, что Американская революция была также культурной войной, направленной на пересмотр традиционных социальных привилегий, гендерных ролей, сложившихся представлений об эстетике роскоши и общественной морали121. Изменения касались также национальной идентичности.
В данном вопросе между вигами и тори в 1760‐х гг. еще не было различия. И те, и другие осознавали себя прежде всего британскими подданными, частью английского народа, переселившейся в Америку. Виргинские резолюции по поводу гербового сбора настаивали на том, что основатели колонии принесли с собой в Новый свет «все привилегии и иммунитеты, которыми в разное время обладал и пользовался народ Великобритании»122. И это довольно естественно, так как лица английского происхождения составляли около 60% белого населения колоний123. Для дискурса лоялистов в высшей степени характерно обозначение Великобритании словом «home» («родина», «метрополия», «дом»), обладающим в английском языке устойчивыми положительными коннотациями и ассоциирующимся с образами семьи, домашнего очага, уюта. Но подобное «home» нередко можно встретить и в патриотических памфлетах 1760‐х гг. Однако к началу 1770-х годов положение меняется. Американские виги все в меньшей степени сознают себя англичанами.
Прежде чем перейти к разбору образов Англии, сложившихся в Америке, будет не лишним отметить, что в XVIII в. Англия была предметом восхищения во всем ареале европейской метацивилизации. Виднейшие мыслители эпохи превозносили ее экономическую и военную мощь, совершенство ее неписаной конституции. Представители всех английских политических партий – от тори до радикалов – сходились в убеждении, что живут в самой свободной стране мира. В этом смысле Англия традиционно противопоставлялась своей сопернице – абсолютистской Франции.
Б. Франклин выражал пожелание: «Я молю Бога надолго сохранить для Великобритании английские законы, нравы, свободы и религию»124. Массачусетский виг Дж. Отис писал: «Самые тонкие писатели самых политичных наций европейского континента очарованы красотами гражданской конституции Великобритании и не в меньшей мере завидуют свободе ее сынов, чем ее огромному богатству и военной славе»125. Восторженное преклонение перед Англией в высшей степени характерно для ранней стадии англоамериканского конфликта. Для лоялиста Говарда англичане – это народ, «достигший вершины славы и могущества, предмет зависти и восхищения для окружающих его рабов, народ, который держит в руках равновесие Европы и затмевает искусствами и военной силой любой период древней или новой истории»126. Для патриота О. Тэтчера Англия – «страна свободы, гроза тиранов всего мира», она «достигла таких высот славы и богатства, каких не знала ни одна европейская нация с тех пор, как пала Римская империя»127. Эта восторженность, возможно, отчасти объясняется эйфорией от победы Англии в Семилетней войне. Не случайно Отис высказывал мечту о всемирной империи под владычеством короля Великобритании128.
Неудивительно, что на этой стадии конфликта даже самые радикальные виги не помышляли об отделении от империи. Даже «регуляторы», восставшие в Северной Каролине, клялись в своей «твердой привязанности к благам британской конституции»129. В Декларации Конгресса Гербового сбора говорилось о «неизменном долге наших колоний перед лучшим из суверенов, нашей метрополией»130. Мерси Отис Уоррен позднее комментировала «страстную привязанность членов [Конгресса Гербового сбора] к стране-родительнице и их страх перед окончательным разрывом»131. В таком случае, был ли обостряющийся конфликт «внешним» для колоний? Нет. Британская империя вовсе не была для американцев внешним врагом: они сознавали себя и были на самом деле частью Британской империи. Конфликт зародился внутри империи, а не вне ее.
В первой половине 1770‐х гг. дискурс британской идентичности, равно как и восприятие метрополии как части «своего» мира стали маркером тори. Очень показательны в этом смысле памфлеты нью-йоркского лоялиста С. Сибери, написанные в 1774 г.
Сибери гордился тем, что происходит от первых английских поселенцев в Америке; здесь его корни. И в то же время он считал себя англичанином. В этом смысле показательно, что колонию Нью-Йорк он обычно называл «эта колония», «эта провинция» (this colony), в то время как Англия в его дискурсе обозначалась как «home». Правительство Великобритании для него – «наше правительство» (our government). Может быть, ничто не показывает разницу мироощущения Сибери и его оппонента-вига А. Гамильтона так ярко, как следующий маленький диалог. Сибери писал об имперском правительстве: «Наше собственное правительство является смесью всех видов, и верховная власть принадлежит королю, аристократии и народу, т.е. королю, палате лордов и палате общин, избираемой народом»132. Гамильтон просто не понимал подобного словоупотребления. Он отвечал на приведенную фразу: «Человек, который прочтет лишь этот пассаж вашего памфлета, заключит, пожалуй, что вы говорите о нашем губернаторе, Совете и Ассамблее, которых вы “в высоком штиле” именуете королем, аристократией и народом. Ибо как можно вообразить, что вы могли назвать нашим собственным какое-либо правительство… в котором наш собственный народ не имеет ни малейшей доли? Если наше собственное правительство состоит из короля, аристократии и народа, то как случилось, что наш собственный народ в нем вовсе не участвует?»133
Основная антитеза, определяющая весь строй мысли Сибери, – это противопоставление «порядка» и «хаоса». Британская империя в целом для него являлась торжеством разумно организованного, иерархического, идеально гармоничного порядка. В целом, это – очередное воплощение статического мира М. Говарда и других лоялистов 1760‐х гг.134 Америка – воплощение «хаоса» – вносила в этот застывший в своем законченном совершенстве мир элемент динамичности, ассоциирующийся у лоялистов с дестабилизацией, дисгармонией.
С этой антитезой связана еще одна, не менее важная – противопоставление «закона» и «беззакония». И снова в глазах Сибери Британия являлась воплощением и гарантом незыблемости закона. Любопытно, что «закон» в его представлении обладал теми же характеристиками, что и «порядок»: он совершенен, неизменен, статичен. «Закон» Англии, высшим носителем которого являлся английский парламент, противопоставлялся «беззаконию» Америки, воплощением и источником которого был Континентальный конгресс.
Все это определяло роли, которые Сибери отводил Америке и Англии в своем видении Британской империи.
Основные характеристики Англии – представление о ее естественном верховенстве над Америкой, о военном и экономическом могуществе, а также о политической свободе. Сибери был убежден, что английская конституция обеспечивает права и свободы подданных лучше, нежели любая другая135. Экономическое положение Великобритании вызывало у него подлинную экзальтацию: «Флот Великобритании внушает почтение всему земному шару. Ее влияние простирается на все концы света, ее мануфактуры сравнятся с кем угодно и превосходят мануфактуры большей части мира. Ее богатства огромны. Ее народ предприимчив и упорен в своих стараниях расширить, увеличить и защитить ее торговлю»136. «Ассоциация», таким образом, не могла нанести британской экономике сколько-нибудь заметного ущерба. Потеряв американский рынок, Англия была в состоянии найти новые рынки сбыта в Португалии, России, Турции. Льняное семя, доставляемое в Ирландию из Америки, могло быть замещено его импортом из балтийских государств и Голландии. Вест-Индия теряла зерно, которое поставляют Пенсильвания и Нью-Йорк, но поставки зерна могла обеспечить Канада; или же острова Вест-Индии будут снабжать себя сами. Древесину туда можно было ввозить из Квебека и Флориды. Словом, американские колонии отнюдь не являлись необходимой частью Британской империи137. Военная мощь Англии была такова, что обрекала на неудачу все попытки к сопротивлению138. Подводя итог, Сибери писал: «Вы, сэр, считаете Великобританию старой, морщинистой, одряхлевшей ведьмой, которую может безнаказанно оскорблять всякий выскочка, слоняющийся по улице? Вы обнаружите, что это крепкая матрона, приближающаяся к цветущему пожилому возрасту, и у нее хватит духа и сил, чтобы наказать своих непослушных и буйных детей»139.
Наконец, он был убежден в доброжелательности Англии по отношению к колониям: «Какое бы мнение о правительстве метрополии ни внушили вам интриганы, я уверен, что оно примет нас в дружеские объятия, что оно прижмет нас к своей груди, к своему сердцу, если только мы дадим ему такую возможность»140.
Америка во многих отношениях представляла собой инвертированный образ Англии. Англия богата и могущественна; Америка экономически неразвита и зависима. Англия свободна; Америка находится под властью деспотического Конгресса. В Англии царит стабильность, нарушить которую не может даже «Ассоциация»; Америка находится в состоянии хаоса. Образ Англии привлекателен и вызывает симпатию; образ Америки рисуется отталкивающим.
Что касается вигов, то по мере развития их движения они все больше обособлялись от Англии, вначале лишь ментально. Американские виги все в меньшей степени сознавали себя англичанами. Ключевыми были годы 1770–1775. Именно в это время происходил резкий психологический перелом, начавшийся с Бостонской резни и связанной с ней пропагандистской кампании.
Речь род-айлендского вига С. Доунера, произнесенная в 1768 г. по случаю посадки «древа свободы», отражала переходное сознание. Он еще говорил о правах «англичан», которые колонисты унаследовали еще от основателей Новой Англии, но тут же отвергал эмоциональную связь с прародиной141. Определение колонистов как «англичан», «британцев» можно найти и в более поздних вигских текстах, но большинство их имеют любопытную особенность: они рассчитаны «на экспорт» и адресованы метрополии. Так, Дж. Адамс напоминал о том, что новоанглийцы все еще сохраняют дух англичан времен республики. Он же писал с убежденностью и страстью: «Тщетно, безумно надеяться силой отнять (dragooning) свободу у трех миллионов англичан»142. При этом в обоих случаях письма Адамса были адресованы в Лондон. Аналогично Первый континентальный конгресс риторически вопрошал, «почему английские подданные, живущие в трех тысячах миль от королевского дворца, должны пользоваться меньшей свободой, чем те, что живут в трех сотнях миль от него?»143 И вновь показательно, что цитата взята из обращения Конгресса к подданным Великобритании.
При этом следует оговорить, что еще и в 1775 г. у многих вигов сохранялись остатки самоидентификации с англичанами в восприятии английской истории как «своей» и Англии как части той особой территории, на которой все события и явления имеют дополнительный мифологический смысл144. Характерны также карикатуры П. Ривира. В то время как Георг III и его министры изображены карикатуристом в роли злодеев, плетущих заговор против свободы Америки, Британия четко им противопоставлена. Как правило, она представлена в виде женской фигуры, оплакивающей безумие своих политиков145. Только с началом Войны за независимость процесс разрушения британской идентичности завершается. Лишь тори по-прежнему считали себя англичанами, но не американцами146.
Можно проследить, как виги все менее осознавали англичан как часть «своего» народа. Характерен здесь пример молодого Гамильтона. Для него в 1774–1775 гг. Англия – отнюдь не «home», а английский парламент не только не является «нашим» правительством, но кажется столь же чуждым, как Великий Могол, который имеет ровно столько же прав издавать законы для Америки. Чаще всего он употребляет нейтральные обозначения «Великобритания», «Британия», иногда «parent state». Как ни парадоксально, недавний иммигрант Гамильтон ощущает себя американцем в значительно большей мере, чем потомок первых поселенцев Сибери, и уже не испытывает никакого чувства лояльности в отношении империи. В текстах других вигов образ метрополии также обрастал негативными коннотациями.
2.1. Родина-мать
Семья как метафора общества, а также как зародыш будущего государства – традиционная часть просвещенческого дискурса. «Сын родился подле отца и подле него остался: вот вам и общество и причина его возникновения», – так видел начало социума Ш.Л. Монтескье147.
Для колониальной политической метафорики характерны патерналистские образы, в которых Британия предстает в роли родительской фигуры, Америка – в роли ребенка. Для тори этот ребенок рисуется непослушным и неблагодарным148. Для вигов, как для С. Адамса, – это сильный юноша, много сделавший для укрепления государства-родителя, но оскорбленный несправедливостью последнего149. Сходный образ рисовал и Гамильтон. Будущий автор «гамильтоновской системы» был убежден, что через 50– 60 лет Америка уже не будет нуждаться в защите со стороны Великобритании. Тогда Америку будет связывать с метрополией только «долг благодарности»150.
В ролях старой матроны и юной девушки-бунтарки предстают Британия и Америка в популярной песне «Революционный чай»:
- У старухи у леди ломилась от злата казна,
- Но за жадность, должно быть, лишил ее разума Бог,
- И, призвав свою дочь, объявила однажды она,
- С каждым мигом все больше серчая:
- «Ты отныне платить дополнительный будешь налог
- По три пенса вдобавок за фунт золотистого чая,
- По три пенса вдобавок за фунт!»151
Довольно рано в вигском дискурсе появляется и отторжение метафоры семьи в данном контексте. Уже в 1765 г., отвечая на фразу Тауншенда, сравнивавшего американских колонистов с неблагодарными детьми, взращенными «снисходительностью» империи, английский радикал И. Барре возмущался: «Дети, взращенные вашей заботой? Нет! В Америку их привели ваши репрессии!»152 Дикинсон завершал одно из своих «Писем Фермера» изящной овидиевской цитатой: «Mens ubi materna est?»153 С. Адамс развивал метафору, предположив, что, по-видимому, американцев считают не законными детьми, а бастардами154.
После провозглашения независимости эта метафора исчезла из образности англо-американских отношений. О. Уолкотт и Г. Моррис упоминали ее лишь в прошедшем времени155, а Дж. Адамс – с откровенным сарказмом: «Нам нечего ждать от нашей любящей родины-матери, кроме жестокости»156.
Об изменениях в ментальности можно судить по частоте упоминания словосочетаний «mother country» и «parent state» в письмах делегатов Конгресса (табл.)
Однако тот же образ возник вновь в применении к американскому Западу; здесь уже в роли «родителя» выступали восточные штаты. Запад, с их точки зрения, не достиг «зрелости» и не мог непосредственно перейти к самоуправлению. Таковое должно быть ему предоставлено по мере «взросления». Первый губернатор Северо-западной территории А. Сент-Клер озвучил этот концепт в своей речи, заявив, что система «колониального» управления – временная, приспособленная к «младенческому состоянию» территории157.
Таблица. Частота упоминаний «родины-матери» в письмах делегатов Континентального конгресса158
2.2. Тирания
Традиционные характеристики Англии как страны свободной, процветающей и благожелательной к колониям активно пересматривались. Все чаще американцы обращали внимание на недостатки английской неписаной конституции, например, на непропорциональное представительство в парламенте. Лексикограф Н. Уэбстер уверял, что привилегии англичанина, конечно, велики, если сравнить их с положением польского крепостного, но превращаются в ничто, если сравнить их с «вечными и неизменными правами человека»159.
Гамильтон пытался переосмыслить традиционные представления об английской свободе. Не «смешанное правление» и не приверженность традиционной конституции делали Англию свободной. Свободу этой страны Гамильтон видел прежде всего в принципе народного суверенитета, заложенном в английской конституции. Это позволяло ему заключить, что свобода Англии вовсе не гарантирует свободу ее колоний. «Сама по себе Великобритания – свободная страна, но это так лишь потому, что ее обитатели имеют свою долю в законодательном органе. Если однажды они ее лишатся, они перестанут быть свободными. Так что если ее юрисдикция распространяется на другие страны, которые не участвуют в ее законодательной власти, эта власть становится по отношению к ним деспотической», – пишет он160. В примечании к этому месту Гамильтон цитировал своего любимого философа Д. Юма, который, в частности, утверждал, что свободные страны в наибольшей мере угнетают свои колонии161. В этом смысле он сопоставлял Британскую империю с Древним Римом; плачевное положение его провинций было общеизвестно162.
Одна из газет во время Войны за независимость опубликовала характерный образчик патриотической поэзии:
- Прекрасная Вольность воздвигла в Британии трон,
- Но продажны ее сыновья и не ценят ее,
- И богиня покинула низкий народ,
- Чтобы честь обрести в наших горах163.
Глубоко укоренившееся представление об английской свободе не исчезло. Даже в 1788 г. П. Генри, которого трудно заподозрить в англомании, с гордостью напоминал о «наших славных предках из Великобритании, которые сделали свободу основанием всего»164. И в то же время виги критиковали английскую конституцию; осознавали, что свобода англичан не может гарантировать свободу американцев; фантазировали в духе translatio imperii на тему о том, что английская свобода каким-то образом переместилась в США.
Вопрос об источнике угнетения мог решаться по-разному. Очень долго таковым предполагалась относительно небольшая клика противников Америки в британском министерстве и парламенте165.
Мерси Уоррен это оспаривала. В своей пьесе «Поражение» она вкладывала в уста злодея-британца реплику:
- Слабые усилия нашей маленькой клики
- Никогда бы не привели к успеху, будь Британия мудрой,
- Не склоняй она слуха к алчности, задрапированной
- В плащ, какой носят друзья добродетели166.
Здесь уже ответственность за антиамериканские меры возлагалась на Британию в целом.
Стоит отметить, что далеко не сразу объектом критики стал король. Наивный монархизм в Америке сохранялся еще и в первый год Войны за независимость.
2.3. Экономика. Роскошь и коррупция
Экономическое могущество Великобритании также оказывалось под вопросом. Континентальный конгресс несколько презрительно отзывался о «славе» бывшей метрополии, как о «всецело искусственной», исходящей «только от торговли»167.
Развернутую характеристику английской экономики перед Войной за независимость давал Гамильтон. Он видел отнюдь не блестящее экономическое положение Англии: «Что до ее богатства, то хорошо известно, что над ней тяготеет огромный национальный долг. Чтобы выплатить его когда-либо, потребуются чудеса политики и экономии. Роскошь достигла предела, а универсальная максима гласит, что роскошь указывает на упадок государства. Ее подданные обложены чудовищными налогами. Все обстоятельства согласно свидетельствуют о ее кризисе»168. Так что он попросту высмеивал декламацию тори по поводу «всемогущества и самодостаточности Великобритании»169. Он свободно цитировал английских экономистов меркантилистского толка: М. Постлетуэйта, У. Бьюса и др. Опираясь на их авторитет, Гамильтон утверждал, что низшие слои Англии разорены и едва сводят концы с концами; фермерам трудно платить ежегодные налоги. Размеры эмиграции свидетельствуют о невыносимых условиях жизни в Шотландии и Ирландии. При этом Великобритании угрожает торговое соперничество других стран. Франция вытесняет ее с испанского, португальского и турецкого рынков. Россия столь активно развивает собственные мануфактуры, что вскоре сможет отказаться от импорта британских товаров. Поэтому невозможно вообразить, чтобы потеря прибыльной и обширной торговли с колониями не была ощутимым ударом, тем более для страны, которая, как считалось в XVIII в., живет главным образом за счет торговли170. В этом он был прав: в американские колонии шло около трети экспортируемого Англией сахара-рафинада; около половины изделий из меди, железа, стекла и керамики, шелка, фланели, набивных хлопчатобумажных и льняных тканей; от двух третей до трех четвертей английского такелажа, гвоздей, бобровых шапок171.
Б. Франклин пытался основать представление о слабости Британии на надежном статистическом фундаменте. Об этом он писал своему лондонскому другу, химику Дж. Пристли. По подсчетам Франклина, к моменту сражения при Банкер-хилл Британия потратила три миллиона и убила 180 американцев, причем в Америке за это время родилось 60 тыс. детей. «Из этих данных математический ум может легко вычислить время и расходы, потребные, чтобы убить нас всех и завоевать всю нашу территорию», – заключал философ172.
Не все разделяли его оптимизм. С. Уорд, делегат от Род-Айленда, вспоминал, что Нидерланды сражались с Испанией в течение шестидесяти лет, и прикидывал, не продлится ли Война за независимость США хотя бы четверть этого срока173. Дж. Адамс также предполагал, что война может затянуться на двадцать лет174. А вот коннектикутец О. Уолкотт был уверен, что американцы смогут постоять за себя – со временем даже на море, где Англия считает себя владычицей175.
Симптомами кризиса метрополии считались роскошь и коррупция, господствовавшие в Великобритании176.
Даже сравнительно доброжелательные портреты англичан включали представление об испорченности. Генерал Чарльз Ли оставлял выразительное описание английского командующего У. Хоу: «Я нашел его дружелюбным, искренним, добродушным, смелым и скорее разумным, чем наоборот. Я все еще верю, что он таков от природы. Но порочное образование или, скорее, отсутствие такового, мода и господствующее среди англичан (особенно военных) идолопоклонство перед любым коронованным теленком, волком, боровом или ослом совершенно испортили его ум и сердце»177. Массачусетец Э. Джерри приходил к безапелляционному заключению: не только правительство, но и весь народ Великобритании «совершенно развращен и лишен добродетели»178.
Предполагалось, что монархизм наряду с роскошью ведут Британию к гибели. Северокаролинский делегат У. Хупер патетически обращался к бывшей метрополии: «Твое величие разрушено; роскошь и богатство со свитой из всех пороков влекут тебя в бездну»179.
Так же прочно Великобритания ассоциировалась с коррупцией. П. Генри восклицал, имея в виду английскую конституцию: «Взгляните, как подкуп и коррупция уничтожают прекраснейшее творение человеческой природы!»180 Коррупция господствовала как внутри самой Англии, так и в ее международной политике. Комитет по индейским делам в 1779 г. пытался объяснить делаварам различие между англичанами и американцами. Различие предположительно состояло в том, что англичане действовали «обманом и подкупом»181. Побаивались и коррупции в собственных рядах вигов. Не случайно в патриотической пропаганде постоянно мелькали «пенсионеры» английского двора, «наемники» министерства.
Подводя своеобразный итог, мэрилендец С. Чейз заключал: «Когда я размышляю об огромном влиянии короны, о коррупции, превращенной в искусство управления, о продажности избирателей (источнике всех зол) и неоднократном нарушении конституции парламентом внутри страны, о деспотической системе колониальной администрации… у меня не остается ни малейшей надежды на справедливость, гуманность, мудрость или добродетель британской нации»182.
2.4. Нестабильность
По мнению нью-йоркского антифедералиста Меланхтона Смита, хваленая конституция Великобритании никак не обеспечивала стабильности: страна постоянно становилась ареной революций и гражданских войн; парламенты бывали распущены; королей изгоняли, а то даже и казнили183. Эта не слишком лестная картина очевидным образом контрастировала с традиционной идеализацией британской свободы. Пенсильванский просветитель Б. Раш был уверен, что мятежи и восстания происходили в Великобритании даже чаще, чем в любой стране континентальной Европы184. Речь не названного по имени делегата Конгресса, перепечатанная в 1775 г. в английских газетах, включала то же представление: «Проследите историю нашей родной страны. Увидите ли вы борьбу англов против данов, данов против саксов, саксов против норманнов, баронов против государей-узурпаторов, или гражданские войны алой и белой розы, или сражения народа с тираном Стюартом, – вы увидите ее в состоянии непрерывной войны». Правда, в дальнейшем оратор все же делал оговорку, что посреди всех потрясений Британия «процветала и становилась сильнее»185.
2.5. Жестокость
Рассказы о жестокости англичан появились в Америке еще до Войны за независимость и даже до «бостонской резни». Видимо, начало их следует искать в событиях 1768 г., когда для усмирения мятежного Бостона из Англии прибыли регулярные войска.
В ответ Сэмюэль Адамс начал, пожалуй, самую успешную из своих пропагандистских кампаний – кампанию по демонизации английских войск, расквартированных в Бостоне. Солдаты подверглись полному бойкоту. Само их присутствие до предела накаляло атмосферу. И Сэмюэль Адамс, вне сомнений, нес немалую долю ответственности за этот процесс. Кампания началась еще в 1768 г., сразу после прибытия войск в Бостон. В газетах регулярно появлялись статьи Сэмюэля, подписанные изысканными латинскими девизами – «Principiis obsta»186 в «Boston Gazette» и «Cedant arma togae»187 в «Boston Post». Затем он начал серии «Кандид» в «Boston Post», «Vindex»188 в «Boston Gazette». В это же время под десятком псевдонимов выходили его статьи в «Boston News-Letter». Он объявил расквартирование войск в Бостоне беспрецедентным нарушением английских законов и предсказывал установление в Массачусетсе военного правления и тирании. «Там, где появляется военная сила, – пророчествовал Адамс, – распространяются армейские принципы, несовместимые с самой идеей гражданской власти. Вскоре они ее уничтожат… Солдатами правят не законы их страны, а закон, созданный специально для них. Это может со временем приучить их считать себя особым кланом, отличным от остальных людей. А поскольку они и только они имеют в руках меч, то могут рано или поздно начать рассматривать себя как владык, а не слуг народа… Они могут даже создавать законы сами для себя и навязывать их силой меча!» Все это просто не соответствовало действительности. Соединения, расквартированные в Бостоне, подчинялись гражданским чиновникам. Если бы в Бостоне, скажем, начался мятеж, солдаты могли быть посланы для его подавления только по распоряжению мирового судьи, отнюдь не собственных офицеров. Итак, Адамс создавал нагромождение весьма спорных вероятностей и превращал его почти в уверенность при помощи указания на «амбициозный» и «алчный» характер губернатора, контролирующего английские войска в городе. И вот уже он призывал сопротивляться, «пока это еще в нашей власти»189.
Призывы подкреплялись довольно жестким «черным мифом». Бостонские газеты неделю за неделей выплескивали на своих подписчиков истории о жестокости английских солдат, расквартированных в Бостоне (американские историки журналистики называют этот феномен «atrocity stories»). Имена жертв, как правило, не назывались, и есть все основания полагать, что ни капли правды в этих рассказах не было. Вот образец новостей такого рода: «12 декабря 1768 г. Замужняя леди из этого города прошлым вечером шла из одного дома в другой, когда ее схватил солдат, который повел себя очень грубо. Близ Лонглейн одна женщина была остановлена несколькими солдатами, один из которых кричал: “Хватай и тащи ее!”… Несколько горожан мирно переходили улицу вечером и были сбиты с ног солдатами… Таковы образцы того, что нам следует ожидать от наших новых защитников спокойствия»190. Сообщения из приведенной серии расходились по всему континенту. Под общим заголовком «Boston Journal of Occurrences» они перепечатывались в «Boston Evening Post», «New London Gazette», «Pennsylvania Journal», «Maryland Journal», «South Carolina Gazette», а также в двух «Virginia Gazette»191.
Кое-кто из историков полагает, что все эти статейки – плод неутомимого адамсовского пера192.
Эта пропагандистская кампания продолжалась более двух лет, не ослабевая, пока 5 марта 1770 г. не произошло реальное и довольно серьезное столкновение бостонцев и солдат, известное под названием «бостонской резни». Раздраженные насмешками горожан, солдаты открыли огонь. Четверо бостонцев было убито на месте, восемь ранено. Один из раненых скончался через несколько дней193.
Статьи Адамса, посвященные «резне», могут служить ярчайшим образцом «atrocity story».
Нет сомнений, что это событие стало предметом столь бурного негодования патриотов, а позднее прочно вошло в историческую память американцев прежде всего благодаря манипулятивным талантам Сэмюэля Адамса и Поля Ривира. Небольшой факт может служить доказательством от противного. В январе того же 1770 г. в Нью-Йорке британские солдаты уничтожили «столп свободы», воздвигнутый местными патриотами. Результатом стала стычка, причем в ход пошли ножи, камни, дубины. Несколько ньюйоркцев и солдат были тяжело ранены. Однако ведущая вигская газета колонии – «New York Journal» Джона Холта – никак не использовала представившуюся возможность мобилизации масс и… события вокруг «столпа свободы» прошли совершенно незамеченными общественным мнением.
Совершенно иначе обстояло дело в Бостоне. На следующий же день после столкновения С. Адамс произнес пламенную речь в Фанейл-холле, требуя немедленного вывода войск из города. Поль Ривир проявил чудеса оперативности, создавая гравюры с изображением происшедшего – столь же далекие от реальных событий, как речи и статьи Адамса194.
Событиям 5 марта был посвящен специальный выпуск «Boston Gazette». Сообщение, вопреки существующему обыкновению, было снабжено заголовком, набранным самым крупным и жирным шрифтом, какой только нашелся в типографии: «Бостонская резня!!!!!» В передовой статье Адамс представлял случившееся как результат провокации со стороны солдат, коловших горожан штыками и затем, в ответ на несколько снежков, брошенных мальчишками, открывших огонь. Капитан Престон, командовавший отрядом, будто бы воскликнул: «К черту, стреляйте, каковы бы ни были последствия!» Далее следовало еще множество деталей того же рода, в том числе сообщение, что солдаты стреляли в людей, пытавшихся помочь раненым195. На третьей странице того же номера были помещены изображения четырех гробов с именами погибших. Следует иметь в виду, что иллюстрации в газетах оставались явлением редким и необычным; тем сильнее должно было быть их эмоциональное воздействие.
Адамс искусно связывал «резню» с уже привычными и принятыми на веру историями о жестокости британских солдат и представлял ее как закономерный итог расквартирования частей в Бостоне: «Хорошо известно, что с самой высадки их поведение было в высшей степени наглым; и таким, словно они… действительно верили, что мы – народ мятежников и что их послали нас усмирить. Уже некоторое время до 5 марта они часто оскорбляли людей, мирно проходивших по улицам, и много раз угрожали, что в эту самую ночь по улицам Бостона потечет кровь и многие из тех, кто будет обедать в понедельник, не будут завтракать во вторник»196.
В последующих публикациях Адамс заявлял, что улицы Бостона «покраснели от крови наших сограждан», что «кровожадные» английские солдаты «проливали кровь граждан, точно воду», и прочее в том же духе197.
Триумф был полным: войска вынуждены были покинуть Бостон. В месте с ними бежали таможенные чиновники, опасавшиеся остаться беззащитными против революционной толпы.
«Atrocity stories» постепенно примелькались. Жительница Бостона Сара Деминг при известии о столкновениях в Конкорде и Лексингтоне в панике бежала из города. Она описывала свой поспешный отъезд: «До возвращения дилижанса мистер Деминг нанял другой, и пока мы ждали, я могла бы собрать множество необходимых вещей – но никто в этот день не занимался делом, все постоянно приходили и уходили; все мешали друг другу; один за другим принесли рассказ о каком-то новом случае солдатского варварства, имевшем место накануне»198. Такие рассказы о «солдатском варварстве» явно не были новостью для миссис Деминг. В конце концов, они составляли привычный фон бостонской жизни уже не один год.
Начало Войны за независимость сопровождалось просто взрывным ростом числа рассказов о жестокости англичан. Кто-то испытал на себе действительно негуманное обращение, кто-то знал об этом по слухам. К тому же на англичан возлагали ответственность за поведение их союзников – гессенцев и особенно индейцев.
Конгресс в 1775 г. констатировал: англичане подарками побудили индейцев взяться за томагавк и залить поселения на фронтире кровью беззащитных женщин и детей. «Вот утонченная жестокость, о которой нельзя говорить без ужаса, к которой нельзя прибегать, не обесчестив себя», – высокопарно отмечали конгрессмены199.
А гессенцы! Нью-йоркский политик Дж. Дуэйн гадал, не собираются ли они, «подобно всем иным варварам», установить свое собственное господство на руинах Америки200. Истории о грабежах и насилиях гессенских наемников повторялись постоянно201.
С не меньшим ужасом передавали рассказы о бесчеловечных условиях содержания американских пленных на тюремных кораблях. Под конец войны Ф. Френо посвятил гневную поэму плавучим тюрьмам, «где обитают скорби и страданье»202. У.Г. Дрейтон, делегат Конгресса от Южной Каролины, напоминал членам миссии Карлайла203 о том, как пленники гибли на таких кораблях от голода, недостатка воздуха, антисанитарии204.
Жестокость рисовалась как имманентная черта англичан. Мерси Уоррен, в качестве историка, напоминала, что их свирепость проявлялась не только в Америке. Разве иначе они вели себя в Индии?205
Президент Конгресса Г. Лоуренс подытоживал: «Целый том можно заполнить отчетами об их варварстве»206.
Словом, Великобритания рисовалась как законченное воплощение деспотического режима – неизменно враждебная и бессмысленно жестокая. Англичан представляли способными на любые зверства. Лейтенант Континентальной армии Бенджамин Джилберт был уверен, что англичане совершили «все жестокости, какие только могут совершить подлейшие из людей»207. Хирург Дж. Тэтчер вторил ему: англичане «представляют картину варварства, какую едва ли можно вообразить среди цивилизованных народов»208.
Френо вкладывал в уста Георга III яростный призыв:
- Спешите, слыша барабанов бой:
- Король Георг зовет вас за собой;
- Свободу дам, не пожалею мзды;
- Ко мне, друзья, – из тюрем, из беды;
- Я вас хочу отправить в Новый Свет,
- Там грабьте, жгите – в том проступка нет209.
В ходу были и откровенные преувеличения. Так, виргинские делегаты были убеждены, что генерал Хоу вел против Континентальной армии настоящую бактериологическую войну. Иначе зачем он подверг оспопрививанию бостонцев, попавших в его руки?210 Мерси Уоррен гадала, угощал ли Бергойн своих индейских союзников кубками с кровью211.
Англия в глазах революционеров связывалась с образами Антихриста и дьявола. Проповедники часто обращались к аналогии между Американской революцией и освобождением евреев из плена египетского, причем Георгу III отводилась роль жестокого фараона212. Массачусетец Дж. Ловелл прибегал к апокалиптической образности и библейским оборотам, призывая своего друга Дж. Трамбулла: «Препояшься своим мечом; приготовь свой доспех; ибо зверь в яром гневе против тебя. Дыхание уст его подобно пламени горнила. Желчь его стекает до самых когтистых лап его»213. Без сомнения, адресат легко угадывал, кто именно подразумевался под столь колоритно описанным чудищем. Библейские метафоры дополнялись распространенными суевериями. Так, виргинец Джон Рэндольф, будущий политик джефферсоновской партии, родившийся в 1773 г., в детстве носил амулет, призванный отгонять хворь – и англичан214. Т.е. англичане воспринимались уже не как реальные люди, а как некие демонические сущности, на которые можно воздействовать магическими средствами.
Представления о жестокости, «варварстве» англичан, видимо, более, чем все остальные пропагандистские приемы вигов, способствовали распаду британской идентичности в колониях. Выразительно восклицание Абигайль Адамс: «Те, кто без угрызений совести несут тысячам людей разорение, нищету, рабство и смерть, не остановятся и перед самыми дьявольскими преступлениями. И это Британия! Красней же, Америка, что ты когда-то возводила свое происхождение к подобному народу!»215
2.6. Независимость от империи
Элифалет Дайер встречал новый 1776-й год пожеланием: «Даруй, Боже, чтобы этот год стал годом американского освобождения от тирании, угнетения, беззаконной и враждебной власти Великобритании»216.
И он не был одинок в своем пожелании. Некоторые надежды на сохранение империи жили долго. Конституция Нью-Йорка, принятая уже в 1777 г., все еще должна была оставаться в силе, «пока будущий мир с Великобританией не сделает ее ненужной»217. И тем не менее, к 1776 г. распад империи уже не так однозначно воспринимался как несчастье. Дж. Уоррен, виг из Массачусетса, писал о настроениях в его родной провинции в феврале 1775 г.: «Иногда говорят даже об открытом разрыве с Великобританией как о положении, которое предпочтительнее нынешнего неопределенного состояния дел. И хотя верно, что люди все еще питают очень теплую привязанность к британской нации, она явно угасает»218.
Америка и Великобритания к этому времени все чаще противопоставлялись друг другу. Их интересы мыслились противоположными. Виргинец Ф.Л. Ли уверял в апреле 1776 г.: «Я чувствую глубокую заинтересованность в безопасности и счастье Америки. В сравнении с этим интересы Британии легче перышка на весах»219. Той же весной многие видные виги уверяли себя и окружающих, что независимости от Великобритании желают или должны желать абсолютно все американцы220. Мерси Уоррен позднее интерпретировала процесс отчуждения от метрополии в неоклассических терминах: «Они (патриоты. – М.Ф.) готовы были поклясться, подобно Ганнибалу против Рима, и связать своих сыновей клятвой вечной ненависти к самому имени Британии»221.
Сама концепция независимости превращалась в ядро революционной утопии, а также в ядро национального самосознания американцев. В конечном итоге, революционная американская идентичность строилась прежде всего на противопоставлении англичанам и английскому. Этот процесс отражен в опыте молодого Дж. Маршалла. Позднее он вспоминал: «Я вырос в то время, когда любовь к Союзу и сопротивление притязаниям Британии были неразделимы… Я впитал эти чувства столь полно, что они стали частью моего существа. Я принес их с собой в армию, где утвердился в привычке считать Америку своей страной»222. И в дальнейшем, несмотря на определенное смягчение отношения к бывшей метрополии, во время кризисов образ Великобритании как врага неизменно возвращался223. В массовом сознании утвердился ряд устойчивых оппозиций. Англия ассоциировалась с монархизмом, тиранией, роскошью, порочностью и жестокостью; Америка – с республиканизмом, свободой, умеренностью, добродетелью и гуманностью. Это противопоставление буквально пронизывает ментальность периода Американской революции, отражается и в официальной пропаганде, и в быту.
Глава 3. Образ прошлого: английская история
Как уже говорилось, в 1760-х – 1770-х гг. в американских колониях Англии шел процесс разрушения общебританской идентичности и формирования новой. В подобные переходные эпохи закономерным образом активизируется историческая мифология. Исторический миф трактуется как «механизм, обеспечивающий воспроизведение коллективной идентичности через постоянные отсылки к сюжетному повествованию об «общем прошлом», к его ключевым моментам и персонажам»224. Сюда же включаются риторические традиции и интерпретативные шаблоны, сложившиеся на основе исторической памяти. Подобные мифы могут формироваться вокруг определенных событий, предполагаемых состояний общества в прошлом или отдельных исторических деятелей. Процесс был стимулирован в данном случае особенностями просвещенческой ментальности. Просветители были убеждены, что мотивы человеческих действий качественно одинаковы в разные эпохи225; следовательно, исторические прецеденты не могут не сохранять свою актуальность для современной ситуации. Соответственно, прошлое любой страны было для носителей просвещенческого сознания неотделимо от ее настоящего. Частью образов прошлого в американском общественном сознании оставались образы английской истории. Джефферсон, например, искал корни американской свободы в легендарных вольностях англосаксов226. Другие виги подбирали в качестве псевдонимов для своих памфлетов имена героев Английской революции: Гемпден (Дж. Отис), Кларендон (Дж. Адамс) и др., хотя по частотности такие псевдонимы заметно уступали именам персонажей античной истории. Ключевые моменты, выделяемые американцами из английского прошлого, это: англосаксонский период, норманнское завоевание, принятие Великой хартии вольностей, две революции XVII в. На американцев заметно повлияла британская просвещенческая историография, прежде всего, такие ее представители, как Дэвид Юм (1711–1776) и Кэтрин Маколей (1731–1791). Основной труд Д. Юма – «История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.» – по существу, первая попытка дать полную и связную историю страны. 6-томник был издан в 1754–1762 гг. и быстро получил статус влиятельной работы. По признанию современников, успех трудов Юма был неслыханным. В центре внимания автора – события политической истории, хотя он уделяет внимание религии, нравам эпохи, культуре и явлениям духовной жизни. В основе периодизации у Юма – царствования династий и королей, но движущую силу общественного развития он видит в прогрессе идей, знания и морали. Юм задумал воссоздать подлинную, а не легендарную конституционную историю Англии, узловым пунктом которой должны были выступить гражданские войны середины XVII века.
Кэтрин Маколей представляла левое крыло партии вигов в историографии XVIII в. Ее центральная работа – «История Англии от восшествия на престол Якова I до воцарения Ганноверской династии» – включала восемь томов и была доведена до 1689 г. В замыслы автора входило довести историю Англии до современного ей периода, но эта работа не была окончена. «История» К. Маколей была высоко оценена как в Англии, так и за рубежом. Ее известность носила несколько скандальный характер. Причиной тому были как радикальные взгляды Маколей, нехарактерные для английской историографии XVIII в., так и сам факт, что женщина взялась за написание исторического труда. Так, содержащиеся в IV томе ее сочинения рассуждения об интимной жизни Карла I шокировали современников: обращение женщины к этой стороне жизни было сочтено неуместным227. Тем не менее, ею восхищались У. Питт-старший, Дж. Пристли, Дж. Уилкс. Французские революционеры, такие как Мирабо, Бриссо, Кондорсе, считали, что она удачно исправляет торийскую концепцию Юма. Мирабо организовал перевод 8-томной «Истории» К. Маколей на французский язык228. У американцев была особая причина внимательно относиться к историческим взглядам Маколей: как и другие английские радикалы, она симпатизировала американским вигам. В 1784–1785 гг. Маколей осуществила поездку по США, где встретила самый теплый прием. Драматург и историк Мерси Отис Уоррен отзывалась об английской гостье как о «леди необычайного таланта». Дж. Вашингтон принимал ее у себя в Маунт-Верноне229. Свою работу К. Маколей рассматривала как альтернативу исторической «доктрине деспотической власти», а свою цель видела в том, чтобы воздать должное тем выдающимся предкам, которые «возвысили стяги свободы против тирании» и отстояли права и привилегии английского народа.
Трактовка Великой хартии и других конституционных документов Великобритании была заимствована американцами из влиятельных юридических комментариев Э. Коука.
3.1. «Саксонский миф»
Исторические концепции века Просвещения часто строились по схеме «изначальные вольности» – утрата свободы в силу некого катаклизма, в духе известного парадокса, открывающего «Общественный договор» Ж.Ж. Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах… Как совершилась эта перемена? Не знаю»230. Целая серия национальных исторических мифов, связанных с франками во Франции, новгородской вечевой республикой в России и т.п., призвана была объяснить, «как совершилась эта перемена».
В американском историческом сознании соответствующую функцию выполнял «саксонский миф». Его можно сформулировать примерно следующим образом: англосаксы до прихода Вильгельма Завоевателя были свободным народом. Ими управлял витенагемот, состоящий из племенных вождей, их короли были выборными. Саксы не знали феодальной системы. В XIII в. англосаксонское наследие привело к принятию Великой хартии. Своеобразным наследником витенагемота стал парламент. Вырисовывалась простая и четкая историческая схема: свободолюбивые саксы против норманнских тиранов.
Современные исследователи историографии подчеркивают, что кельтское прошлое Британии в просвещенческих исторических работах игнорировалось либо излагалось очень кратко231. Зато «саксонский миф» к XVIII в. довольно прочно укоренился в английской историографии. Это легко проследить на примере популярных в Америке работ Кэтрин Маколей. Историк считала отправной точкой в развитии британской истории древний англосаксонский период, когда были заложены основы конституционного устройства страны. В то время было создано истинно представительное демократическое правление, а также парламент (витенагемот). Парламент в дискурсе историка XVIII в. возник не случайно. Для просвещенческой исторической традиции характерно использование терминов, которые не являлись аутентичными, но были знакомы авторам и читателям. Англосаксонские реалии модернизировались, а значит, модернизировалось представление о самих англосаксах. Кэтрин Маколей, как и ее американские читатели, не осознавала сущностного различия между парламентом XVIII в. и раннесредневековыми институтами типа витенагемота. Как подчеркивала историк, в англосаксонский период не только депутаты парламента (витенагемота), но и короли были ответственны в своих действиях перед народом. Тогда же определились основополагающие принципы английской конституции, по которым каждому жителю страны были обеспечены и гарантированы свобода и безопасность. Мудрые монархи, такие как король Альфред, соблюдали установленные с общего согласия законы и правили, учитывая интересы народа. Восхищение, которое Маколей питала к королю Альфреду, было столь велико, что даже ее дом именовался Альфред-хаус, а бюст англосаксонского короля украшал ее гостиную232.
Как писала Маколей, трагическую роль в истории страны сыграло норманнское вторжение. Оно «нанесло роковой удар по расширенной системе Свободы, введенной в употребление англосаксами», и внесло «засорение в англосаксонскую конституцию»233. Норманны уничтожили или ослабили действие демократических институтов, усилили королевскую власть и поставили на место обычного права феодальный закон. В дальнейшем Реформация, соединив в одном лице политическую и церковную власть, создала предпосылки для установления деспотического режима. И со времен Генриха VIII страна неуклонно двигалась к рабству и общественному краху. Однако борьба за восстановление нарушенных прав и свобод народа не прекращалась. Она достигла своей кульминации в середине XVII в., когда в результате десятилетней гражданской войны английский народ «полностью подчинил деспотическое семейство Стюартов и сверг тиранию, учрежденную норманнским захватчиком»234.
Взгляды Маколей в данном случае слабо опирались на исторические факты. «Саксонский миф» представлял мифологизированную картину истории Англии. Именно с ним английские радикалы связывали представление о «древней конституции» своей страны, которую уничтожил Вильгельм Завоеватель. Как уже говорилось, К. Маколей связывала «древнюю конституцию» с королем Альфредом. Менее известный английский радикал О. Хьюм считал принципами правления в англосаксонский период выборность всех ветвей власти, одногодичные парламенты (имеется в виду витенагемот), отсутствие аристократии. Похожим образом описывали англосаксонскую «древнюю конституцию» и другие английские радикалы235.
Для американцев «саксонский миф» был привлекателен по ряду причин. «Древняя конституция» в силу своей крайней неопределенности легко могла быть применена к американской ситуации и поддавалась различным истолкованиям гораздо легче, чем, например, Великая хартия. Представление о героической борьбе за свободу против чужеземных захватчиков не могло не вызвать сочувствия американских патриотов, ведь они и сами воспринимали себя как наследников былых героев Британии. Американцы легко могли применить повествование о норманнском иге к собственной ситуации. Король Георг III также был иностранцем, как и Вильгельм. Наконец, как уже говорилось, около 60% белого населения будущих США составляли в это время выходцы с Британских островов236. Они совершенно естественным образом ассоциировали себя со «своими саксонскими предками». Не случайно в современных США «саксонский миф» прочно увязывается с нативизмом. Отчасти так было и в XVIII в.
Массачусетский патриот Дж. Куинси взывал одновременно к теням англосаксов и «отцов-пилигримов»: «Если бы кровь древних британцев наполняла наши вены, если бы дух наших прародителей жил в нашей груди, разве мы колебались бы хоть мгновение, прежде чем предпочесть смерть жалкому существованию в рабстве?»237 Джефферсон рекомендовал включить англосаксонский язык в программу преподавания Университета Виргинии, а на гербе США предлагал изобразить ютских вождей Хенгиста и Хорсу, «к которым мы имеем честь возводить свой род»238. Он же включил «саксонский миф» в свой «Общий обзор прав Британской Америки». В этой работе он также говорил о «саксонских предках», общих для англичан и американцев, и об учрежденной саксами в Британии «системе законов, которая так долго была славой и защитой этой страны»239.
Общее представление об англосаксонском периоде британской истории и о «древней конституции» американцы полностью позаимствовали у английских радикалов. Так, Дж. Адамс, подобно К. Маколей, писал о конституции Британии, существовавшей со времен «неизмеримой древности». Он же утверждал, что Палата общин (витенагемот? – М.Ф.) и суд присяжных были частью английского законодательства еще во времена саксов240. Джефферсон подчеркивал, что «правильный источник происхождения английского государства – англосаксонский»241. Мерси Уоррен перечисляла основные принципы свободного правления: разделение властей, суд присяжных, неприкосновенность личной свободы и частной собственности. И подытоживала: «Таковы были права человека, привилегии англичан и требования американцев, таковы были принципы саксонских предков Британской империи»242. Просвещение не было привержено принципу историзма, и Уоррен не замечала, как нелепо ассоциировать просвещенческие принципы конституционализма с ранним средневековьем.
Нетрудно заметить, что американцы рассматривали «древнюю конституцию» англосаксов не как нечто специфически британское, а как часть своего общего с англичанами наследия. Так, преподобный С. Купер в своей проповеди говорил о том, как основатели Массачусетса принесли с собой из Англии «обширную хартию свободы»243, имея в виду, похоже, неписаную английскую конституцию. Более того, американские патриоты доказывали, что их собственное законодательство ближе к идеальному образу саксонских вольностей, чем английское, искаженное норманнским завоеванием. Так, У. Пирс, делегат Континентального конгресса от Джорджии, с гордостью отмечал, что Америка не знала ни «норманнских судебных поединков, ни великих лордов, восседавших на головах многочисленных держателей-тенантов»244. Джефферсон также обращал внимание на то, что в Америке (как и у саксов) отсутствовали феодальные отношения. Он приходил к выводу: «Америка не завоевывалась Вильгельмом Норманнским, и ее земли не подчинялись ни ему, ни кому-либо из его преемников. Несомненно, все владения носят аллодиальный характер»245. (Под аллодом Джефферсон имел в виду современную ему частную собственность на землю, а не феодальную собственность без всякой подати, с безусловным правом отчуждения.)
3.2. Magna Carta
Следующим этапом английской истории, на который американские виги обращали особое внимание, была Великая хартия вольностей. Этот документ по праву считается краеугольным камнем британского конституционализма. В 2015 г. англоязычный мир торжественно отметил его 800-летие. В XVIII в. Великая хартия ценилась в Англии столь же высоко. Писатель О. Голдсмит утверждал: «Эта хартия имеет силу и до наших дней и является знаменитым оплотом английской свободы»246. С точки зрения Д. Юма, Великая хартия «обладала незыблемым авторитетом и во все времена рассматривалась как священный и нерушимый договор между королем и народом»247. Юрист Эдуард Коук в своих «Установлениях законов Англии» считал, что к Великой хартии восходят «все фундаментальные законы королевства». С его точки зрения, она восстанавливала «старинную конституцию» англосаксонских времен, нарушенную норманнскими королями248.
Американцы, в свою очередь, еще со времен основания колоний охотно прибегали к авторитету Великой хартии. Еще в XVII в. понятие «Великая хартия» прилагалось к самым разным колониальным законодательным актам (начиная с инструкций Виргинской компании губернатору Джорджу Ярдли в 1618 г.). Нью-йоркская Хартия вольностей 1683 г. включала Великую хартию, Петицию о праве и Habeas Corpus Act. Но на документ было наложено королевское вето. Порой доходило до курьеза. В середине XVIII в. в Виргинии был принят закон, запрещавший давать юридические консультации за гонорар. Губернатор и колониальный совет закон не одобрили, но пообещали его поддержать, если он согласуется с Великой хартией249. Сама по себе такая постановка вопроса, между прочим, показывает, как мало были знакомы виргинские власти со столь высоко ценимым документом. Специальный комитет изучил текст хартии и, разумеется, не нашел в нем ничего, что противоречило бы спорному закону.
Накануне и во время Американской революции упоминания о Великой хартии были делом обычным. Это не удивительно. Американцы (особенно на начальной стадии конфликта с метрополией) воспринимали себя как британцев. И, соответственно, отстаивали традиционные британские вольности, на которые, как они полагали, они имели все права. И вот «Boston Gazette» 17 августа 1767 г. напечатала на своей первой странице «Петицию о праве» 1628 г., а на следующей неделе опубликовала выдержки из Великой хартии. Печать штата Массачусетс, принятая в 1775 г., изображала патриота, держащего в руке все ту же Великую хартию. Т. Пейн советовал включить в будущую конституцию США Билль о правах, «соответственно тому, что в Англии называют Великой Хартией вольностей»250. Массачусетский виг Дж. Отис ссылался на тот же документ как на авторитетное подтверждение прав колонистов251.
Но насколько Великая хартия повлияла в действительности на американский конституционализм? В современной историографии есть попытки доказать, что статьи Великой хартии сохранили свою силу и влияние в более поздней конституционной традиции252, оказали прямое влияние на американское законодательство253. Сходная точка зрения характерна и для американских историков254. Но не случайно Петрушевский трактовал Великую хартию как «очень деловой документ, трактующий об очень конкретных фактах»255. Ее положения в XVIII в., через пять с половиной веков после ее создания, уже не могли быть применены к новой ситуации, тем более на другом континенте, по крайней мере, в неизменном виде. Разумеется, не могли быть востребованы статьи, отражавшие конкретные претензии баронов к Иоанну Безземельному. Но и статьи общего характера не всегда оказывались нужны американским вигам.
Совершенно не использовалась, например, статья 1: «чтобы английская церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями неприкосновенными»256. Причина очевидна: американцы не были заинтересованы в поддержке англиканской церкви. В тех колониях, где она была официально господствующей (Виргиния), шла борьба за отделение церкви от государства. Естественно, не пригодились американцам статьи, посвященные порядку наследования фьефов и бароний. Без употребления осталось и средневековое законодательство, относящееся к положению должников.
Зато статья 12 легла в основу американской предреволюционной идеологии. Но при сравнении ее текста с тем, что вчитывали в нее американцы, становится очевидным «зазор» между Великой хартией как текстом и как культурным конструктом. Статья 12 формулировалась следующим образом: «Ни щитовые деньги, ни пособие (auxilium) не должны взиматься в королевстве нашем иначе, как по общему совету королевства нашего (nisi per commune consilium regni nostri), если это не для выкупа нашего из плена и не для возведения в рыцари первородного сына нашего и не для выдачи первым браком замуж дочери нашей первородной; и для этого должно выдавать лишь умеренное пособие; подобным же образом надлежит поступать и относительно пособий с города Лондона». Король имел право требовать «щитовые деньги» с баронов по своему личному усмотрению, и Иоанн Безземельный широко этим правом пользовался. По замечанию Д.М. Петрушевского, «было вполне естественным со стороны баронов и это его право поставить под контроль феодального сейма из непосредственных его вассалов»257. В условиях Америки все это не имело непосредственного применения. Статья была истолкована в совершенно новом духе.
При этом архаичные условия о выкупе короля из плена, возведении в рыцари его старшего сына и т.п. были просто проигнорированы. Понятие «общий совет королевства», которое та же Великая хартия определяет как совет высшего духовенства и знати (ст. 14) было предельно расширено: американцы относили его как к английскому парламенту, так и к собственным колониальным ассамблеям. То, что говорилось о «щитовых деньгах», было распространено вообще на любые налоги. Таким образом рождалась универсальная формула «No taxation without representation», несомненно, восходящая к Великой хартии, но весьма далекая от ее конкретного содержания. Именно так – предельно расширяя и модернизируя средневековый текст, – ссылались на Великую хартию Дж. Адамс и Дж. Отис258. Адамс при этом хорошо знал оригинальный текст и свободно его цитировал. Отис же опирался на комментарии Коука. Но их трактовки рассматриваемой статьи при этом примечательным образом совпадали.
Любопытна также эволюция одной из самых известных статей хартии – ст. 39: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по закону страны». Эта статья относилась, собственно, к баронам: только они пользовались привилегией суда пэров259. Но в данном случае формулировка «свободные люди» позволяла легко расширить ее толкование, так что она стала обоснованием суда присяжных («приговор равных его»). Разумеется, и в этом случае были выброшены архаичные моменты: «мы не пойдем на него и не пошлем на него». Именно таким образом цитировал Великую хартию Дж. Адамс, обосновывая право американцев на суд присяжных260. Итоговая трансформация текста ст. 39 включена в V поправку к конституции США: «Ни одно лицо не должно (…) лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры»261. Поправка VI гарантирует «приговор равных его» – суд присяжных, хотя формулировка совершенно отлична от Великой хартии.
Еще одной статье хартии американцы придали фундаментальное значение. «Отец американской юриспруденции» Дж. Уилсон во время дебатов Второго континентального конгресса заявлял: «В Великой хартии есть клаузула, которая дает народу право захватывать королевские замки и сопротивляться ему (королю. – М.Ф.) с оружием в руках, если он превышает свои полномочия»262. Уилсон подразумевал ст. 61, в которой для контроля за соблюдением Великой хартии предусматривался совет из двадцати пяти баронов. Если бы король нарушил заключенный с баронами договор и не исправил нарушение в сорокадневный срок, то, как говорилось в документе, «те двадцать пять баронов совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить нас всеми способами, какими только могут, то есть путем захвата замков, земель, владений и всеми другими способами, какими могут, пока не будет исправлено [нарушение] согласно их решению; неприкосновенной остаются [при этом] наша личность и личность королевы нашей и детей наших; а когда исправление будет сделано, они опять будут повиноваться нам, как делали прежде». Снова можно проследить, как далеко американский виг отходил от оригинала. Вместо «двадцати пяти баронов», действующих совместно с коммонерами, Уилсон подставлял «народ», нарушение конкретных условий конкретного документа заменял весьма широко понимаемыми «полномочиями» короля. Характерно, что он не упоминал о включенных в Великую хартию оговорках: ни о неприкосновенности королевской семьи, ни о необходимости восстановить прежнее повиновение монарху, «когда исправление будет сделано». Еще бы! Уилсон выступал в 1776 г., на повестке дня стоял вопрос о независимости США, и в Нью-Йорке уже отрубили голову пусть не самому Георгу III, но его статуе. О том, чтобы «повиноваться [королю], как делали прежде», и речи быть не могло. Расширенная и трансформированная, статья 61 становилась обоснованием права на восстание.
Из менее известных статей хартии можно упомянуть следующие. Ст. 20, возможно, повлияла на VIII поправку к конституции. В Великой хартии говорится: «Свободный человек будет штрафоваться за малый проступок только сообразно роду проступка, а за большой проступок будет штрафоваться сообразно важности проступка, причем должно оставаться неприкосновенным его основное имущество». Конституция США, в свою очередь, гарантирует: «Чрезмерные залоги не должны требоваться, чрезмерные штрафы не должны налагаться, и жестокие и необычные наказания не должны назначаться». Но и здесь содержание и формулировка модернизированы и расширены.
Ст. 36 («Ничего впредь не следует давать и брать за приказ о расследовании о жизни или членах, но он должен выдаваться даром и в нем не должно быть отказа»), по замечанию Петрушевского, напоминает о Habeas Corpus Act263; в Америке он считался одним из краеугольных камней свободного правления. Его гарантия инкорпорирована в текст конституции 1787 г. (ст. 1, разд. 9). Habeas Corpus Act, как и приведенная статья Великой хартии, гарантирует арестованному скорый разбор дела.
Стоит признать, что конкретное содержание Великой хартии почти не использовалось в американской революционной пропаганде и не могло быть использовано. Применялись лишь отдельные статьи, при этом измененные почти до неузнаваемости. Из 63 статей Великой хартии так или иначе использовано менее десятка. В XVIII в. знакомство с текстом Великой хартии могло вызвать скорее разочарование. Именно такими были впечатления Вольтера, внимательно проанализировавшего ее статьи: «Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный принцип английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома свобода»264. Вольтер, читая Великую хартию, видел средневековый текст и стоящее за ним феодальное общество. Американские виги, цитируя тот же самый документ, ничего подобного не замечали. Перед их глазами стоял идеальный «палладиум английской свободы». Говоря о Великой хартии вольностей, американцы чаще всего имели в виду культурный конструкт, уже слабо связанный с реальным документом. Наиболее ярким примером может служить знаменитый лозунг «Никакого налогообложения без представительства». Еще чаще никакой отсылки к конкретному содержанию Великой хартии не было. Она просто упоминалась как образ традиционной английской свободы.
Положение американских пропагандистов облегчалось тем, что процесс поиска новых смыслов в Великой хартии уже был проведен в Англии, начиная с XVII в. «Петиция о праве» 1628 г. трактовала Великую хартию как документ, ограничивавший королевскую прерогативу в интересах народа (ст. 3 Петиции о праве)265. В XVIII в. об этом писал Мабли: «Им (английским революционерам XVII в. – М.Ф.) никогда бы не удалось приподнять таинственный покров, скрывавший королевское величие, не удалось бы заставить полюбить свободу, если бы они сами не извлекли из архивной пыли ту Великую Хартию, которая была известна по одному только имени»266. «Петиция о праве» вычленяла из Великой хартии содержание, сохранившее актуальность в XVII в. Во многом это были те же вопросы, которые волновали американских вигов в следующем столетии: налогообложение без представительства, судебный произвол и т.п. Расширенные толкования Великой хартии, о которых говорилось выше, во многом восходят именно к «Петиции о праве»267.
В американском конституционализме легко проследить влияние «Петиции о праве». Например, ст. 6 Петиции касалась проблемы постоя солдат в частных домах. Для американцев перед Войной за независимость эта проблема приобрела особую актуальность. Акты о расквартировании солдат (Quartering Acts) принимались британскими властями дважды. Акт 1765 г. предлагал американцам расквартировывать английским солдат в казармах и тавернах, но поскольку таковых не хватало, то солдаты могли располагаться также в гостиницах, нежилых домах, амбарах. Платить за их постой и пропитание должна была Ассамблея колонии Нью-Йорк, поскольку именно там располагалась штаб-квартира британских войск в Америке. Колониальная ассамблея отказалась платить, что вызвало серьезное столкновение с властями метрополии. Акт 1774 г. в дополнение к предыдущему позволял губернатору размещать солдат в частных домах, если иных помещений не хватало. Американцы числили этот закон в числе «невыносимых актов». В конечном итоге соответствующее условие было вписано в III поправку к конституции США: «Ни один солдат не должен в мирное время размещаться на постой в каком-либо доме без согласия его владельца».
Тем не менее, «Петиция о праве» не обладала в общественном сознании предреволюционной Америки таким же высоким престижем, как Великая хартия. Последняя обладала почтенным ореолом древности, была наделена статусом своеобразного «первотворения» еще в английской исторической мифологии. Именно в силу своей мифологизированности она могла цениться независимо от конкретного содержания. В документах XVII в., также легших в основу неписаной английской конституции, содержание ценилось куда выше, чем их идеальный образ. Это относится не только к «Петиции о праве», но и к Биллю о правах 1689 г. Он редко упоминался в полемике, зато его условия легко найти в американских конституционных документах. Именно к нему восходят такие условия американского Билля о правах, как право частных лиц на ношение оружия (поправка II), запрет чрезмерных залогов, штрафов, «жестоких и необычных» наказаний (поправка VIII). В Билле о правах 1689 г. также вновь подтверждается принцип «No taxation without representation»268. Но и здесь американцы прибегали к расширенному толкованию: там, где англичане имели в виду парламент, американцы подразумевали также колониальные ассамблеи. Все условия Билля о правах 1689 г., касавшиеся протестантского престолонаследия, оказались в США невостребованными.
В целом, при оценке средневековой английской истории у американских вигов заметна характерная для мифологического сознания высокая оценка мифического «первотворения», в роли которого выступают «древняя конституция» англосаксов и Великая хартия вольностей. Конкретные особенности политического устройства англосаксонских королевств, как и реальное содержание Великой хартии, не имели значения. Американцы легко конструировали мифологизированное прошлое, соответствующее их собственной картине мира.
3.3. «Великий мятеж» и «Славная революция»
Мифологизация истории заметна не только в трактовке неписаной английской конституции, но и восприятии таких ключевых событий английской истории, как две революции XVII в. И в этом случае восприятие американцами событий английской истории в большой мере определялось уже устоявшейся в метрополии историографической традицией, прежде всего, работами К. Маколей и Д. Юма.
Сам Юм определял свою позицию следующим образом: «Мои взгляды относительно событий более благоприятны принципам вигов, а мое изображение лиц более близко к предубеждениям тори»269. В то же время заметно влияние на него «Истории Великого мятежа» лорда Кларендона270. Историки определяют его позицию по-разному. Л. Оки писал об умеренном антивигском роялизме Юма271. Еще ранее П.Х. Мейер находил в историческом творчестве Юма консерватизм272, в то время как ряд английских авторов, а также отечественные исследователи М.А. Барг и К.Д. Авдеева оценивали его взгляды как «скептический вигизм»273.
Д. Юм оценивал политику первых Стюартов как ошибочную и недальновидную. Он писал о Якове I: «Сознавая недостаток личной популярности и потому ревниво заботясь о привилегиях короны, он создал в своем уме отвлеченную теорию абсолютной монархии, которую, как он искренне полагал, лишь немногие из его подданных – исключительно изменники и бунтовщики – поколеблются с чистой совестью принять»274. Историк подчеркивал, что здесь Яков I следовал политическим курсом своей предшественницы. Но с елизаветинских времен ситуация в стране изменилась. Теория абсолютизма не соответствовала конституционным традициям Англии и натолкнулась на сопротивление парламента, который в этом конфликте отстаивал свободу. В то же время Юм отрицательно оценивает пуританизм. Он пишет об «угрюмом духе благочестия», фанатизме и нетерпимости пуритан, подчеркивает, что «религиозные идеи и стремления многих пуритан, если изложить их с ясностью, кажутся довольно-таки пустыми и нелепыми»275. Кромвель в его глазах – фанатик и лицемер276 Теории левеллеров носят анархический характер, а основным побудительным мотивом их действий было честолюбие277. Левеллерам приписывается стремление не только к политическому, но и к имущественному равенству. Историк нравоучительно замечает: «Даже те из республиканцев, кто не одобрял подобных крайностей и сумасбродств, были настолько опьянены представлением о своей праведности, что вообразили себя обладателями особых привилегий, и потому любого рода обещания, клятвы, обязательства и законы в значительной мере утратили над ними власть. Общественные узы повсюду ослабли, а порочные человеческие страсти поощрялись теперь теоретическими принципами, еще более порочными и пагубными для общества»278. Диггеры не упоминаются вообще279.
Совершенно иначе расценивается «Славная революция» и ее лидеры. Вильгельм Оранский – «достойный наследник династии героев», он ведет себя «так, как подобает главе храброго и свободного народа»280. Сама революция 1688 г. трактуется как разрешение конфликта между королем и парламентом, создавшее свободную и стабильную конституцию.
Известно, что воззрения Юма повлияли на «отцов-основателей». Разумеется, американские виги сходу отбрасывали простюартовские интерпретации Юма. Но вот его оценки лидеров Английской революции прочно вошли в историческую мифологию просвещенческой Америки.
Взгляды К. Маколей на Английскую революцию были откровенно полемичны по отношению к работам Юма. Период установления республики, с точки зрения Маколей, – вершина английской истории: «Анналы человечества не представляют другого правительства, столь недавно созданного и столь грозного для чужих стран»281. Историк полностью оправдывает казнь Карла I, считая, что король, ставший тираном, теряет право на власть282. В то же время она весьма критически настроена по отношению к Кромвелю. Протектор в ее глазах – «тщеславный узурпатор», который под маской простоты, скромности и умеренности обманул доверчивый народ283. Зато она тщательно изучала сочинения левеллеров и считала «Народное соглашение» высшим достижением революции. Том сочинения К. Маколей, посвященный «Славной революции», вышел в 1778 г. К этому времени идеология Американской революции уже сложилась. Достаточно будет указать, что к событиям 1688 г. К. Маколей относилась критически, считая, что парламент упустил возможность создать истинно свободную конституцию284.
В Америке юмовское противопоставление Английской революции середины XVII в. (Великого мятежа) и Славной революции (мирной и конституционной) взяли на вооружение тори. Поскольку английская парламентская монархия сложилась в результате событий 1688–1689 гг., лоялисты просто вынуждены были оправдывать и восхвалять эти события. Например, нью-йоркский тори С. Сибери пытался развести Славную революцию с начинающейся революцией в Америке. Первая была необходимым эпизодом английской истории, вторая является чередой бессмысленных насилий, вызванных эгоизмом спекулянтов или интригами республиканцев. И даже Славную революцию он не мог оправдать до конца: «как бы ни была необходима эта революция для обеспечения прав и свобод английской нации, я убежден, что ни один человек, по-настоящему любящий свою страну, не пожелал бы вновь увидеть ее раздираемой столь жестокими конвульсиями». Те, кто ссылается на нее в оправдание сопротивления угнетению, «слишком любят революции, чтобы быть добрыми подданными какого-либо правительства». Сибери признавал, что борьба за свободу может быть необходима, но она должна вестись «с должной покорностью правительству» и не может оправдать ни сопротивления распоряжениям последнего, ни нарушения хотя бы одного закона. Бостонцы, например, могли бы просто отказаться пить чай, вместо того, чтобы уничтожать его285.
Американские виги, в свою очередь, чаще вспоминали героев «Великого мятежа». Революция середины XVII в. обрастала в вигских текстах положительными коннотациями. Сама Английская революция, безусловно, воспринималась как борьба за свободу, тем более что существовала уже собственно американская антироялистская трактовка. В сотую годовщину казни Карла I (т.е. 30 января 1750 г.)286 бостонский священник Дж. Мэйхью произнес проповедь о «неограниченном повиновении и непротивлении верховным властям». В своей речи Мэйхью доказывал, что Английская революция была полностью оправданной, а Карл I никак не может считаться святым мучеником. Проповедник риторически спрашивал: «Король Карл был человеком, запятнанным преступлениями и бесчестием… Он жил, как тиран, и именно угнетение и насилия его правления привели его в конце концов к насильственной смерти. Какая же в этом святость, какое мученичество?.. Какая святость в том, чтобы уничтожить прекрасную гражданскую конституцию и настойчиво стремиться к незаконной и чудовищной власти? Какая святость в том, чтобы погубить тысячи невинных людей и ввергнуть нацию в бедствия гражданской войны? И какое мученичество в том, что человек сам на себя навлекает преждевременную и насильственную смерть своей безмерной преступностью?»287 Мэйхью подходил близко к радикальным трактовкам К. Маколей. Американские виги 1760-х – 1770-х гг. восприняли ту же оценку событий середины XVII в. Но были в их восприятии Английской революции и своеобразные черты.
Современные историки обычно сосредоточивают внимание на достижениях Английской революции, уничтожившей феодальные пережитки и королевский абсолютизм. Американцы же рассматривали Английскую революцию однозначно – как потерпевшую полное поражение. В этом была своя логика. Политики XVIII в. рассматривали главным образом политическую сторону революционного процесса. Нестабильность английской республики была для них свидетельством провала.
Их трактовки – определенно антироялистские, торийские оценки Юма они полностью отвергали. Карл I упоминался в знаменитой реплике Патрика Генри в числе тиранов, поплатившихся за свой деспотизм. Дж. Адамс писал о том, что в Новой Англии «не вовсе утрачен дух британцев времен республики»288, явно имея в виду установить преемственность между Английской и Американской революциями. Огромной популярностью пользовались лидеры пресвитерианского крыла революционеров: Дж. Гэмпден, Дж. Пим. Мерси Уоррен в одной из своих пьес превозносила революционную традицию Великобритании, «породившую своих гэмпденов, фэрфаксов и пимов»289. Дж. Дикинсон, будучи в Лондоне, «со страхом и почтением» созерцал Палату общин, где Гэмпден «противостоял посягательствам власти и защищал гибнущее правосудие»290. Имена Пима и особенно Гэмпдена часто использовались в качестве авторских псевдонимов в американской прессе. Возможно, выбор именно Пима и Гэмпдена (а не, допустим, графа Эссекса или графа Манчестера) был обусловлен тем, что оба они умерли в 1643 г. и не дожили ни до суда над королем, ни до установления республики. Монархизм пресвитериан, их религиозная нетерпимость не сочетались с образом идеального революционера в эпоху Просвещения. Пим был сторонником парламентской монархии, именно того режима, против которого и боролись американские виги, но воспринимался как борец за абстрактную «свободу», практически республиканец. Из биографии Гэмпдена вычленялись героические эпизоды, связанные с его отказом платить «корабельный налог» и с его гибелью на поле боя291. Большое значение имела его оппозиция Карлу I в начале революции, борьба за свободу слова и права парламента. То, что Гэмпден не был республиканцем, игнорировалось. Зато республиканизм индепендентов вовсе не фигурировал в американских текстах; вопрос о характере Английской республики (а она была индепендентской) не ставился. Как обычно и бывает в мифологии, сложный реальный образ упрощался, терял многозначность. Американские виги брали из биографий английских «круглоголовых» лишь то, что отвечало их собственным представлениям, превращали их в своем воображении в несгибаемых борцов с деспотизмом.
Характерно противопоставление позитивно окрашенного образа Английской республики (и шире – Гражданской войны) и негативного образа протектората. В протекторате американские виги видели не переходную форму от республики к монархии, а монархию в чистом виде. Дж. Куинси весьма характерным образом сравнивал Гражданские войны и протекторат: «Англичане, которые с божественным энтузиазмом поднялись против Карла I, постыдно покорились узурпации Кромвеля»292. Период протектората, сам титул «лорда-протектора» порождали у американцев лишь негативные ассоциации. Зато Оливер Кромвель оказывался фигурой неоднозначной. Гамильтон упоминал Кромвеля наряду с Цезарем как узурпатора, уничтожившего свободу своей страны293. Массачусетский судья Тэтчер на ратификационном конвенте своего штата в 1788 г. рисовал устрашающую картину: Цезаря или Кромвеля, «попирающего ногами наши свободы»294. Мерси Уоррен противопоставляла «добродетельного Гэмпдена» «лицемерному и деспотичному Кромвелю» и рассматривала протекторат как шаг к реставрации Карла II295.
Подобные примеры можно было бы умножить. Но в то же время Кромвель не считался (в отличие от Юлия Цезаря или Суллы) просто честолюбцем, опьяненным жаждой власти. Дж. Адамс рассуждал о нем так: «Что нам сказать об Оливере Кромвеле?.. Я без колебаний признаюсь, что считаю Оливера полностью лишенным республиканских принципов гражданской добродетели. [Но] сам он полагал себя честным и искренним… Никогда еще не было человека, столь склонного к самообману, как Оливер Кромвель»296. Здесь лорд-протектор предстает фигурой довольно сложной.
Есть и свидетельства вполне позитивного восприятия Кромвеля в просвещенческой Америке. Например, в Бостоне существовала популярная гостиница под названием «Голова Кромвеля». Над входом висела вывеска с изображением самого Кромвеля, причем так низко, что входящие вынуждены были кланяться лорду-протектору, чтобы войти в гостиницу. Владелец гостиницы состоял в числе «Сынов свободы». Псевдоним «Кромвель» в 1770-х гг. несколько раз появлялся в новоанглийских газетах. Например, в 1773 г., во времена Чайного акта, «Кромвель» на страницах «Boston Gazette» призывал американцев отстаивать свои права. Один из первых приватирских кораблей Массачусетса носил имя Кромвеля; здесь имя лорда-протектора соседствовало с «саксонским мифом»: первый боевой корабль Континентального конгресса назывался «Альфред Великий»297