Читать онлайн Европейская аналитика 2018 бесплатно
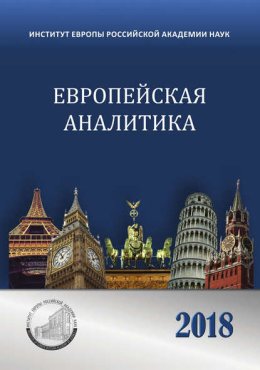
International aspects
Political Landscape of Europe. The Spectre of Geopolitical Solitude
Alexey Gromyko
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Director of the Institute of Europe (RAS)
In recent months the events confirm the trend of the West undergoing political fragmentation accompanied by increasing contradictions between the US and its allies as well as among different groups of European countries. The White House has shifted to the principle of transactional relations with its partners. The results of the G7 summit in Canada have become one more evidence of this novelty. The approaches to relations with Russia have become a factor in the West’s transformation. Another one is the evolution of New Populism. Considering the changes taking place in the world and increasing uncertainties, the importance of Russia's efforts to consolidate a number of Eurasian integration projects is growing.
Perceptions of the main challenges to the stability of the conventional state of the world are changing as rapidly as the events themselves. The political establishment in the United States still sets the tone in shaping these perceptions in the West, although the uniformity of the Euro-Atlantic region is withering away. An obvious example is the G7 summit in Quebec in June, which ended in fiasco with Donald Trump withdrawing his signature from the final communiqué. The refusal was accompanied by harsh criticism of Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, whom Trump accused of lying and undermining the agreements1 reached in La Malbaie.
Deconstruction of the Liberal West
The liberal part of the European political establishment continues to nourish hope that the current US behavior is temporary phenomenon, not a long-term trend. The increasing contradictions between the two shores of the Atlantic are most painful for orthodox Atlantists, most vocal in the Baltic states, Poland, Romania, Sweden. As Britain withdraws from the EU, a number of European countries aspire for more United States in the Old continent. However their desire is checked by a person who is supposed to symbolize the US – Donald Trump. So some of the America’s European acolytes are ready to bow their heads in acceptance even of this twist of history. Others view the neoliberal opposition to Trump as their mirror and wait for their return.
For European pragmatists represented by such countries as Germany and France, Spain and Belgium, the contradictions, accumulating with Washington, serve as a signal for more independent stance and for the transformation of the EU into an autonomous player on the international scene. Berlin and Paris, supported by Rome, are pursuing a proactive policy of developing the military-political instruments of the EU and strengthening the capacity of the national military-industrial complexes.
The other category of EU member states – Italy, Hungary, Greece, Slovakia, partly Bulgaria and the Czech Republic – countries with strong populist movements and Eurosceptic sentiments, are gaining more influence. The prime minister of Hungary Viktor Orban, assuming the post for the fourth time last May, addressed the Parliament stating that the era of liberal democracy had come to an end and called for replacing it with 21st century Christian democracy2. The confrontation with ideological rivals plays into his hands. The decision of the Central European University, sponsored by George Soros, to relocate from Budapest to Vienna became a symbol of this. If previously Orban was routinely portrayed by the liberal press as a political renegade and an outcast, now the flow of events in Europe shows that his personality, like many others, testifies to profound changes in the European thinking and reflects large-scale socio-economic changes. As a result, the established party political systems experienced a profound change.
In discourse on the liberal international order and New Populism, Britain is a special case. Its home-grown Euroscepticism has gone much further than in Hungary, Greece or Italy. It not only brought Eurosceptics to power, but also caused a political earthquake in the form of Brexit. However, the country's political elite, in spite of all its connivance to populism and strategic miscalculation, continues to portray itself as a genuine pillar of the liberal international order. To make these mutually exclusive attitudes compatible – the exit from the EU and leading positions in the Euro-Atlantic region, the British authorities have been engaged in incredible adventurism, including the Skripal case. Despite all the differences, the nature of populism in Britain is largely the same as in the US, Italy, France or Germany – the protracted stagnation in the middle-class income and the increase of social inequality. For example, according to the British Trade Union Congress, after the 2008–2009 world economic crisis the average real wages of British workers remain lower than 10 years ago, and will not return to the pre-crisis level until 20253.
The Advent of New Populism
New Populism has ceased to be a marginal phenomenon and has turned into a mainstream one. Euroscepticism, one of its currents, which until recently was an abusive term, now is an official policy of forces at the helm of power. The new prime minister of Italy Giuseppe Conte is at the head of the first Italian entirely populist government, formed by representatives of the Five Star Movement and the League. This government is unique in bringing together left and right populism, the genesis of which is very different, but the approaches to solving a number of transnational problems are similar. The concept of empire4 was once rehabilitated in the Western historical and political literature to the extent of the rhetoric of “benevolent empire”, especially in the US. At present the notion of “populism” is being rehabilitated as well. This is exactly what G. Conte stated in the Senate of the Italian Parliament on 5 June, indicating that the new government has nothing against being called populist in case it means respecting the views of the citizens.
Indeed, populism in the traditional meaning is the preserve of small parties and, consequently, of small groups of population. However, almost 50 % of the citizens, who came to the polling stations at the election on 4 March, voted for the “Five Stars” and the League, which converted to a substantial majority of mandates in the parliament. In Italy and in a growing number of other European states New Populism becomes the pool of opinions expressed by the majority or a significant part of the population. As a result the former mainstream parties trade places with their opponents, thus becoming populist themselves and yielding mainstream ground to the new opinion formers.
Populism in the traditional meaning is a negative phenomenon, mapping the way for demagogues. On the contrary, many movements of New Populism contribute more to apprehension and resolution of modern crisis than the conventional ruling parties. For example, the em on pragmatism in solving the problems of uncontrolled migration or improving relations with Russia appears to be more responsible and promising for stabilizing the situation in Europe, than the position of traditional centrist forces on these issues. Therefore, the arguments of those who accuse Russia of sympathizing with mainstream currents of New Populism allegedly with the aim to split up the EU, are not convincing. In fact, the reverse is true: Russia is at loggerheads with the British conservatives, who are main contributors to undermining European integration.
New Populism is often compared to and associated with the interwar years populism in the 20th century, which made it easier for the World War II to happen. Of course, there are ultra-right parties in Europe, and some of them embrace neo-Nazi ideology. But they do not fall under the category of New Populism. Moreover, they continue to maintain their marginal character. The political heights are contended by those, for whom national identity, not nationalism is a means to overhaul the European project, to solve, not to aggravate the problems of democratic deficit, social inequalities, national and supranational bureaucracies, feebleness of the EU foreign policy. Majority of those, who represent New Populism, oppose the use of military force abroad, “humanitarian” and regime change interventions, while defenders of the “liberal international order” usually initiate or participate in application of hard power, from sanctions of different kinds to military force. The policies of conventional ruling parties, not those of the new populists, failed to prevent the migration crisis and in the same cases have made it worse. As a result we have the rise of xenophobic and racist attitudes in Europe.
Populism is a neutral phenomenon in a sense that the public frustration can be channeled in different directions. Populism itself is neither negative, nor positive; it is a resource that may be used to implement either progressive or destructive political projects. The populism of British Eurosceptics has dilapidated consequences, either visible or hidden, both for the European integration project, and for the international standing of Britain. At the same time, the populism of the “Five Stars”, The League or Viktor Orban is also a reaction to various dysfunctions, both at the national and the EU levels, but it does not go as far as the British Eurosceptics. The dissatisfaction of the voters, whose aspirations are the prerequisite for the electoral success, can ultimately benefit the EU, forcing the conventional political parties either to adapt and metamorphose or to give way to new political forces.
The success or failure in this self-transformation or self-annihilation of political establishments will be determined by two more issues. Firstly, they will be judged by the ability to implement the EU Global Strategy, in particular, the thesis of strategic autonomy. The second issue is normalization of relations with Russia and the revival of the concept of strategic partnership between the West and the East of Europe from the Atlantic to the Pacific Ocean.
There is one more group of countries – Finland, Sweden, Austria and Switzerland, which adhere to different variations of neutrality. They have played an important role in the modern history of Europe as elements of checks and balances, which support peace in this versatile region. They have made a significant contribution to the de-escalation of various conflicts. The special role of neutrality was demonstrated during the visit of Vladimir Putin to Vienna in June, where the two countries signed an unprecedented agreement on the Russian gas supplies up to 2040. The federal chancellor Sebastian Kurz and Austrian president Alexander Van der Bellen made statements, which in effect run counter to the official policy of Washington and some of its allies towards Russia. However, Helsinki, and especially Stockholm have become a weak link in European neutrality. The sustained efforts of the USA to draw Finland and Sweden into NATO, if not de jure, then de facto, are by no means accidental. The next step in this direction was the signing on 8 May in Washington of a trilateral declaration on expanding military cooperation between the United States, Sweden and Finland. Prior to this, in 2016, both North European countries had already concluded similar bilateral agreements with the United States.
The Euro-Atlantic solidarity is cracking at the seams. That makes the member states of the EU and its supranational structures review their strategic priorities. One of them was expressed in a statement in favor of normalizing relations with Russia, made by Jean-Claude Juncker, the President of the European Commission, at the conference “Re-energizing Europe – Now!” on 31 May. The conference was a concluding event of a major project, involving a number of leading European think tanks5. Growing geopolitical solitude of the EU is pushing the national capitals and Brussels towards revival of the imperative of the pan-European security and common economic and humanitarian space from Lisbon to Vladivostok.
Transactional Relations
The dreams of the orthodox Atlantists of preserving the “liberal international order” led by the United States of the pre-Trump period are becoming ever more intangible. It is difficult to give more convincing evidence of its malaise than the recognition of Donald Tusk, President of the European Council, who calls himself “an incurable pro-American European fanatically devoted to the idea of trans-Atlantic cooperation”6. On the eve of the G7 summit in Canada, he was deliberating whether the new policy of the White House was merely seasonal or a symptom of the breakup of the Western political community7. Shortly before the EU–Western Balkans summit in May, Tusk said that the EU should be grateful to president Trump, “because thanks to him we have got rid of all illusions”8. And, it should be kept in mind that Tusk is a Pole. “Euronews”, the leading news channel of the EU, echoing such sentiments, called the Canadian G7 summit a symbol of the Western world split9. A new term, “G6 plus one”, was coined, reflecting the further erosion of the club’s influence following the reduction of its membership after suspension of Russia's membership.
The relationship between the US and its allies in Europe increasingly resembles the transactional type of interaction, a notion from the world of finance that means a concrete one-time deal. Until recently it was broadly used in the West to characterize the relations with Russia since 2014. In other words, it is a targeted cooperation on agreements, which the West is interested to strike with Russia, for example, the settlement of the Syrian and Ukrainian crises, the salvation of the Iran nuclear deal, some elements of the fight against international terrorism. This type of relationship was officially embodied in the “five guiding principles for EU–Russia relations”, adopted by the Council of the EU in March 2016. These days, the cooperation between the leaders of the Western world with its other representatives is becoming transactional as well.
Trump's way of thinking represents a strategy of a business manager, who primarily is interested in profitability of the enterprise. To be more precise, that is a type of profitability associated with the principles of shareholder economy (the interests of a narrow group of people focused on short-term benefits) in contrast with stakeholder economy. The shareholders for Trump are his electorate and the interests of Trump’s opponents and other members of the Western community become irrelevant. Trump offers a type of a business model, which envisages taking into account as much interests of the US allies as is acceptable for the America’s national interests, interpreted through a prism of Trump’s election promises. And most of them are interpreted in a narrow economy-centered context.
Conclusion
The political landscape of Europe is undergoing a profound change. The drama of Brexit, the US withdrawal from the Paris climate accord and the Iran nuclear deal, the fiasco of the G7 summit in Quebec, the intensifying trade war between the US and the EU, new populist governments, this time in Italy, the Catalan and Scottish separatisms, the EU internal quarrels on migration, the solidifying success of “Nord Stream 2” are symptoms of deep shifts in international relations. In general, the ongoing events confirm the emergence of the polycentric model of global governance. They also point to growing awareness in the EU of the need of strategic autonomy. The Russian foreign policy acquires more space for maneuvering in different geopolitical directions.
Quand la Russie revait d’Europe10
Yuri Rubinski
Directeur du Centre d’études françaises à l’Institut de l’Europe, Académie des sciences de Russie
Le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, rêvait defaire du Vieux continent la pierre de touche d’un nouvel ordre international. Repoussé aux marges de l’Europe après l’avoir tant désirée, la Russie assume désormais sa “solitude géopolitique” et se voit comme un des centres actifs d’un monde multipolaire.
Le mirage de la “Maison commune”
L’état des relations entre la Russie et l’Europe se fait parfois sentir à quelques sensations déplaisantes, comme un fourmillement dans les jambes, à force de patienter dans une antichambre du Conseil de la Fédération de Russie. Le sénateur Alekseï Pouchkov se méfie de la presse occidentale. “S’il s’agit de sélectionner une ou deux citations, vous n’avez que quinze minutes”, prévient-il en nous ouvrant son bureau, et dans un français impeccable. Connu pour animer depuis vingt ans l’émission politique Post-scriptum diffusée sur la chaîne de télévision moscovite TV-Centre, cet ancien président de la Commission des affaires étrangères de la Douma (chambre basse) se laissera interroger une heure et demie.
Depuis l’époque oů il écrivait les discours du dernier secrétaire général du parti communiste soviétique Mikhaïl Gorbatchev, enfermé cinq jours avant chaque voyage à l’étranger dans une datcha avec une dizaine d’autres plumes, de l’eau a coulé sous les ponts. Il juge rétrospectivement que son ancien mentor, “qui n’était que spécialiste des questions agricoles au sein du parti avant d’arriver au pouvoir, a fait preuve de naïveté”. M. Pouchkov est considéré comme un des plus ardents défenseurs de la politique extérieure du président russe et figure, depuis la crise ukrainienne de 2014, sur la liste des personnalités interdites d’entrée sur les territoires américain, canadien et britannique.
De M. Gorbatchev à M. Poutine, sa trajectoire résume celle de la Russie. Le dernier secrétaire général du parti communiste soviétique espérait voir son pays faire son retour au sein de la grande famille des nations européennes. Il s’inscrit ainsi dans les pas des courants occidentalistes qui cherchent à arrimer depuis le 18ème siècle la Russie à l’Europe, à l’inverse des slavophiles prônant une voie spécifique pour leur pays11. À la fin des années 1980, ce tropisme vers l’Ouest devait revêtir une portée plus générale: l’avènement d’un ordre international débarrassé des logiques de blocs. Difficile de comprendre le comportement actuel de la Russie, sans revenir sur l’échec de ce rêve européen et sur les conclusions qu’elle en a tirées.
L’histoire commence avec l’arrivée à la tête de l’Union soviétique en 1985 de Mikhaïl Gorbatchev. Lors de son premier déplacement à l’étranger, à Paris, il lance sa formule de “maison commune européenne” à destination des dirigeants ouest européens. Le choix de le capitale française n’est pas un hasard. Le président Charles de Gaulle avait défendu l’idée d’une Europe “de l’Atlantique à l’Oural”: une Europe des nations, indépendantes de toute tutelle, dans laquelle la Russie aurait renoncé au communisme, que le général prenait pour une lubie passagère. A l’époque, Moscou n’avait guère pris au sérieux la proposition du général: l’Union soviétique tenait fermement au maintien de la division de l’Europe, à commencer par l’Allemagne, la matérialisation de sa présence au coeur du vieux continent.
Le slogan de la maison commune européenne n’est pas non pas dénué de motivation tactique. Il vise à favoriser un certain découplage entre Washington et ses alliés du Vieux continent, pour pousser les États-Unis à négocier. Vu de Moscou, la fin de la course aux armements prend un caractère d’urgence, en raison du coűt insoutenable des dépenses militaires. La parité stratégique, garante de la coexistence pacifique, demeure un point d’équilibre précaire. À deux reprises, le monde vient de friser l’anéantissement: en septembre 1983, Stanislav Petrov, un officier de la force antiaérienne basée près de Moscou déjoue une fausse alerte nucléaire, puis en novembre 1983 les Soviétiques s’affolent devant l’exercice Able Archer de l’Otan pensant qu’il camoufle une vraie attaque. “Les scientifiques venaient d’inventer le concept terrifiant d’hiver nucléaire, se remémore M. Pouchkov. Je faisais partie de ceux qui voulaient en finir avec la guerre froide”. Lors d’une .première rencontre pourtant difficile à Genève en novembre 1985, le président américain Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev tombent d’accord pour faire le constat qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais avoir lieu. En octobre 1986 à Reykjavik, le secrétaire général du parti communiste d’Union soviétique fait une proposition très audacieuse: supprimer 50 % des arsenaux nucléaires dans les cinq années à venir et leur liquidation complète dans les cinq années suivantes. Le président américain Reagan acquiesce, mais s’obstine à obtenir le champ libre pour son Initiative de défense stratégique (IDS), qui est vue par les Soviétiques comme la recherche d’une supériorité militaire12 – et qui ne verra jamais le jour… Pour surmonter le gouffre de défiance, M. Gorbatchev fait des concessions unilatérales. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire du 8 décembre 1987, permet ainsi l’élimination de 1836 missiles soviétiques, deux fois plus que la contrepartie américaine.
Au cours de l’année 1988, sous la pression des difficultés internes au bloc socialiste, la “maison commune européenne” prend une consistance stratégique. L’économie soviétique traverse une zone de turbulences, que M. Gorbatchev ne pense pouvoir surmonter qu’en introduisant une dose supplémentaire de propriété privée et de marché dans le système de planification soviétique. En Europe de l’Est, les revendications démocratiques confortent le dirigeant soviétique dans sa conviction: l’ouverture politique va dans le sens de l’histoire, vouloir la contenir serait s’opposer à un courant trop puissant. La confrontation idéologique remisée, l’objectif n’est plus de coopérer de bloc à bloc, mais de les fondre dans une Europe élargie sur la base de valeurs communes: liberté, droits de l’homme, démocratie et souveraineté. La diplomatie soviétique prend alors des accents gaullistes: c’est un “retour vers l’Europe <…>, civilisation à la périphérie de laquelle nous sommes longtemps restés” selon les mots du diplomate Vladimir Loukine13.
“Le système était à bout de souffle et il fallait se débarrasser, sans aucun doute, du communisme” convient aujourd’hui Alexandre Samarine, premier conseiller à l’ambassade de Russie à Paris, qui rappelle que son pays, membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1998, est désormais “capitaliste” et “opposé au protectionnisme”. “Tout le monde sentait que nous étions dans une impasse, abonde un diplomate à la retraite souhaitant garder l’anonymat. Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, personne ne pensait qu’il fallait faire des concessions unilatérales”.
Marqué par la répression du Printemps de Prague en 1968, M. Gorbatchev considère dès son arrivée au pouvoir comme caduque la “doctrine Brejnev” sur la souveraineté limitée des “pays frères”. En encourageant les réformateurs et en refusant toute intervention par la force, il a enclenché une dynamique qui finit par lui échapper. À ses concessions, les Occidentaux répondent par des promesses (lire ci-contre), la question allemande illustrant le marché de dupes qui s’engage. “Ce fut une erreur de Gorbatchev. En politique, tout doit être écrit, même si une garantie sur papier est aussi souvent violée”, confiait en juillet 2015 M. Poutine au réalisateur américain Oliver Stone14.
Après la chute du mur de Berlin, M. Gorbatchev soutient l’idée d’une Allemagne neutre (ou adhérant aux deux alliances militaires conjointement), insérée dans une structure de sécurité paneuropéenne qui prendrait pour base la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) crée en 1975 par l’Acte final d’Helsinki. Point d’orgue de la détente est-ouest, avant le regain de tension lié à l’intervention soviétique en Afghanistan en 1979, cette déclaration commune signée par trente-cinq États résultait d’un marchandage entre les deux camps. Les pays occidentaux validaient le principe, défendu depuis des années par Moscou, de l’intangibilité des frontières, reconnaissant ainsi la division de l’Allemagne et les acquis soviétiques en Europe centrale et orientale. En échange, le camp socialiste s’engageait à respecter les droits de l’homme et des libertés fondamentales “y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction”. Seul organe permanent oů siégeaient ensemble les États-Unis, le Canada, l’Union soviétique et la plupart des pays européens de l’Est et de l’Ouest, la CSCE constituait aux yeux de Moscou la première pierre d’un rapprochement des deux Europe.
Au cours de l’année 1990, Gorbatchev n’est pas seul à défendre l’option paneuropéenne. Les nouveaux dirigeants est européens, souvent d’anciens dissidents marqués par leur engagement pacifiste, ne souhaitent pas basculer immédiatement dans le camp occidental. Leur préférence va d’abord à la formation d’une région neutre et démilitarisée, formant un pont entre les deux rives de l’Europe. Au lendemain de son élection à la présidence de la Tchécoslovaquie, Vaclav Havel choque les Américains, en demandant la dissolution des deux alliances et le départ de toutes les troupes étrangères d’Europe centrale. Le chancelier allemand Helmut Kohl s’irrite des déclarations du premier ministre est-allemand Lothar de Maizière favorable à la neutralisation de Allemagne. En avril 1990, le président polonais Jaruzelski, dirigeant du premier pays à avoir ouvert les élections à des candidats non communistes, accepte la proposition de M. Gorbatchev de renforcer provisoirement les troupes du Pacte de Varsovie en Allemagne de l’Est, le temps de mettre en place une structure de sécurité paneuropéenne. Il propose même d’y joindre des forces polonaises. Ce n’est qu’en février 1991 que Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie abandonnent cette option en formant le groupe de Visegrad: craignant un retour de bâton conservateur à Moscou, ils y affirment leur volonté commune de s’abriter sous le parapluie américain.
Du côté ouest européen, les dirigeants partagent le souci de poser les bases d’une nouvelle Grande Europe plus autonome de Washington, même s’ils restent attachés au maintien de l’OTAN en Europe. Le président français François Mitterrand souhaite insérer l’Allemagne réunifiée dans un système de sécurité européen élargi, ménageant une place pour la Russie. “L’Europe ne sera plus celle que nous connaissons depuis un demi-siècle. Hier, dépendante des deux superpuissances, elle va, comme on rentre chez soi, rentrer dans son histoire et sa géographie. <…>, déclare-t-il lors de ses voeux traditionnels du 31 décembre 1989. À partir des accords d’Helsinki, je compte voir naître dans les années 1990 une Confédération européenne au vrai sens du terme qui associera tous les États de notre continent dans une organisation commune et permanente d’échanges, de paix et de sécurité”. Cherchant à éviter l’isolement de l’URSS, M. Mitterrand dessine une architecture paneuropéenne en cercles concentriques: les douze membres d’alors de la Communauté économique européenne (CEE) devaient former un “noyau actif”, à l’intérieur d’une structure de coopération paneuropéenne élargie comprenant les anciens pays communistes. La première ministre britannique Margaret Thatcher cherche à envelopper cette puissance allemande en voie d’être restaurée dans un cadre européen. Elle mandate en février 1990 son ministère des affaires étrangères, Douglas Hurd, pour pousser dans les négociations l’option d’une “association européenne élargie <…> accueillant les pays est-européens et, à terme, l’Union soviétique”15, avant de préciser que cette politique conduira à renforcer la CSCE.
Les premieres deceptions
M. Gorbatchev n’a pas su tirer profit de cette convergence fugace avec des dirigeants ouest européens, favorables eux aussi à une réunification allemande au rythme maîtrisé, accompagnée d’une montée en puissance de la CSCE. Fort de la victoire de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) aux premières élections libres en République démocratique d’Allemagne (RDA) en mars 1990, le chancelier Kohl prône une solution rapide: l’absorption pure et simple de la RDA par la République fédérale d’Allemagne (RFA). Le temps joue en faveur de M. Kohl et du président américain Georges Bush, son principal allié. L’Union soviétique a besoin d’argent ; Washington, qui ne peut décemment financer son adversaire, enjoint Bonn à se montrer généreux. Les 13,5 milliards de marks promis l’Allemagne, au titre de contribution au rapatriement des troupes soviétiques, rendent l’URSS plus conciliante.
Avec le traité Start de 1990, les Occidentaux ont obtenu une réduction drastique des arsenaux nucléaires, les “démocraties populaires” sont tombées les unes après les autres, mais lorsque Gorbatchev réclame une aide économique lors du sommet du G7 à Londres en juillet 1991, les Américains disent qu’ils ne sont pas prêts à faire des investissements “non rentables”. L’effondrement de l’Union soviétique en décembre 1991 tient lieu de coup de grâce au projet paneuropéen. Dans les années qui suivent, Washington estime que la disparition du pays à qui avaient été faites des promesses orales les libère de leur engagement. C’est donc le modèle préfiguré par la réunification allemande qui s’impose au reste de l’Europe, à savoir l’absorption de l’Est par l’Ouest: l’Alliance atlantique intègre par vagues successives les anciennes démocraties populaires, plus les ex-républiques soviétiques baltes (voir la carte ci-contre). L’Union européenne en fait autant.
En 1993, M. Mitterrand s’offusque de l’adhésion des pays de l’Est à l’OTAN, une alliance qu’il voulait voir devenir plus politique, moins militaire. Aux États-Unis aussi, quelques voix s’élèvent très tôt pour alerter des dangers d’une telle dynamique. Elle risque de produire chez la Russie la réaction nationaliste qu’elle est censée prévenir. Même le père de la doctrine de l’endiguement de l’expansionnisme soviétique en 1946, George F. Kennan, dénonce dès 1997 l’élargissement de l’OTAN comme “la plus fatale erreur de politique américaine depuis la guerre”. “Cette décision de l’Occident, prévient l’ancien diplomate, va porter préjudice au développement de la démocratie russe, en rétablissant l’atmosphère de la Guerre froide <…>. Les Russes n’auront d’autre choix que d’interpréter l’expansion de l’Otan comme une action militaire. Ils iront chercher ailleurs des garanties pour leur sécurité et leur avenir”. Critique de l’hubris américaine, M. Jack Matlock, l’ambassadeur des États-Unis en Union soviétique entre 1987 et 1991, note que “trop d’hommes politiques américains voient la fin de la guerre froide comme s’il s’agissait d’une quasi-victoire militaire. <…> La question n’aurait pas dű être – élargir et non l’OTAN – mais plutôt d’explorer comment les États-Unis pouvaient garantir aux pays d’Europe centrale que leur indépendance serait préservée et, en même temps, créer en Europe un système de sécurité qui aurait confié la responsabilité de l’avenir du continent aux Européens eux-mêmes”16.
Dans les années 1990, affaiblie par le chaos économique et social, la Russie n’a guère les moyens de défendre ses intérêts géopolitiques. Mais la timidité de sa réaction tient aussi à sa volonté de préserver son statut de grande puissance en tant que partenaire privilégié des Américains. Or, sur ce point, les Occidentaux ont laissé à la Russie quelques raisons d’espérer. Moscou a récupéré son arsenal nucléaire dispersé dans les anciennes républiques soviétiques avec la bénédiction de Washington; elle conserve son siège au conseil de sécurité des Nations; elle se voit offrir de siéger dans le club des grandes puissances capitalistes, le G7. “Il régnait à l’époque une atmosphère d’euphorie, se rappelle l’ancien vice-ministre des affaires étrangères (1986–1990) Anatoli Adamichine, nous pensions être dans “le même bateau que l’Occident”17”. Les dirigeants russes ne présentent pas tout . de suite l’élargissement comme une menace militaire. Ils s’inquiètent plutôt de leur isolement, qu’ils s’efforcent de prévenir en avançant une série de propositions18. Boris Eltsine formule dès décembre 1991 le souhait que son pays rejoigne l’organisation “à long terme”. Son ministre des affaires étrangères russe Andreï Kozyrev évoque la possibilité de subordonner l’Alliance aux décisions à la CSCE (en passe de devenir l’OSCE).
L’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie en 1999, hors de tout mandat des Nations unies, fait prendre à la Russie la mesure de sa relégation stratégique. L’Alliance atlantique, dont elle est exclue, lui apparaît alors comme le bras armé d’un camp vainqueur, tellement assuré de sa force qu’il entend l’imposer, y compris en dehors de sa zone. “Le bombardement de Belgrade par l’OTAN [en 1999] a suscité une très grave déception pour ceux qui, comme moi, croyaient dans le projet de la maison commune européenne”, nous confie Youri Roubinski, premier conseiller politique à l’Ambassade de Russie à Paris entre 1987 et 1997. “L’élan vers l’Europe impulsé par Gorbatchev a cependant continué d’exercer sa force d’inertie positive de nombreuses années”.
Il est généralement admis que l’arrivée d’un ancien agent des services secrets russes à la tête de l’État russe en 2000 marque une rupture par rapport aux années Eltsine, présentées comme plus ouvertes sur l’Occident et plus démocratiques. C’est oublier que le premier mandat de M. Poutine commence sur une initiative très europhile. En 2001, depuis la tribune du Bundestag, il appelle l’Europe à “unir ses capacités au potentiel humain, territorial, naturel, économique, culturel et militaire de la Russie”. La même année, après les attentats du 11 septembre, la Russie propose une coalition contre le terrorisme, inspirée de celle qui a vaincu les nazis durant la seconde guerre mondiale. Mais en décembre de la même année, les États-Unis de nouveau en quête de supériorité militaire annoncent qu’ils sortent du traité sur les missiles antimissiles (ABM) signé par Brejnev et Nixon en 1972.
En février 2007 à Munich, M. Poutine fustige l’unilatéralisme américain: “On veut nous infliger de nouvelles lignes de démarcation et de nouveaux murs”. En 2008, il lance ses troupes pour bloquer l’offensive du président géorgien contre l’Ossétie du Sud et contrecarrer indirectement une extension de l’Otan dans le Caucase. Mais il ne renonce pas au dialogue et propose même en novembre 2009 un traité de sécurité en Europe. La proposition est ignorée.
Rejetée aux marges de l’Europe, la Russie poursuit, de son côté, son projet d’intégration économique régionale avec d’anciennes républiques soviétiques centre-asiatiques et caucasiennes (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan puis Arménie) et la Biélorussie. Mais là encore, Moscou ne cherche pas à tourner le dos à l’Europe, son premier partenaire commercial et principale destination de ses exportations de gaz. Grâce à ce projet, la Russie pense au contraire pouvoir négocier en meilleure posture un partenariat avec l’UE… à condition d’intégrer l’Ukraine, pièce maîtresse de son édifice. Moscou accuse aujourd’hui l’Union européenne de l’avoir exclu des discussions portant sur l’accord d’association avec l’Ukraine, qui a mis le feu aux poudres en 2013–2014. Alors qu’à Moscou, on estime qu’en vertu des liens historiques et économiques avec Kiev, Bruxelles aurait dű associer Moscou aux discussions, règne en Europe la conviction diamétralement opposée. “L’idée même de sphère d’influence pour la Russie est considérée comme illégitime, analyse le politiste britannique Richard Sakwa, alors que le champ de ses intérêts légitimes [de la Russie] et comment Moscou a le droit de les exprimer reste flou”19.
Les chances pour l’avenir
“La ligne paneuropéenne s’est brisée sur la Crimée”, reconnaît M. Roubinski. Moscou n’a guère d’illusion sur la possibilité de relancer une relation privilégiée avec l’Europe, la Russie juge celle-ci alignée sur la politique hostile des États-Unis. Si elle devait l’être, ce serait à une condition: se voir reconnu un statut d’égal. “Ce qu’on a offert à la Russie n’est pas le Grand Occident (Greater West), mais l’adhésion à l’Occident dans son acception historique, et à une position subalterne”, résume Sakwa. C’est précisément ce que Moscou ne souhaite plus: “Nous ne supplierons personne [de lever les sanctions économiques qui frappe la Russie depuis 2014]” a prévenu le ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, lors d’une conférence de presse commune avec son homologue belge, le 13 février dernier. Ce partenariat, s’il devait être relancé, s’inscrirait désormais dans une vision qui n’a plus rien à voir avec la vision gorbatchévienne d’un retour à l’Europe. “Le monde a changé. L’époque des blocs et des alliancesfermées estfinie”, s’agace , presque M. Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de la revue Russia in Global affairs, lorsqu’on l’interroge sur l’avenir de l’idée paneuropéenne.
“Quand les Européens reviendront à la raison, nous sommes toujours prêts à construire cette Grande Europe, ajoute M. Samarine. Nous visons l’intégration des intégrations c’est-à-dire un rapprochement et une harmonisation de l’Union européenne et de l’Union eurasiatique”.
La Russie voit désormais l’Europe comme un partenaire important, mais plus comme un destin historique. Tout en affirmant que la culture russe constitue une “branche de la civilisation européenne”, M. Lavrov affirme qu’il est “impossible de développer des relations entre la Russie et avec l’Union européenne comme au temps de la guerre froide, lorsqu’ils étaient au centre des affaires mondiales. Nous devons prendre acte des puissants processus en cours en Asie pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine”20. Moscou prétend pouvoir incarner un des pôles actifs d’un monde multipolaire. La crise de la zone euro puis le Brexit ont fait perdre à l’Union européenne son attractivité aux yeux des Russes, qui se réjouissent des menaces de découplage entre l’Europe et les États-Unis portés par Donald Trump. “Personne ne veut rejoindre un bateau qui coule” nous assure, dans son bureau parisien, M. Gilles Rémy, directeur d’une société de conseil et d’accompagnement pour investisseurs français en ex-URSS. “Les Russes sont passés de lafascination à la compassion”, poursuit cet observateur chevronné des élites soviétiques puis russes. À entendre M. Vladislav Sourkov, proche conseiller de M. Poutine, l’annexion de la Crimée aurait représenté “l’achèvement du voyage épique de la Russie vers l’Ouest, le terme de ses nombreuses tentatives infructueuses d’être incorporée dans la civilisation occidentale, de s’apparenter avec la “bonne famille” des peuples européens”. Désormais, Moscou assume sa “solitude géopolitique”.
Россия и Европа
Санкции, пошлины, контрмеры… Что дальше?
Джахан Реджеповна Поллыева
кандидат юридических наук, докторант ИЕ РАН, вице-президент Объединённой судостроительной корпорации
Санкционная политика Запада, главная цель которой – получение односторонних выгод, меняет векторы, расширяет географию распространения и приобретает новые формы. Борьба за исключительное место в экономике даётся всё трудней. Переместившись на время в сферу таможенных тарифов, она частично достигла своих целей. В статье рассматриваются следующие вопросы: прекратилась ли торговая война; почему «война пошлин» – одно из следствий политики санкций; во что она может перейти и как связана с нынешним состоянием евроатлантических отношений и интересами военно-промышленных лобби?
Чем дольше продолжается санкционная сага, тем чётче просматриваются контуры торговой и в целом экономической войны. Её не сдерживают ни крепкие союзнические отношения, ни тесное партнёрство в НАТО, ни даже совместное применение рестрикций против третьих стран. Всё отступает перед желанием получить видимые преимущества перед конкурентом. И если год назад в США приняли закон, позволяющий в том числе использовать санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве экспортных трубопроводов России, то в июне 2018 года государства – члены Евросоюза (впервые за долгое время) были поставлены перед угрозой платить взвинченную пошлину за экспорт в Америку стали и алюминия.
Сегодня «торговый конфликт» (как осторожно назвала его в начале июля канцлер ФРГ А. Меркель) как будто улажен. Но окончательные договорённости по итогам переговоров Д. Трампа и председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера ещё в процессе оформления. Среди пунктов, уже объявленных достигнутыми, обращают на себя внимание два – взаимное желание работать в направлении «нулевых» пошлин и «нулевых» барьеров, а также заняться реформой ВТО – эвфемизм, означающий стремление США занять более жёсткую позицию по отношению к Китаю. Снятия барьеров в торговле с ЕС Соединённые Штаты добивались, ещё продвигая Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство (ТТИП), но оно провалилось из-за диктата самого же Вашингтона. Получение односторонних выгод и там было его главной целью. Не случайно по итогам встречи в США находившийся в Испании президент Франции Э. Макрон заявил, что он не сторонник новых переговоров по трафарету ТТИП, в том числе потому, что бизнес-переговоры не должны «строиться на угрозах»21.
Между тем, торговые войны никогда не обходились без угроз. На этот раз Евросоюзу угрожали многим, включая поднятие пошлин на импорт автомобилей и введение санкций (так называемых «вторичных») против европейских компаний, работающих с Ираном. Ответом на последнее стало майское заявление Ж.-К. Юнкера о запуске применения так называемого «блокирующего закона» 1996 года, запрещающего исполнять санкции США22. Несмотря на это 1 июня 2018 года Америка ввела пошлины на сталь и алюминий из ЕС, вследствие чего отношения между сторонами резко обострились. Уже 22 июня Брюссель установил пошлину в размере 25 % на ввоз товаров из США. Их суммарная стоимость (2,8 млрд евро) была значительно ниже стоимости облагаемых пошлинами стали и алюминия из Европы. Но в Еврокомиссии обещали дальнейшую «ребалансировку двусторонней торговли», т. е. расширение контрмер23.
Среди стран, пострадавших от тарифной политики США, оказались Канада и Мексика, которые, как и ЕС, долго находились в привилегированном положении. Разрешить спор должна ВТО, куда поступили обращения от «потерпевших» стран. Но остался ли у неё запас прочности в качестве непредвзятого мирового арбитра в таких спорах? Этот вопрос, хотя и по противоположным причинам, задают сейчас себе обе стороны.
В стремительной «войне пошлин» был ещё один знаковый момент. То, что яблоком раздора оказались алюминий и сталь, не случайно. Они используются в том числе на оборонных предприятиях и могут считаться стратегическими. Но когда их поставляют не свои, а зарубежные заводы, цена на конечную продукцию вырастает. При этом поставщик развивает производство и остаётся в финансовом выигрыше. Отметим, что в отличие от конца ХIХ в., когда из-за низкой цены на сталь Америка была её главным экспортёром, сегодня, как отмечают аналитики, она зависит от поставок из ЕС и в прошлом году оказалась в числе крупнейших импортёров. Однако законодательство США позволяет вводить ограничения на импорт, если он угрожает их безопасности24.
Не исключено, что Д. Трамп руководствовался не только коммерческими интересами, но и нежеланием зависеть от поставок из стран-конкурентов на оружейных рынках. Известно, что ЕС (по его мнению, сильно задолжавший НАТО) занимается укреплением собственной обороноспособности. Подписание в 2017 году PESCO (оборонного пакта ЕС), теоретически способного привести к выходу ряда стран ЕС из НАТО, может поставить США перед угрозой дальнейшего ограничения их влияния в мире. Возрастут и риски потерять значительную долю доходов от продажи вооружений. Но сможет ли хозяин Белого дома их таким образом предотвратить? Ведь решать протекционистские задачи ему придётся уже не в рамках евроатлантических структур, а в прямом диалоге со странами Европы25. Видимо, введя пошлины на алюминий и сталь, Трамп поработал не только в интересах НАТО, но и прицельно ударил по Германии, сыгравшей ключевую роль в создании PESCO.
Насколько тема пошлин чувствительна для Евросоюза, было понятно ещё в марте, при запуске этого процесса американским президентом. К концу апреля обмен угрозами на время сменился переговорами. Два последовавших друг за другом визита лидеров ЕС за океан – Э. Макрона и А. Меркель – были совершены не только ради обсуждения ситуации в Сирии и спасения ядерного соглашения с Ираном. Судя по всему, значимой оказалась и тема ввозных пошлин. Однако видимых результатов визиты не принесли. Не помогла и отсрочка даты введения пошлин ещё на месяц. Обращает на себя внимание и то, что позиции Меркель продолжают слабеть. По опросам общественного мнения, её поддерживает только половина немцев.
Успела измениться ситуация и в самих США. В ряде промышленных секторов увеличилась стоимость конечной продукции, при производстве которой используются ввозимые из-за рубежа сталь и алюминий. Так, почти одновременно с переговорами Трампа и Юнкера стало известно, что поднять цену были вынуждены производители баночной Кока-Колы. В американских СМИ этот продукт окрестили «последней жертвой» пошлин, поднятых администрацией Трампа26.
Торговая война ещё не закончена, развязка впереди, но круг недовольных Америкой вырос. Уже не только Россия, но и лидеры ЕС и граничащие с США страны открыто осудили их действия в мировой торговле, назвав пошлины незаконными мерами по защите рынка и инструментами недобросовестной конкуренции. Добавим, что эти события происходили на фоне заметного желания Евросоюза освободиться от опеки из-за океана, где продолжается прокурорское расследование против Трампа.
Сегодня ситуация отличается от начала 2000-х годов, когда президент Джордж Буш-младший повысил тарифы на импорт стали. Эту тему он, как и Трамп, поднимал ещё в ходе предвыборной кампании. Но последующее разбирательство в ВТО закончилось тем, что Вашингтон был вынужден отменить пошлины, включая введённые против ЕС27. Тогда торговая война длилась меньше двух лет. Но сколько она продлилась бы теперь? И выиграли бы от этого Соединённые Штаты, если в прошлый раз проиграли? Ведь в Европе контрмеры приветствовали, несмотря на то что ещё недавно клеймили протекционизм. А в порыве полемики называли пошлины санкциями, хотя в юридическом смысле это разные вещи. Правда, конечная цель у них одна – ослабление конкурента. И если небезопасно подвергнуть союзников санкциям (пусть и «вторичным»), сгодятся тарифы, дающие как минимум выигрыш во времени.
Особенность рестрикций начала ХХI века состоит в том, что их применение носит, по сути, волюнтаристский характер. И в этом – главное удобство современных санкций. Как показала практика, их можно вводить и продлевать, обходясь одной демагогией там, где раньше требовались убедительные доказательства. В международном праве на этот счёт остаётся много неясностей и «белых пятен». Но с ещё большей лёгкостью можно вводить торговые ограничения, где пошлины – отнюдь не единственное орудие в борьбе за исключительное положение на мировых рынках. И тогда любые политические доводы становятся вторичными по отношению к финансовой выгоде.
Новая волна санкционной политики стала следствием не только украинского кризиса, но и провала ТТИП. Эти переговоры между Вашингтоном и Брюсселем шли за плотно закрытыми дверями три года. Но стремление США навязать Старому свету свои правила и стандарты натолкнулось на протесты и жёсткую позицию лидеров ЕС. Теперь же ситуация усугубляется постоянными требованиями Трампа увеличивать взносы европейцев в бюджет НАТО. Если раньше он говорил об отчислениях в размере 2 % от национальных бюджетов, то в апреле на совместной пресс-конференции с Меркель в Вашингтоне настаивал на дальнейшем увеличении расходов на оборону, а на последнем саммите Альянса в Брюсселе установил новую планку в 4 %. Причина – не только финансовая ситуация в НАТО, но и газовые соглашения ЕС с нашей страной, поскольку подход к санкциям против РФ у ЕС и США расходится. И если Трамп вновь поднял тему поставок американского СПГ в Европу на встрече с Юнкером, а закон CAАTSA к союзникам не был применён, значит, санкции – оружие обоюдоострое.
Обслуживая чужие интересы, рестрикции Запада могут бумерангом ударить по их инициаторам. Санкции «научились» менять направление и расширять географию своего распространения. Одновременно с этим они оказались доступны практически всем игрокам. А контрсанкции, как и контрмеры, стали ожидаемой реакцией. Так есть ли у этого предел? И есть ли арбитры, готовые ко всему обилию ситуаций, связанных с использованием тех и других в период торговой войны?
Фактически не подчиняясь международной судебной системе и ООН, западные санкции почти утратили легитимность, но в то же время проложили дорогу новым, ещё более произвольным методам борьбы с конкурентами. Взвинчивание пошлин – лишь один из таких примеров. Поскольку «дурной пример заразителен», линейка способов получать односторонние выгоды может расширяться бесконечно. Однако в какой-то момент станет ясно, что ответные меры себя исчерпали, и придётся остановиться. История XX века учит, что обмен протекционистскими ударами может приводить мир к катастрофам.
Курс США на жёсткий протекционизм, замешанный на популизме, перестал быть уникальным явлением. Теперь в западном мире он повсеместен. Его популярность очевидна и по результатам последних выборов в европейских странах, особенно в Италии, во главе которой встали силы, настроенные решительно. Это убедительно продемонстрировала драматичная история с судном «Аквариус», перевозившим более 600 мигрантов из Ливии. Их не пустили в страну, в которой уже не надеются ни на Евросоюз, ни на международные структуры, включая ООН. А ведь за несколько дней до этого СБ ООН включил шестерых главарей нелегальной сети, занимающей перевозками людей в водах Ливии, в международный санкционный список28.
Прошедший в Брюсселе 14–15 июня саммит ЕС, в повестке дня которого миграция занимала приоритетное место, также не привёл к чётким результатам. Ясно, что эта проблема ещё долго будет вызывать разногласия в ЕС. По прогнозам экспертов Financial Times, население Африки будет расти в два раза быстрее, чем население Европы, и беженцы продолжат искать способы проникнуть на европейский континент. Похожие проблемы ждут и Америку – даже в Силиконовой долине родившиеся за пределами США составляют больше половины всех технических работников29.
Заключение
Похоже, круг замкнулся. Цикл борьбы за новые сферы влияния, начавшийся в конце 1980-х – начале 1990-х годов, подходит к концу. Политические правила прежней эпохи отходят на второй план, а пропагандистские войны не дают ответа на вопросы, куда идти дальше и что делать. Значит ли это, что момент истины уже близок? Есть ли надежда, что западные страны начнут уважать международное право, а ООН вернёт себе былой авторитет? При этом торговые войны перешли в открытую фазу. И если президент США пишет в своём твиттере: «Торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть», вряд ли они будут скоро остановлены. А значит, пострадают кошельки миллионов граждан, и так отощавшие от финансового кризиса и гибридных войн, выгодных лишь тем, кто ищет лёгких путей обогащения.
Российско-германские отношения в условиях конфронтации России с коллективным Западом
Владислав Борисович Белов
кандидат экономических наук, заместитель директора ИЕ РАН по научной работе, заведующий Отделом страновых исследований, руководитель Центра германских исследований
С формированием весной 2018 года в Германии нового коалиционного правительства во главе с А. Меркель и переизбранием В. В. Путина на пост президента РФ у российско-германского сотрудничества обозначились благоприятные перспективы для поступательного развития. На фоне существенного ухудшения отношений России с коллективным Западом, в первую очередь с США и Великобританией, оба лидера продолжили конструктивный диалог. Значительно возросла угроза применения американских экстерриториальных санкций к немецким компаниям. В этих условиях российско-германские отношения могут внести важный вклад в восстановление отношений Москвы с Брюсселем и выработку совместных шагов, учитывающих неадекватное поведение американской администрации.
14 марта 2018 года по представлению федерального президента Ф.-В. Штайнмайера Бундестаг избрал А. Меркель главой правительства ФРГ, которое она сформировала в соответствии с партийными договорённостями. 7 мая в должность президента вступил В. В. Путин. Среди внешнеполитических приоритетов лидеров – сотрудничество между РФ и ФРГ. Их личное взаимодействие и рабочий диалог во многом определяют его дальнейшее развитие.
С начала весны 2018 года резко ухудшились отношения между Россией и Западом, обусловленные так называемым «делом Скрипалей», бомбардировкой Сирии в связи с мнимой химической атакой и усилением санкционного давления со стороны США на российскую политическую и экономическую верхушку. Жёсткие секторальные санкции Министерства финансов США от 6 апреля 2018 года в отношении ряда российских гражданских и юридических лиц ещё больше обострили ситуацию. Впервые они напрямую затронули интересы компаний из третьих стран, в первую очередь европейских. Опасения немецкого бизнеса в связи с принятием 2 августа 2017 года Закона США CAATSA подтвердились – его субъекты оказались в зоне рисков применения к ним ограничительных мер Америки в связи с их сотрудничеством с Россией. Российско-германская хозяйственно- политическая кооперация неожиданно стала составной частью германо-американского дискурса.
Взаимодействие с Россией – коалиционные аспекты
Принципы отношений нового правительства Германии с РФ изложены в пункте 4 раздела XII коалиционного договора, согласованного ХДС/ХСС и СДПГ в начале февраля 2018 года30. Партнёры по коалиции подчёркивают заинтересованность в хороших отношениях с нашей страной и в тесном взаимодействии для обеспечения мира и урегулирования важнейших международных вызовов. Особо подчёркивается наличие большого потенциала сотрудничества в торгово-экономической области и существенный интерес к кооперации в гражданско-общественной сфере. Наряду с упоминанием необходимости выполнения Минских соглашений указывается и возможность смягчения санкций Евросоюза по мере их реализации. Важным и неожиданным представляется положение об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока.
У партий коалиции различный подход к России: у блока ХДС/ХСС он более жёсткий в сравнении с социал-демократами, в целом сохраняющими верность принципам остполитик. Тем не менее, в коалиционном знаменателе – стремление к последовательному улучшению отношений с важнейшим политическим и экономическим игроком на постсоветском пространстве евразийского континента, сокращению конфронтационного потенциала и усилению взаимодействия по всем важнейшим направлениям.
У представителей оппозиционных партий в Бундестаге также существуют различия в подходах к РФ. Традиционно наиболее жёсткую позицию занимают «зелёные», делающие упор на демократические ценности и права человека и призывающие сохранить санкционный режим. Либералы занимают относительно сдержанную позицию. Придерживаясь ценностного подхода, они выступают за постепенное смягчение санкций по мере выполнения Минских соглашений. Во многом пророссийски настроены представители партий «Левая» и «Альтернатива для Германии». Последняя призывает признать Крым частью Российской Федерации. Депутат Робби Шлунд от «АдГ» (у этой партии – крупнейшая оппозиционная фракция) возглавил рабочую группу по отношениям между Бундестагом и Государственной думой («Группа дружбы»). Данный факт ставит под вопрос эффективность её функционирования со стороны нижней палаты немецкого парламента – большинство членов Бундестага не хотят сотрудничать с российскими коллегами под руководством «Альтернативы». Возможно, поэтому прорабатывается инициатива создания большой межпарламентской комиссии с участием руководства Госдумы и Бундестага.
Отметим, что из Бундестага и активной политической жизни ушёл ряд корифеев, определявших в последние годы содержание российско-германского диалога на разных уровнях. В политику пришло молодое поколение, не пропитанное духом Московского договора и разрядки времён Вилли Брандта. Существенно вырос прагматизм. Примером является назначение на пост уполномоченного федерального правительства по отношениям с Россией, странами Восточного партнёрства и Средней Азии Дирка Визе – молодого социал-демократа (34 года), для которого восточный вектор ауссенполитик выглядит как чистый лист бумаги. Кстати, само понятие и содержание новой восточной политики пока не нашло отражения в официальных документах.
Политические вопросы сотрудничества
Во время рабочей встречи в Сочи 18 мая 2018 года А. Меркель и В. В. Путин охарактеризовали взаимные отношения как хорошие, положительно оценили перспективы их развития во всех сферах и подтвердили готовность к продолжению конструктивного рабочего диалога. Это произошло на фоне отрицательной оценки многими отечественными и немецкими экспертами состояния двустороннего сотрудничества, которые как накануне встречи, так и после неё состязались в уровне негативности характеристик – от «глубокого кризиса» до «полного взаимного непонимания и недоверия»31.
Понятно, что немецкий политический истэблишмент не признаёт Крым в качестве субъекта РФ, считает его переход в другую государственную юрисдикцию аннексией и грубым нарушением норм международного права, осуждает участие России в поддержке непризнанных республик Донбасса. Во многом с этим связана жёсткая позиция А. Меркель в отношении сохранения санкций и невозможности возврата России в клуб ведущих мировых держав. Также понятно, что у РФ и ФРГ всегда было своё отношение к большинству вопросов международной безопасности, особенно к причинам возникновения конфликтов и путям их разрешения. Но всегда присутствовало стремление к взаимному обсуждению и пониманию позиций друг друга.
В Сочи это проявилось в оценке сирийского, иранского и украинского кризисов32. При ряде принципиальных различий были найдены точки соприкосновения, которые послужили для продолжения диалога на политическом и экспертном уровне. Среди прочего, речь шла о безальтернативности реализации Минских соглашений, заинтересованности обеих стран в работе в рамках «нормандского формата» и Контактной группы, а также готовность продвигать идею специальной мониторинговой миссии ООН. В конце июля 2018 года неожиданно для экспертного сообщества в Берлине прошла встреча А. Меркель, Х. Мааса, С. В. Лаврова и начальника Генерального штаба РФ В. Герасимова, в центре которой оказались вопросы ситуации на Украине и в Сирии. Обсуждение, ради которого федеральный канцлер прервала свой отпуск, прошло в закрытом режиме. Неожиданностью стала и рабочая встреча В. В. Путина и А. Меркель 18 августа в Мезеберге, итоги которой не были представлены общественности. Известно только, что основными темами обсуждения оставались украинский и сирийский (особенно вопросы его гуманитарной составляющей) конфликты, а также вопросы энергетической безопасности.
Рабочий диалог по этим вопросам на уровне министров иностранных дел РФ и ФРГ продолжился 14 сентября 2018 года в Берлине. С. В. Лавров среди прочего отметил, что различия в подходах к проблемам не исключают интенсивных отношений.
Экономическая кооперация
Непосредственно со сферой политики связана экономика – в 2017 году был достигнут явный прогресс: почти на 20 % вырос российско-германский внешнеторговый оборот, увеличились взаимные капиталовложения в форме прямых инвестиций33. Рост взаимных поставок продолжился в 2018 году.
В экономической сфере приоритет объективно принадлежит энергетике. Здесь у обеих сторон есть профессиональное понимание основ энергетической безопасности России, Германии и Евросоюза, а также стремление исключить из неё политические факторы. Руководство ФРГ с весны 2018 года проявляет себя явным лоббистом Украины. Оно неоднократно обращалось к России с просьбой наряду с будущими поставками газа через «Северный поток – 2» сохранить транзит через украинскую газопроводную систему. В. В. Путин, вполне корректно и положительно отреагировав в Сочи на просьбу А. Меркель, подчеркнул, что в этом вопросе решающей должна быть экономическая обоснованность транзитных поставок газа. Это положение он ещё раз озвучил в августе в Мезеберге.
Оба лидера едины в негативной оценке последствий возможных экстерриториальных американских санкций34. Одновременно они считают, что на сегодняшний день у Германии, ЕС и России нет адекватных ответов на них. Накануне сочинских переговоров председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер в Софии заявил о задействовании с 18 мая 2018 года так называемого Блокирующего регламента ЕС от 1996 года, призванного нейтрализовать экстерриториальные эффекты ограничительных мер США. В обновлённом виде он был введён 7 августа 2018 года. Немецкий бизнес занял выжидательную позицию. Его дальнейшее взаимодействие с российскими компаниями, попавшими под ограничительные меры американской администрации, во многом будет зависеть от позиции федерального правительства.
Россия подготовила свой Закон о противодействии, вступивший в силу 5 июня 2018 года. Его проект вызывал серьёзные опасения и отечественного, и европейского бизнеса. По запросу немецких компаний федеральный канцлер в Сочи обратилась к президенту РФ с просьбой учесть риски возможных негативных последствий для российско-германской хозяйственной кооперации. В. В. Путин пообещал, что Закон не затронет интересы компаний из РФ и ЕС.
Накануне сочинского саммита министр экономики и энергетики ФРГ П. Альтмайер в Москве обсудил блок хозяйственно-политических вопросов со своими российскими коллегами. 14–15 мая он провёл встречи с двумя ведущими российскими министрами экономического блока (Д. В. Мантуровым, А. В. Новаком), сохранившими свои посты в новом правительстве РФ, и Д. А. Медведевым. Наряду с энергетикой (П. Альтмайер занялся «челночной газовой дипломатией», прилетев в Москву из Киева и улетев туда же), обсуждались и другие вопросы. Немецкий министр обратил внимание на то, что есть много сфер, не затронутых взаимными санкционными режимами ЕС и РФ, в которых можно более активно развивать двустороннюю кооперацию, в том числе вовлекая в них малые и средние предприятия.
В конце июня 2018 года в Москве прошло очередное заседание Российско-Германской стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ), возобновившей работу (в условиях взаимных санкционных режимов ЕС и РФ) в начале лета 2016 года. Среди прочего, участники обсудили запуск стратегической инициативы «Партнёрство для эффективности». Она направлена на содействие росту производительности труда на российских предприятиях с учётом опыта немецких компаний и специализированных центров ФРГ.
Хорошие перспективы имеет сотрудничество в области цифровизации экономики – как на уровне правительственных структур, так и на уровне отдельных компаний35. Во время Петербургского международного экономического форума участники Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (основана в феврале 2018 года) уточнили основные направления кооперации в области цифровой трансформации, в первую очередь в сфере промышленности.
Германское бизнес-сообщество в России поддерживает совместную закупочную инициативу корпорации МСП, Российского экспортного центра и «Деловой России», направленную на идентификацию и классификацию российских поставщиков для нужд иностранных компаний, заинтересованных в локализации своего производства в РФ. В этом же контексте оно реализует проект “VETnet” по дуальному профессиональному образованию квалифицированной рабочей силы, а также поддерживает проекты по повышению энергоэффективности и согласованию стандартов технического регулирования. Эти аспекты важны для углубления промышленной кооперации и локализации немецких высокотехнологичных производств в российских регионах.
Немецкие и российские компании в целом приспособились к взаимным экономическим ограничительным мерам ЕС и РФ. 2017 и 2018 годы показывают, что бизнес способен к дальнейшему восстановлению и развитию кооперационных связей во всех народнохозяйственных сферах.
Россия и Германия активно продолжают взаимную научно-техническую кооперацию – в ней участвуют как академические и отраслевые научные учреждения, так и высшие учебные заведения. Успешно идёт студенческий обмен и культурно-гуманитарное сотрудничество. 14 сентября 2018 года в Берлине в присутствии глав внешнеполитических ведомств были подведены итоги взаимного Года регионально- муниципальных партнёрств. Осенью 2018 года начнётся перекрёстный Год научно-образовательных партнёрств. В 2019 году пройдёт большая культурная программа «Русские сезоны».
Европейский контекст отношений
Обсуждение вопросов политического и экономического взаимодействия России и Евросоюза продолжилось в конце мая 2018 года, во время встречи В. В. Путина и Э. Макрона на Петербургском международном экономическом форуме, а также в начале июня, в ходе визита российского президента в Австрию и его переговоров с федеральным президентом ван дер Белленом и канцлером С. Курцем36. И немецкий, и французский, и австрийские лидеры послали однозначные сигналы своим европейским коллегам о том, что пришло время:
• возобновления и расширения диалога с Россией во всех сферах, в том числе в сфере безопасности;
• более активного вовлечения в обсуждение политических и экономических вопросов не только глав государств и правительств, но и ведущих функционеров институтов Евросоюза;
• противодействия антироссийскому европейскому лобби, во многом ориентирующемуся на деструктивную политику США, соответственно, активного поиска путей обхода американских экстерриториальных санкций;
• поиска знаменателя общих хозяйственно-политических интересов, в том числе понимания того, что проект «Северного потока – 2»
усиливает энергетическую безопасность Европы и стран Евросоюза, соответственно, необходимости нейтрализации возможных американских санкций в отношении европейских компаний, участвующих в его реализации.
В этом контексте одним из важных вопросов в будущей повестке хозяйственно-политических переговоров должно стать обсуждение вклада ФРГ и РФ в давно предложенный С. В. Лавровым взаимный аудит отношений между РФ и ЕС, а также в начало диалога между руководящими органами ЕС и ЕАЭС.
Выводы
По состоянию на осень 2018 года у российско-германского сотрудничества сохранялись хорошие шансы для продолжения поступательного развития. Это касается всех сфер – политической, экономической, гуманитарной.
Россия и Германия, несмотря на известные расхождения, готовы к конструктивному обсуждению на двустороннем уровне всех основных мировых проблем и существующих международных конфликтов, в том числе и на постсоветском пространстве. Понятно, что оно будет вестись в контексте трансатлантических и европейских интересов ФРГ и евразийского вектора внешней политики РФ. Кремлю предстоят сложные переговоры о необходимости смещения приоритетов с развития отношений на двустороннем уровне, на котором настаивает ЕС («ЕС – постсоветские государства»), к отношениям между Евросоюзом и Евразийском экономическим союзом. Они могли бы идти параллельно с обсуждением возможностей постепенного восстановления институционального сотрудничества Москвы с Брюсселем. Здесь стоит учитывать возможности существенно укрепившегося германо-французского тандема.
Сближения позиций можно ожидать в сфере противодействия неадекватному поведению американской администрации во главе с президентом Д. Трампом.
Камнем преткновения останутся вопросы, связанные с Крымом и ситуацией на Юго-Востоке Украины. Сохранится жёсткая позиция Германии в отношении санкционного режима Евросоюза и, соответственно, Минских соглашений. Шансов на смягчение санкций по причине деструктивной позиции Украины очень мало.
Несмотря на очевидные риски возможных экстерриториальных санкций США, продолжится рост взаимных инвестиций и товарооборота. Для дальнейшего повышения их эффективности имеет смысл активизировать работу Российско-Германской бизнес-платформы, созданной в конце 2015 года Восточным комитетом немецкой экономики, Российско-Германской внешнеторговой палатой, «Деловой Россией» и РСПП. Хорошие перспективы существуют в сфере цифровизации, в том числе в рамках немецкой стратегии «Индустрия 4.0». Взаимное экономическое сотрудничество способно внести важный вклад в выполнение майских указов президента РФ. Ведущее место в этом должен занять малый и средний бизнес наших стран.
Надо более активно использовать существующие двусторонние дискуссионные площадки, на которых можно обсуждать перспективы противодействия санкциям США и возможностей качественного и количественного углубления двустороннего сотрудничества. Немецкая сторона готова увеличить финансирование существующих форумов. Думаю, что и Россия могла бы сделать такой же шаг. Потенциал таких площадок уникален. Такого нет в отношениях с другими странами.
Необходимо подумать о более активном использовании «мягкой силы» и её разнообразных институтов для продвижения лучших практик взаимного сотрудничества. Имеет смысл обратить внимание на деятельность различных некоммерческих организаций, например общества «Россия–Германия».
С учётом хорошего состояния взаимодействия в научно-технической и гуманитарных сферах имеет смысл возобновить обсуждение возможного смягчения визового режима ЕС и РФ для учёных, студентов, школьников и представителей сферы культуры.
ЕС–Россия: возможности и препятствия сотрудничества в сфере безопасности
Дмитрий Александрович Данилов
кандидат экономических наук, зав. Отделом европейской безопасности ИЕ РАН
В статье анализируются современные политические отношения России и ЕС и возможности сотрудничества в сфере безопасности. Хотя ЕС в своей Глобальной стратегии видит в России стратегический вызов, Россия в обновлённой Концепции внешней политики рассматривает Евросоюз как «важного партнёра». Такое различное взаимное восприятие подчеркивает, что отношения Россия–ЕС в сфере безопасности испытывают дефицит перспективного стратегического видения и продолжают развиваться реактивно, хотя и в парадигме взаимного сдерживания. Формула Евросоюза «избирательное сотрудничество + конструктивный диалог» не работает, поскольку стороны не могут определить желательные ориентиры и институциональные рамки отношений. Нарастающая неопределённость увеличивает риски консолидации конфронтационных отношений в Европе и между Россией и ЕС. Несмотря на стремление Евросоюза к стратегической автономии и эффективной ОПБО, его увеличивающаяся зависимость от американских гарантий и стратегических целей США размывает потенциал сотрудничества России и ЕС в сфере безопасности. Но, с другой стороны, это является ещё одним серьёзным аргументом для восстановления системного и структурированного политического диалога между Россией и ЕС. В статье сделан вывод о том, что обе стороны должны рассматривать это как непременное условие сотрудничества, особенно в сфере безопасности, которое, в свою очередь, не должно утерять общеевропейскую (евразийскую) перспективу.
Аксиоматичная формула отношений Россия–ЕС «мы обречены на сотрудничество», которая базировалась на солидном массиве торгово-экономических связей, существенных взаимных интересах и близости позиций по многим ключевым темам международных отношений и кризисного урегулирования, не выдержала испытания украинским кризисом 2014 года. Концепция построения Общих пространств «от Лиссабона до Владивостока» во всех сферах – экономике, безопасности, образовании, науке и культуре – провалилась, как и «почти завершённое» новое базисное соглашение между Россией и ЕС. Европейский союз столкнулся с серьёзными преградами своей «мягкой» экспансии, которая соприкоснулась с пространством российских особых интересов. Проект общеевропейской конвергенции после «холодной войны», несмотря на импульсы первой половины 2000-х годов, провалился.
Россия для Евросоюза из стратегического партнёра превратилась в стратегический вызов и главную угрозу европейской безопасности. Системный политический диалог и сотрудничество на основе отраслевых диалогов были демонтированы, и на смену им пришла санкционная философия и практика отношений.
Внешнеполитические концепции: отсутствие стратегического ви́дения
После последнего саммита Россия–ЕС в январе 2014 года, прошедшего в урезанном формате, отношения сторон всё ещё продолжают оставаться неопределёнными. Стратегическое ви́дение отношений отсутствует, практическое взаимодействие строится в ограничительных санкционных рамках и в геополитической парадигме взаимного сдерживания. Приспособительные реакции к изменившимся реалиям и динамично меняющейся международной обстановке превалируют над стратегическим мышлением и перспективой.
Глобальная стратегия ЕС (ГС/ЕС) отражает нынешнее ви́дение России в качестве «ревизионистской державы», но не является стратегией в отношении РФ. Пять руководящих принципов Ф. Могерини37 являются, скорее, попыткой найти внутренний политический и институциональный баланс в Евросоюзе, нежели концептуальными рамками развития отношений. Брюссель готов рассматривать возможности пересмотра характера и содержания отношений только на условиях выполнения Минских соглашений через призму преимущественно ответственности России в урегулировании украинского конфликта. Москва не считает себя стороной конфликта и поэтому не может согласиться ни с европейским подходом к его урегулированию, ни с «рамочными условиями» ЕС по отношениям с РФ.