Читать онлайн Мастер серийного самосочинения Андрей Белый бесплатно
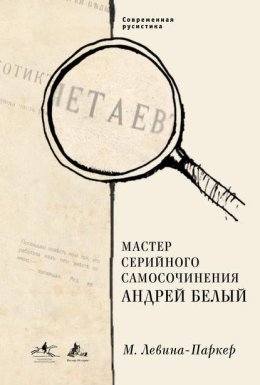
Посвящается Вячеславу Иванову, моему Учителю
Вместо предисловия
Из отзыва Вяч. Вс. Иванова на диссертацию, легшую в основу этой книги (L᾽Autobiographie sérielle (“Serial Autobiography”) dans l᾽oeuvre d᾽Andrej Belyj).
Новизна исследования состоит, в частности, в том, что госпожа М. Левина-Паркер привлекла для анализа специфики автобиографических сочинений Андрея Белого методы, выработанные в самое последнее время.
В исследовании М. Левиной-Паркер применены две новые теории, которые ранее не привлекались для решения подобных задач в истории русской литературы. В основе нового подхода, использованного в диссертации, лежит теория серийной автобиографии, предполагающая наличие множества автобиографических сочинений, каждое из которых дает особую точку зрения на описываемую личность. Автор исследования не ограничилась использованием уже разработанной в американском литературоведении системы описания серийной автобиографии. Она переосмыслила это теоретическое построение в духе семиотического понимания литературы.
<…>
Теоретическая новизна работы М. Левиной-Паркер не ограничивается только применением семиотического варианта теории серийной автобиографии. В исследовании показано, как этот подход может быть соединен с разработанным в недавнее время французскими авторами пониманием «autofiction». В том описании этого особого вида литературы, которое вслед за современными французскими литераторами принимает М. Левина-Паркер, мне кажется особенно важным подчеркивание роли языка.
<…>
Вячеслав Иванов5 октября 2013 года
Введение
Основная тема Андрея Белого – Андрей Белый. В его «Дневнике писателя» находим программное заявление: «“Статья”, “тема”, “фабула” – аберрация; есть одна только тема – описывать панорамы сознания, <…> остается сосредоточиться в “Я”, мне заданное математической точкою»1. Там же: «<…> роман “Я” есть роман всех романов моих <…>»; «“Я есмь Чело Века” – вот имя невиданной эпопеи, которую мог бы создать; а все прочие темы при всей “интересности” их, – я не вижу: рассеян и болен “единственной темою”: темой всей жизни!»2
Заявления писателей о себе часто обманчивы, и Белый совсем не исключение. Но его слова о его творчестве подтверждаются делом, творчеством, которое представляет собой серию самоописаний. В каждом из них, включая мемуары, автобиографическое повествование скрещено с вымыслом. Особенность его творчества в том, что это серийный процесс переосмысления и пересоздания своего прошлого Я – в отношениях с родителями, идеями, объектами желания, старшими и младшими коллегами по перу, друзьями. Роль вымысла в создании характеров и фабулы у Белого, как отмечалось в литературе (см. ниже), ограничена.
Слова «панорамы сознания» в цитате выше уточняют, что именно, какое измерение своего Я Белый считал единственно достойной темой. По-настоящему его интересовали не столько события в традиционном смысле, сколько события, происходящие в голове, приключения (злоключения) сознания, реальность нематериального. Об этом он в основном и писал, творя свою вселенную странностей, мир мозговых игр и химер, тенеобразных человеков и людоподобных призраков. В его мире основные события – трепеты сознания и подсознания, основные факты – неверные отражения иллюзий, основное дело – слово. В этом отношении его дарование уникально. Воображение не очень щедро подсказывало ему вымышленные лица и события, но зато рисовало ни на что не похожий мир. В мире Белого заимствованные им из собственного опыта персонажи и коллизии живут по непонятным законам в загадочной инореальности, как на особой планете. В этом отношении у Белого было воображение фантастическое. Хотя, наверно, это даже не воображение, а недоступный другим людям способ восприятия реальности.
Как писал – вопрос не менее важный, чем о чем. У Белого заслуженная репутация стилиста-новатора, создателя нового художественного языка.
В трех предыдущих абзацах названы три важнейших измерения творчества Белого: о себе – более всего о панорамах своего сознания – своим особым языком.
Теоретической базой моего исследования служат две теории, которые я стараюсь использовать в сочетании.
Теорию автофикшн с 1977 года, когда была опубликована программная работа Сержа Дубровского, разрабатывают французские исследователи3. Она чрезвычайно полезна для понимания Белого, в особенности для осмысления гибридной, автобиографически-романной природы сочинений Белого о себе самом и, в равной мере, для анализа его письма как имитации дискурса бессознательного.
Исходный пафос автофикшн – отказ от жесткого деления на факты и вымысел, от представления, что в автобиографии должна излагаться правда, вся правда и ничего кроме правды. Автофикшн провозглашает свободу сочинять о себе, свободу вольно обращаться с фактами и смешивать их с фикциями, свободу смешивать и сами жанры. Другой принципиальный тезис: интересны не внешние события и материальные факты, а иная реальность – реальность сознания, мысли, фантазии, переживания, причем особенно интересно бессознательное.
Теория серийной автобиографии с середины 1990-х годов разрабатывается в американской критической теории такими исследователями, как Ли Гилмор, Сидони Смит и Джулия Ватсон. Эта теория концептуализирует практику многократного самоописания автора. Она помогает многое разглядеть в творчестве Белого сквозь призму его тотальной автобиографичности.
Серийная автобиография есть прежде всего создание ряда повествований о своей жизни, соотносящихся друг с другом как полемические и при этом равноправные версии, ни одна из которых не является ни главной, ни окончательной. Основные особенности серийной автобиографии: многократная перекодировка личности автора (и важных для него Других; для Белого – отца и Блока), наличие автобиографического инварианта, повторяемость и в то же время вариативность жизнеописаний и принципиальная незавершенность этих вариаций.
Теории эти удивительным образом дополняют друг друга. Теория серийной автобиографии не придает значения авторскому стилю, что, особенно говоря о Белом, представляется серьезным упущением. Автофикшн придает стилю значение первостепенное и в этом удачно дополняет теорию серийной автобиографии. Вместе с тем автофикшн не замечает феномена серийности, что, особенно говоря о Белом, представляется серьезным упущением. В этом ее удачно дополняет теория серийной автобиографии. И во многих других отношениях эти две теории взаимодополняемы. Применительно к творчеству Белого их взаимодополняемость представляется настолько наглядной, что я в своем анализе пытаюсь их объединить – под названием «серийное самосочинение».
Насколько мне известно, ни один из представителей двух теоретических направлений еще не выказывал интереса к Белому, несмотря на то что писательская практика Белого словно иллюстрирует их основные положения (возможно, он труден для англо- и франкофонов). Что касается интереса беловедов к этим теориям, то Клаудиа Кривеллер пишет об автофикшн: «На мой взгляд, этот критический инструментарий <…> пригоден и для интерпретации некоторых сложных и противоречивых автобиографических произведений Андрея Белого»4. Наглядным тому подтверждением служит ее статья, в которой используется теория автофикшн в анализе «Котика Летаева» и «Крещеного китайца».
Белый – писатель уникальный, и было бы неплодотворно рассматривать его творчество лишь как подтверждение какой бы то ни было теории. Теории хороши настолько, насколько помогают понять его тексты. С другой стороны, неспособность теории что-то объяснить – еще не основание для того, чтобы ее отвергнуть. Самая из них плодотворная в чем-то ограниченна. В таком случае возникает вопрос, как эта ограниченность может быть преодолена, как обобщающие положения могут быть уточнены или пересмотрены. В этом обратная, и очень важная, сторона взаимной связи теории и материала.
Использование иностранных теорий для анализа русского писателя сопряжено с преодолением языковых и культурных границ. Кривеллер связывает возможность применения теории автофикшн к прозе Белого с его исключительным положением в русской автобиографической традиции. Она пишет: «Примеры смещения вымысла и действительности несомненно существуют уже в древнерусских произведениях, но, по всей вероятности <…> лишь в творчестве Белого впервые так ярко соединяются все отличительные элементы “автофикшн”». Особенности Белого, по мнению Кривеллер, делают его фигурой «надысторической и наднациональной». Она обосновывает приложимость французской теории к творчеству русского писателя в наднациональном контексте «общих исследований по теории жанра»5.
Моя работа представляет попытку осуществить такое приложение на материале автофикциональных романов и мемуаров Белого.
Андрей Белый – автобиограф с особенностями
Аналитические подходы современников
В. Ф. Ходасевич, Ф. А. Степун, Р. В. Иванов-Разумник по-разному отзываются о Белом, но все сходятся на том, что он всю жизнь писал и переписывал свою биографию.
Философ Федор Степун оставил (наряду с Владиславом Ходасевичем) один из самых содержательных очерков о Белом. Творчество писателя он связывает с его внутренними метаморфозами и конфликтами. Такой подход мотивирован представлением Степуна «о Белом, как о замкнутой в себе самой монаде, неустанно занятой выверением своего собственного внутреннего равновесия»6. По убеждению философа, разные ипостаси собственного Я были для Белого главным объектом творчества, объектом исследования и воссоздания в самых различных произведениях: «В сущности, Белый всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на своем “я”; и только и делал, что описывал “панорамы сознания”»7. Из анализа Степуна следует, что образы Белого – сложноорганизованная замкнутая система зеркал. Зеркала обращены вовнутрь системы, друг на друга, и предназначены взаимно отражать друг друга и составлять разной сложности комбинации взаимных отражений.
Степун полагает, что личность Белого не развивается, а потому и в его творчестве нет развития: «Как это ни странно, но, при всей невероятной подвижности своего мышления, Белый в сущности все время стоит на месте; вернее <…> все время подымается и опускается над самим собой, но не развивается»8.
Такие суждения не могут не вызвать вопроса: если Белый не развивается, то каким образом создается разнообразие его текстов? И о чем, если не о развитии, свидетельствуют заметные различия между: симфониями – «Серебряным голубем» – «Петербургом» – романами о Котике – Московскими романами? Степун все объясняет полемичностью сознания Белого – различия выражают не развитие, а столкновение заложенных в нем начал: «Все эти моменты беловского сознания означают <…> не столько этапы его поступательного развития, сколько слои и планы его изначальной душевной субстанции»9. Силы и персонажи, конфликтующие в текстах Белого между собой или с автором, суть не что иное как отсветы его расщепленного сознания. Он проецирует их вовне в виде призрачных автономных субъектов: «<…> фехтует Белый на летающих трапециях <…> с призраками своего собственного сознания, с оличенными во всевозможные “ты” и “они” моментами своего собственного монадологически в себе самом замкнутого “я”»10.
Потребность во все новых и новых персонажах-персонификациях своего сознания и во все новых и новых текстах- объективациях своей жизни, по мнению Степуна, и есть тот внутренний механизм, который мотивировал безостановочное производство самоописаний. В истоках этой потребности, по убеждению Степуна, был внутренний конфликт, зародившийся в душе Белого в детстве и доминировавший в его сознании и его творчестве всю последующую жизнь:
Все главные темы поэта и романиста Белого суть темы взрыва культуры, взрыва памяти, взрыва преемственной жизни и сложившегося быта.
В основе всех этих тем лежит с ранних детских лет восставшая в душе Белого жутко мучительная тема бунта против любимого отца, обострявшаяся в нем временами до идеи посягательства на его жизнь11.
Основной внутренний конфликт, отец–сын, по Степуну, поглощал Белого всю жизнь и приводил к предельной концентрации на множественности его разных Я. В результате автобиографичность стала доминантой его текстов – в ущерб эпичности: «Начав с монадологической “невнятицы” своих симфоний, Белый попытался было в “Серебряном голубе”, в “Петербурге” и в “Пепле” выйти на простор почти эпического повествования, но затем снова вернулся к своему я, хотя и к Я с большой буквы»12. Степун не пользуется психоанализом, даже считает его менее уместным, чем «историософский подход к творчеству Белого», но все же отмечает: «<…> в писаниях Белого есть совершенно прямые указания на наличие в душе Белого переживаний, прямо-таки вызывающих применение к ним фрейдовских методов исследования <…>»13.
Иванов-Разумник строит обзор творчества Белого на демонстрации соответствий между интеллектуально-эмоциональными этапами пути писателя и его поэтическими и прозаическими сочинениями. По его мысли, Белый пишет не портрет своей психики (как считал Ходасевич) или своего сознания (Степун), а биографию своего внутреннего мира, описывает, как их называл Ф. М. Достоевский, свои «идеи- чувства» и их трансформации. Позиция Белого-символиста предстает персонализацией теории или, наоборот, теоретизацией жизни:
<…> теория символизма, продуманная до конца, заставила его понять, что <…> внутренним выявлением символизма является мистика, и путь этот искренний символист должен проделать до конца. Построить теорию символизма может и человек вполне рационалистически настроенный; символист же должен оправдать ее жизнью и творчеством <…>14.
Белый, доказывает Иванов-Разумник, от cимфоний (его литературной инициации) до «Петербурга»15, воплощает в образах «личные <…> его вопросы, его “боли”», которые «сопутствовали ему на протяжении всей его жизни»16. В зависимости от варьирующегося содержания этих личных «вопросов-болей» Белый поочередно обращается за ответами к разным областям духовности, к разным религиозным, мистическим и философским направлениям мысли. Но не столько постигает их интеллектуально, сколько проживает всем своим существом и переводит на язык образов. Для Белого важно «первенство “творчества” над “логизмом”, первенство непосредственных переживаний»17.
«Петербург» для Иванова-Разумника – произведение самореференциальное и самоцитатное, следовательно, автобиографическое: «В нем как бы “сводка” всего того, чем до сих пор жило прошлое творчество поэта, и для тех, кто не знаком с этим прошлым, – многое в романе только загадка, только непонятная тарабарщина»18. Николая Аполлоновича он прямо отождествляет с автором. Он цитирует из «Петербурга»: «“Николай Аполлонович был кантианец; более того: когенианец”, это был “<…> центр, серия из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все – душу, мысль”», – и комментирует: «<…> так расправляется с самим собой в лице Николая Аполлоновича беспощадный автор»19.
Из работ современников о Белом выделяются две Владислава Ходасевича: «Аблеуховы–Летаевы–Коробкины» (1927) и «Андрей Белый» (1934–1938). В них точно оценивается значение автобиографического в творчестве Белого. Работы эти до сих пор, когда о Белом опубликовано уже очень много, сохраняют значение исключительное. В целом написанное им о Белом создает впечатление, что никто так не знал и не понимал Белого. Он, в частности, показал, что «Петербург» и последующие романы представляют череду литературных воплощений Я Белого. По словам Вяч. Вс. Иванова, Ходасевич «дал непревзойденный разбор» структурной схемы романов Белого и показал их «архетипическое единство»20.
Ходасевич возводит генезис большинства романов Белого к семейному конфликту детства. Речь идет о конфликте между его родителями из-за методов воспитания, нанесшем психике Бори Бугаева, будущего Андрея Белого, травму, к которой писатель не переставал возвращаться в своих мемуарах и романах. Отец стремился с младенчества развивать у ребенка логическое мышление и интерес к знаниям, а мать старалась подольше сохранять его в состоянии детского неведения, да еще обращалась с ним как с девочкой. По мнению многих, у мальчика в отягощенных формах развился комплекс, описанный Фрейдом как Эдипов, неприязни к отцу и одновременно влечения к восхищавшей его своей красотой матери. Комплекс, вероятно, отразился на личности писателя и повлиял на его творчество.
В статье «Аблеуховы–Летаевы–Коробкины» Ходасевич выделяет единый скрытый стержень соответствующих романов: «Все это – фрагментарные вариации одной темы, единой в своей глубокой сущности фабулы»21. И вот почему: «<…> не только характер отца, но и все основные семейные ситуации у Аблеуховых, Летаевых и Коробкиных почти тождественны <…> в том сюжетном строении, которое Андрей Белый называет “конфигурацией человеческих отношений”»22.
Такую конфигурацию Ходасевич вначале выделяет в «Петербурге». Он цитирует: «…зачат был Николай Аполлонович между улыбками: похоти и покорности; удивительно ли, что Николай Аполлонович стал сочетанием отвращения, перепуга и похоти?»23 Он представляет это тройственное сочетание и восстание сына на «наследодателя» как скрытую основу романа24. Затем Ходасевич вычленяет семейную конфигурацию, формировавшую Котика-Николая Летаева. И ту же структуру выделяет как скрытый двигатель романов московской серии.
Ходасевич полагает, что все основные события романов Белого, хотя совершаются многие из них на фоне исторических потрясений (революция, война), суть «дела совершенно “домашние”: отцеубийство, предательство и мания преследования». Критик выдвигает важнейшую для осознания наследия Белого концепцию – «романов-вариантов» как сущности творчества писателя: «Различные варианты этих основных тем и показывает Андрей Белый в ряде романов-вариантов, почти не меняя своих основных персонажей»25.
В очерке «Андрей Белый» Ходасевич развивает тему бугаевской семейной конфигурации отец–мать–сын и представляет ее внутренним инвариантом романов Белого26. На сей раз Ходасевич прямо называет явление, лежащее в основе творчества Белого – автобиографичность:
Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности, служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве27.
И в «Аблеуховых–Летаевых–Коробкиных», и в «Андрее Белом» Ходасевич показывает, что даже, казалось бы, сугубо вымышленные персонажи и конфликты в романах автобиографичны – в том смысле, что это эманации души Белого. Или, если перефразировать Ходасевича, проекции личных импульсов автора в условную действительность романов. Если персонаж-сын везде откровенно автобиографичен (а персонаж-отец биографичен), то периферийные персонажи опосредованно автобиографичны, это «Эринии его потенциального отцеубийства»; «<…> целым роем несутся какие-то Липпанченки». И сына, и отца, по словам Ходасевича, Белый «изображает опутанными целой паутиной каких-то подстрекателей, подсматривателей, подглядывателей, наблюдателей, незнакомцев, провокаторов и т. д.»28 Нечто подобное происходит и в Московских романах:
Вся эта дрянь, со всеми Мандро и со всеми интригами шпионов, – только дрянная эманация дрянной Митиной души <…> Митя <…> такой же потенциальный отцеубийца, как Николай Аблеухов, страдает манией преследования <…>29.
В очерке «Андрей Белый» Ходасевич анализирует механизм порождения таких героев: специфически бéловский перенос свойств его Я на окружающих:
Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эриниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе <…> Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами <…>30.
Ходасевич, кроме того, фактически указывает на еще один аспект автобиографизма Белого – тенденцию к некоторому сближению мемуаров и романов (при сохранении их жанровых различий) в некоем референциально-фикциональном пространстве. О воспоминаниях Белого он замечает:
<…> как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими <…> И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей31.
Критик находит и в мемуарном, и в романном творчестве Белого варианты одного и того же архетипического конфликта. Это закономерно. Неожиданно другое – значение, которое Ходасевич придает вымыслу: «Автобиография Белого есть такая же “серия небывших событий”, как его автобиографические романы»32.
Получается, Ходасевич сближает романы и мемуары Белого на основе не только присущей тем и другим референциальности (традиционно – атрибута автобиографического дискурса), но и присущей тем и другим фикциональности (атрибута художественного дискурса). Ходасевич, показав референциально-фикциональную природу текстов Белого, таким образом, вплотную подошел к формулировке важнейшего постулата автофикшн – поэтики гибридности. При этом большая доля вымысла в мемуарах Белого, разумеется, не превращает их в романы – а большая доля автобиографичности не делает его романы мемуарами. К референциальной и одновременно фантастической трактовке референтов, которой отличаются мемуары Белого, в его романах добавляются сущностные измерения образности, изощренности стиля, художественности построения и развития – в соответствии с разнообразными литературными стратегиями и приемами.
Ходасевич, Степун и Иванов-Разумник дают представление о Белом как о писателе, творящем серию самоописаний – от произведения к произведению он пересоздает себя и свое прошлое. Все трое указывают, что писателя интересуют не столько факты в обычном смысле, сколько факты его самосознания. Ходасевич добавляет смешение у Белого факта и вымысла. Это три важных характеристики. Первая означает, что Белый – серийный автобиограф. Две другие – что это автобиограф нетрадиционный, можно сказать, девиантный. Все вместе означает, что Белый есть серийный самосочинитель – автор, сочиняющий себя.
Попытки развить психоанализ Ходасевича
Со времен Ходасевича, несмотря на многочисленные наблюдения беловедов о значении детской травмы Белого, почти не было попыток проанализировать его романы с точки зрения фрейдистской «конфигурации отношений». Отчасти в том, наверно, «виноват» сам Ходасевич: анализ его настолько хорош и точен, что добавить что-то по-настоящему новое нелегко. Возможно, это останавливало исследователей. Как бы то ни было, есть исключения.
Любопытный проект предложила Ольга Кук, американский исследователь. Взявшись заново проанализировать те же романы («Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Петербург» и Московские романы) с точки зрения психоанализа, она использует подход Ходасевича и опирается на его открытия – с намерением продолжить их и развить. Выстраивая свою статью в перекличке со статьями Ходасевича и вовлекая не охваченный им материал, Кук использует его логику для обоснования новых выводов.
Как бы дописывая «Аблеуховых–Летаевых–Коробкиных», она находит новое применение Эдипову комплексу. Кук проецирует конфликт отца и сына Аблеуховых на увиденный ею квази-сыновний комплекс Дудкина по отношению к Липпанченко (его символическому отцу): «Следовательно, не просто так Дудкин распарывает живот своему символическому отцу; он делает это не только в результате открытия, что Липпанченко – двойной агент, но еще в большей мере в результате постижения, что “особа” <…> повинна и в его болезни». Обращаясь к «Крещеному китайцу», Кук заново осмысляет семейный треугольник Летаевых – уже в терминах «негативного» Эдипова комплекса – и обнаруживает, что «Котику в той же мере присуще сексуальное влечение к отцу, как к матери». Что касается Московской трилогии, Ольга Кук, поправляя Ходасевича, находит, что темой является не столько отцеубийство, сколько инцест, и заключает: «Таким образом, Ходасевичу не удалось различить инцест, преступление, которое многие считают еще более ужасным, чем убийство»33.
Кук хочет показать, что Ходасевич, избрав верное направление анализа, останавливается на полпути и не выявляет всех травм, изображенных Белым в его романах. Нельзя не отдать должное некоторым находкам Ольги Кук. Однако оговорюсь, что не со всеми ее диагнозами я могу согласиться.
Среди исследований, в той или иной мере затрагивающих тему детства и детской травмы как автобиографического инварианта творчества Белого34, следует выделить работы Магнуса Юнггрена. В его книгах и статьях, посвященных по преимуществу автобиографическому подтексту «Петербурга», рассматривается изживание Белым детской травмы и последующего невроза и отражение этой борьбы с собой в художественных образах. Юнггрен, в частности, говорит: «Представляется, что он одновременно наделяет голосом русское коллективное бессознательное и – как собственный психоаналитик – обнажает свои неврозы»35.
Анализ Юнггрена основывается и на том, что Белый наделяет героев своими чертами, чертами своего отца или других близких, и на том, что он использует свои травмы и неврозы как материал для создания внутренних пружин действия и выстраивания сюжетных схем:
Николай Аполлонович Аблеухов шаг за шагом приближается к своим скрытым патрицидным желаниям <…> С первых страниц романа внешняя и внутренняя реальности неразрывно переплетены между собой. Психологические особенности Николая Аполлоновича перенесены на целостность Петербурга, а незнакомец с узелком представляется частью его внутреннего я36.
Юнггрен трактует роман, можно сказать, как художественный эвфемизм автобиографии писателя. Это оказывается продуктивным для его прочтения37.
Отметим в особенности замеченный Юнггреном перенос конфликта сын–отец на конфликты Белого с другими патерналистскими фигурами его окружения и последующий перенос этой же конфигурации на конфликты героев «Петербурга». Например, отношения Аблеухова-сына и Аблеухова-отца являются, по убеждению Юнггрена, отражением не только конфликта сына и отца Бугаевых, но и сложных отношений Белого и Штейнера38. Образ же Лихутина производен не только от автобиографического прототипа Блока в его квази-отеческой ипостаси, и не только от отца Белого, но и от его старшего товарища Эмилия Метнера: «Манера выражения Лихутина в большой мере окрашена манерой отца Белого, описанной в мемуарах»; «В качестве отцовской фигуры Лихутин весьма напоминает Эмилия Метнера»; «Роль, избранная Метнером на персональном и профессиональном уровне в отношениях с <…> Белым, ясно отражается в переходах Лихутина от мягкого к деспотическому обращению с “другом детства” Николаем Аполлоновичем»39.
Работы Юнггрена вносят заметный вклад в понимание автобиографизма Белого.
Достижения беловедения в анализе автобиографизма Белого
Беловедение последних десятилетий характеризуется обилием материала, признанием в творчестве Андрея Белого сильного автобиографического начала и неоспоримым прогрессом в анализе его аспектов. В работах, специально посвященных автобиографизму Белого, можно выделить некую сердцевину, во многом (не во всем) совпадающие выводы различных экспертов. Обратимся к работам А. В. Лаврова, В. Е. Александрова и Л. С. Флейшмана, основательно разрабатывавших тему.
Исследования (не только трех названных авторов) часто начинаются с утверждений о сквозной автобиографичности прозы Белого. А. В. Лавров, склонный к расширительной трактовке, выражает идею наиболее отчетливо. Разбирая воспоминания о Блоке и мемуарную трилогию, он считает нужным подчеркнуть их общность в этом отношении с художественными текстами:
Едва ли не все произведения Белого насквозь автобиографичны, и эта их особенность настолько сильна и всепроникающа, настолько определяет характер обрисовки вымышленных героев, за которыми почти всегда скрываются конкретные прототипы, и выстраивание обстоятельств, за которыми встают реально пережитые коллизии, что их автор, по праву приобретший репутацию <…> создателя причудливых, фантасмагорических художественных миров, парадоксальным образом может быть охарактеризован как мастер, неспособный к художественному вымыслу как таковому, не проецированному на личные воспоминания и впечатления40.
В книге «Андрей Белый в 1900-е годы» Лавров говорит о подспудном автобиографизме как структурной основе творчества Белого: «Все творчество Белого изобличает фатальную неспособность писателя писать не о себе». И художественная мозаика Белого «поддается дифференцированному и вполне конкретному анализу как биографическая в своей основе структура»41. Лавров показывает, что и в «Серебряном голубе» есть автобиографический подтекст. Это не та же «конфигурация», которую Ходасевич показывает в других книгах, это автобиографичность в ином смысле – «контаминации автобиографических ассоциаций»42. В предисловии к изданию «Симфоний» Лавров указывает приметы того, что и «вторая “симфония” непосредственно автобиографична»43.
Александров считает, что автобиографическая ориентированность Белого является следствием его эстетических и эпистемологических воззрений: «В случае Белого <…> автобиографию можно рассматривать как развитие символистской эпистемологии, лежащей в основе его творчества»44. Это утверждение он подкрепляет следующими выкладками: в некоторых теоретических статьях («Формы искусства», «Критицизм и символизм» и др.) Белый провозглашает «внутренний опыт» воспринимающего индивидуума одним из двух компонентов символа (вторым является воспринимаемый индивидуумом внешний мир). В таких статьях как «Эмблематика смысла» и «Апокалипсис в русской поэзии», Белый добавляет, что «внутренний опыт» человека восходит к области трансцендентного. Таким образом, в соответствии с выработанной Белым теорией, индивидуальный акт познания, лежащий в основе литературного символа, выражает не только внутреннее состояние индивидуума, но и космическую истину. Отсюда и основополагающая для творчества Белого автобиографичность.
Многие исследователи, далее, отмечают тенденцию к повторяемости – возврат в разных произведениях к одним и тем же событиям, отношениям, конфликтам; среди автобиографических лейтмотивов Белого чаще всего выделяют детство и взаимоотношения с отцом или с Блоком.
Лавров отмечает такую повторяемость и в художественных, и в мемуарных текстах. Сам материал позволяет ему сводить в одном предложении формально фикциональные и формально документальные произведения без указания на их принадлежность к разным жанрам. Так, исследователь размышляет о работе Белого «над романом “Москва” (1925), сюжет которого, выстроенный по автобиографической канве, отчасти уже использованной в “Котике Летаеве” и “Крещеном китайце”, воссоздает картины московской жизни в предреволюционную эпоху, отчасти предвосхищающие тщательную реконструкцию этой жизни в “На рубеже двух столетий”»45. Лавров пишет о потребности писателя «по-новому <…> осмыслить прожитую жизнь, характер своей внутренней эволюции и постичь ее потаенный телеологический смысл»46. Можно усмотреть в проявлении этой потребности одну из причин повторяемости автобиографических тем у Белого.
Александров указывает на повторяемость детских эпизодов. Он подчеркивает равнозначимое присутствие как в мемуарном, так и в романном творчестве Белого автобиографических двойников, подаваемых писателем то в художественной, то в миметической форме: «Близкие параллели, которые можно провести между мемуарами Белого о детстве, “Котиком Летаевым” и “Крещеным китайцем”, позволяют заключить, что последние две работы представляют собой слегка замаскированный рассказ о младенчестве и детстве автора»47.
Каждый из исследователей по-своему формулирует общий для всех вывод: Белому свойственно в разных произведениях по-разному осмыслять одни и те же эпизоды и всякий раз представлять их в новом свете (предлагая контрастные и даже несовместимые их версии). Это третья, наряду с автобиографичностью и повторяемостью, тенденция – разноречивость, доходящая до противоречивости.
Противоречивость особенно заметна в описаниях Блока, ее нельзя не заметить. В воспоминаниях, написанных в 1922-1923 годах, вскоре после смерти поэта, Белый, как показывает Лавров, склонен к «любовной идеализации» образа Блока и к смягченному изображению их взаимных противоречий:
Тенденция к известному сглаживанию остроты идейной полемики прошлых лет, к ретушированию образа Блока, к его романтической мифологизации прослеживается в мемуарной книге о нем достаточно последовательно; сам Белый позднее объяснял эти особенности тем, что писал «Воспоминания о Блоке» под непосредственным эмоциональным воздействием недавней кончины поэта, охваченный «романтикой поминовения»48.
Далее Лавров указывает на решительное переосмысление Белым образа Блока и картин событий начала века в поздней мемуарной трилогии 1930-х годов. Лавров констатирует изменение прежней позиции Белого на противоположную:
Теперь читателю преподносится «другой» Блок: «реалистический», по определению Белого, – в противовес «лирическому», романтически утрированному образу из прежних воспоминаний. Если какие-либо критические ноты в адрес Блока ранее были приглушены, то в новой мемуарной версии они акцентируются; облик поэта утрачивает свою возвышенно-патетическую окраску и приобретает иронические, снижающие, даже сатирические черты49.
Флейшман в особенности подчеркивает повторяемость той же темы Блока – при шокирующей вариативности ее интерпретации в трех текстах (в «Воспоминаниях о Блоке», в берлинской редакции «Начала века» и в «Начале века» московского издания 1933 года). Он характеризует их как «три отдельных текста, последовательно вырастающих один из другого и в чем-то совпадающих, отстоящих на разном расстоянии от общего истока (Блока)»50. Флейшман приводит примеры расхождений в описаниях не только Блока, но и самого автора, а также Мережковского, Гиппиус, символистского круга, культурной ситуации начала века.
Несхожесть нарисованных Белым портретов Блока отмечал и Ходасевич, называя их «взаимно исключающими друг друга»51. Он не останавливался на этом подробно, но использовал точное понятие, которое подсказывает термин для обозначения этого странного явления: взаимонесовместимые описания.
Несмотря на значительные различия между тремя исследователями, они приходят к некоторым общим выводам. Во-первых, проза Андрея Белого сущностно автобиографична. Во-вторых, Белый настойчиво воспроизводит определенные коллизии своей жизни – как в мемуарных, так и в художественных текстах. В-третьих, описания одних и тех же событий и людей не всегда совпадают между собой и порой противоречат друг другу. В-четвертых, наличие таких расхождений не случайно и должно иметь объяснение.
Первые два вывода расширяют замеченное ранее Ходасевичем. В третьем пункте, противоречивости воспоминаний Белого, Ходасевич находил повод скорее для обиды, чем анализа, и всерьез объяснить эту особенность не пытался. Он подчеркивал неправдивость Белого, иногда забывая о хладнокровии52. Четвертый вывод является всецело достижением беловедения последнего времени. Важность его прежде всего в постановке вопроса о причинах разноречивости свидетельств. В ответах на этот вопрос исследователи расходятся. При некоторых совпадениях каждый предлагает свое объяснение.
Флейшман объясняет изменения в изображениях отношений Блок – Белый отчасти обстоятельствами, отчасти политической конъюнктурой эпохи. Он считает одной из основных причин публикацию в 1927 году «Писем Александра Блока к родным», в которых тот порой крайне нелестно отзывается о Белом: «Письма Блока <…> содержали высказывания, которые были абсолютно оскорбительными по отношению к Белому»53. Флейшман, кроме того, указывает на недовольство Белого явным предпочтением в большевистской пропаганде певца революции Блока перед подозрительным попутчиком Белым: «Революция определенно связывалась в сознании Белого с выраженной тенденцией советской литературной критики середины двадцатых годов противопоставлять Блока, “который пошел навстречу революции”, Белому, который оставался “пленником мистики”»54.
Лавров, придя к выводу об автобиографичности, повторяемости и противоречивости свидетельств Белого, ищет свою версию объяснения противоречивости. Исследователь приводит слова самого Белого (из письма Иванову-Разумнику), прямо свидетельствующие о том, что по крайней мере отчасти переворот в описании Белым прежнего собрата по духовным поискам объясняется знакомством Белого с публикацией в 1928 году дневников Блока (тоже местами малоприятных для Белого, подобно опубликованным в 1927 письмам). Лавров соглашается с Флейшманом в том, что Белый был недоволен официальной канонизацией Блока. Затем Лавров говорит о неудовлетворенности Белого и этим своим портретом Блока: «Впрочем, новым “реалистическим” Блоком Белый тоже остался не вполне удовлетворен»55. Эту очередную смену вех Белого в его трактовке прошлого и образа Блока Лавров объясняет потребностью уйти от использованного им в мемуарной трилогии принципа изобразительности, который он сам называл «стилем натурализма поздних голландцев», к новому стилю, который обеспечил бы наконец «попадание в цель».
Обзор работ, посвященных автобиографии в творчестве Андрея Белого, позволяет прийти к ряду выводов. Вне зависимости от того, какие – мемуарные или художественные – тексты Белого служат объектом анализа, большинство исследователей считает правомерным обращение к фактам жизни писателя, его личности и воззрениям как материалу существенному для литературоведческого осмысления его произведений. Автобиографичность как референциальной, так и фикциональной прозы Белого воспринимается многими беловедами как установленный факт и используется как отправная точка их исследований. Представление о тотальном автобиографизме Белого как отличительной особенности его творчества широко распространено в беловедении.
Исследователям, специализирующимся на автобиографизме Белого, удалось выделить важнейшие его признаки: сквозной характер автобиографизма, повторяемость ряда тем и разноречивость описаний, доходящая до непримиримой противоречивости. Фундамент понимания творчества Белого был заложен уже его современниками, более всего Ходасевичем, но публикации последних десятилетий значительно расширяют и дополняют наши представления о писателе.
После Ходасевича сделано много интересного, но складывается некоторая диспропорция. Добывающая подотрасль беловедения быстро вводит в оборот все новые ценные материалы – ранее неизвестные или недоступные документы и факты. Перерабатывающая – осмысляющая, теоретическая – тоже продвигается вперед, но не так быстро. Представляется, что назрела потребность в эксплицитно выраженных нетрадиционных подходах к нетрадиционному автобиографу. Возникают новые вопросы. Например: что, кроме связи с биографией, объединяет тексты его прозы? Или: как помогает понимание сквозного автобиографизма писателя понять отдельные его произведения? Как развиваются (если развиваются) повторяющиеся описания от произведения к произведению?
Связь текстов Белого с его биографией – важный и хорошо исследованный вопрос. Следующий, малоисследованный – связь между различными текстами. Если в основе их автобиографичность, то не является ли эта основа связующей? Если да, то в чем выражается связь?
Закономерным кажется и следующий вопрос: есть ли связь автобиографизма Белого с другими аспектами его творчества, скажем, с призрачностью его художественного мира или с техникой письма? И если есть, то в чем она? Идея Степуна о том, что изображаемое Белым есть отражение (художественное) отражений (физической реальности в сознании), не получила развития. Эта особенность Белого по-настоящему не исследована. Очевидна уникальность его стиля – но в чем она заключается? Многократно отмечалось, начиная с Бердяева56 и Шкловского57, что Белый создал свой стиль, новый художественный язык – а на чем, кроме ритма, он строится, какие еще приемы используются? Метафора, метонимия, повтор, инверсия – все это, конечно, обсуждалось в литературе, но это есть и у других. А что есть в письме Белого, чего у других нет?
Устав автобиографа и своеволие Белого
Традиционный подход к автобиографии веками воспринимался как единственно возможный и формулировался на уровне здравого смысла: автобиография – изложение фактов своего прошлого, рассказ о своих поступках, свершениях и ошибках, к которому предъявляется требование правдивости. По этому поводу не писались научные трактаты, это само собою разумелось. Множество людей и сегодня не представляет себе более естественного разделения труда: художественная литература – вымысел, мемуары – факты.
Был, однако, человек, который взял на себя труд представить простую формулу традиционализма в виде строго аргументированной и структурированной теории. Филипп Лежен – основной теоретик традиционного подхода к жанру автобиографии и апологет бинарной оппозиции «автобиография–роман». С 1975 года своего рода каноническим текстом стала его книга «Автобиографический пакт»58. Она содержит анализ жанра, представляет строгий взгляд на факт и вымысел и дает формальное определение автобиографии: «Ретроспективное повествование в прозе, рассказ реального человека о своей жизни, в котором акцент делается на его индивидуальном существовании, в особенности на истории его личности»59.
Лежен, взявший на себя миссию собрать воедино, обобщить и теоретически узаконить традиционные представления об автобиографии, можно сказать, навел порядок в недостаточно регламентированной области автобиографического творчества и отграничил ее от области беллетристической. Прежде всего он указывает на два противоположных по своей модальности пакта – «автобиографический пакт» и «романный пакт», которые представляют собой, соответственно, договор о референциальности и договор о нереференциальности, как бы заключаемый автором с читателями. Автобиографический пакт, по Лежену, состоит в том, что, во-первых, автор текста является также повествователем и главным героем (идентичность автор–повествователь–протагонист60), во-вторых, излагаемые в тексте события являются достоверными (жизненный путь героя воспроизводит жизненный путь автора). Романный пакт означает, что личность автора не совпадает с фигурами повествователя и героя вымышленных событий61.
Нужно сказать, что разделение текстов на «референциальные» и «фикциональные» имеет в концепции Лежена не констативный, а скорее предписательный характер: соблюдение и того, и другого пакта должно быть неукоснительным, никаких градаций и тем паче смешений между областью автобиографического и романного не допускается. В связи с этим Лежен рассуждает не столько в эстетических, сколько в этических терминах: автор, заявив об автобиографичности своего текста, не имеет морального права отклоняться от истины и вводить читателей в заблуждение, он должен строго выполнять все обязательства, которые влечет за собой заключение такого пакта.
О ригористичности, с которой Лежен подходит к определению рамок автобиографии, можно судить по основным постулатам его концепции. Так, автобиографический дискурс есть лишь тот, который по мере референциальности может быть приравнен к дискурсу научному. Лишь тот писатель остается в рамках чистой автобиографии, который старается по возможности следовать формуле: «Клянусь говорить правду, всю правду, ничего кроме правды»62. Устанавливая отличие автобиографии от автобиографического романа и прочих суррогатов, представляющих различные степени сходства героя с автором, Лежен бескомпромиссен: «Автобиография, она не допускает большей или меньшей степени: это все или ничего»63. Более того:
Сколь бы герой ни походил на автора, – если он не носит то же имя, это не автобиография <…> Даже если читатель сам догадывается об идентичности автора и героя или автор кокетливо предоставляет читателю догадаться об этом, это не считается. Автобиография – не игра в догадки, более того, это как раз совершенно обратное64.
Лежен прочно занял первенствующее место в теории автобиографии. Он разработал сугубо прескриптивную схему. К «автобиографической литературе», множеству произведений, представляющих истории авторских Я с самой различной степенью историчности, референтности, правдоподобия, художественности, наконец, талантливости, Лежен подошел с линейкой и воинским уставом. Он вывел теоретическую норму автобиографии, расписал все ее параметры, снабдил строгой системой правил и отсек автобиографическое от всего новеллистического, референтное от сколь бы то ни было вымышленного.
Концепция автобиографического пакта Лежена быстро завоевала признание не только во французской, но и в международной теории автобиографии. Она стала своего рода эталоном, сверяться с которым считают себя обязанными многие теоретики «литературы о себе» («les écritures du moi»), теоретическим уложением, руководствуясь которым оценивают чистоту жанра и легитимность автобиографа.
Отсутствие в прежние времена единых теоретических рамок не мешало литераторам и читателям иметь достаточно определенное представление о том, что такое автобиография. Сходились на том, что это фактологическое самоописание. Не говоря здесь о хорошо известной склонности авторов приукрашивать себя и о несклонности говорить «всю правду и ничего кроме», трудно было бы назвать произведения, которые до начала ХХ века значительно выходили за рамки традиции. Появись теория Лежена лет на сто раньше, она пришлась бы вполне по мерке автобиографичекой практике. Однако монография Лежена появилась не в прежнюю эпоху, а в период расшатывания устоявшейся практики. Это логично: объективно, независимо от намерений ее автора, она стала реакцией на учащавшиеся отклонения от освященной традицией нормы.
«Автобиографическому пакту» Лежена предшествовал процесс размывания границ автобиографии – такой, какой ее знали XVIII и XIX века. Труд Лежена как будто был призван поставить предел процессу разложения. Он узаконивал автобиографию в качестве полноправного жанра, формулировал его сущность и отделял границы. Однако модифицированные автобиографии, которые стали появляться с наступлением ХX века, не переставали множиться, требовали к себе внимания и ждали теоретического осмысления. Это тексты неопределенного статуса – не вполне автобиографии и не вполне романы: как будто отсылающие к реальным событиям жизни автора, но пренебрегающие хронологической последовательностью, реалистическим изложением и верностью фактам.
Лежен делает попытку теоретически осмыслить и ассимилировать неоднозначные произведения, фактом своего существования осложняющие жизнь систематизатора. Он вводит специальный термин, «автобиографическое пространство», для обозначения такого – жанрово амбивалентного, но при этом семантически важного – автобиографического присутствия, которое как бы растворено во всей системе творчества того или иного романиста. О таких авторах, как Мориак и Жид, он пишет: «они обозначают автобиографическое пространство, и им хотелось бы, чтобы в этом пространстве прочитывалось все их творчество». Затем дает разъяснение: «Они приглашают читателя читать их романы не только как беллетристику, отсылающую к правде о “человеческой природе”, но и как фантазии, раскрывающие правду об индивидууме»65.
Как бы то ни было, выделяя подобные случаи в особую группу, Лежен все же пытается классифицировать интенцию их авторов тоже как заключение автобиографического пакта – только непрямого: «автобиографический пакт, в непрямой его форме, распространяется на все, что ими написано»66.
Надо отдать должное Лежену – на этом его развитие не остановилось. Но к его попыткам преодолеть свои догмы мы обратимся в связи с борьбой против его теории, которую вскоре затеяли пионеры автофикшн.
Белый не попадает ни в одну из категорий ортодоксальной классификации. Романы его рассказывают о его же жизни и не являются чистым вымыслом – мемуары полны вымысла и не являются чисто документальным рассказом о былом. И то, и другое представляет собой резкое отклонение от традиций русской и мировой литературы. Формулировки Лежена помогают особенно наглядно показать, как далек был Белый от каких-либо конвенций.
Литературная жизнь Белого началась с публикации его второй симфонии. В ней и в других его симфониях много такого, от чего в дальнейшем писатель отказался. Но есть и вещи, от которых он никогда не отказывался. Главная из них – явное нежелание писать стереотипами, явное стремление быть непохожим, избегать предсказуемости. Построение и язык симфоний выступают под знаменем анти-стереотипа. Так же можно охарактеризовать и все его творчество, на любом этапе и во всех проявлениях. И со временем эта черта только усиливалась.
Теория автофикшн и теория серийной автобиографии, каждая по-своему, предлагают способы осмысления неортодоксального творчества.
Изредка встречающийся в литературе феномен радикальной автобиографизации художественного творчества привлекал и привлекает внимание исследователей. Предпринимались попытки осмысления этого явления как с позиций традиционных, так и с позиций теоретического трансформизма.
Речь идет об особой практике – редких случаях, когда автобиографичность приобретает художественную и структурирующую функцию. Конфликт в сознании писателя начинает исполнять художественную функцию в тексте. Реалии жизни становятся образами, символами, мотивами – во взаимодействии с вымыслом. Если автобиографизация не ограничивается одним произведением, то в многотекстовой системе взаимодействие автобиографичности и художественности еще более усложняется. Такая система не может не выделяться на фоне традиционной литературы, художественной или автобиографической.
Автофикшн и серийная автобиография могут рассчитывать на интерес читателя в той мере, в какой они отклоняются от традиции. Естественно, в поиске своей литературной ниши обе теории так или иначе самоопределяются по отношению к традиции, прежде всего – к «автобиографическому пакту» Лежена, сегодня олицетворяющему в себе категорический императив традиции. Американская теория и французская, разумеется, в разной мере ориентированы на диалог с концепцией Лежена. Для первой неприятие его «Автобиографического пакта» является лишь одним из моментов общей полемики. Французских же трансформистов национальный литературно-критический контекст побуждает сосредоточиться главным образом на полемике именно с Леженом.
Теория автофикшн
– Я, можно заметить, не дурак <…>
– Я сам не дурак: еще неизвестно, кто умнее…
– Как это вы странно говорите! <…> Я еще не встречал человека умнее себя67.
Дубровский против Лежена. Сочетание несочетаемого
Своему автобиографическому протекционизму Лежен стремится придать вид сугубо научный и использует многочисленные классификации, таблицы и диаграммы. Среди них особенно впечатляет схема для математически точного определения того, что является автобиографией и что – романом. Три горизонтальных ряда, обозначающих разновидность пакта (автобиографический, нулевой, романный), и три вертикальных ряда, обозначающих отношение имени персонажа к имени автора (идентично, анонимно, неидентично), дали на пересечении романного пакта с идентичностью автор-персонаж пустую клетку. Пустая клетка означала отсутствие примеров, в которых главным героем романа выступал бы его реальный автор. Если в общих терминах эта пустая клетка символизировала противоестественность гибридного текста – правдиво-вымышленного, референциально-фикционального – то в более узком смысле – невозможность вымышленности повествования автора о самом себе.
Это категорическое утверждение, собственно, и спровоцировало реакцию от противного: новый гибридный жанр и новую теорию – автофикшн. Литературовед Клод Арно уверен, что именно утверждение Лежена «толкнуло Сержа Дубровского, в ту пору более известного своими штудиями Корнеля и Сартра, чем романами, на то, чтобы принять вызов <…> Так появился новый жанр»68.
Все началось в 1977 году в Париже – с неологизма «автофикшн» («autofiction»), непринужденно оброненного писателем Сержем Дубровским69 в прихотливо написанной аннотации к его роману «Сын», которая заявляла о новаторской природе текста, представляемого на суд почтеннейшей публики:
Автобиография? Нет. Автобиография – это привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами – вымысел абсолютно достоверных событий и фактов; если угодно, автофикшн [autofiction], доверивший язык авантюры авантюре языка, за пределами мудрости и синтаксиса романа, будь то традиционного или нового. Столкновения, нити слов, аллитерации, ассонансы, диссонансы, письмо до или после литературы, конкретное, как сказали бы о музыке. Или вот еще: автотрение [autofriction], терпеливый онанизм, который надеется заставить теперь других разделить его удовольствие70.
В основе автофикшн заложена противоположная учению Лежена идея-оксюморон – сочетание несочетаемого, романного и автобиографического, в одном тексте. Дубровский и практически осуществил ее, и заявил как принцип своего творчества. Не удивительно, что он счел уместным (и остроумным) преподнести созданный им «вымысел реальных фактов о себе» читающей публике и лично Лежену как материальное доказательство возможности самосочинения – и аргумент в споре своевольного творчества с унифицирующей теорией.
По замечанию исследователя Катрин Вьолле, «Выход на сцену концепции “автофикшн” в 1977 году смешал жанровые критерии, незадолго до этого определенные и сформулированные Филиппом Леженом в “Автобиографическом пакте” (1975). Так, едва только будучи твердо установленным, понятие автобиографии оказалось расшатанным и поставленным под сомнение»71.
Серж Дубровский, вводя в литературный и критический оборот феномен автофикшн, основывался на принципе, прямо противоположном жанровой унификации и упорядоченности, на размывании границ автобиографии, четко установленных Леженом. Возможно, потому автофикшн и стало столь заметным явлением, что Дубровский, вводя это понятие в контексте полемики с Леженом, сталкивал не просто две концепции, а два первичных (хотя часто бессознательных) устремления человеческой природы – к свободе и к порядку. Это столкновение высекло искру, которая разожгла академическую и публичную дискуссию вокруг, казалось бы, сугубо теоретического вопроса.
Правда, Дубровскому пришлось постараться. Чтобы столкновение двух направлений мысли задело публику за живое, нужно было, чтобы публика заметила факт столкновения. Это произошло не сразу. «“Сын” не вызвал значительного отклика в год своего появления», – сообщает Клод Арно72. Однако Дубровский – столь же талантливый делец, сколь и литератор – действовал в правильном направлении: в двух обширных статьях, напечатанных в журналах в 1979 и 1980 годах73, он сам откликнулся на появление своего произведения и его фундаментальную новизну. Проект откровенной саморекламы оказался на удивление успешным. Во многом, вероятно, потому, что авторское самолюбование и избыточный экзибиционизм в авторецензиях Дубровского уравновешивались серьезным анализом текста, интересными теоретическими посылками и выводами. Обнажая психологические и лингвистические механизмы своего письма, автор лучше любого критика смог показать, в чем заключается автофикшн «по-дубровски», и почему это явление должно быть интересно читателю.
Две эти ключевые статьи, закладывающие фундамент автофикшн, и последующее литературно-критическое культивирование изобретенного им жанра позволяло Дубровскому оставаться главным, хотя и не единственным, теоретиком гибридного феномена до 1989 года, до появления серьезной конкуренции в лице Винсена Колонна, автора новой концепции самосочинения. В 90-х годах и в начале нового века уже весьма значительное теоретическое сообщество активно обсуждает автофикшн, разделяясь по преимуществу на два направления – сторонников Дубровского и сторонников Колонна.
В статьях 1979 и 1980 годов, будучи в то время единственным практиком и теоретиком автофикшн, Дубровский намеренно привлекает постулаты Лежена и заостряет двойственную и теоретически «невозможную» ситуацию «Сына» как текста, подчиненного одновременно двум взаимоисключающим пактам. С одной стороны, «роман» на титульном листе означает заключение романного пакта и вымышленность сюжета, с другой стороны, идентичность автора, повествователя и главного героя под именем Серж Дубровский означает заключение автобиографического пакта и референциальность сюжета.
Дубровский-автобиограф настаивает на абсолютной миметичности текста по отношению к его жизни, на строгой достоверности событий, фактов, отношений, эмоций и даже снов, описанных в «Сыне»:
По принципу честной и скрупулезной автобиографии, все факты и жесты в повествовании буквально взяты из моей собственной жизни; места и даты маниакально выверены <…> Даже приведенные и частично проанализированные сны – «настоящие» сны, которые я когда-то записал в блокнот <…> И как писатель, и как критик могу гарантировать истинность референциального регистра74.
В то же время Дубровский-постмодернист ставит под сомнение возможность подлинно репрезентативного текста и предупреждает (ссылаясь на Лейриса), что «отображающее, референциальное и невинное записывание» есть «иллюзия»75. Текстуальное отображение прошлого Я, по Дубровскому, обречено на искажения и белые пятна, ибо, оставаясь в реалистическом формате, которого требует «чистая» автобиография, автор может воспроизвести лишь внешние события и движения своего сознания, внешние по отношению к бессознательному. Бессознательное же скрыто от его дневного сознания, и, как полагает Дубровский, не входит в его самовосприятие («самовосприятие субъекта не может быть носителем истины»76), следовательно, не может быть отображено в самоповествовании. Подобные «слепые зоны» еще не превращают факты в вымысел, однако они скрывают подлинные мотивации субъекта и делают изображаемую историю жизни неполной, а значит, искаженной.
Дубровский: психоаналитическая поэтика
К счастью для современного писателя, сама эпоха, щедрая на теоретические открытия, предлагает ключ к ларчику бессознательного – психоанализ, и, как показывает случай Дубровского, надо лишь суметь вовремя им воспользоваться. Дубровскому приходит в голову не просто применить психоаналитические концепции к нуждам автобиографии, но возвести такое применение в теоретический принцип обновленного самоописания и создать на его основе новый жанр. Психоанализ помогает ему достичь не только «абсолютной достоверности» повествования, но и изощренной (и преднамеренной) «фикциональности», становится центральной составляющей первого «самосочинения» Дубровского, его автоинтерпретирующих статей и его концепции автофикшн. Психоаналитическая поэтика – основной функциональный элемент автофикшн à la Doubrovsky.
Проследим за его психоаналитическими построениями. Они объясняют, как – в обоюдопротивонаправленном движении – правда автобиографии обращается в самосочинение, а самосочинение становится автобиографически правдивым. Психоаналитическая поэтика позволяет решить две противоположные задачи, которые Дубровский ставит перед автофикшн в соответствии с природой жанра-оксюморона. Первая задача: воспроизведение бессознательного дискурса как привилегированного носителя истины. Вторая: ассимиляция бессознательного дискурса повествованием как средства его «олитературивания».
Для осмысления приемов поэтики бессознательного важны уже не столько идеи Фрейда, сколько их переосмысление в лингвистически ориентированном лакановском психоанализе. Бессознательное – та подспудная лингвистическая цепочка, которая функционирует в психике по собственным семиотическим законам. Для решения первой задачи автофикшн существенно то, что эта словесная цепочка несет в себе шифрованную истину субъекта. Она выходит на поверхность в его свободных ассоциациях и снах, когда дискурс отклоняется от нормы, соскальзывает с магистрали общепринятого языка на косноязычное бездорожье индивидуального бессознательного. Поэтому актуализация бессознательного в тексте – первый принцип автофикшн.
Для решения второй задачи, превращения автобиографии в художественное произведение, важно еще одно свойство бессознательного дискурса, свойство, которое сближает его с поэтическим языком. В бессознательном, согласно теории Лакана, слово расколото. Означающие лишены их привычной связи с означаемыми и вынуждены вступать в комбинации между собой. Их соединение друг с другом в семиотическую цепочку определяется двумя механизмами – конденсацией (condensation), сравнимой с метафорической ассоциацией – по сходству, и смещением (déplacement), сравнимым с метонимической ассоциацией – по смежности. Такие ряды означающих могут быть организованы как фонетические созвучия.
Заимствование этих механизмов бессознательного дискурса для создания языка повествования и развития сюжета – второй принцип автофикшн. Для обозначения особенности стиля, основанного на этом принципе, Дубровским было введено в теорию автофикшн понятие «консонантического (или созвучного) письма» («l᾽écriture consonantique»)77.
Бессознательные механизмы связи слов могут использоваться для выстраивания «ассоциативных» словесных серий в затрудненное, но семантически продуктивное повествование. В результате развитием текста руководит художественная логика, логика созвучий и переносных значений, как это и происходит, например, в «Котике Летаеве». Такая организация текста у Белого типологически сравнима с организацией бессознательного семиотического процесса, позднее описанной Лаканом, а еще позднее взятой на вооружение Дубровским: означающие соединяются по принципу созвучия и образуют словесные цепочки, которые в отсутствие означаемых не создают значения в обычном смысле слова, а выделяют «немножко значения». Это и есть источник той вытесненной из сознания истины субъекта, за которой охотится автофикшн.
Обращение к бессознательному дискурсу «материализует», согласно Лакану, вытесненную из сознания истину личности, – но «материализует» ее в тропах и созвучиях. Это отвечает двойственным целям гибридного жанра в соответствии с концепцией Дубровского. С одной стороны, семиотические продукты бессознательных ассоциаций выступают в тексте как истинные мотивации жизни автора и тем самым служат выполнению референциального пакта. Классической автобиографии, «дискредировавшей себя в плане истинности», противопоставляется автобиография пост-аналитическая с ее «само-познанием неиллюзорным»78. С другой стороны, ряд бессознательных фонетических ассоциаций, имеющий мало общего с реалистическим изложением, обеспечивает «консонантическое» развитие повествования и тем самым служит выполнению литературного пакта. По словам Дубровского:
Если писатель отказывается от хронологически-логического дискурса в пользу поэтического бреда, в пользу праздношатающейся речи-гуляки, в которой слова имеют преимущество перед действительностью, принимают себя за действительность, он автоматически выпадает за пределы реалистического повествования в область вымысла79.
Дубровский не упускает из виду, что произведение автофикшн – не сеанс психоанализа: мало выстроить текст по модели бессознательного дискурса, надо еще держать его в смысловом поле. Предоставляя инициативу бессознательным невротическим «болям»80, которые проявляются в причудливых звуко-словесных комбинациях, автор должен следить за тем, чтобы эти комбинации все же оставались подконтрольными его замыслу и доступными читателю.
Здесь не был бы применим, например, максимализм сюрреалистов с их «автоматическим письмом», претендовавшим на полное обнажение авторского бессознательного. Показалось бы наивным намерение писателя воссоздать подлинный язык бессознательного: всецело отдать создание текста на волю слов и отказаться от сознательных смыслообразующих механизмов. Автор автофикшн должен создать языковую среду, с одной стороны, благоприятную для актуализации бессознательных механизмов, с другой стороны, продуктивную для развития повествования. Дубровский предлагает способ, разрешающий эту проблему: если при создании текста невозможно, да и не всегда целесообразно, выявить и записать собственный бессознательный дискурс, нужно изобрести адекватный ему способ выражения, который, балансируя между грамматической языковой нормой и первичным «безумием» слова, сможет симулировать законы бессознательного дискурса.
Результат – обогащенная психоанализом, но отличная от собственно психоанализа литературная стратегия: фонетическое созвучие, ведущее повествование, служит не воспроизведению дискурса бессознательного, а его имитации. Теория автофикшн в лице Дубровского указывает на два регулирующих механизма. Принцип «референциального отбора» необходим, чтобы, сознательно отбирая слова-звенья «бессознательных» фонетических цепочек означающих, направлять поток невротических созвучий к автобиографическому референту (к истории развития его Я). Принцип «нарративной эффективности» обеспечивает повествовательную функциональность игры созвучий: направляет их стихийное распространение и «означение» в русло создания смысла и динамики текста81.
Сопоставляя два способа самосочинения (обозначим их как «органически бессознательное» письмо и «искусственно бессознательное» письмо), Дубровский поочередно выражает свою склонность то к первому, то ко второму. Он так и не дает ответа на вопрос, является его автофикшн областью бессознательного или имитации бессознательного. Впечатление противоречивости его теоретических сочинений (как и самосочинений) происходит от неотъемлемой двойственности в самой их природе. Двойственность идеи «Сына» – идеи бисексуальности автора-повествователя-протагониста – соотносится с двойственностью рационально-иррационального языка и построения текста. На метапоэтическом уровне этой двойственности романа соответствует двойственность авто-теоретизации, как в статьях Дубровского, так и в самом романе.
В «Сыне» раскачивание повествования от одного семантического полюса к другому: от матери героя к его отцу, от матери героя к самому герою, от мужских импульсов героя к женским – завершается констатацией непреодолимой его бисексуальности. Причем бисексуальности не в смысле двойственных – в равной мере традиционных и альтернативных – сексуальных предпочтений, а в смысле осознания себя всецело мужчиной и всецело женщиной:
ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЛОВИНЫ
он их хочет
ПОЛНОСТЬЮ И ОДИНАКОВО
его ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЛОВИНЫ
он ими существует
ОДНОВРЕМЕННО ОДИНАКОВО И
ДО КОНЦА
МОНСТР не полу-мужчина
полу-женщина
а
ЦЕЛИКОМ МУЖЧИНА И ЦЕЛИКОМ ЖЕНЩИНА82
Подобное раскачивание от одного полюса к другому происходит и с языком романа, вперед-назад от логического и нормативного («фаллогоцентрического») к ассоциативному и созвучному («феминизированному»). Обыгрывая сшибку логоса и хаоса, сознательного и бессознательного, рационального и иррационального, мужского и женского, Дубровский дает понять, что это и есть его литературная стратегия и сущность автофикшн: противоречиям не дано разрешиться ни в торжестве одного из начал, ни в их гармоническом синтезе. Психоаналитическая поэтика «не мужественна и не женственна; она состоит в том, что предоставляет этим двум импульсам бороться внутри нее»83.
Мотивацией для автотеоретизирования, по заявлениям Дубровского, было желание описать созданный им феномен автофикшн как гибридный жанр. Поначалу, объявляя читателю о такой задаче и приступая к анализу «референциальных» и «фикциональных» качеств своего романа, его автор исходил из обыденных представлений о том, что такое «правда» и «вымысел». Однако, пройдя в двух программных статьях Дубровского через ряд интерпретаций, подмен и взаимопревращений, «правда» и «вымысел» утратили свой смысл и стали понятиями сугубо относительными. Заявляя, что психоаналитическая прививка необходима тексту для установления единственной правды об авторе, Дубровский тут же признает, что психоанализ предоставляет автору на выбор разнообразные интерпретации его Я, варианты вымысла. Интерпретации могут быть более или менее «адекватными» и «насыщенными», но не более или менее «правдивыми».
От первоначальных значений «правды» и «вымысла» остается только их бинарная противоположность. Неизменность бинарной структуры в сочетании с непостоянством значений бинарных оппозиций и с незавершенностью смысла их противостояния характеризует не только самосочинение Дубровского, но и его теоретические сочинения. Он поддерживает в статьях (так же, как в романе) равновесие действующих друг на друга сил, баланс противоположно направленных смыслов, при котором как «правда», так и «вымысел», как «органически бессознательное» письмо, так и «искусственно бессознательное» письмо остаются не до конца реализованными, но потенциально продуктивными возможностями. Это, по-видимому, и есть сущность автофикшн «по-дубровски». Поэтому из его многочисленных определений автофикшн наиболее точным представляется следующее: «Ни автобиография, ни роман в строгом смысле слова – автофикшн функционирует в между-ними, в беспрестанном колебании, в пространстве, невозможном и неуловимом нигде, кроме развертывания текста»84.
Дискуссия: что такое автофикшн?
После проведения саморекламной кампании в печатных органах французской интеллектуальной элиты и внедрения концепции автофикшн в теоретический обиход Дубровский возвращается к «автофикциональному» творчеству и создает на протяжении 1980-х годов еще несколько самосочинений85. Идея автофикшн начинает вызывать резонанс в академических и литературно-критических кругах. Этому способствовало и то, что в 1980 году на появление автофикшн отозвался Филипп Лежен. По его мысли, выражение «автофикшн» могло бы относиться к роду текстов, претендующих на автобиографичность, но заимствующих приемы повествования у современных романистов (в основном у «нового романа») – к «романизированным свидетельствам»86. Сам Лежен заметил автофикшн – пусть только в форме небрежного замечания в сноске – и это как бы узаконило автофикшн в качестве концепции, которая достойна обсуждения.
Со временем Лежен оказался настолько затронут интеллектуальной провокацией Дубровского, что попытался модифицировать свою схему. Он признал, что граница между двумя суверенными областями стала размываться87. Попытки адаптироваться более всего заметны в собрании его текстов «Я тоже» («Moi aussi»). Лежен попробовал найти компромисс и сделал поправку в своей трактовке двух «взаимоисключающих пактов»: в большинстве случаев слово «роман» на обложке свидетельствует о вымысле, но в случаях откровенно автобиографических оно означает стремление к литературности и красоте стиля88. Лежен осознал, что двух ключевых параметров автобиографического пакта – референциальности текста и объединения в одном лице автора, повествователя и протагониста – недостаточно для суждения о тексте. Поэтому он добавил в свою формулу еще три критерия: содержание, повествовательные приемы и стиль89.
Лежен стремился соотнести свою теорию с реальным разнообразием самоописательных текстов и при этом все же сохранить чистоту жанра. Слишком противоречивые задачи. При попытке учесть в своей системе девиантный случай Дубровского логически ориентированный Лежен, как ни странно, бросается из одной крайности в другую. Сначала утверждает, что Дубровский совершил ошибку, навесив на свой сугубо достоверный текст ярлык «автофикшн», ведь «чтобы читатель рассматривал как вымысел, как “автофикшн”, по всей видимости автобиографическое повествование, нужно, чтобы он счел рассказываемую историю невозможной или несопоставимой с информацией, которой он уже владеет»90. Затем он вдруг зачисляет Дубровского в разряд романистов: «Дубровский определенно относится к расе романистов, а не автобиографов à la Лейрис, которых никогда не оставляет этическое беспокойство об истине»91. Итак, чтобы осмыслить произведение Дубровского, Лежен сначала отождествляет его с автобиографией, а затем с романом. Он словно не в состоянии принять факт существования гибридного жанра. В конечном счете, Лежен сердится – обижается на ускользающее явление и обрушивается на оппонента с упреками в неэтичности и недобросовестности.
Однако вскоре и сам Лежен осознает необходимость модифицировать свою концепцию. В докладе «Возможно ли обновление в автобиографии?» (1987)92, по-прежнему выражая свое предпочтение традиционным – правдивым – формам автобиографизма, он признает, что литературный авангард в лице Д. Джойса, У. Фолкнера, К. Симона и Ф. Селина открыл новые возможности автобиографического выражения. На этот раз Лежен идет так далеко в интересе к «промежуточным» явлениям, что даже выделяет в них два направления. «Двусмысленное письмо» («l᾽ecriture ambiguë»), по Лежену, восходит к «персональному роману» и характеризуется сочетанием достоверности фактов со свободой их комбинации (Ф. Соллерс, К. Ланцман, М.-Т. Бодар и Дубровский); «множественное письмо» («l᾽ecriture multiple») представляет собой монтаж референциальных и художественных частей повествования (Л. Арагон, Ф. Дюрренматт, А. Роб-Грийе, Ж. Перек и Дубровский). Очевидно, самосочинение Дубровского стало для Лежена не только сигналом о девиантных тенденциях современной литературы, но и фактором, постоянно раздражающим и стимулирующим его мысль. Автофикшн упоминается Леженом в связи с обоими направлениями как единственная концептуально разработанная попытка обновления «литературы о себе», хотя и характеризуется с изрядной долей скепсиса из-за стремления Дубровского к обновлению ради обновления, а не на благо автобиографической выразительности.
Дубровский по прошествии времени добился изначально намеченных им целей: сумел заинтриговать публику своей новацией. Но он достиг и результатов, к которым не стремился: некоторые теоретические умы, взяв на вооружение семантически многообещающий термин и идею гибридного самовыражения, принимаются разрабатывать концепцию автофикшн на свой лад. Едва не каждый составляет свой список «автофикционистов» и «автофикционеров», зачисляя в них самых разных писателей по своим теоретическим критериям.
На вопрос «что такое автофикшн?» нет однозначного ответа, ибо каждый участник дискуссии предлагает свою версию. Однако в многообразии, казалось бы, очень разных мыслеизъявлений можно выделить некоторые тенденции. В самом общем виде: критики сходятся во мнениях по поводу гибридности жанра, а также литературности формы; они расходятся в вопросе о степени вымышленности содержания. Далее, практически все эти разногласия, несмотря на многочисленные частные нюансы, сводятся к двум основным точкам зрения, представленным Сержем Дубровским и Винсеном Колонна. В зависимости от того, делается ли акцент на первую или на вторую часть сложносоставного слова «авто-фикшн», исследователи делятся на тех, кто вслед за Дубровским видит в самосочинении литературную переработку (романизирование) достоверного автобиографическиго материала, и на тех, кто вслед за Колонна видит в нем всецело литературное пере- изобретение автором собственной жизни и ее реалий.
Колонна против Дубровского. Изобретение себя
Выход Винсена Колонна в 1989 году на сцену автофикшн стал событием в истории к тому времени уже достаточно заметного явления. Будучи, подобно Дубровскому, сторонником как концептуальной эффектности, так и организационной эффективности, Колонна написал (под руководством Жерара Женетта, тоже участника дискуссии) докторскую диссертацию, которая радикально переворачивала предложенное Дубровским и уже было утверждавшееся в академическом мире и в критике представление об автофикшн, и организовал присутствие на своей защите главных героев разворачивающейся с 1977 года драмы под названием «автофикшн» – Дубровского и Лежена.
Несмотря на то, что диссертация Колонна целиком опубликована только в интернете, а книга, основанная на ее идеях, «Автофикшн и другие литературные мифомании», вышла в свет только в 2004 году, его концепция сразу после защиты приобрела известность и отразилась на последующих обсуждениях автофикшн. С 1989 года по сей день исследователи, критики и журналисты, высказывающиеся по этому поводу, так или иначе самоопределяются по отношению к позиции Дубровского и к позиции Колонна и, сколь бы оригинальными, новаторскими, изощренными ни были их собственные концепции, примыкают либо к первой, либо ко второй. Демарш молодого ученого определенно оживил ведущиеся в журналах и на конференциях споры вокруг нового жанра и новой теории и сделал их более содержательными и интересными. Прежде Дубровский провоцировал Лежена, теперь Колонна провоцировал Дубровского. Если Дубровский приживлял к документальному элементы художественного, то есть, модернизируя автобиографию, принимал ее за основу, то Колонна решительно перенес ударение на вымысел, на «сочинение» автором самого себя93.
Дубровский трактует автофикшн как организацию объективно данного содержания – достоверных фактов жизни автора – в соответствии с поэтической логикой созвучий и тропов. Колонна сочетает требование литературности формы с требованием вымышленности содержания: «Автофикшн – литературное произведение, посредством которого писатель изобретает себе персональность и существование, сохраняя свою реальную личность (свое подлинное имя)»94.
Разные соотношения референциального и романного – не единственное, что отличает две основные трактовки автофикшн. Дубровский ограничивает явление историческими рамками модернизма и особенно постмодернизма. Для него это явление, порожденное расщепленностью современного мышления и его самоуглубленностью, «номбрилизмом» (от nombril – пупок), «пупочностью», сосредоточенностью автора на собственном пупке как на «пупе земли». Колонна же в современном автофикшн усматривает лишь одно из воплощений традиции, восходящей к античности. Так полемика вокруг автофикшн выходит за пределы теории нарратива, вторгается в теорию субъективности и в историю культуры.
Под влиянием дискуссии позиция Дубровского эволюционирует: он решает отказаться от позиции «автофикшн – это я», признать других самосочинителей и довольствоваться ролью главного теоретика, первым концептуализировавшего стихийно сложившийся жанр. Дубровский расширяет значение автофикшн и возводит его хронологическое древо к Прусту и Джойсу, но прежним остается его представление об автофикшн как о порождении нашего времени, которое отвечает потребностям «сознания, общего нашей постмодернистской эпохе»95.
Колонна заявляет, что если Дубровский хочет «остаться в памяти потомков в качестве изобретателя термина, <…> ему следовало бы не обращать свой неологизм в синоним автобиографического романа, а объяснить его глубокую всеохватность и показать множественность литературных родственников, скрытых в этом слове-матрешке»96. Судя по тому, что Колонна лично берется за обозначенную задачу, он и сам не против остаться в памяти потомков. К автофикшн он относит, среди прочего, «Божественную комедию» и «Дон-Кихота». А свою концепцию он прямо противопоставляет взглядам Дубровского:
<…> фабулизация себя не является последствием Современности, роста индивидуализма, кризиса Субъекта; как не является порождением ни психоанализа, ни усложнившихся отношений между публичным и частным. Это тенденция гораздо более древняя, сила гораздо более мощная, это без сомнения «архаический» импульс дискурса97.
Колонна: поэтика свободы
Согласно Колонна, исток и по сей день raison d᾽être (причина) этого сквозного явления культуры – вечная потребность человека в самосочинении как форме свободы. Речь идет о свободе от физической и онтологической необходимости, довлеющей над индивидуальным человеческим уделом. Автор, делающий себя героем своего произведения, ускользает от этой необходимости и может, вопреки ограниченности своего существования, путешествовать в посюстороннем и в потустореннем мире, все пережить и все перечувствовать. Колонна описывает извечный двигатель самосочинения словами Г. Гессе: «Свобода переживать одновременно все, что можно было когда-либо вообразить, играючи, подменять внешний мир внутренним, перемещать времена и пространства как раздвижные двери»98.
Колонна представляет автофикшн как идеальное начало, которое воплощается в разные эпохи в разных литературах. В истории литературы эта гибридная форма, по его гипотезе, в одну эпоху выходит на первый план, в другую отходит в тень, временами исчезает – чтобы позже появиться в несколько ином обличье. Если следовать его логике, можно сказать, что творчество Белого – одно из наиболее удачных и интересных воплощений этого идеального начала.
Колонна предлагает по сути дела альтернативную историю литературы:
Изобретение себя, или самосочинение, довольно рано в истории человечества стало силой, подчиняющей себе литературный дискурс. Потому, без сомнения, что речь шла о первичном импульсе (введении самого себя в грезы), об архаической энергии, предшествующей институту литературы <…> В ходе истории самоизобретение личности вынашивало, выковывало, уничтожало или обновляло литературные формы и тексты99.
В рассуждениях Колонна вырисовывается оригинальная схема: впервые наметившись в шаманизме, в мифе и сказке и полностью воплотившись в творчестве античных авторов, идеальное начало самосочинения затем как пунктир проходит по всей мировой литературе, переживает многочисленные метаморфозы и материализуется в различных формах романа, чтобы наконец достичь расцвета в автофикшн постмодернизма. Возникновение полноценного самосочинения он приурочивает к тому времени, когда поэтическое искусство из коллективного творчества превращается в индивидуальное. Возводя генеалогию автофикшн к античности, он рисует диахроническую картину того, как эта форма передается – иногда с большими перерывами – от одного самосочинителя к другому.
В огромном жанровом, стилевом и сюжетном диапазоне самосочинений Колонна строит свою систему координат и выделяет четыре основных их вида.
«Фантастическое самосочинение» – вид автофикшн, наиболее далекий от автобиографии. Будучи главным героем такого произведения, автор в первом лице ведет повествование о событиях и обстоятельствах, выходящих за рамки не только достоверного, но и возможного. История жизни и характер автора изменяются фантастическим сюжетом до неузнаваемости. «Демоническими» писателями, шагнувшими в своих сочинениях за пределы возможного, Колонна называет Апулея, Данте, Ж. де Нерваля, Ф. Кафку, Б. Сандрара, Г. Гессе, Х. Л. Борхеса, М. Лейриса, В. Гомбровича.
«Биографическое самосочинение» представляет в классификации Колонна другой полюс автофикшн. В этом случае произведение максимально – насколько этого допускает гибридная структура самосочинения – автобиографично. Это – авторское переосмысление и изобретение своего Я на основе реальных событий жизни, если угодно, перекраивание и фабулизация собственного прошлого для придания ему динамики романа. Здесь, по утверждению Колонна, соблюдается принцип реалистичности и правдоподобия, но всегда пребывает в действии и механизм, названный Арагоном «врать-по-правдашнему» («mentir-vrai»), который позволяет автору прибегать к вымыслу и искажениям фактов для восстановления «субъективной» правды о себе. «Биографическим самосочинителем» Колонна провозглашает того, кто традиционно считается родоначальником западной автобиографии – Ж.-Ж. Руссо. Среди представителей этого вида автофикшн он называет Р. Шатобриана, Дж. Байрона и других романтиков, Ч. Диккенса, Андре Жида, Э. Хемингуэя, Генри Миллера, Ф. Селина, Анни Эрно, Ф. Соллерса, Кристин Анго.
«Зеркальным самосочинением» Колонна называет способ, которым писатель пользуется для того, чтобы проникнуть не в центр, а возможно, лишь в уголок собственного повествования зыбким силуэтом, чье авторское присутствие тем не менее будет отражаться, как зеркалами, всеми уровнями произведения. Колонна находит, что лучше всего этот вид самосочинения представлен авторским поведением Пруста-Марселя в романе «В поисках утраченного времени». Для определения этого сложного явления Колонна прибегает к выражению «самосочинение в миниатюре»100, а также к термину из теории нарратива, предложенному Женеттом, металепс, значение которого отвечает сущности «зеркального самосочинения»: «размывание онтологической границы между реальным миром и миром вымышленным»101. Этот эффект может создаваться демонстративным вхождением автора в собственном функциональном качестве из внешней повествованию действительности в вымышленный мир текста, что Колонна находит в книгах Ф. Рабле, М. де Сервантеса, Л. Стерна.
В «самосочинении-вторжении», четвертой разновидности автофикшн, автор не участвует в собственно романной интриге, а выступает в роли рассказчика и комментатора, это не автор-персонаж, а автор-повествователь. Колонна называет его «голосом, внешним по отношению к сюжету». В его функцию входят авторские отступления, обращения к читателю, комментарии происходящего, резонерство, болтовня. Это более или менее назойливый голос, «шутовской у Скаррона <…> сентенциозный у Скотта, отвлекающийся у Бальзака, самовлюбленный у Стендаля, иронический у Мериме»102, функция которого практически сходит на нет у Флобера и в постфлоберовском романе.
Теоретический и исторический размах концепции Колонна заметно контрастирует с остальными, гораздо более локальными, истолкованиями автофикшн. По-видимому, ему, как любому теоретику, глубоко убежденному в основательности своего открытия, кажется, что достаточно поведать о нем граду и миру, чтобы они отбросили свои заблуждения и приняли его как долгожданную истину. Но далеко не все готовы принять его открытие. Возражения у критиков более всего вызывает постулируемый им решительный приоритет вымысла над автобиографичностью и связанная с этим едва ли не универсальная применимость термина к самым разным эпохам и произведениям мировой литературы.
В защиту Колонна можно сказать, что он как раз крайне чуток к исторической динамике и отнюдь не игнорирует своеобразие автофикшн наших дней. Просто то, что другие принимают за возникновение нового явления, Колонна рассматривает как новую стадию развития древнего как мир самосочинения. Особенность же постмодернистской стадии видится ему в следующем:
То, что в настоящем эта тенденция подхватывается большими и маленькими писателями нарциссического склада или вписывается в беспрецедентную моду эгоцентрических сочинений, вполне понятно: эта дискурсивная сила – идеальный инструмент для захватывающего нас субъективного индивидуализма103.
«Авто-» против «-фикшн»
Теория автофикшн долгое время оставалась в рамках бинарной конфигурации. С конца 1980-х – начала 1990-х годов, после того как концепция Колонна утвердилась наравне с концепцией Дубровского, исследователи разделились на «умеренных» и «радикалов» (по Гаспарини104), «референциалистов» и «фикционалистов». Первые настаивают на сохранении биографических референтов при субъективизации изложения, вторые защищают право автора на вымысел в перевоплощении его Я.
Среди самых ярых пропагандистов «референциалистского» направления, разумеется, сам Дубровский. Неожиданно то, что теперь он, прежде игравший на столкновении пакта автобиографического с романным и поддерживавший между ними баланс, при котором не перевешивает ни то, ни другое, твердо стал на позицию референциальности и заявил, что «в отличие от некоторых нео-автобиографов, не порывает с референциальным пактом Филиппа Лежена». После чего добавил «с последней прямотой»: «Моя концепция автофикшн – не концепция Винсена Колонна, “литературное произведение, посредством которого писатель изобретает себе персональность и существование”. Персональность и существование здесь <…> — мои собственные»105.
Жак Лекарм уличает Колонна в том, что тот «максимально расширяет область автофикшн, допуская беллетризацию автором самого существа пережитого им опыта». Не без доли ехидства Лекарм замечает, что при таком расширении основной смысловой акцент приходится на «-фикшн» и почти ничего не остается на долю «авто-» – и автофикшн становится синонимом собственно литературы106.
К лагерю Колонна закономерно принадлежит и его учитель Жерар Женетт, который настаивает на максимальной беллетризации текстов:
Я говорю здесь об истинных самосочинениях, – повествовательное содержание которых можно назвать аутентично вымышленным, подобно (я полагаю) содержанию «Божественной комедии», – а не о фальшивых самосочинениях, которые являются «–сочинениями» только для таможни: иначе говоря, стыдливыми автобиографиями107.
Совместимость противоположностей
Как бы то ни было, в дискуссиях между «умеренными» и «радикальными» теоретиками автофикшн важно выделить новую тенденцию – к совместимости этих двух, казалось бы, противоположных направлений. Синтетическое слово теории хорошо выразил Филипп Вилэн: эстетика «отменяет обычное противопоставление реальность-вымысел» в пределах литературной действительности108. Очевидно, приходит осознание того, что основной пункт расхождений – акцентирование либо «реальности», либо «сочинения» – не главное для понимания жанра. Существенно не процентное соотношение правды и вымысла, а механизмы их комбинирования.
Две трактовки автофикшн, внешне находящиеся в отношении антагонизма, в анализе творчества Белого скорее дополняют друг друга. «Психоаналитическая поэтика» Дубровского удачно сочетает теорию Лакана с собственно литературной теорией. Тезис Колонна об «олитературивании себя» наглядно соотносится с приемами, которыми Белый пользуется для охудожествления своей автобиографии, а идея Колонна об «изобретении» и «переизобретении себя» приложима к практике Белого по перекодированию его прошлого в серии текстов.
Теория серийной автобиографии
Концепция серийности может показаться, по названию своему, поверхностной: ну, пишет кто-то не одно-два автобиографических произведения, а целую гирлянду – много ли от этого меняется? Может показаться не обещающей нового взгляда на давно известное явление: какая в конце концов разница, назвать ли автобиографию серийной – или сквозной, тотальной, радикальной?
Конечно, немного другой термин сам по себе не создает другого явления, речь идет о том же самом. Достоинства теории не в этом. Начав с внешней приметы – создания автором множества автобиографических произведений – теоретики серийности проанализировали затем творчество ряда авторов, неудержимо пишущих о себе, и установили нечто интересное. Оказывается, у серийного творчества разных авторов есть ряд общих черт – что позволяет отделить их от других писателей, и даже от других, несерийных, автобиографов. Это отвечает на первый вопрос: да, количество имеет значение – многократно пишущие о себе пишут по-другому. Серийность имеет тенденцию создавать новое качество. Далее, оказалось, что и биографии серийных авторов: похожи между собой – и не похожи на биографии несерийных. Далее, исследователи серийности нашли, что биография отражается на способе создания автобиографии. Далее, между произведениями серии можно найти связь – как правило, не прямую, в виде продолжающегося сериала, а в виде продолжающихся и вместе с тем постоянно меняющихся попыток описать, переписать, заново переписать, еще и еще раз переписать одни и те же конфликты, отношения, проблемы, вопросы, решения, травмы, ошибки. Одни и те же – по-разному. Серийность – казалось бы, лишь количественная характеристика автобиографизма – не только оправдывает, но и предполагает противоречия между версиями авторского воссоздания своего прошлого, как противоречия у Белого, столь озадачивающие всех нас. Серийность – бесконечный поиск себя, своего Я.
Теория серийной автобиографии, которую разрабатывают современные американские исследователи (Ли Гилмор, Сидони Смит, Джулия Ватсон и др.), стремится осмыслить тенденцию к обновлению автобиографического жанра. Писатели, творчество которых дает материал для их исследований, принадлежат американской современности и работают в ключе постмодернистского экспериментирования (Лилиан Хелман, Мэри Мак-Карти, Майя Ангелоу, Ричард Родригес, Джамайка Кинкейд, Дороти Алисон, Ким Чернин)109.
Интересно, что эти писатели (кроме Ричарда Родригеса) – женщины. И ведущие теоретики серийности – женщины тоже. Травмы, описываемые американскими женщинами- писателями и анализируемые американскими женщинами- исследователями, заметно отличаются от травмы русского мальчика, рожденного столетием раньше, жертвы не жестокости и насилия, а избыточной родительской любви. Как бы то ни было, несмотря на все отличия, автобиографическое творчество Белого в целом вписывается в основные параметры теории серийности. Приложение этой теории помогает увидеть в самоописаниях Белого многие вещи, которые иначе незаметны.
По мнению Гилмор, принцип автобиографии как правдивого изложения истории своей жизни (принцип Лежена) «ограничивает саморепрезентацию, так как опирается на почти юридическое определение правдивости, на дословное и доказуемое и не принимает вымысла»110. Она и ее последователи, как и теоретики автофикшн, всячески приветствуют смешение жанров, правда, рецепты смешения предлагают немного иные.
Ли Гилмор с полным правом может называться ведущим теоретиком серийной автобиографии. Ее книга о границах автобиографии является, можно сказать, манифестом серийности. Приведу характеристику, которую исследователь дает рассматриваемому феномену:
Несколько писателей решили подойти к саморепрезентации как к проекту незавершенному, подверженному повторяемости и расширению, к такому проекту, который закончить не представляется возможным. Само понятие «окончания» автобиографии, в свете их многотомных работ, приобретает ироническое звучание – с каждой последующей публикацией. Многотомные автобиографии <…> демонстрируют повторяемость возвращения к автобиографическому локусу111.
В этом предварительном определении уже называется ряд особенностей исследуемого явления: многократность возвращений к автобиографическому локусу; особая роль повторения; семантическая и структурная открытость серии; вариативность продолжения и принципиальная незавершаемость. К этому Гилмор добавляет накопление и поэтапную трансформацию значения в серии по мере создания новых текстов. Если свести воедино наблюдения различных теоретиков серийности и обобщить их рассуждения, можно сформулировать, в чем именно заключается экспериментальность серийности, которая нарушает установленные Леженом нормы жанра автобиографии. Во-первых, это множественность образов автора и разнообразие версий прошлого. Во-вторых, это гибридность поэтики серийности, помещающая ее на пересечении референциального и вымышленного. В-третьих, это отказ от полной идентичности протагониста и автора.
Прежде чем обсуждать теорию серийности, я вынуждена сделать одну оговорку. Несмотря на масштабность подхода Гилмор, оригинальность ее идей и множество интересных наблюдений, изложение идей у нее не всегда соответствует теоретическому потенциалу концепции. Она и другие выделяют ряд общих для серийных автобиографов качеств, но, увы, формулировки их не отличаются ясностью, а главное, они не делают обобщений, для которых их работы дают повод. Я пытаюсь это сделать за них. Мои обобщения имеют вторичный характер по отношению к богатому материалу, добытому исследователями серийности. Целиком их заслугой является и принципиальная постановка вопроса о специфике серийной автобиографии, и обнаруженные ими приметы этой специфики.
Сначала – об атрибутах серийности. Они приводятся на основании работ исследователей жанра, но в моем понимании и моих формулировках – под мою, разумеется, ответственность.
Открытость серии и подвижность перспективы
В теории серийной автобиографии речь идет о многотомном «открытом проекте» – в двух смыслах. Во-первых, имеется в виду незавершенность серии и ее открытость к не- предопределенному продолжению. Во-вторых, открытость развивающейся серии для новых интерпретаций.
Теоретики серийной автобиографии не первыми пришли к концепции открытого произведения. Ее уже в 1960-х годах сформулировал Умберто Эко. Согласно Эко, поэтика открытого произведения «исключает привилегированный, одномерный, лобовой взгляд, так как находится в постоянном процессе трансформации»112. Это суждение применимо к серийной автобиографии. Серийная поэтика как будто бесконечно изменяет объект изображения – посредством изменения точки зрения. Нужно только добавить, что описанный Эко принцип здесь воспроизводится многократно.
Открытость серии прежде всего означает подвижность перспективы – одно из ключевых свойств серийной автобиографии. В серии произведений каждое новое возвращение писателя к одному и тому же автобиографическому локусу становится его изображением с другой точки зрения. Автор как бы показывает читателю разные стороны одного и того же объекта. В этом нагляднее всего проявляется открытость серии.
Напрашивается соотнесение этой особенности серийной автобиографии с практикой Белого, в соответствии с которой создание каждого последующего текста серии оказывалось, по его выражению, очередным «разглядом» того же объекта с новой точки зрения, в результате чего общее протяжение серии становилось показом разных сторон героя или конфликта. Такая стратегия соответствовала его гносеологическим принципам. В «Душе самосознающей» он писал: «Фигура <…> изживаема вариационно: в вариациях, или – во многих фигурах <…> фигура – и есть тема в вариациях разных разглядов». Белый исходил из того, что невозможно одновременно охватить взглядом всю фигуру, ее можно охватить, только последовательно переводя взгляд и меняя точку обзора. И литературную тему в ее целостности нельзя реализовать одновременно, а только, согласно Белому, последовательным «разглядом» ее вариаций в ряду текстов: «<…> фигура, как целое, в этом ряду изживаема вариационно»113.
Подвижность перспективы и рассмотрение то одной, то другой части целого приводит в отдельных текстах Белого к разнообразным деформациям целого. В общем пространстве серийной автобиографии Белого это ведет к намеренной дестабилизации целого, в особенности автобиографического Я, к превращению его в изменчивую систему, открытую для продолжений и интерпретаций.
Открытость серии, которую Гилмор и другие исследователи считают одним из сущностных качеств серийного самоописания, предполагает и открытость каждого отдельного произведения по отношению к его «соседям», к другим – как существующим, так и потенциальным – произведениям серии. Составляющие серийной автобиографии образуют общее разомкнутое семантическое пространство: ассоциации распространяются между текстами. Так создается общая сеть значений, в чем прежде всего и выражается интертекстуальность серии.
Интертекстуальность связана с особенностями серийной репрезентации Я. В связи с этим Гилмор делает акцент на функции автобиографического протагониста: «<…> эта фигура, представляющая индивидуума, может пересекать самые разные границы, в том числе границы отдельных текстов, и расширять автобиографию до интертекстуальной системы значений»114. Иными словами, будучи сквозным присутствием в серии автобиографических текстов, фигура протагониста способствует установлению интертекстуальных связей между текстами серии.
Наблюдение верное, однако, добавлю от себя, не стоило бы игнорировать тот факт, что фигура протагониста не только определяет интертекстуальность серии, но и сама во многом определяется сквозным процессом производства значения в интертекстуальной системе. Семантическое взаимодействие индивидуальных текстов влияет на трансформации этой фигуры: столкновение ее несхожих репрезентаций, предложенных разными текстами, их конфликт и взаимопроникновение в общем семантическом пространстве стимулирует на протяжении серии становление изменчивого и незавершенного Я.
Возвращаясь к вопросу о причинах несовпадений и противоречий между разными воссозданиями Белым одних и тех же автобиографических референтов, можно предположить следующую причинно-следственную цепочку. Потребность Белого снова и снова переписывать себя привела к автобиографической серии. А серийность по самой природе своей обуславливает неизбежность расхождений между разными воссозданиями одних и тех же референтов. Индивидуальная психология творчества задала Белому подходящую для ее выражения серийную поэтику как набор стратегий и приемов. А эта сторона творчества в свою очередь обусловила семантические сдвиги одних элементов серии относительно других, предопределила несовпадения и противоречия между ними.
Теория серийной автобиографии полагает, что одним из механизмов развития серии служат ассоциации между вариациями базового конфликта. Не говоря об этом прямо, представители направления фактически показывают несколько моделей развития ассоциаций между текстами: повторение в разных текстах одних и тех же сцен базового конфликта Я с постоянным оппонентом; повторения этого конфликта в разных текстуальных хронотопах; воспроизведение этого же конфликта с постоянным автобиографическим Я в главной роли, но – со сменяющимися фигурами в роли его оппонента.
Вариативные повторения у Белого служат установлению ассоциаций между его текстами. И в романах, и мемуарах Белого, несмотря на неодинаковую степень их автобиографичности и художественности, всегда присутствует – разными средствами воспроизводимый – автобиографический инвариант, представляющий главные конфликты жизни автора. Воплощения инварианта в разных текстах перекликаются между собой и способствуют связи текстов, которая служит одним из средств установления интертекстуальной динамики серии.
Травма – источник серийности
Для понимания серийной автобиографии исследователи обращаются к феномену, по их данным, объединяющему биографии писателей этого жанра. Это травма, пережитая автором в детстве и определившая обсессивные возвращения к ней как к основному конфликту его жизни. В каждом из этих случаев речь идет о травме повседневной и длительной. Гилмор приходит к выводу, что объектом изображения обычно становится «такого рода насилие, которое настигает ребенка в самом раннем возрасте, долго длится и так связывается с взрослением, что трудно очертить как его границы, так и локус и пределы травмы»115. О сложной корреляции автобиографии и травмы пишут не только теоретики серийной автобиографии, но и исследователи, которые работают на пересечении психологии, культурологии и литературоведения, в их числе Джеймс Гласс116, Дженнифер Фрейд117, Джудит Херман118. Французский исследователь Жан-Франсуа Кьянтаретто занимается этой проблемой в традиции психоанализа119.
Среди теоретиков широко распространено убеждение, что подсознательная цель писателя, пережившего травму, заключается в том, чтобы она перестала его преследовать. Ему нужно изжить навязчивое воспоминание. Однако, добавлю от себя, цель может состоять еще и в том, чтобы травма перестала его преследовать и в виде ее вполне актуальных («сегодняшних») психологических последствий, более поздних наслоений, заставляющих бывшую жертву всю жизнь воспринимать мир в травматических тонах. В любом случае автора направляет потребность возвращаться к травме снова и снова. Он создает ряд текстов, воспроизводящих биографический инвариант травмы. И в них мы находим пересоздание автором своего Я в личностях, которые смогли бы наконец противостоять насилию, перед которым прежде он был бессилен. Речь идет о том, чтобы в процессе создания текстов изменить и таким образом «исправить» свое прошлое и свое прежнее Я.
Теоретики серийной автобиографии полагают, что изначальной матрицей автобиографической серии является отношение «Я-жертва – не-Я-агрессор». Согласно теории, насилие отцовской или материнской фигуры над ребенком переносится в контекст взрослой жизни и творчества автобиографа.
В случае Белого речь может идти об избыточном воздействии стресса на детское сознание, мечущееся между отцом и матерью, но никто и ничто не свидетельствует о том, что будущему писателю пришлось испытать агрессию или насилие в том зловещем смысле, который вкладывают в эти понятия теоретики серийности. Боря Бугаев страдал не от родительской ненависти, а от переизбытка и перекоса родительской любви и внимания. Тем не менее такая необычная травма, судя по всему, сыграла в творчестве Белого принципиально ту же роль.
Роль детской травмы, пережитой Борей Бугаевым в семейном треугольнике отец-мать-сын, констатирует и сам писатель, и его современники, и последующие исследователи его творчества. Возможно, Белый пытается в творчестве превратить свой мучительный детский опыт из нечленораздельного сгустка боли в структурированное повествование и таким образом обрести над ним контроль. Или, возможно, он стремится, овнешнив и пародийно остранив свою травму, от нее отстраниться и передать ее литературным воплощениям своего Я. А может быть, не будучи в силах оторваться от переживаний детства, писатель вынужден заново проживать кризисные ситуации, воспроизводить их в виде текстов. Можно предположить и то, что, воссоздавая травму в жизни своих персонажей, автор пытается найти запоздалые, но все же решения своим детским проблемам. Едва ли возможно установить, что же происходило на самом деле, да это и не может быть предметом литературоведческого исследования. Важно, что биографическая травма Белого была фактором его серийного творчества.
В мемуарах Белого есть свидетельство о конкретном случае отражения его болезненного состояния в творчестве. Он пишет о работе над «Серебряным голубем»: «В романе отразилась и личная нота, мучившая меня весь период: болезненное ощущение “преследования”, чувство сетей и ожидание гибели; она – в фабуле “Голубя” <…>; объективировав свою “болезнь” в фабулу, я освободился от нее <…>»120. Получается, что связь, по меньшей мере в этом случае, была прямой: Белый говорит о фабулизации своих страхов. Более того, сказанное, видимо, следует понимать так, что делал он это не подсознательно, а, вопреки всем теориям, вполне сознательно (может быть, конечно, и альтернативная трактовка: он лишь позднее осознал, что делал – однако, она кажется менее правдоподобной). Наконец, в-третьих, сеанс творческой психотерапии был успешным – принес желанное облегчение. Приступы мании преследования случались у Белого и в дальнейшем, чему есть многочисленные свидетельства, некоторые совершенно душераздирающие. Как они отливались в фабулы или характеры его героев, остается лишь предполагать.
Одна из основных моделей переноса травматических отношений детства на отношения более поздние может быть названа перенос-проекция, другая – перенос-отождествление. Смысл переноса-проекции в том, что изначальная матрица жертва-агрессор, сложившаяся в детстве автора, проецируется на изображение его взрослых отношений. Какими бы ни были взрослые отношения в жизни, какими бы они ни казались со стороны, в текстах они обретают свойства конфликтов Я с разными оппонентами по той же схеме жертва-агрессор.
Перенос-отождествление выражается в том, что автобиографический протагонист, изначально бывший жертвой в паре жертва-агрессор сам входит в роль агрессора. В фикциональном тексте члены оппозиции меняются местами: Я отождествляется с агрессором, не-Я – с жертвой. Происходит это потому, что автобиографическое Я бессознательно отождествляет себя с прежним источником насилия – материнской, отцовской или иной авторитарной фигурой детства.
По причине ли особенного характера травмы, по причине ли чисто эстетического свойства, но модели переноса у Белого выглядят своеобразно, хотя не отрицают концептуализированных теоретиками. Весьма оригинально механизм проекции используется Белым применительно к отношениям Белый–Блок. На них проецируются свойства оппозиции сын- отец, в модификации младший–старший, хотя оба родились в одном году (1880). В целом ряде случаев Белый проецирует на Блока свои собственные качества, которые в переносе на Блока обретают сугубо отрицательные коннотации – как бы отдает ему свои недостатки.
Принцип переноса-отождествления теория трактует только как отождествление бывшей жертвы с ролью агрессора (с отрицательным измерением своего оппонента). Белым эта модель именно в таком виде реализуется лишь однажды, в «Петербурге»: Николай Аполлонович, чувствующий себя жертвой отца, становится агрессором, причем по отношению к самому отцу. В других случаях, особенно в мемуарах, перенос-отождествление превращается в самоотождествление с положительным измерением Другого.
Изменения психики и памяти в результате травмы отражаются на способности субъекта вести повествование. Особенности обсессивной работы памяти сказываются на организации серии: она не может строиться как эпический рассказ о развитии ее автора от рождения до преклонного возраста или до момента написания автобиографии. По самой своей природе это прерывное повествование: серия текстов, которые представляют разрозненные и часто дублирующиеся отрезки жизни автора. Не будучи частями хронологически последовательного повествования с началом, серединой и концом, тексты серии примыкают друг к другу по принципу частичного повторения. Это не значит, что каждый текст серии воспроизводит ситуацию изначальной травмы. Серия может представлять самые разные фрагменты жизни ее автора – даже отчасти или всецело вымышленные, если они репрезентативны по отношению к его травматическому опыту и модели мышления. Многие фрагменты по крайней мере отчасти повторяют если не эпоху травмы, то сложившуюся в эту эпоху матрицу травмы.
Известно, что в жизни Андрея Белого была еще одна серьезная травма – несчастная любовь. О ней немало написано в его мемуарах – а как она отражена в его художественных произведениях? Пожалуй, лишь в «Петербурге» можно найти отзвуки этой травмы, но и там нет полноценной любовной истории. В автофикциональной серии Белого линии любовной почти не видно. Объясняется ли это тем, что любовная травма была не детской – интересный вопрос. Не пытаясь на него ответить, отметим важный факт: не все темы, важные в жизни серийного автофиографа, находят заметное отражение в его художественных произведениях.
Серийное Я
Вариативность репрезентаций автобиографического Я в серии дискретных текстов – одна из важных особенностей серийной автобиографии. Казалось бы, логично предположить, что эта особенность мотивируется тем, что в серии изображаются последовательные стадии развития Я. Жизненная эволюция автора-прототипа и, соответственно, повествовательная эволюция автора-протагониста объясняла бы тогда разнообразие версий автобиографического Я. Тем не менее такое предположение не подтверждается практикой серийности.
Примеры современных серийных автобиографий121 и, что особенно для нас важно, случай Андрея Белого говорят о другом. Даже когда авторы пишут о своем опыте в разных возрастах, это не составляет последовательного описания жизненного пути. Они не столько изображают стадии своего развития, сколько возвращаются в разных текстах к одному и тому же – инвариантному – конфликту в жизни Я, который может повторяться и воспроизводиться как в референтном времени-пространстве, так и в вымышленных хронотопах. Воспроизведение Белым вариаций (в том числе возрастных) инварианта сын–отец можно считать показательным примером того, как это происходит.
Вышесказанное означает изменчивость Я в неизменном конфликте.
Как и почему протагонист меняется? В чем механизм изменчивости Я? Нетрудно догадаться, что это происходит в результате смены угла зрения, собственно, это и есть основное выражение принципа подвижности перспективы.
В сотворении серийного Я выделяется то, что можно назвать работой над ошибками и созданием экспериментальных Я. Суть процесса отражена в суждении Фуко: человек пишет, чтобы стать другим – не тем, что он есть. Фуко, без связи с серийной автобиографией, сформулировал тезис, который является ключевым для этой теории. Не случайно Гилмор воспроизводит это изречение и вторит ему: «Автобиография предоставляет возможность изменить себя»; «Автобиография становится гипотетическим проектом по “превращению себя в другого”»122.
Автор автобиографии может избегать фотографического изображения своей реальной персоны с ее уязвимостью перед лицом травмы. Он может, так сказать, вести «работу над ошибками» прожитой жизни: изображать себя иным и тем самым преодолевать в тексте непоправимость совершившегося в жизни. Более того, будучи автором серии, он может делать это многократно: снова и снова, до бесконечности, разыгрывать в лицах прежнюю травматическую матрицу и в серии текстов вводить на роль протагониста то одно, то другое гипотетическое Я.
Уникальность серийной автобиографии в том, что автор серии не просто волен заменить свою реальную личность на другую, способную в предложенных обстоятельствах противостоять травме – он обретает редкую форму свободы: в серии автобиографических романов он может выводить на сцену разные версии своего Я и экспериментировать с ними. В серии автофикциональных романов Белый раз за разом выводит в качестве героя очередную экспериментальную версию «вечного сына», который в паре с тем или иным условным «отцом» заново изживает свою детскую травму.
Проект серийного самоописания по самой сути своей предполагает ту или иную, часто очень высокую, степень фикциональности разнообразных экспериментальных Я, которых автор поочередно помещает на место референциального Я своего прошлого. Это могут быть аутентичные, хотя не проявленные в период травмы, качества автора: он проецирует их вовне и выводит как отдельные личности, которые замещают его реальную личность периода травмы. Это могут быть свойства и черты, заимствованные им для героя своих романов у друзей, знакомых, чужих литературных героев. Это могут быть наконец всецело вымышленные свойства, с которыми автор желал бы поэкспериментировать и которые он – олицетворяя, персонализируя и романизируя их – ставит на место своего референциального Я.
Все это сближает серийную автобиографию с автофикшн, особенно с той разновидностью самосочинения, которая как переизобретение себя концептуализирована Винсеном Колонна.
В своих романах и мемуарах Белый пользуется всеми перечисленными возможностями, чтобы создать ряд экспериментальных Я. В каждом тексте серии разные персонификации автобиографической личности, помещаемые Белым в контекст травмы, проявляют образ мысли и образ действия, в чем-то отличные от присущих автору в жизни.
Серийное Я Белого воплощается в его художественной и нехудожественной прозе как сложная смесь отношений с собой и с другими. Последние, как правило, воплощаются как пара сын-отец или ее перенос-проекция: младший-старший (квази-сын – квази-отец).
Серийность + автофикшн = серийное самосочинение
В каждой из двух теорий можно заметить упущения: в характеристиках как особенных явлений, серийности и автофикциональности, так и общего явления автобиографичности. Предлагаемые здесь поправки и дополнения носят характер до-исследовательский – в отличие от ревизий на основании исследования.
Перформативность
Перформативность – слово-дело, поступки, совершаемые вербальными средствами. Ведущие представители автофикшн о перформативности не говорят ни слова. Ли Гилмор, напротив, не раз ссылается на перформативность как фактор серийности. Но ее попытки объяснить, о чем идет речь, почему-то со ссылками на метафору и с упором на метонимию, не проясняют суть дела.
Исходная идея перформативности речи принадлежит Джону Остину123. Констативным высказываниям, функция которых состоит в описании, он противопоставляет высказывания перформативные, которые выполняют функцию словесных поступков. Например: «Давай поженимся!» Или: «Вы – низкий человек». Перформативность – совершение действия посредством произнесения фразы. По мере до- осмысления понятия такими теоретиками постмодернизма как Джудит Батлер, Шошана Фелман, Джонатан Каллер понятие перформативности стало значительно шире. Вполне легитимным стало его использование по отношению к литературному дискурсу. Это словесный или мысленный поступок участника повествования, создающий новое в текстуальной реальности124.
Андрей Белый – мастер словесных поступков.
Повторение
Теоретики автофикшн не говорят и о повторении. Ли Гилмор, напротив, в своих определениях серийности говорит о том, что проекты многократной саморепрезентации неотделимы от повторения.
Это правда. Многократность самоописания автора в серии текстов предполагает повторение. Но этого мало. Гилмор и другие говорят, например, о развитии в серии интертекстуальных ассоциаций (см. выше) – и не замечают, что такие ассоциации создаются очень во многом за счет повторения, в том числе особого его вида – повторения мотива в серии.
Хотя теоретики и констатируют важную роль повторения, они не показывают, в чем она. Видимо, полагают, что она самоочевидна, ведь серийность уже значит повторяемость. Однако повторение в литературном тексте – проблема многоаспектная и имеющая богатую историю теоретического осмысления.
Повторение – исключительно важный аспект творчества Белого. Применяемые им приемы повторения многочисленны, своеобразны и зачастую неожиданны. Белый, можно сказать, культивирует повторение в самых разных формах, всячески обыгрывает свои приемы повторения и подчеркивает разнообразие имеющихся у него способов повторения.
Свойства серийного самосочинения
Основные положения теории серийного самосочинения – объединяющей и дополняющей теории автофикшн и серийной автобиографии – можно представить следующим образом.
Обе теории, и серийной автобиографии, и автофикшн, едины в неприятии традиционной четкости разграничения романа и автобиографии. Обе теории прямо говорят о праве автобиографа на вымысел. Обе не просто допускают смешение жанров, и даже не просто оправдывают, но, можно сказать, пропагандируют. Обе предлагают развернутое обоснование права смешанного жанра на существование в качестве жанра плодотворного и многообещающего. Более того, несмотря на всю разницу в терминологии, две теории сходятся и в видении основных черт автобиографа нетрадиционной ориентации. А в чем-то они почти дословно одно и то же говорят; тезис Колонна об извечной потребности человека в само- сочинении и о фикциональной автобиографии как о способе изобретения и переизобретения себя прямо предвосхищает идеи серийной автобиографии. Между двумя теориями есть существенные различия, но я не вижу принципиальных расхождений.
Начнем с того, что автофикшн трактует общие вопросы автобиографии – а теория серийности лишь одной ее разновидности, притом довольно редкой. Две теории соотносятся как общее и частное. Серийная автобиография – все-таки тоже автобиография. Теория, если можно ее так назвать, серийного самосочинения – это расширенная и модифицированная теория серийной автобиографии, включающая основные положения автофикшн. Анализ творчества Белого подтверждает, что теория серийной автобиографии в нескольких важных аспектах слишком узка и ничего не может предложить для понимания ряда особенностей Белого, без которых он не был бы Белым.
Автофикшн не рассматривает феномен серийности, поэтому не выделяет ее атрибутов, в том числе таких важных, как значение травмы или подвижность перспективы. Но она и не отвергает их, и в ней нет ничего с ними несовместимого. Правда, кое-что, на мой взгляд, автофикшн просто упускает из виду, прежде всего перформативность, которая важна не только в серийной, а в любой автобиографии.
Две теории удачно дополняют друг друга. Например, автофикшн не занимается специально анализом детской травмы и обсессивности, что важно в случае Белого. Зато уделяет значительно больше внимания бессознательному и его отражению в авторском стиле, что в случае Белого тоже совсем немаловажно. В частности, идея «искусственного бессознательного», симуляции бессознательного дискурса – одна из центральных в автофикшн и отсутствующая в теории серийности – позволяет, мне кажется, уловить нечто важное в стиле Белого. Более того, как ни парадоксально, анализ этой техники, со своей стороны, показывает, что особый ее аспект – так называемое косноязычие Белого – является одновременно фактом его биографии, аспектом автобиографии и даже определенной линией серийности (сочинением себя как писателя)125.
По поводу стиля, имитирующего бессознательный дискурс, однако, возникает вопрос. Теоретики автофикшн подчеркивают, что традиционная автобиография не отражает и не может отразить инореальность бессознательного (открытие Дубровского). С этой точки зрения логично обратиться к языку, сконструированному так, чтобы передавать неуловимое бессознательное. Но это нелогично с другой точки зрения – стиль не бывает определением жанра. Что если автор создает тексты, по всем параметрам относящиеся к автофикшн, но не пользуется языком, похожим на бред? Такие тексты попадают в другой жанр?
Последний по счету и по значению аргумент в пользу термина «серийное самосочинение»: он ближе неортодоксальному ответвлению жанра по духу. Словосочетание «серийная автобиография» ни эстетически, ни семантически не выражает идеи новизны. Автобиография – от этого слова веет освященной веками традицией, припудренными париками и церемонными поклонами. Что не подходит для разговора о взбунтовавшихся против традиции новаторах. Да и по смыслу словосочетание приглашает недоразумение: можно подумать, речь все о том же последовательно фактологическом самоописании, только в нескольких томах. Более неточного понимания серийности не придумать. Это не значит, конечно, что автобиография – слово плохое, просто в нашем случае не самое подходящее.
В заключение кратко повторю основные свойства развиваемого ниже подхода – серийного самосочинения:
– смешение референционального и фикционального;
– невыразимость реальностей сознания средствами литературной фотографии;
– имитация бессознательного (универсальность свойства под вопросом);
– открытость серии и подвижность перспективы;
– травма как источник серийности;
– серийное Я;
– повторение;
– перформативность.
Глава 1
Излюбленные приемы: повторение и повторение
Пролог «Петербурга» полон выскакивающими один за другим повторами слов и словосочетаний: Русская Империя, град (город), распространяться, Петербург, проспект и – «прочая, прочая, прочая». Едва ли во всем, что людьми написано, найдется другая страница, содержащая такое же, как первая страница «Петербурга», количество употреблений слова «проспект»: «Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики <…>» – четыре раза в полутора строчках. Затем, почти без перерыва, следуют 8 строк, в которых слово проспект упоминается еще 11 раз. Чуть выше читаем: «Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же) <…>», а через три строчки снова: «<…> Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же) <…>»126. Повтор за повтором – нанизываются один на другой – как бусинка за бусинкой на нитку: бусинка за бусинкой, и еще бусинка, и еще, и еще…
В последнем абзаце пролога подобные бормотанию повторы вдруг уступают место энергичному – однократному – заявлению (что Петербург «не только кажется»127). Как по мановению дирижерской палочки, они могут начаться – могут закончиться. Они могут быть самыми разными. И, конечно, приемы повторения у Белого совсем не сводятся к словесному повтору. Где-то они помогают передать состояние героя, где-то закрепляют мысль автора, где-то придают пародийный оттенок, где-то готовят кульминацию романа, где-то связывают повествование, а где-то проводят сквозную для всего творчества Белого линию.
Без повторения Андрей Белый немыслим. Немыслимо и серийное самосочинение без повторения. Поэтика серийности по самой сути своей подразумевает многократное возвращение к авторскому Я. Благодаря повторению создается и воссоздается тот инвариант жизнеописания, который объединяет произведения в серию. Но воссоздается не под копирку, а каждый раз в новой перспективе. Так создаются различные ипостаси авторского Я, различные, по терминологии Белого, «личности» единого «индивидуума».
Важно повторение мотивов: один и тот же мотив обыгрывается с разных сторон и разными средствами и в итоге аккумулирует разные значения и создает многомерность изображения. У Белого, как единодушно отмечают исследователи, самый устойчивый мотив – отец и сын; дополненный изображениями фигур в роли как-бы-отца, он расширяется до мотива младший–старший. Другие важные мотивы во многом связаны с детством. Это и треугольник отец–мать–сын, и двойственность автора и его героев, и склонность к самокопанию, и отношения с внешним миром, в частности, с языком. Любой из мотивов – уже какая-то грань авторского Я, выделенная из целого. Значит, мотив, повторяющийся и развивающийся в серии произведений, создает не просто меняющиеся грани индивидуальности, а грани граней, ипостаси ипостасей. Сказанное имеет отношение к орнаментальности. В развитие образа «темы в вариациях», как характеризовал орнаментальность Белый, я предлагаю дополнить типологию повторов понятием серийного повторения, в частности, повторения мотива в серии. В серии мотивное повторение и орнаментальность обретают новые узоры – вариации вариаций.
Вместе с тем важна роль мотивного повторения и в каждом отдельном романе серии. И в каждом применяется одна и та же ее модель. Она до сих пор не рассматривалась в литературоведческих работах, не считая моих собственных128. Я выделяю ее как особый вид повторения – обратного (инверсивного) повторения, или репетиции. Помимо этого, в «Котике Летаеве» я выделяю еще один вид мотивного повторения – космологическое повторение.
Примером серийного мотива, пока не замеченного беловедами, является, как я его называю, мотив распятия. Одновременно это и пример выстраивания линии обратного повторения – в каждом из произведений.
Модернизация повторения – орнаментальная проза
Повторение становится особенно востребованным в прозе эпохи модернизма. Функции повторения расширяются, его роль в повествовании значительно увеличивается. По выражению Хиллиса Миллера, модернисты «взорвали» поэтику романа129, по-новому использовав возможности повторения. Эта тенденция проявилась и в западноевропейских (например, французской, английской), и в американской, и в русской литературах. Переместившись с периферии в центр нарратива, повторение стало превращаться в доминантный прием.
В традиционном повествовании XIX века, по мнению исследователей, лейтмотивная техника уже использовалась130, но оставалась служебной – по преимуществу при механизмах сюжетопорождающих131. Правда, В. М. Жирмунский находит, что уже в прозе XIX века прием повторения иногда может нести в себе особую, внесюжетную логику развития произведения. Он указывает на прозу, в которой повествование организуется не столько развитием событий, сколько связью элементов стиля. Он даже объединяет по этому признаку Гоголя и Лескова с модернистами Ремизовым и Белым в особую категорию: «Существует также чисто эстетическая проза, в которой композиционно-стилистические арабески, приемы словесного сказа <…> вытесняют элементы сюжета, от слова независимого (в разной степени – у Гоголя, Лескова или Ремизова, Андрея Белого)»132.
Ю. Н. Тынянов пользуется выражением «поэтизированная проза» и, упоминая в этой связи Белого и Ремизова, отмечает тенденцию прозы к заимствованию некоторых свойств у поэзии: «смещение прозаического слова, которое возникло из общения с поэтическим»133.
Лена Силард видит орнаментальную прозу первой четверти ХХ века как «использование приемов поэтического преобразования слова при сохранении собственно прозаического качества» и подчеркивает роль повторения в создании «семантической нагруженности собственно мотивной структуры» по отношению к сюжетно-персонажному уровню134. Она говорит об орнаментальности как «особой линии русской прозы <…> восходящей прежде всего к эксперименту, осуществленному в четырех “Симфониях” Андрея Белого», а именно:
Построив архитектонику своих Симфоний на внутреннем противопоставлении крайней рассыпанности фабулы <…> и глубинной связанности фрагментарных событийных сегментов с помощью лейтмотивов, Андрей Белый в кристально чистом виде создал структуру, которая явилась основой орнаментальности как таковой и с большей или меньшей полнотой воспроизводилась позднее орнаментальной прозой любого типа135.
Это важный вывод о начале орнаментальной прозы, который вряд ли можно сформулировать яснее. Далее: «Что же касается орнаментальности в романе, сохранившем прагматику сюжета, – основы ее заложены “Серебряным голубем” и “Петербургом” Андрея Белого, а также “Крестовыми сестрами” А. Ремизова»136.
Повторение стало новой и важной повествовательной стратегией. Нарастающее использование повторения в конструкции текста было одним из проявлений тенденции к уменьшению роли фабулы. Одним из способов ослабления фабулы и роли материала стал перенос композиционного акцента с традиционных движущих сил повествования на систему повторений.
Узоры повторения в прозе Белого
В. Б. Шкловский пишет о повторениях в прозе:
Повторения (как и в стихах) создают плодовитую медленность, глубокую пахоту прозы. Вот так эпизоды прозы как бы повторяются. Как будто человек возвращается обратно по ступеням своей жизни. И вот так повторяемость эпизодов сближает так называемый сюжет с так называемыми рифмами137.
Шкловский подчеркивает роль Белого в создании орнаментальности. Он весьма категоричен: «Писатели, бесконечно далекие от Белого идеологически, тоже использовали его достижения <…> Андрей Белый – интереснейший писатель нашего времени. Вся современная русская проза носит на себе его следы. Пильняк – тень от дыма, если Белый – дым»138.
В случае «Котика Летаева» и «Крещеного китайца» можно говорить об автономности мотивной структуры и ее несовпадении с фабульным рядом. Несмотря на внешнюю канву «Котика Летаева», начатого, как роман воспитания, с младенчества героя, узоры текста жестко не привязаны к рождению Котика как мотивировке: они возникают из ниоткуда и, усложняясь и варьируясь в повторениях – будто восходя к некоему разрешению, – не ведут никуда. При этом они-то во многом и скрепляют открытый по сути своей текст, в заметной мере принимая на себя функцию построения повествования139.
В Московских романах Белый возвращает традиционной фабуле довольно значительные права и вновь использует структуру, в которой, как в «Петербурге», орнаментальность и событийность вновь сосуществуют и взаимодействуют, но взаимодействуют уже как начала равноправные. Мотивика не уступает нисколько той своей суверенности, которую она завоевала в романах о Котике.
Белый считал, что творчество Гоголя – «орнамент повторов». В «Мастерстве Гоголя» он пишет: «<…> повтор: он – все, везде; он – нерв стиля Гоголя (вместе с гиперболой) <…>»140 То же в творчестве Белого: это – орнамент повторов; повтор – нерв стиля его. Виды повторения у Белого составляют множество, которое уходит едва не в бесконечность. Не пытаясь охватить их все, назову только некоторые.
Звуковые повторы 141
Повторы одного звука или сходных звуков у Белого могут толпиться в одной фразе, переходить из главки в главку или, сопровождая тему, становиться сквозным мотивом текста. Едва ли не на любой странице любого текста Белого встречаются образцы изощренных переплетений аллитераций и ассонансов, о которых словами самого автора можно сказать: «Аллитерации и ассонансы схватываются в орнамент звуков <…>»142. Для Белого характерна не просто декоративная звуковая орнаментальность, а взаимовлияние законов звуковой и – семантической сочетаемости, особенно в создании сквозных фонетико-смысловых мотивов. Поэтому о звуковых повторах у Белого невозможно говорить без упоминания о их связи с повторами семантическими и структурными. Один из примеров такой взаимосвязи сам Белый находит в «Петербурге»:
Я же сам поздней натолкнулся на удивившую меня связь меж словесной инструментовкой и фабулой (непроизвольно осуществленную); звуковой лейт-мотив и сенатора и сына сенатора идентичен согласным, строящим их имена, отчества и фамилию: «Аполлон Аполлонович Аблеухов»: «плл-плл-бл» сопровождает сенатора; «Николай Аполлонович Аблеухов»: «кл-плл-бл»; все, имеющее отношение к Аблеуховым, полно звуками «пл-бл» и «кл» <…>143.
Звуковые лейтмотивы Аблеуховых помогают, по словам автора, выделить и связать между собой сюжетные и идеологические лейтмотивы «у-бл-юдочного» рода, «бе-с-пло-дных угод-лив-остей», страсти сенатора к фигуре «пара-л-лелеп-и-пе-да», а также лейтмотивы неискренности, бреда, взрыва. В целом: «Сюжетное содержание “Пет[ербурга]” по Гоголю отражаемо в звуках»144.
Звуковые игры Белого словно иллюстрируют понятие созвучного (консонантического) письма, введенного теорией автофикшн. Эта техника – одна из примет его стиля, он ею пользуется, имитируя механизмы бессознательного, для проявления связей между означающими и создания непрямого значения.
Словесные повторы 145
К ним можно отнести повтор слова или однокоренных слов, а также повтор словесных групп – словосочетаний, предложений и более сложных синтаксических единств. Применительно к поэтике Белого можно говорить о словесном повторе и словесно-синтаксическом параллелизме в пределах отрывка или главки, о перекличке словесных повторов через главки или части текста, о сквозном повторе слова или словесной группы на протяжении всего текста. Белого отличает чередование простого словесного повтора с повтором вариативным.
Вариативным повтором можно считать замену исходного слова на эквивалентные ему при развертывании лейтмотивной цепочки. Например, лейтмотив «пульсов» / «пульсаций» / «биений» / «толчков» / «ритмов», связывающий темы физического роста ребенка, усложнения процессов его сознавания и срастания его с космогоническими процессами окружающего мира в «Котике Летаеве». Вариативный повтор находим также там, где имеет место неполная идентичность в повторениях исходной словесной группы, при которых заменены некоторые элементы (слова, словосочетания) синтаксического единства или частично изменено его строение (порядок слов, разбивка на словосочетания, пунктуация). Таковы, например, повторяющиеся с небольшими вариациями периоды с перечислениями явлений мира, «прирученных» Котиком Летаевым146.
Частое повторение слов и словосочетаний сравнимо с течением бессознательного семиотического процесса по Лакану. Но Белый не буквально «записывает бред», а создает бредоподобный стиль на грани языковой нормы и бессмыслицы, который передает бессознательный процесс и в то же время создает некую, пусть порой и трудноуловимую, смысловую последовательность. Белый как будто следует формуле, выведенной спустя десятилетия Дубровским: симуляция связи слов в бессознательном служит организации повествования.
Мотивные повторы
Мотивная структура в дилогии о Котике отличается от мотивной структуры в «Петербурге» и «Москве»147. В «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» так называемые бессобытийные эпизоды детской жизни (такие как сидение в креслице, борьба с обманувшей кашкой, смотрение себе в носик, поплакивание в облачко) связываются орнаментальными повторениями и переплетениями, что компенсирует отсутствие наглядной причинно-следственной связи между изображаемыми в тексте картинами.
В «Петербурге» видны по крайней мере два рода мотивных связей. Один создает собственно мотивную структуру, которая иногда «безразлична» к фабуле, иногда работает на ретардацию событий, создает препятствия, о которые «спотыкается» развитие повествования. Примеры – мотив покидающего тело сознания сенатора, мотив бесконтрольно разбухающего и суверенно странствующего сознания Николая, мотив автономизации сознания Дудкина (болезни, галлюцинаций).
Другой род мотивных повторений в «Петербурге», напротив, участвует в развитии фабулы и создает структуру дополнительных опор для нее. Так, по-разному варьирующийся мотив бесплодных угодливостей (уже упомянутый в связи со звуковыми повторами) сопровождает историю и все эпизоды деградирующих отношений сенатора и сенаторского сына, которые образуют одну из фабульных линий, ведущих к взрыву бомбы. Мотивы желтизны и желтых оттенков в наружности, бегающих маленьких глазок, гипертрофированных частей головы (то выдающейся лобной кости, то огромной бородавки) и сопутствующей атмосферы промозглой мути сопровождают линии Липпанченко и Морковина. Сплетаясь между собой и попутно с другими мотивами провокации (охранки, партии, дела), а также с мотивами желтой азиатской угрозы, эти линии орнаментально вплетаются в одну из основных фабульных линий романа – линию провокации и бомбы.
Взаимодействие мотивов обеспечивает связь разных уровней и сегментов текста, а отчасти и производство значения, как в каждом из произведений, так и в серии их.
Повторение мотива в серии
Серийность прозы Белого подсказывает еще один вид повторения: повторение в серии, или серийное. Важнейшим из таковых является повторение в серии мотива. Основные автобиографические мотивы постоянно повторяются в прозе Белого. Белый говорил об орнаментальности как теме в вариациях – имея в виду, надо полагать, вариации в пределах одного произведения. Но в своей работе он с тем же постоянством применял и серийные повторы мотивов. В его автофикциональной серии развитие тем в вариациях становится естественным образом еще более сложным и многомерным.
Мотив, как уже отмечалось, сам является лишь одним из измерений авторского Я, а в серии ряда текстов мы видим все новые измерения этих измерений, новые повторения повторений. Если орнаментальность – тема в вариациях, то мотивное повторение в серии создает вариации вариаций, орнаментальность, возведенную в степень.
Репетиция, или инверсивное повторение
Репетиция развязки – особый способ повторения
Литературоведение не проводит различия между прямым мотивным повторением и мотивным повторением как таковым: один из вариантов приравнивается к понятию в целом. Но возможна, а главное, реально существует, и принципиально другая версия приема – репетиция, то есть повторение обратное.
Мотивное повторение обычно строится как возвращение – с большей или меньшей вариативностью – к какому-то изначальному элементу, будь то детство героя, событие или конфликт. Повторение поэтому всегда предполагает наличие истока или начала, находящегося вне системы повторений, но конституирующего ее и задающего ее состав и функционирование. Такой исходный пункт является как бы «оригиналом», а последующие повторения – его приблизительными копиями.
Исследование происхождения мотивной структуры от истоков мотива, от «оригинала», становится исследованием этимологии повторения. Такой тип исследования целесообразен в случае совпадения исходного мотива с исходным пунктом фабулы и дальнейшего совпадения мотивного развития с развитием героя, когда повторяющиеся эпизоды действительно служат прозаическим эквивалентом рифмы, скрепами, обеспечивающими связность и цельность произведения. Такова суть прямого повторения – но не всякого повторения.
Развиваемый здесь подход заключается в том, что существует и другой тип повторения, предоставляющий своему исследователю как предмет изучения этимологию «повторения наоборот». В этом случае оригинал повторений – пусковой механизм мотивной системы, отражаемый зеркалами повторений – тоже отчетливо задан. Однако место, отведенное для него автором, вопреки законам жанра и ожиданиям читателя, находится не в начале, а в конце повествования. Это не исток, а пункт назначения – не точка, от которой отталкивается, а точка, к которой тянется повествование. При такой конструкции повторения оказываются не воспроизведениями изначального, а как бы репетициями предстоящего.
Тексты Белого и Набокова являются версиями репетиционной конструкции.
В случае автономности мотивной структуры, ее несовпадения с фабульным рядом произведение скрепляемо двумя либо безразличными друг к другу, либо разнонаправленными последовательностями текстуальных элементов. Тогда, если продолжить метафору Шкловского, пересечение и сталкивание рядов разнородных «рифм» создает разноголосицу, предустановленная гармония уступает место диссонансу, и завершенная романная организация сменяется открытой структурой.
Репетиции ностальгии Набокова
Репетиция – особенное слово в словаре Набокова. Он пользуется им по-разному. В школе, в которую ходит Лолита, проводятся репетиции в обычном смысле. В других случаях репетиция становится метафорой: Марта и Франц («Король, дама, валет») хотят хоть один вечер «пожить так, как они потом заживут, устроить генеральную репетицию уже недалекого счастья»148. Наконец, в случаях особо для нас интересных, репетиция вырастает в философический образ, связывающий времена, сиюминутное с бесконечным. В «здесь и сейчас» Набоков может разглядеть репетицию того, что судьба назначила на далекое будущее – так строятся некоторые его мотивные повторения. Набоков показывает, более откровенно, чем Белый, в чем прием – он же подсказывает и название: репетиция.
Наглядный пример набоковской репетиционной мотивной структуры – «Подвиг». Детство Мартына (насыщенное деталями из «совершеннейшего, счастливейшего детства» Набокова), его отрочество и юность прошиты сериями мотивов, не возвращающих – в переосмысливающем и нюансирующем движении – к своему исходному оригиналу, а «репетирующих» в своем повторении ключевой и заключающий мотив (вынесенный за пределы мотивной системы), основное событие фабулы, подвиг Мартына (вынесенный за скобки романа). Мотивная структура в набоковской конструкции сопровождает и поддерживает фабульную структуру. При этом мотивное время движется в сторону обратную фабульному времени: мотивы романа исходят из развязки и как бы движутся от нее – к началу, «репетируя» на всем протяжении романа намеченное в итоге «представление».
В «Других берегах» Набоков обнажает прием: две серии повторений являются сериями репетиций двух главных событий в жизни героя, изгнания с родины и потенциального возвращения. В автобиографическом произведении прием репетиции мотивирован работой памяти повествователя, оглядывающегося на прошлое. Многочисленные описания и перечисления вещей, людей и событий из детства рассказчика – репетиция предстоящей взрослой ностальгии изгнанника. В следующем перечислении подчеркнуто существование «рисунка» репетиции:
Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения <…> – все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе149.
Рисунок детства здесь еще может восприниматься как психологически мотивированный, как тоска изгнанника по прошлому и «совсем старой русской литературе». Заметно стремление Набокова – в союзе с прирученной Мнемозиной – придать своему прошлому эстетически осмысленный характер. Отсюда и уподобление фактов прошлого различного рода артефактам – орнаменту на ивернях глиняной посуды, волшебно-тканному персидскому ковру150.
В другом отрывке обратное повторение ретроспективностью не мотивируется; наоборот, природа репетиции намеренно обнажается:
На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами <…> в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот – и старательно, любовно, безнадежно <…> пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком <…> – и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты- психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!151
Сходным образом, как вербализация приема, репетируется и возвращение:
Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго – целый год – за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину – опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого, как будто, и требует музыкальное разрешение жизни152.
Здесь, как и в «Подвиге», «представление» как кульминация репетиций, то есть конституирующий момент мотивной цепочки, вынесено за скобки мотивной системы (и жизни автора). Заметим, Набоков подсказывает еще одно важное слово: представление. Репетиции – подготовка представления. И тут же он напоминает: представление, как бы тщательно оно ни готовилось, может не состояться.
Репетиции распятия Белого
Примеры репетиции у Набокова помогают выделить повествовательный механизм. Он аналогичен тому, как обратная перспектива мотивной структуры создается у Белого. Именно по принципу инверсивного повторения развивается в романах Белого один из самых важных для его жизнетворчества мотивов.
Согласно воспоминаниям, в существенной части воспроизводимым в романах о детстве, уже в возрасте пяти лет Боренька остро почувствовал в Иисусе Христе родственную душу:
<…> В страданиях Иисуса мне была брошена тема страданий безвинных; и я осознал в Иисусе тему моих безвинных страданий у нас в доме <…> я тотчас же заиграл в подражание Христу <…>.
До сих пор страдания мои были ножницами: две линии растаскивали меня; теперь мне был показан крест, то есть возможность как-то сомкнуть ножницы; воскресение через крест, вероятно, я воспринял символом воскресения моей маленькой жизни чрез нахождение какого-то смысла моих страданий; я стал забираться в темные уголки и там тихо плакать, жалея себя, маленького, несправедливо преследуемого матерью за «второго математика»; я здесь хожу и таю свои муки; «они» не понимают меня, как законники не понимали Иисуса; но я теперь имею смысл: даже, если распнут меня, я, маленький, воскресну; и для этого надо прощать им «грехи» <…> «преступник» во мне <…> оказывается, такой же преступник, как Иисус <…> и я, бывало, вздыхал:
– Боже, прости маму: не ведает, что творит153.
«Игра в подражание Христу», о которой автор тут рассказывает, началась у него в раннем детстве и продолжалась всю жизнь. В 1930 году, пятидесятилетний, он пишет Иванову-Разумнику: зачем мне надевать «терновый венец, уготованный не мне; и свой есть»154. Судя по такой разборчивости, видимо, у него было не просто общее чувство обреченности, но даже и довольно отчетливое представление о своем, не похожем на другие, распятии. В стихах – ощущение того же венца: «Иглы терний – Рвут лоб»155. О том, что идея эта была глубоко укоренена в самосознании Андрея Белого, свидетельствуют и его современники. Ходасевич рассказывает о любопытном эпизоде на прощальном эмигрантском ужине перед отъездом Белого в советскую Россию: «За этим ужином одна дама <…> неожиданно сказала: “Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком”. В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас “пойти на распятие”. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил»156. Цветаева пишет о своем восприятии Белого: «Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а от- рожденной: бедой своего рождения в мир»157. Она не говорит слов о его кресте, но «занят бедой своего рождения в мир» – возможно, точнее передает его мироощущение (и ее ощущение), что пребывать в этом мире было для него тяжким крестом, который он нес.
Присущее Белому представление о своем мученическом пути к распятию за грехи мира – по образу и подобию крестных мук Христа – порождает в его творчестве лейтмотив обреченности и страданий, предчувствия предначертанного и ему тоже христоподобного пути с неотвратимым финалом распятия.
Как у Набокова воплощению личной темы обреченности на изгнание и невозвращение, так у Белого воплощению личной темы обреченности на крестный путь – служит повествовательная стратегия мотивной репетиции.
Белому было свойственно видеть в себе страдальца, несущего в гору тяжкий крест грехов человеческих. В этом его мифе о себе причудливо отражаются и отношения с большим миром, и отношения с близкими ему людьми, и отношения с собой. Анализ его произведений с точки зрения серийности позволяет выделить автофикциональную «серию распятий» и проследить, как мотив распятия развивается (будем следовать хронологии создания произведений) от «Петербурга» через дилогию о Котике к Московской трилогии. Грани пути к распятию существенно меняются по мере вызревания в авторе образа его жизненного пути.
Автофикциональный мотив-инвариант серии (обреченность) воплощается инвариантом серийного мотивного повторения (обратным повторением). Версиями такой репетиционной конструкции являются романы Белого. Эти самосочинения строятся, разумеется, не одинаково.
Репетиции казни в «Петербурге»
Мотив отцеубийства является основным в «Петербурге». По мере прояснения смысла «ужасного обещания» Николая Аблеухова становятся все более очевидными репетиции приближающейся развязки. Одновременно это и мотив будущей казни отца, и духовной казни, как выясняется, самого Николая Аполлоновича, а, следовательно, и автобиографический мотив – казни автора. Отцу и сыну «иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь»158. Так слово казнь появляется в романе. Но здесь это только метафора, и то, что она не случайна, читателю пока не ясно. Символизм ее проступает не сразу.
В «Петербурге» кульминация готовится по мере развития повествования репетициями взрыва бомбы в конце романа. Репетиции казни в романе многочисленны. Это и возникающие в воображении сына, Николая Аполлоновича, болезненно-яркие образы убийства «молодым негодяем» немощного старика-отца, и его рефлексия по поводу отцеубийственного обещания, и повторяющиеся у него психические и даже «физиологические» ощущения его собственного разлетания на куски: «разлетался я, как бомб…» «На части!..»159, и взрыв Коленьки- бомбы в его сне («Николай Аполлонович понял, что он – только бомба; и лопнувши, хлопнул <…>»160), и возвращения его детских «кошмаров» – взрывающихся «бредов», и мысленные картины с бомбой, одушевляющейся и персонализирующейся в лопающемся Пепп Пепповиче Пеппе. Репетициями казни выступают в романе и выпрыги сознания отца, Аполлона Аполлоновича, из его бренного, обреченного партией, охранкой и сыном-негодяем на растерзание тела, и ощущения разрывания его больного сердца во время приступа, спровоцированного появлением красного домино на балу у Цукатовых, и звуковые галлюцинации сенатора в виде приближающихся к нему металлических, грозных ударов, раздробляюших все.
Взрыв фигурально уничтожает, разносит в клочки, прежние ипостаси и сенатора Аблеухова, и его сына. Явление Аполлона Аполлоновича сразу после взрыва дано в виде отдельных фрагментов метафизически растерзанного бомбой тела: «<…> отчетливо врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаз <…>»161. Кульминационный момент взрыва и символического распада личности сенатора подготовлен многочисленными лейтмотивами телесной и личностной фрагментарности, которые от начала до конца пронизывают роман образами автономных частей тела «гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта»: циркулирующими по проспектам Петербурга усами, носами, плечами, спинами, котелками, фуражками, калошами.
Явление Николая Аполлоновича сразу после взрыва выглядит так:
– «Ааа… ааа… ааа…»
Он упал перед дверью.
Руки он уронил на колени; голову бросил в руки <…>162.
Впечатление фрагментарности создается гротескной отдельностью и как будто вещностью и объектностью частей тела – рук, коленей, головы: «руки уронил», «уронил на колени», «голову бросил». И оно усиливается марионеточной раздерганностью судорожных, как бы предсмертных движений тела.
Взрыв бомбы и распадение личностей двух главных героев репетируется в романе, с одной стороны, сквозными мотивами «звякающей металлическим звуком», а позднее «тикающей» «сардинницы ужасного содержания» и мотивами «умственной бомбы», провокации, отцеубийства, предательства. С другой стороны, представление репетируется отчасти пародийными лейтмотивами страдающего бога: страданий Николая Аполлоновича из-за недостаточной метафизичности того, что называется «житейские мелочи», и «всяких невнятностей, называемых миром и жизнью»163, из-за своих отцеубийственных мыслей, бесплодных вожделений плоти, мыслительных «ахиней» – и лейтмотивами страданий Аполлона Аполлоновича, вызванных бегством жены, проделками «негодяя-сына», нестройным роением событий, несимметричностью и неперпендикулярностью дел в Империи, а больше всего – собственной «скверной».
Как бы то ни было, само представление срывается и оказывается квазиразвязкой. В эпилоге даны картины своеобразного воскрешения – душевного и духовного обновления Аполлона Аполлоновича и Николая Аполлоновича.
Тема распятия как такового в «Петербурге» лишь намечается. Однако уже в нем есть несколько сцен, непосредственно отсылающих к христианскому распятию. Когда сенатор, морально раздавленный скандальным поведением сына в облике красного домино, разбирает бумаги перед скоропостижным уходом в отставку, предстает ему видение. Видится сенатору, как в пылающем огне камина проступает вдруг фигура распятого на кресте сына:
<…> побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли <…> пламена, темно- васильковые угарные газы и гребни: в опрозраченном свете – там сроилась фигура <…>.
Что это?
– Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней, с искрою пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями – ладонями, которые проткнуты, —
– крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указует очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел – в раскаленную пещь… – 164
Это один из немногих эпизодов в «Петербурге», изображающих распятие протагониста на кресте и к тому же подающих страдания Николая Аполлоновича в серьезной и даже трагической перспективе. Но и этот эпизод не вполне свободен от насмешливо-снижающих коннотаций. В романном времяпространстве эта сцена происходит параллельно сцене начинающегося рукоприкладства (которое, правда, тоже срывается), чинимого обезумевшим подпоручиком, в конце которой сам Аблеухов-младший переживает момент богоподобия. Вот как выглядит символическое распятие Николая Аполлоновича в кабинетике Лихутина:
– «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам… Как могли вы поверить, чтобы я, чтобы я… мне приписывать согласие на ужасную подлость… Между тем как я – не подлец… <…>»
<…>
Из теневого угла, будто сроенная, выступала гордая, сутуло- изогнутая фигура, состоящая, как подпоручику показалось, из текучих все светлостей, – со страдальчески усмехнувшимся ртом, с василькового цвета глазами; белольняные, светом стоящие волосы образовали опрозраченный, будто нимбовый круг над блистающим и высочайшим челом; он стоял с разведенными кверху ладонями, негодующий, оскорбленный, прекрасный, весь приподнятый как-то на кровавом фоне обой <…>165.
Само по себе описание не содержит иронических обертонов и во многом дословно совпадает с описанием распятого Коленьки в видении сенатора. Пародийной мизансцену делают предшествующие ей и следующие за ней трусливые движения души и тела героя. Предшествующее «распятию» смехотворное поведение Николки, превратившегося в «комочек из тела», который от страха семенит на подогнутых ножках, создает весьма драматический контраст с позой богочеловека, принимающего смерть на кресте. Правда, в самый момент телесной «крестовидной раскинутости» своей он пытается и духовно подняться до христоподобия: «<…> Николай Аполлонович, освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и более: в ту минуту от даже хотел пострадать <…>»166. Но последующие ощущения «распинаемого» вновь пародийно сдвинуты по отношению к христианскому прототипу:
Из разрыва же «я» – ждал он – брызнет слепительный светоч и голос родимый <…> – изречет в нем самом: для него самого:
– «Ты страдал за меня: я стою над тобою».
Но голоса не было. Светоча тоже не было.
И чуть ниже:
Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: пострадал за себя… Так сказать, расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. Светоча тоже не было167.
В потуги уподобиться Христу диссонансом вкрадываются здесь ощущения разорванности, а в цепочку христианских символов – языческие символы ритуального расчленения. Вкупе с оторванной от Коленькиного сюртука фалдой они пародийно отсылают к растерзанию языческого бога: «<…> ощутил себя отданным на терзанье героем, страдающим всенародно, позорно; тело его в ощущениях было – телом истерзанным; чувства ж были разорваны, как разорвано самое “я” <…>». И далее: «<…> привезли насильно сюда, протащили – проволокли в кабинетик: насильно; и – оторвали здесь, в кабинетике, сюртучную фалду <…>»168.
Образы растерзания божества на части возникнут снова уже в финальной сцене, изображающей отца и сына после взрыва.
Образы христоподобия в этом романе крайне редки. Среди них образы крестовидной распластанности на стене. В сцене не состоявшегося избиения изображается «Николай Аполлонович, распластавшийся на стене»169. За триста с лишним страниц до этого Дудкин, описывая Николаю Аполлоновичу свои мучения и приступы болезни на чердаке, говорит: «<…> любимая моя поза во время бессонницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки <…>. Я так простаиваю, Николай Аполлонович, часами <…>»170. Своими навязчивыми идеями Белый поделился не только с сенаторским сыном и сенатором, но и с Дудкиным.
Вероятно, время написания «Петербурга» было временем вызревания мифа Белого о самом себе как страстотерпце, шествующем на Голгофу во искупление принятых на себя грехов мира.
Тема распятия, за исключением нескольких отнюдь не центральных эпизодов, строго говоря, в явном виде не присутствует в романе. В «Петербурге» тема, можно сказать, лишь прорастает и намечается. Однако выстраивающаяся в последующих текстах серия распятий протагониста ретроспективно отсылает к зачаточному ростку темы в «Петербурге» и регрессивно активирует в нем сеть связанных с нею значений. В «Петербурге» есть намеки – не самые прозрачные – на подготовку того, что больше похоже на растерзание языческих божков, чем на христианские мотивы распятия. Николай Аблеухов предстает внешне подобным богу, не полноценным богом – но все же. В сне героя и в пародии на софийный миф очевидна более серьезная перекличка с темой древних богов, хотя и там она пародийно снижается. В переживаниях героя заметен, хотя не слишком выражен, мотив страданий и даже обреченности – в общем виде, без христианской окраски.
Репетиции казни отца более определенно связаны с мотивом богоубийства. Аполлон Аполлонович ближе, чем его сын, к богам, что особенно наглядно проявляется в сне героя, где отец выступает в образе то Сатурна, то Хроноса, то бога вообще. Автобиографичность тут заключается не только в том, что Белый наделяет сенатора некоторыми внутренними свойствами своего отца – он его наделяет и некоторыми своими свойствами.
В целом в «Петербурге» обозначена, пусть и не слишком отчетливо, тема убийства богов, но эти боги ассоциируются, пожалуй, скорее с язычеством, чем христианством. Все это наводит на мысль, что когда писался «Петербург», тема христианского распятия еще не вполне сложилась у Белого. Правда, необходимы оговорки. Богоубийство больше относится к Аполлону Аполлоновичу, в котором трудно разглядеть Христа, и если это бог, то скорее языческий. Но вот Николай Аполлонович – предатель, что сближает его с библейским Иудой.
Финальное представление в «Петербурге» оборачивается пародией. Не вполне состоявшаяся развязка дана главным образом вне христианской символики и, как уже говорилось, скорее приближается к модели растерзания языческих богов171. Языческие значения тоже не даны впрямую, но намечены: они в мотиве принесения в жертву ведомых на заклание отца и сына, они брезжут в финальных образах телесной их фрагментированности, на них намекают языческие аллюзии сна сына, наконец, к ним достаточно прямо отсылает разговор Николая с Дудкиным о бомбе и ощущениях разрываемого на части тела:
– «А теперь я все понял: но ведь это – ужас, ведь ужас…»
– «Не ужас, а подлинное переживание Диониса: не словесное, не книжное, разумеется… Умирающего Диониса…»172
Репетиции символического распятия Котика
В «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» инициированная в «Петербурге» тема мученического пути героя к казни воспроизводится и уже становится одним из автобиографических инвариантов серии. Тема не просто повторяется, а воплощается в христианской символике и образности, обретает определенность крестного пути, чего не было в первом тексте автобиографической серии. Постоянно повторяются мытарства Котика в недрах семейства, мотивы вины без вины (виноват ли я, что…) и греха: «Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки»173. Эти ряды мотивов могут восприниматься как намеки на репетицию конца: героя – и текста.
Белый комбинирует в тексте серии повторений прошлого с сериями репетиций грядущего, заставляет сосуществовать два разнонаправленных потока времени (возвратный и поступательный) и оставляет при этом будущее открытым в бесконечность, так же как прошлое – открытым в его «обратную бесконечность». Рождение героя в «Котике Летаеве» столь же мало может считаться завязкой в обычном понимании, сколь его распятие может считаться развязкой.
Распятию «во Христе» и воскрешению «в Духе» придан статус вневременной «мозговой игры», в «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» не менее актуальной, чем в «Петербурге». Распятие героя репетируется в «Котике Летаеве» с первых страниц повествования – прохождением и восхождением Котика через страшные отдушины, трубы, коридоры, изнутри грозящие ребенку родительским тиранством бесконечные комнаты и извне угрожающие ему улицы, мир. Рост Котика разбивается на этапы развития своеобразным рефреном, периодически повторяющимся и обобщающим каждый из этапов: «Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир – лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это – рост; я – расту <…>»174. Последнее возникновение этого словесного, семантического и структурного рефрена в эпилоге представляет собой высказывание, которое уже не подразумевает, а прямо проговаривает смысл восхождения и называет его конечный пункт, который становится не только подразумеваемым конечным пунктом этого романа о детстве, но и повторяется всеми последующими романами автофикциональной серии как их кульминация:
Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир – лестница расширений моих; по ступеням ее я всхожу… к ожидающим, к будущим: людям, событиям, к крестным мукам моим; на вершине ее – ждет распятие <…>175.
Двумя фразами ниже тот же рефрен возникает и нарочито проговаривается заново, только на этот раз уже в несколько более пространном варианте:
Ожидают меня: мои новые миги; и – новые комнаты – комнаты, комнаты! – <…> происшествия нарастают деревней и временем года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история; изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней… будет крест <…>176.
По мере приближения к последним страницам многозначительно готовится представление распятия: «Котик – маленький гробик!»; «Нет, не нравится мир <…>»; «Очень страшно: что делать?»; «Мне очень страшно»177. И наконец, в последней главке, многообещающе названной «Распятие», сцена распятия назревает и почти материализуется: оплотневает, обрастает палачами, крестом, прочими атрибутами распятия, и визуализируется, – оставаясь при этом в будущем времени:
Между тем уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова, обижены ожиданьями; и когда они не исполнятся, то есть – когда косматая стая старцев, шепчась и одевая печально шершавые шубы, уйдет от меня, то – то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту178.
Однако на последних страницах, в следующем за «Распятием» эпилоге, оплотневшая было сцена распятия развеществляется. Конкретное слово Котика, изображающее распятие, сменяется абстрактным дискурсом взрослого Я, откладывающего свое распятие на неопределенное время: «Знаю я, – будет время: – (когда оно будет, не знаю) – буду разъятый в себе, с пригвожденным, разорванным телом, душою <…>. Это будет не здесь: не теперь»179. Представление распятия переносится и таким образом выносится за пределы повествования.
Жизнь Котика продолжается в «Крещеном китайце», где продолжается и тема убиваемого бога: распятие вновь репетируется на всем протяжении романа и в конце его представление вновь разыгрывается – и вновь срывается. За мнимо финальной сценой распятия, смерти, снятия с креста и воскрешения Котика в «Крещеном китайце» идет строка отточия и следует уже, казалось бы, избыточное продолжение: «В этих мыслях провел я весь день у Ерша: о мучениях, мне предстоящих назавтра, я думал <…>»180. Вслед за этим – новая симуляция завершения: «мозговые» картины финального сошествия Котика на «папочку, мамочку, бабушку, дядю и тетю» в облике «света» и «речи безглагольной»181. Противоречит сошествию указание на то, что свой конец Котик видит в мечтах и снах.
В этом втором романе о детстве уход Котика из мира сего дезавуируется как ложная развязка с помощью предваряющего этот уход посюстороннего пояснения («Или вот, представляется мне…») и заключающего его сообщения о наступлении очередного дня («И я просыпаюсь…»). Романное время тем самым размыкается и уходит в бесконечное завтра: «…К утру возложат атласы, китайские канфы; природа, как старый китаец, древнеет проростами <…>»182.
Временнáя открытость создается по-разному в начале и в финале. Первые сознательные моменты Котика открыты в прошлое как ноуменальную бесконечность, и последующая цепь повторений ведет свое происхождение не от рождения героя, а от предшествующих ему космогонических образов; в то же время квазифинальный мистический опыт распятия Котика, источник серии репетиций, разоблачается как ложный пункт назначения: представление откладывается, и финал размыкается в будущее.
В романах о Котике мотив распятия явственно обретает плоть. Все атрибуты крестного пути невинно страдающего за чужие грехи младенца и сама сцена распятия нарисованы отчетливо и красочно. Не хватает только одного – крови. Распятие Котика бескровно, да к тому же, в последний момент отменяется.
Символическое распятие Котика трудно назвать копией теракта против Аблеуховых. Но их объединяют коннотации мученичества, обреченности и, в несколько меньшей мере, богоубийства. А вот в использовании приема репетиции, как и в срыве представления, все три романа очень похожи. Во всех один почерк, как говорит Белый, один «стереотип».
Репетиции физического распятия профессора Коробкина
Здесь необходимо предварительное пояснение. Старший Коробкин – фигура отца, но я обсуждаю его в контексте самоизображений Белого. Оправдание в том, что по ходу дела фигура эта все больше и больше наделяется свойствами сына (подробно об этом см. гл. 2), и один из моментов эволюции образа в том, что Белый отдает профессору свой (а не отца) роковой путь страданий за чужие грехи. В этом старший Коробкин – ипостась младшего Бугаева.
Мотив крестного пути вновь возникает в «Москве», и вновь в особенной вариации. Вариативное повторение структурных блоков от текста к тексту – основной прием создания серийного самосочинения Белого. «Московский чудак» и «Москва под ударом» дают изощренный орнамент мотивных линий, стремящихся к представлению распятия героя. В них постоянным лейтмотивом раздается: все – под ударом, все наносит удар, удар – над Москвой!.. Оба текста насыщены вариациями больших и малых страданий профессора Коробкина – из-за жены-Ксантиппы, негодяя-сына, злобы коллег, происков шпиона Мандро. Они пронизаны мотивами явных и неявных опасностей, сгущающихся вокруг гениального математика, и репетициями его гибели.
В этом ряду выделяются три «генеральные репетиции». Во время первой профессору приходится пострадать за любовь к науке. Он записывает мелом формулы математического открытия на стенке чьей-то кареты, безоглядно бросается вдогонку карете, когда она уезжает, и – падает, бездыханный и едва не раздавленный случайной повозкой. Вторая важная репетиция – юбилейное чествование Коробкина, которое едва не кончается растерзанием юбиляра в руках почти рвущих его сакральное тело на части поклонников: «<…> окружили и <…> куда-то тащили; несение “Каппы-Коробкина” в сопровождении роя людей походило на бред бичевания более, чем на мистерию славы»183. «Бред бичевания» одновременно отсылает и к языческой традиции наказания бичеванием, и к бичеванию Христа перед распятием. В сцене безусловны христианские коннотации богоподобного существа, безвинно страдающего от земного зла. И наконец, третья, внешне пародийная, но внутренне трагическая генеральная репетиция распятия – эпизод с шапкой, надетой на себя рассеянным гением и оказавшейся – котом:
<…> кота вместо шапки надел!
Подбегающий с шапкой лакей, фон-Мандро и Лизаша, стоявшие с ртами раскрытыми, чтобы не лопнуть от хохота, остолбенели, когда, не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах, громко вскрикнул:
– Забавная-с штука-с: да, – да-с!184
Заключает эпизод знаменательная концовка «Московского чудака»: «Он надел на себя не кота, а – терновый венец»185. С одной стороны, сцена (регрессивно) является предварительным итогом репетиций – пока лишь символом, замещающим представление. С другой стороны, сцена прямо указывает на это представление – предстоящее распятие. Таким образом она придает смысловую и энергетическую подпитку серии репетиций, устремленной к финальному представлению.
Символично, что эпизод нашел свое повторение в жизни, по умыслу ли автора или иначе. Михаил Чехов рассказывает:
В романе «Москва» профессор Коробкин, рассеянный, надел на себя вместо шапки кота. Я прочел, и мне стало неловко, что Белый позволил себе такую неправду. Но однажды, уходя от меня поздно ночью, он в передней схватил вместо шапки кота и (беру из его же романа): «…цап её (мнимую шапку) на себя!
В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост…»
И дальше было точь-в-точь как в романе: стоявшие около душились от смеха, а он, «не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах громко вскрикнул:
– Забавная-с штука-с, да-с – да-с!»186
Представление собственно распятия дается близко к концу второго романа, «Москва под ударом». Это – серия пыток, которым Мандро подвергает Коробкина (чтобы завладеть его изобретением). В главке, следующей за кровавой казнью (более чем натуралистически изображенной), Коробкин именуется «разорванным», и ставится вопрос: «<…> до “этого” – жизнь чья-то длилась; а – после?» Ответом служит описание казненного: «<…> кровавое парево с глазом закрывшимся; кто-то, свернувши на сторону рожу, привязанный к креслу, висел, разодравши свой рот и оскалясь зубами, как в крике <…>»187. Это изображение висящего мученика – по образу и подобию Христа – финальное представление романа. Развязкой оно является в той же мере, что и финалы других текстов серийной автофикции Белого, то есть не окончательной: после кровавой сцены растерзания героя приходит благая весть, которая саботирует обещанный развитием текста катарсис. Прибежавшие на место казни возглашают: «Не умер, но – жив!»188
Затем по модели, знакомой уже по предшествующим текстам серии, следует символическое воскрешение – герой отправляется доживать в сумасшедший дом, но уже обретя богоподобную природу и эсхатологическое назначение:
<…> голова эта вовсе не нашей планетной189 системы <…>
вырвется из атмосферы земных тяготений —
– и солнечных, —
– чтобы поднять
громкий
крик, от которого <…> облетит колесо зодиака <…>
– страшный суд!
<…>
Но из камеры желтого дома <…> – «оно» станет молньей —
с востока на запад: вернется огнем поедающим <…>
стены тюрем – вселенных – падут!
И возникнет все новое190.
Описания воскресшего Коробкина отчасти имитируют стиль Библии:
Как будто бы всем говорило «оно»:
– Человекам все то – невозможно, а мне «оно» стало возможным.
– Я стал путем, выводящим за грани разбитых миров.
<…>
– Я знаю, – не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили.
– И ты – отречешься!
– И – ты!191
Инверсивным повторениям придана функция «маленьких смертей» героя, репетиций грядущей казни на кресте. И здесь воспроизводится мотив-инвариант крестного пути протагониста. Как и в предшествующих текстах, инверсивное повторение служит повествовательной стратегией Белого.
Здесь тоже можно говорить о серьезном отличии от «Петербурга» в воплощении мотива богоубийства. В Московских романах репетиционная структура выстроена с ориентацией на серьезное воплощение названного инварианта. Страсти жизни и смерти героя уподоблены крестному пути Христа.
Что касается сравнения с Котиком, то и в «Москве», и в романах о Котике очевидны мотивы именно христианского распятия. Но у Котика это скорее предчувствие будущего крестного пути и распятия, которое подается в явно символистских тонах – а в случае Коробкина настоящее кровавое представление.
Мотив распятия как кульминации жизни – важнейший автофикциональный мотив, структурно и семантически во многом определяющий собой развитие повествования в серии романов Белого. Разновидностью этого инварианта гибели бога можно считать мотив растерзания языческого божества. К этому последнему тяготеет образность «Петербурга». Образы «Котика Летаева» и «Крещеного китайца» апеллируют к христианской версии казни бога, а Московская трилогия сочетает в себе коннотации обоего рода при явном преобладании христианских.
Серия убиения богов, представленная хронологически, показывает развитие этой стороны авторского Я от до-христианской версии до вполне оформленного образа распятия. Сам мотив представляет определенную линию в самоописании Андрея Белого. Сравнение различных составляющих серии помогает увидеть меняющиеся черты, новые штрихи в той же самой линии автопортретов.
Мотив богоубийства в «Петербурге» неотделим от мотива отцеубийства, если не сказать, что это два аспекта единого мотива. Однако в серии рассматриваемых здесь произведений эти два аспекта разъединяются на уже вполне отдельные мотивы, и трансформация их в последующих произведениях происходит по совершенно разным траекториям.
Богоубийство обрастает хорошо узнаваемой христианской атрибутикой и преобразуется в архетипическое христоподобное распятие. При этом заметно усиливаются и детализируются картины страданий, несправедливости и даже пыток. Из не вполне разработанного и несколько туманного намека на мотив вырастает мотив высокодинамичный и ясно очерченный.
Отцеубийство, напротив, из мощнейшего мотива в «Петербурге» превращается в следующих романах в намеки на темные движения души протагониста, связанные в основном с Эдиповым треугольником и с осознанием ребенком себя «отцовским отродьем», движения сыновней души, возможно, несущие в себе потенциал отцеубийства. Собственно, вопрос о наличии мотива отцеубийства в последующих романах серии ставится именно его эмфатическим изображением в «Петербурге», прогрессивно задающим тему.
Знаменательна в этом смысле логика Ходасевича, доказывающего в статье «Аблеуховы–Летаевы–Коробкины», что все романы Белого (кроме «Серебряного голубя») являются вариациями одной темы – сыновних отцеубийственных импульсов. Отталкиваясь в своей интерпретации от ясной в «Петербурге» темы отцеубийства, Ходасевич в последующих романах Белого улавливает признаки отцеубийственного мотива уже в силу того, что он служит продолжением патрицидной темы «Петербурга», и читатель подготовлен к его восприятию как такового. Надо сказать, что собственное заявление Белого в предуведомлении к «Преступлению Николая Летаева» подкрепляет ход мысли Ходасевича. Белый пишет, что в этом романе им «изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым свершает первое преступление: грех первородный, наследственность проявляется в нем»192. Развивая это аутопояснение Белого с опорой на тему «Петербурга», Ходасевич справедливо заключает: «<…> само преступление, по замыслу автора, имеет, можно сказать, физиологическую основу», – и находит продолжение этой же линии в Московских романах, указывая на высвечиваемые в них предыдущими текстами отцеубийственные коннотации. В мелком Митенькином воровстве книг у отца, с которого начинаются злоключения Коробкина, Ходасевич усматривает «прообраз великого преступления, которое он носит в душе», – и резонно ставит диагноз: «Этот Митя Коробкин, такой же потенциальный отцеубийца, как Николай Аблеухов <…>»193. Ходасевич вычленил во всех автобиографических романах Белого мотив отцеубийства, потому что был одним из самых внимательных и глубоких читателей Белого. И этот мотив – с оглядкой на «Петербург» – в них присутствует. Но вот вопрос: нашел бы Ходасевич этот мотив отцеубийства в романах о Котике и Московских романах, если бы его не было в «Петербурге»?
Именно «Петербургу» обязан своим существованием серийный мотив отцеубийства. Не будь в серийной автофикции Белого романа «Петербург» – в других романах сквозной мотив сыновней амбивалентности выглядел бы как мотив, быть может, соперничества с отцом, неприязни к отцу, предательства сыном отца, но не мотив отцеубийства.
Выделенный выше мотив мученического пути к казни отражает продвижение «разгляда» серии в противоположном направлении, от поздних произведений к «Петербургу». Не уверена, что я разглядела бы намечающийся мотив богоубийства в «Петербурге», если бы мотив распятия не был так отчетливо выведен в других текстах. В этом заключается особый, уникальный эффект, который может создаваться только серийностью – в одном произведении он невозможен. Только серия, благодаря своей интертекстуальности, позволяет обнаружить скрытый мотив-намек – например, еще не совсем оформившийся или, наоборот, теряющий силу. Назовем это эффектом демаскировки мотива.
Архетип – «оригинал» повторений
Исследование повторения ставит вопрос о происхождении «оригинала» мотивной структуры, который, оставаясь единичным явлением, задает систему повторений, ее характер и функционирование. При репетиционной, обратной мотивной структуре, таким оригиналом служит обещанное представление – и возникает вопрос о происхождении представления. Если рассматривать его репетиции как объективированную память – память о том-что-будет – это должно быть не что иное как память культуры, хранящая в себе родовые комбинации всевозможных мотивов и все варианты развязок, число которых не бесконечно. Пифагор утверждал: «Все, что некогда произошло, через определенные периоды времени повторяется снова, а нового нет абсолютно ничего»194.
Эта идея близка Набокову, который видит заданность и повторяемость не только в большом и возвышенном, но также в малом и заурядном. В рассказе «Путеводитель по Берлину» его лирический герой сидит с приятелем в пивной и наблюдает, как мальчик, сын хозяина, в свою очередь наблюдает происходящее в пивной; мальчик не знает, что наблюдениям его предопределена роль в его будущем – известная взрослому наблюдателю:
<…> я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом <…>
– Не понимаю, что вы там увидели, – говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне.
И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?195
Знание рассказчика – общечеловеческое знание природы вещей: так устроены люди и воспоминания. Это же самое знает и взрослый читатель. «Будущее воспоминание» мальчика можно предвидеть на основании прошлого опыта писателя, читателя и других бывших детей. Рассказчик распознает в настоящем будущее воспоминание о прошлом. В камере воображения Набокова установлены зеркала, отражающие прошлое, которое нельзя изменить. Они дополняются зеркалами для отражения образов будущего, которое неизменно настолько, насколько неизменны законы бытия. В чем-то буквально неизменны: молодой, если не погибнет, станет старым. В чем-то условно неизменны как вечные культурные темы. В «Машеньке» герой обсуждает с собой шансы на обретение утерянного рая: «Я читал о “вечном возвращении”… А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?»196
Можно сказать, что и в тех произведениях Набокова, о которых шла речь ранее, природа финального представления культурна. Мотив возвращения героя на родину, общий для «Других берегов» и для «Подвига», архетипичен197. В «Подвиге» возвращение Мартына в terra incognita родины подразумевается, но не изображается; в «Других берегах» пространственное возвращение повествователя, будучи гипотетической кульминацией, ставится под сомнение и тоже не изображается. Тем не менее образ возвращения как таковой не является ни для автора, ни для читателя неизвестной величиной, он включен в общую память как одно из универсальных представлений культуры (вечное возвращение, возвращение блудного сына и т. д.)198.
В «Котике Летаеве» и в «Крещеном китайце» образ распятия, или умерщвления бога, проецируемый из конца повествования к началу, на цепочку его репетиций, так же архетипичен, как образы прошлого вселенной, задающие в начале поступательную последовательность повторений. Для нас важна общекультурная универсальность архетипа – не только как повторяющегося инвариантного образа, содержащего в себе коллективные представления о мире, но и как особого свойства функционирования сознания. Человеческому сознанию присущ процесс мышления путем приращения новой информации (в широком смысле слова) к уже накопленному багажу. Этот механизм важен и в создании серии текстов, и в ее восприятии. Для приращения нового смысла требуется «повторение пройденного» и допущение при этом некоторой – относительно незначительной – вариативности повторяемого. Такая вариативность достигается либо введением новых данных в систему, либо новой конфигурацией элементов.
Художественное использование мотива как единицы повторения и мотивной структуры как способа производства значения и развития повествования, в особенности серийного повествования, основывается именно на этом свойстве нашего сознания. На архетипичности сознания основывается и возможность существования инверсивной мотивной модели как репетиций предстоящей развязки. Финальное распятие Котика и в «Котике Летаеве», и в «Крещеном китайце» может задавать его «крестный путь» как свою репетицию на протяжении всего предшествующего повествования, потому что само по себе распятие – культурный архетип, и поэтому a priori присутствует в сумме вероятных в данном контексте развязок – в «разделе ответов» культурного сознания, куда читатель всегда может заглянуть, еще не дочитав до развязки199.
Другая причина этой возможности – та постепенность мотивного приращения и накопления смысла, благодаря которой от репетиции к репетиции читателю нужно сделать лишь микроскопический шаг осмысления нового нюанса.
Репетиции развязки можно воспринимать как постепенное воспроизведение и передачу того или иного культурного архетипа или можно воспринимать их как последовательные этапы познания той или иной идеи. В любом случае интратекстуальная цепочка репетиций «известного неизвестного» в романе и интертекстуальная цепочка таких репетиций в серии романов представляет собой стадии конкретного воплощения некоторой сущности: трансцендентной сущности, существующей независимо от своих прошлых, настоящих или будущих объективаций, но определяющей собой эти объективации.
Репетиции постижения идеи
Белый – не единственный писатель, использующий обратное повторение. Но другие авторы – Набоков, Пруст, Кьеркегор – применяют этот прием иначе.
Кьеркегор: Я есть краткое повторение Мы
Кьеркегор считал, что «повторение и вспоминание – одно и то же движение, только в противоположных направлениях: вспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять, то, что было <…> – подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет»200. Думается, что, говоря о подлинном повторении – воспоминании того, что будет – Кьеркегор формулирует суть того движения, которое обозначается нами здесь как «репетиция» и рассматривается как литературный прием. Кьеркегор представляет в «Повторении» и образец такого движения – в поведении меланхолического юноши. Юноша влюблен и пользуется взаимностью любимой девушки, но уже в своем безмятежном настоящем пускается в «воспоминания о будущем» и совершает в своем воображении скачок к развязке:
Ясно было, что мой юный друг влюбился искренно и глубоко, и все-таки он готов был сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. В сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными отношениями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой огромный скачок, что обгоняет жизнь. Умри девушка завтра, это уже не внесет в его жизнь никакой существенной перемены – он снова бросится в кресло, глаза его наполнятся слезами, и он вновь будет повторять слова поэта. Какая странная диалектика! Он тоскует по возлюбленной, он должен силой заставить себя оторваться от нее, чтобы не торчать подле целый день, и все же он с первой же минуты превратился по отношению к молодой девушке в старика, живущего воспоминанием201.
Ниже рассказчик высказывает свое суждение: «Его заблуждение было роковым, и заключалось оно в том, что он очутился у конца, когда ему следовало бы находиться еще у начала <…>»202.
Подобно тому, как сам юноша является ходячей схемой, философской конструкцией повествователя, его состояние представляет собой сжатую модель репетиции. Сознание юноши гипотетически пробегает все стадии будущих отношений с возлюбленной и, не задерживаясь на них, переносится сразу в конец. Мысленно проследив этапы разворачивания знаков с накапливаемым в них значением и таким образом наскоро «просмотрев» репетиции постижения сущности, молодой человек непосредственно переходит к тому, что ему представляется итоговой сущностью.
О юноше говорится, что «весь его роман прошел под знаком идеализации <…> у него не было фактов. Разве что факты сознания»203. Благодаря чему же в таком случае его «воспоминание о будущем» оказывается возможным? Благодаря «фактам сознания» – существующим архетипам и доступным образованному человеку их литературным воплощениям.
Своеобразная «поэма конца», нарисованная воображением юноши для своего будущего, создается под аккомпанемент декламируемого им стихотворения:
Шагая по комнате, он без конца повторял стихи Поуля Мёллера:
- «И склонилась мечта надо мною,
- Грезы юной весны моей…
- Солнце женщин! С какою тоскою
- Вспоминаю ласки твоих лучей!..»
Глаза его наполнились слезами, он бросился в кресло и повторял, повторял эту строфу без конца204.
Архетипическая природа человеческого постижения сущностей подчеркивается литературным происхождением той развязки, которую молодой человек представляет себе в своих воспоминаниях того, что будет. То, что юный персонаж Кьеркегора, «вспоминая будущее», по складу своей меланхолической натуры выбирает печальное окончание для своей любви («<…>он мог придать своей любви какое угодно выражение, – но оно всегда диктовалось настроением»205), для схематической модели репетиции, которую находим у Кьеркегора, несущественно. Существенно то, что выбирает он свое будущее из конечного числа литературных развязок.
Кьеркегор показывает суть обратного повторения с максимальной прямотой и наглядностью (хотя, разумеется, не называет его по имени).
Идеально завершенная модель Пруста
Сравнение с репетицией у Пруста особенно наглядно подчеркивает специфику беловской модели. Пруст был современником Белого, более того, первый том его основного произведения впервые увидел свет в том же 1913 году, в котором впервые было издано и основное произведение Белого – это исключает возможность заимствования приемов одного автора другим. Поэтому сравнение беловской и прустовской моделей обратного повторения может быть только типологическим. Поразителен, кстати, сам по себе факт появления в одно время двух независимых друг от друга воплощений принципиально той же повествовательной модели. Пруст тоже был модернистом, тоже был незаурядным новатором и тоже пользовался репетиционным вариантом повторения. Только в его модели отдается несколько большая дань премодернистским литературным традициям, в частности, финальное представление, которое репетируется по ходу развития сюжета, у Пруста выглядит прямой противоположностью квазиразвязки у Белого и таким образом контрастно оттеняет самобытность беловской модели.
«В поисках утраченного времени» Пруста – гигантская модель и идеальное по своей законченности воплощение принципа репетиции, разрешающейся представлением. Память и повествование в романе Пруста – предмет исследования Делеза в его книге «Марсель Пруст и знаки». По поводу памяти, процессы которой, как может казаться, определяют законы повествования у Пруста, Делез говорит: «Произведение Пруста обращено не в прошлое, к открытиям памяти, но – в будущее, к достижениям обучения»206.
«Обучение» в терминологии Делеза – постижение метафизических «сущностей» («истин» или «идей») по мере последовательного прохождения и повторения в книге Пруста различных знаков (предметов, местностей, мыслей, людей, ситуаций). Процитировав размышления Марселя («Прежде всего мне было необходимо найти смысл мельчайших знаков, что меня окружали – Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Бальбек и пр.»), Делез пишет: «Искать истину – значит расшифровывать, истолковывать, объяснять. Но подобное “объяснение” совпадает с разворачиванием знака в нем самом»207. Такое «разворачивание знака в нем самом», поэтапно восходящее к выражению сущности, и есть репетиция. Витки этого разворачивания, спиральное развитие мотива – не воспроизведение начального «оригинала», а именно репетиция, подготовка предстоящего.
Делез анализирует повторения Пруста как способ постижения идеальных сущностей. Он пишет: «Знаменательно, что герой, не зная некоторых вещей в начале, постепенно им учится, и в конце концов получает высшее откровение»208. Если у Кьеркегора мы находим полную, но сжатую модель обучения, как бы аббревиатуру репетиций представления сущности, то у Пруста репетиции искомых ответов, развертывающиеся как мотивные цепочки, составляют основное содержание романа. Интересно, что и Кьеркегор, и Делез, анализируя природу повторения, обращаются к любви как наглядному пособию. Любовные увлечения героев Пруста, по мнению Делеза, представляют собой одну из основных серий повторения: по мере развертывания этой серии в развитии увлечений и в их смене происходит постепенное воплощение сущностей. Делез следующим образом интерпретирует любовные интриги в книге Пруста: «<…> Любовь длится только как подготовка своего исчезновения, как подражание разрыву». И продолжает:
Справедливо утверждение, что мы повторяем наши прошедшие увлеченья, но также справедливо и то, что переживаемая сегодня любовь во всей пылкости «повторяет» и моменты разрыва или предвосхищает свой собственный конец. В этом смысл того, что принято называть сценой ревности. Поворачивая вспять будущее, она, по сути – репетиция исхода. Это можно отыскать в любви Свана к Одетте, в любви к Жильберте, к Альбертине209.
О романе Пруста можно сказать, что орнамент одной любви накладывается на орнамент предыдущей любви, но накладывается не в точности, а с некоторыми изменениями: каждая последующая любовь приближает осознание героем сущности любви, как каждая последующая репетиция приближается к идеальной сущности представления. Юному персонажу Кьеркегора не понадобилось пережить последовательность репетиций, ему было достаточно метафизического прыжка, чтобы оказаться с сущностью tête-à-tête. Герою Пруста понадобилась целая жизнь для постижения сущности: как будто схема, кратко представленная Кьеркегором, подробно развернута Прустом в его главном произведении.
Повторения-репетиции сближают модель Пруста с моделью Белого. Однако спектакли у них репетируются разные. У Пруста серии любовных увлечений готовят постижение героем сущности любви, и серии увлечений произведениями искусства готовят постижение сущности искусства. У Белого – серии страданий и «маленьких смертей» героя, репетирующих его распятие. Несмотря на эти содержательные различия, в обеих системах одинаково происхождение мотивных цепочек – от оригинала, помещенного в конце текстуальной системы, и одинаков механизм продвижения мотивов-репетиций – не от истока в начале, а к пункту назначения, к представлению, в конце. Перед нами два серийных самосочинения и два случая параллельного использования одной повествовательной стратегии – обратного повторения. И в случае Пруста, и в случае Белого инверсивное движение мотивов через текст и, в конечном счете, через серию текстов представляет собой вариативное повторение смысловых матриц, приближающее этими небольшими смысловыми сдвигами реализацию конечного смысла.
Рассуждения Делеза по поводу любовной серии у Пруста могут быть отнесены не только к другим прустовским сериям повторений, но до какой-то степени и к мотивной серии вообще – в том случае, когда таковая развивается по принципу репетиции. В наиболее общей форме идея Делеза выражается так:
<…> любовное повторение неотделимо от закона поступательного движения, благодаря которому мы приближаемся к осознанию идеи <…> Мы начинаем догадываться, что, по-видимому, наши страдания не зависят от предмета любви. Они <…> – ловушки или кокетство Идеи, веселье Сущности <…> Из частных огорчений мы извлекаем общую Идею, именно она – первична: она уже была, и как закон серии проявлялась также и в ее первых элементах <…> Таким образом, конец уже присутствует в начале <…>.
И далее:
Только разум способен раскрыть общность и отыскать в ней радость. Он открывает в конце то, что неизменно присутствовало с самого начала. Пусть любимые существа не являются самостоятельными причинами. Они, в любом случае, – составные, сменяющие друг друга, элементы единой серии, живые картины некоего внутреннего спектакля, в них отражается сущность210.
Впрочем, еще в процессе обучения, на пути к истине утраченного времени, осмысливая свой опыт и опыт Свана, герой Пруста в какие-то моменты озарений приближается к осознанию сущности. Такие моменты, назовем их, по аналогии с беловскими генеральными репетициями распятия, генеральными репетициями откровения, обычно связаны у Пруста с тем или иным произведением искусства. Как музыкальная фраза Вентейля всякий раз позволяет Свану ощутить присутствие невидимых реальностей, так жесты актрисы Берма́ позволяют Марселю осознать существование умопостигаемых сущностей.
Почему именно бессознательному в искусстве уделяется столько места и почему оно нагружено таким значением? Пользуясь категориями Пруста и Делеза, приложимыми и к поэтике Белого, можно было бы сказать: потому что умопостигаемые сущности в наибольшей мере доступны нам на уровне бессознательного. Или, в неметафизических терминах, потому что наиболее древние и универсальные формы сознания лучше передаются через образное посредство архетипов: архетипическое в искусстве обращается к архетипическому в человеке, а значит, находит кратчайший путь к его сознанию.
Речь идет о механизме мотивного повторения внутри текста и от текста к тексту как непрямом способе передачи информации. Большее или меньшее разнообразие интерпретаций и, соответственно, большая или меньшая свобода читателя, зависят от способа кодирования автором текста и от дешифровальных навыков читателя. Делез формулирует вопрос: «Как именно сущность воплощается в произведении искусства?» И отвечает:
Истинная тема произведения – не используемый сюжет, сюжет осознаваемый и преднамеренный, который смешивается с тем, что описывают слова, но темы неосознанные, непроизвольные – архетипы, где слово, так же как цвет и звук, вбирает смысл и жизнь. Искусство есть настоящая трансмутация материи. Вещество здесь одушевлено, а физическая среда дематериализована для того, чтобы преломить сущность, то есть свойство первичного мира. Такое обращение материи происходит лишь посредством «стиля»211