Читать онлайн Путешествие по жизни в науке из века ХХ в век XXI бесплатно
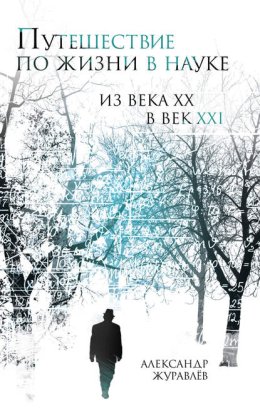
© Журавлёв А.И., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Вступление от автора
Итак, мне 80 лет. Самое время поразмыслить, как это я дожил до такого возраста в наше время, в 2010 году, когда средняя продолжительность жизни мужиков в России составляет 57–59 лет. Задержался я, значит, ровно на 20 лет.
Размышления по этому поводу приводят к двум выводам. Первое: это, конечно, благодарность родителям. Они не пили, не курили и подарили очень хорошую, здоровую наследственность, особенно мама Антонина Ивановна, сельская жительница, до 20 лет жившая с родителями в селе Растригино Владимирской области Вязниковского района. На мне подтверждается и общее правило, что наиболее здоровыми являются второй и третий дети. Я был вторым. Можно посоветовать юным созданиям, которым придется заводить детей, поступать так же. До рождения детей не курить, не пить, чтобы не подарить им инвалидность уже при рождении, и иметь не менее двух детей, из которых один наверняка будет здоровым и перспективным.
Вторая причина – конечно, я сам, как личность, никогда не курил и не пил, хотя хорошо выпивал по праздникам и торжественным дням. И сейчас очень люблю выпить по торжественному поводу хорошего вина и даже чуток водки. И ещё я оказался весьма солидным тугодумом. Всякие там внешние, особенно стрессовые, раздражения доходили до меня с большим опозданием. Потому они, во-первых, уже не оказывали поражающего действия, ибо обстоятельства успевали измениться, прежде чем я на них реагировал; во-вторых, это спасало меня от резких немедленных эмоциональных, как правило, неправильных и ошибочных действий, которые, конечно, должны были ускорять мое старение и подрывать здоровье. А называется это – устойчивая нервная система. Она у меня была действительно устойчивой. Так вот я и устоивался с самого детства вместе со страной Советов. Сейчас моя нервная система уже не столь устойчива.
Глава 1
Детство. Становление мышления и изучение географии страны
Первые воспоминания
Безграничность Вселенной я почувствовал, когда мне было 4 года, в 1934 году. Страна бурно развивалась, и одной из крупных новостроек было создание в степи широкой Карагандинского угольного бассейна. Отец, как партийный работник, был направлен на эту стройку с жительством в бараках среди степи. Мама отправилась рожать брата, и я на некоторое время остался без присмотра. Естественно, утром я пошел и ушел, очевидно, довольно далеко. Оглядываясь, на фоне яркого солнца я видел наш низкий длинный барак – первостройку Караганды, в которой жили учителя и партийные работники. Это весьма низкое со стороны строение для меня терялось между высокими кочками и пучками травы в бесконечной степи, тем более, очевидно, трудно было разглядеть меня среди этих кочек. В другую сторону шла бесконечная степь, в которую я и удалялся. Мое продвижение в бесконечность внезапно остановилось. На одной из кочек сидело какое-то животное. Теперь я понимаю, что это был варан – очень солидных размеров. Говорят, что большие вараны нападают даже на овец. В сумме я был несколько меньше овцы, но и варан был, очевидно, не предельной величины.
Наше противостояние нарушил папа, который, обнаружив меня, с громким криком бежал ко мне от барака.
Днем на тарантасе приехала мама и передала папе сверток, в котором был завернут мой новорожденный брат Лев. Именно по дате его рождения я так точно и хронометрирую эти события.
Шок от понятия: что такое замкнутая кривая
Было мне, наверное, лет 5, и мы некоторое время жили в помещении школы, в Вязниках во Владимирской области, около железной дороги, где мама работала учительницей. Папа служил в военных лагерях – в Гороховце, здание школы для меня тогда казалось очень большим. Там же жили родители ещё одного мальчика, которому было, очевидно, года 4, он был явно меньше меня.
И вот однажды, выйдя погулять, я встретил его с чудом тогдашней техники. Он держал в руках деревянную палочку-ручку, на конце которой по земле на двух колесиках катилась красивая бабочка, катилась и махала крыльями. Я не мог оторваться от этого зрелища – шёл за счастливым обладателем и просил: «Дай покатать!»
Наконец он сжалился и дал, однако сам шёл рядом с намерением скоро отобрать у меня это чудо. И тогда я побежал. Я увидел, что бегаю гораздо быстрее, чем он. У меня мелькнула мысль – побегу, и он меня никогда не догонит. Быстро оторвавшись от преследователя, я завернул за угол и побежал вокруг школы. Я был в экстазе – он никогда меня не догонит, и я все время буду обладать этой техникой и красотой.
И вдруг! Вдруг, огибая очередной угол, я нос к носу встретился с хозяином. Вместо того чтобы бежать, он шел мне навстречу. Кривая замкнулась, и от неожиданности я сразу отдал игрушку хозяину. Но меня больше всего потрясла не потеря игрушки, а открытие понятия замкнутой кривой – по которой можно, двигаясь в разных направлениях, прийти в одну и ту же точку.
Коммерция – дело тонкое
Из Караганды папу перевели на ещё более грандиозную стройку – Горьковский автомобильный завод. Тут в 1935 году мы жили уже в весьма благоустроенном 4-этажном доме строителей завода. И однажды родители поручили – доверили мне сходить в булочную и купить хлеб.
Всё было организовано идеально. Мне дали ровно столько денег, сколько стоил хлеб, который я должен был купить без сдачи. Булочная была рядом, даже через дорогу переходить не надо, и из окна мой маршрут хорошо прослеживался.
Однако, выйдя из дома, я свернул не туда. Меня привлек мороженщик, который ловко набивал мороженым формочку и накрывал мороженое вафлей. Естественно, я двинулся к нему и протянул ему деньги. «Тебе на сколько мороженого?» – «На все!» – твердо ответил я. Сумма была больше самой большой порции, и это вызвало у мороженщика явное подозрение.
Все-таки он сформовал мне мороженое и сдал сдачу. Наслаждаясь мороженым, я забыл о хлебе и, съев одну порцию, попросил вторую. Мороженщик на этот раз вместо мороженого втянул меня в дискуссию – Кто я? Откуда?
Родители, потеряв меня из поля зрения, вышли на поиски.
Вторую порцию мороженого я так и не получил из-за ложного опасения родителей, что я могу простудиться.
Мореплавание – дело опасное
В Горьком водили меня в детский сад. Утром отведут, мама или папа, а после обеда придут и возьмут.
Однажды мама задержалась в школе, меня одели, я оказался некоторое время без присмотра и, естественно, сам пошел домой.
Тут оказалось, что я пошел не совсем тем путем, и вышел на берег пруда или озера. По озеру мальчишки заканчивали плавание на плоту, пристали к берегу и ушли. Естественно, я зашел на плот, лег на него и стал разглядывать жизнь в воде.
Интересно. Больше всего меня впечатлил большой жук-плавунец, который очень быстро сновал в воде в разные стороны и все время кого-то хватал. Тем временем ветерок отнес плот на середину озера. Я продолжал исследовать жизнь в воде, разглядывая её сверху и не подозревая, какая мне, не умеющему плавать, грозит опасность, если я соскользну и шлепнусь в воду.
Но это здраво оценила мама. Не найдя меня ни в саду, ни на пути домой, она провела более широкий поиск и, обнаружив меня на плоту посреди озера, подняла страшный крик. Он заключался в рекомендации мне сидеть и не двигаться, пока она не подплывет. К счастью, плыть ей не пришлось. Вездесущие мальчишки, несколько более взрослые, чем я, быстро прибуксировали плот к берегу. Мама, как я понимаю, от счастья, что встретила меня ещё не утопленником, бурно разрыдалась, а папа дома, очевидно в воспитательных целях, стукнул меня по затылку.
Как я на папу обиделся
Продолжая путешествие по стране, в 1936 году я оказался в Вятке, которую незадолго до этого переименовали в г. Киров. Отца направили туда в Военные Вятские лагеря во время военных сборов как партработника, комиссаром. Военный лагерь располагался в живописном месте, на крутом берегу реки Вятки, на опушке леса. Границей лагеря был большой овраг между лагерем и лесом, поросший черемухой; вдоль него стоял ряд домиков для командного состава. Один домик – для двух холостых или одного семейного командира.
Утром меня кормили из армейской кухни и потом оставляли одного до обеда, а после обеда я опять гулял на природе до вечера.
Всё бы было хорошо, рядом были будка и дежурный на выезде в лагерь, который и просматривал весь ряд домиков. Именно тогда, гуляя, я обнаружил, что очень люблю солнечное тепло.
Но тут… отцвела черемуха, и на ней появились зеленые, ещё незрелые ягоды. Кто не знает, что это такое, сейчас узнает, как это узнал я. Утром я с удовольствием накушался этих зеленых ягод и… Через час меня понесло, да так… фонтаном… Я побежал в домик и там… Фонтан продолжал извергаться на кровать, на пол…
Придя на обед, папа сначала сам попытался справиться с этим стихийным бедствием, но скоро понял, что это ему не по силам. Он быстро отправил в город за мамой гонца – вестового на тачанке, а сам побежал за помощью в армейскую прачечную и привел оттуда на помощь женщину. Увидев такую картину – по комнате нельзя было пройти, она ахнула, дала папе 2 ведра в руки и сама принялась методично убирать, полоскать, промывать. Она чем-то меня поила и, в общем, совершенно правильно не оставляла меня без внимания, и спала со мной в одной кровати до следующего утра. На следующее утро она сдала меня приехавшей маме.
Всё вроде бы закончилось благополучно, но тут мама поинтересовалась у меня: «А с кем спала тётя?» Мне стало страшно стыдно – как это я спал с чужой тётей. Я поглядел на папу, ища поддержки, но поддержки не получил и твердо заявил:
«Тетя спала с папой!»
Папа возмутился: «Ты чего врешь, а ну, скажи правду!» Я твердо повторил:
«Тетя спала с папой!»
Папа стукнул меня по затылку, но сказать уже ничего не успел.
Мама, которая обожала папу и всегда его слушалась, вдруг бросилась на папу и с криком «Не тронь ребенка!» так толкнула папу, что тот отлетел на другую сторону комнаты и сел на кровать.
Все его попытки подойти ко мне для разговора блокировались мамой под лозунгом «Не тронь ребенка!»
Я твердо стоял на своем. Мама быстро собрала мои вещи, связала их в узелок, взяла в одну руку узелок, в другую меня, и мы быстро пошли из лагеря. «Да погоди ты! Я сейчас пришлю лошадь». Мама не слушала. В глазах у меня и сейчас стоит картина: растерянный папа около часового у проходной, и мы с мамой быстро уходим по дороге через лес.
Долго ещё я был обижен на папу за то, что он не поддержал меня. Ну что ему стоило сказать, что это он спал с тетей?!
Все папы, как правило, хотят иметь сыновей и, забыв своё детство, якобы не подозревают, чем это дело может для них обернуться.
Я и позже не раз ещё доставлял папе весьма крупные неприятности.
Избыток собственности – дело бессмысленное
От проживания в Вятке-Кирове осталось несколько ярких воспоминаний. Город развивался вместе со всей страной. В 1936 г. в нем был большой всегородской праздник – асфальтировали первую улицу. Все ходили, топали и щупали асфальт.
В городе был запущен большой деревообрабатывающий завод – КУТШО. Он выпускал массу деревянных школьных пеналов и круглых каких-то коробочек. Через забор от нашего дома находилась свалка брака этих деревянных изделий. Ну, это был сущий рай! В горе опилок и стружек можно было найти очень приличные, с нашей точки зрения, вещи. И мальчишки рылись, возились там часами.
Очевидно, под влиянием этих деревянных изделий я начал перочинным ножичком вырезать фигурки танков, пушек, кораблей. Привлек к этому делу друзей, и затем, вначале, мы дружно играли в войну.
Летом 1938, 1939 годов мальчишки собирали толстую кору сосны и, используя её мягкость, вырезали пушки, танки, корабли и самолеты. Устраивались сражения. Побеждал, конечно, тот, у кого было больше этих танков и пушек. Я оказался самым искусным и упорным резчиком. Мне просто нравилось это созидательное занятие, очень развивающее различные функции рук.
Через некоторое время у меня этой военной техники стало больше, чем у всех остальных «воевод» вместе взятых. Игра зашла в тупик, т. к. стала бессмысленной. Победитель был известен ещё до начала сражения. И тут произошла «революция с экспроприацией» собственности и уравниловкой. Трое или четверо моих противников вдруг единогласно пришли к мнению, что война интересна, если у всех врагов РАВНЫЕ армии. Но у меня одного было нарезано фигурок больше, чем у них всех вместе взятых. Они тут же дружно заграбастали весь мой арсенал и всё честно разделили между всеми.
То есть произошла революция с экспроприацией собственности. Я долго потом рассуждал на тему, что не имеет смысла иметь чего-то очень много, чего нет или мало у других. Во-первых, это неинтересно, а во-вторых, придется делиться, т. е. отдать большую часть того, что имеешь, этим неимущим.
Самое обидное, что среди этих «бедных» половина была просто бездельниками, которые ничего не хотели делать, – люмпены. Но они всегда очень хотели иметь то, что сделали другие, т. е. я.
Вот это нежелание отдавать свои произведения этим лентяям и привело к тому, что я прекратил производство.
Тем временем страна продолжала строить. Отца назначили заместителем директора строящейся, впоследствии знаменитой Вятской фабрики музыкальных народных инструментов: балалаек, гитар, гармоней…
Строящаяся фабрика находилась в то время где-то за городом, на природе и была наполнена запахом свежеструганных досок, стружек и опилок. А рядом, у речки, стоял очаровательный шалаш рыбаков и мастеров по плетению корзин.
Через дорогу от нашего дома находились каток и школа. Первые шаги по льду на коньках… Кто не знает, насколько это запоминающееся явление – шишки на коленках и нос в снегу.
Наступил 1937 год, и я отправился в школу в 1-й класс. Первая учительница – Мария Тимофеевна, ну, кто же не помнит свою первую учительницу!
Элитная Москва с 1937-го и некоторые особенности женщин
Гигантское строительство различных производственных предприятий-заводов, фабрик, шахт, электростанций требовало жесткой централизованной координации, и И.В. Сталин создал ГОСПЛАН.
Во главе ГОСПЛАНа был назначен гений экономики созидания Николай Вознесенский. В заместители себе он взял А. Косыгина. И тут выяснилось, что Н. Вознесенский учился и окончил Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова в одной группе вместе с моим отцом Журавлевым Иваном Ильичом.
Н. Вознесенский пригласил отца работать вместе с ним в ГОСПЛАНе в роли помощника. Помощников у Вознесенского было два – Журавлев и Колотое.
Итак, в 1937 г. мы переехали в Москву. Москва, 1937 год – я в первом классе. Мама работает учительницей и уходит утром на работу в школу. Я тоже – в школу. А с братом Левой – 4 года, и сестрой Розой – 1–2 года – остается няня. До войны был порядок, и во всех семьях были домработницы – девушки из деревни. Они дружно бежали в город. Хорошо запомнил одну. Ей было, очевидно, 15–16 лет. Она вначале часто плакала. Причина – классическая для женщин. Большинство из них почему-то не удовлетворены тем, как выглядят, что имеют, и делают из этого ДРАМЫ. Некоторые решаются и на трагедии в стремлении к совершенству. Сейчас – в 2005–2010 гг. в печати то и дело публикуют, что то или иное юное создание то вдруг перестает есть, чтобы изменить фигуру, и доводит себя до гибели, то какую-то пластическую операцию проводят, вроде как бывший президент Украины Ющенко, после чего становится кто рябой, а кто кривой.
Очевидно, это неистребимое свойство юных особей женского пола известно с времен Клеопатры, которая регулярно полоскала свое лицо простоквашей.
Так вот и наша юная домработница ревела по поводу того, что парни над ней смеются: «Лапать не за что – грудей-то нет!» Естественно, и мама, и все ей сочувствовали и советовали. Один из советов я помню хорошо: «Кушай ржаные корочки – очень помогают».
Вначале, очевидно, помогли. Но через 1,5–2 года она снова начала реветь. Причина: «Парни смеются над моими титьками – лапать неудобно!» Действительно, груди у неё выросли почти до пояса. Не выдержав критики мужской части общества, она вскоре ушла.
А страна продолжала бурно строить. Форд помог наладить выпуск сначала средних автомобилей М-1 – Эмки, а затем и шикарные ЗИМ (ЗИС).
Отец, как высокопоставленный сотрудник ГОСПЛАНа, отдыхал под Москвой в санатории Марфино. Тогда это было достаточно далеко по Казанской дороге. Ездил он в компании других сотрудников, естественно, на ЗИМе. Брал и меня с мамой. Всего в ЗИМ набивалось человек 6–7. Как только выезжали на дорогу, все дружно начинали кричать: «Давай!» «А может она дать 100 км в час?» Водитель старался и, когда достигал скорости, торжественно сообщал: «Едем со скоростью 100 км в час!» Наступало всеобщее ликование, а затем и удовлетворение. Итак, уже в 1938 году я ездил со скоростью 100 км в час. Но меня тогда это почему-то не волновало. Я, скорее, удивлялся, чего это все так довольны.
Я продолжал устраивать неприятности своему папе.
Папа от ГОСПЛАНа имел возможность отдыхать на лучших курортах страны: в Ялте, Сочи, Сухуми. Маму он оставлял дома сторожить нас троих: меня, брата Леву и сестру Розу, которая родилась в г. Кирове в 1937 г.
Однажды он вернулся с юга, как всегда, с большим чемоданом, в котором он, как правило, привозил всякие фрукты: виноград, гранаты, груши… С дороги папа пошёл мыться, сказав, что сейчас, как только он помоется, мы сядем пить чай с фруктами.
Тут я зачем-то сел на этот чемодан и, обнаружив, что он упругий, несколько раз на нём подпрыгнул.
При вскрытии было обнаружено, что две крупные стеклянные фляги с чудесным красным вином я раздавил, и всё содержимое чемодана превратилось в компот из вина, фруктов и белья с осколками стекла.
Бывало и хуже. Так, к новому 1939 году, к елке, папа купил последнее достижение тогдашней электротехники: гирлянду цветных электрических лампочек, и понижающий трансформатор, через который эта гирлянда должна включаться в сеть.
Оставшись как-то один, я включил эту гирлянду без трансформатора. Лампочки зажглись, «фыркнули» и погасли. Естественно, папе я ничего не сказал, но с тех пор всю жизнь не в ладах с электричеством.
Для открытия елки он торжественно пригласил всех друзей, воткнул вилку в розетку и…
Летом мы уезжали на дачу в Кратово в дачный поселок ГОСПЛАНа приблизительно в двух километрах от станции. До войны этот дачный поселок, а рядом с ним и пионерский лагерь, ещё находились в лесу.
В школе с 1937 по 1941 г. я обнаружил у себя высокие математические способности. Я легко, раньше всех, решал все контрольные задачи. Мальчишки в классе старались сесть рядом, спереди или сзади, чтобы списывать решение. К сожалению, я помню только одного, весьма шустрого – Витю Барабашкина. В этой школе – в конце тогда Первой Мещанской улицы – я вдруг почувствовал, что не совсем равнодушен к девочкам. Мне очень нравилась одна – Люда Вайдова.
В Москве мы жили в общежитии ГОСПЛАНа на третьем этаже в 2-комнатной квартире. Туалет был в коридоре. Пищу нам мама готовила то на примусе, то на керосинке – а они то затухали, то начинали гореть очень ярко; потом появился керогаз.
Жизненный уровень страны явно повышался. Это проявлялось, особенно для нас – 2-3-классников, в появлении все новых сортов конфет с очень красивыми обертками – фантиками: «Три медведя», «Красная Шапочка», «Белочка»… Фантики оказались средством знакомства с культурой. Сбор и коллекционирование фантиков приобрели спортивный интерес – у кого больше. В охоте за фантиками мы бродили по улицам, уходили достаточно далеко. Так, я помню, на нас производило большое впечатление гигантское тогда строительство Театра Красной армии.
Вскоре интерес к фантикам исчез по нескольким причинам. Их собралось слишком много, они обесценились – наступила инфляция. Снова я с удивлением размышлял на тему, что иметь избыток собственности, слишком много вовсе не так уж хорошо. Интерес к делу, к фантикам пропадает. Они выполнили свою образовательную функцию.
Марки и мировая политика
Во-вторых, возник интерес к маркам, особенно заграничным. У марок разнообразие было значительно больше, чем у фантиков, и насыщение было практически невозможно. Кроме того, возник интерес к политэкономгеографии и истории.
Помню, меня страшно удивляло сходство названий: Австрия и Австралия. Каким-то образом мне, очевидно, от отца попал в руки этногеографический справочник «Страны мира». С удивлением я узнал, что в Австрии и Австралии в 1938–1939 гг. было равное население, по 6 миллионов человек. Однако по размерам Австралия оказалась в 100 раз больше Австрии.
После этого я стал тщательно изучать этот сборник с данными по численности населения, национальности, площади и главным городам различных стран. А наглядной иллюстрацией были красивые марки этих стран.
От марок и истории интерес переключился на политику. В 1937–1940 гг. все почему-то начали нападать и воевать друг с другом. Так, в 1938 г. Польша – поляки – вдруг напала на Чехословакию, захватив часть её территории. Вслед за ними на Чехословакию напали фашистская Германия и Венгрия, и совместно они втроем оккупировали всю Чехословакию.
Таким образом, военным нападением на Чехословакию Польша начала Вторую мировую войну в 1938 г. Узнав об этом, И.В. Сталин сказал: «Они с ума сошли».
Глава 2
Война
Война и женщины
Летом 1941 года мы, как всегда, выехали в Кратово на дачу в мае. 22 июня 1941 г. фашистская Германия подло, без объявления войны, ночью, при наличии договора о ненападении, внезапно напала на Россию.
Всё стало как-то непонятно.
Красная армия почему-то не громила врагов на вражеской земле «малой кровью могучим ударом» – а героически отступала на «заранее подготовленные позиции». Немецкие самолеты с наступлением темноты летели на Москву через Кратово, хотя оно находилось по Казанской дороге, вовсе не на западе, а на юго-востоке от Москвы.
Рядом с дачей в соответствии с общей инструкцией мы выкопали блиндаж – бомбоубежище. Лето было жаркое и сухое. С наступлением сентября-октября пошли проливные дожди. Тогда я плохо понимал лозунг «Бог и природа – за большевиков». Теперь-то хорошо известно, что эти дожди так размыли и почву, и проселочные дороги, что немецкая техника и даже их узкогусеничные танки на этих дорогах вязли, и их приходилось вытаскивать лошадьми. Наступление немцев резко замедлилось, т. к. они могли продвигаться только по магистралям, а их было немного.
Как пишет командующий нашей 1-й танковой армией генерал Катуков в своих мемуарах «На острие главного удара», даже наши широкогусеничные Т-34 с трудом передвигались по проселкам на исходные позиции под Истрой в октябре 1941 г., вытаскивая тяжелые танки КВ.
Впечатление о критичности положения усугубилось созерцанием нашего батальона, который в октябре 1941 г. двигался по размытой проселочной дороге мимо нашей дачи в Кратово.
Впереди шёл отряд пехотинцев с винтовочками. За ними ещё отряд пехотинцев выталкивал из грязи броневичок, вооруженный пулеметом. Далее ещё отряд пехоты. В конце колонны лошади тащили 3–4 мизерные пушки. Теперь-то я знаю, что это были сорокопятки, снаряды которых отлетали от брони немецких танков, как орехи от стенки.
Возникали тогда у меня, 11-летнего мальчишки, сомнения, как и чем эти ребята смогут остановить немецкие танки?!
Немцы наступали.
В связи с тем, что немцы приближались к Москве, решено было в Москву пока не возвращаться. Мы остались на даче, и я пошёл в Кратковскую школу недалеко от станции и Кратковского озера. От нашей дачи приходилось каждый день ходить 3 км в школу и ровно столько же обратно. Очевидно, с тех пор у меня возникла большая любовь к пешим походам.
В Кратовской школе в 4-м классе повторилось то же. Я быстро решал задачи, и за «честь» сидеть рядом со мной началась конкуренция. Мы подружились с одним из заводил и вожаков – Новиковым, который не очень преуспевал в науках. Тем не менее. На меня стал обижен второй в классе «атаман» Новичков. Группироваться в команды вокруг атаманов – это, очевидно, общее свойство мужчин, начиная с пеленок. Я соблюдал нейтралитет и ни к одной из команд не присоединялся.
Но тут же выяснилось и общее свойство большинства активных женщин – вдруг выбирать всем сразу одного кумира и бросаться на него толпой, как, например, на Киркорова, или Абдулова, или…
И вот все активные девчонки нашего 4-го класса таким кумиром избрали меня. Все они хотели дружить только со мной. Я тупо не понимал, в чем дело, и осознал ЭТО только 20–30 лет спустя. Это был женский инстинкт признания породы мужчины.
5-8 девочек каждый день дожидались меня и толпой провожали почти полпути до дачи. А одна, Стельмошенко, которая называла себя Наташей, провожала меня две трети пути. Звали её по-другому, но ей не нравилось её имя, и она называла себя Наташей. Запомнилась и другая девочка – румянощёкая Катя. Эта самая Наташа была очень широко образована и пыталась просвещать меня даже в сексуальном плане.
Естественно, что такое положение, когда девочки отказывались дружить с другими мальчиками, этих мальчиков не устраивало. И однажды Новичков сказал мне, что завтра они меня побьют, если я опять пойду с девочками. В подтверждение он пару раз меня стукнул.
Действительно, на следующий день у выхода из школы меня уже ждала компания во главе с Новичковым с явным намерением меня поколотить. Меня это не устраивало, и я задержался с выходом. По какой-то причине задержался и мой друг Новиков. Увидев все это, он тут же принял решение: «Уходить надо через другой выход». Обследовав весь первый этаж, мы на противоположной стороне школы вылезли через окно в женской уборной и бежали, как Керенский.
У Истории не так уж много вариантов.
«Ладно, – сказал Новиков, – завтра я приведу СВОИХ».
На следующий день по окончании уроков он быстро побежал, сказав мне: «Подожди, не выходи». У дверей школы я увидел команду Новичкова, которая опять явно хотела поколотить меня. Однако вскоре появился мой друг Новиков с гораздо более мощной командой. Враги быстро ретировались.
На следующий день на первой перемене Новиков и Новичков встретились и пригласили друг друга на дуэль – «стыкнуться» на большой перемене. На большой перемене они, прихватив меня, побежали за школу и там сошлись в честном кулачном бою – дуэли. Новиков до крови разбил Новичкову нос, Новичков разбил Новикову губу. Прозвенел звонок, и мы побежали на урок. На следующей перемене между Новиковым и Новичковым был заключен МИР, одним из условий которого было оставить меня в покое.
Эвакуация и Эдгар По
Тем временем немцы уже взяли Смоленск, Киев, Вязьму и приближались к Москве. В конце октября было принято решение к эвакуации.
Семей всех сотрудников папиной организации, а он уже не работал в ГОСПЛАНе, с имуществом начали собирать на каком-то огромном пустом военном складе в ожидании грузовика.
Несколько дней и ночей мы провели на этом складе на куче своих пожиток. Мне попалась книга Эдгара По про дикие вопли кошки, замурованной в стене вместе со своим хозяином. Выйдешь во двор – темно, только лучи прожекторов прорезают небо, где-то ухают зенитки. Снова прочитаешь Эдгара По про то, как огромная секира колеблется, раскачивается от стены к стене и с каждым колебанием снижается, чтобы рассечь заключенного в камере. Выйдешь на двор – темно, на небе наши прожектора «схватили» немецкий самолет. Летит он не очень быстро. Вокруг него разрывы снарядов наших зениток. Странно. Разрядов много, а он летит. Правда, и летчик, несомненно, мало что видит, т. к. ослеплен прожекторами. Так летел и улетел. А тут опять темнота, и тишина, и Эдгар По. Конечно, он основоположник этого типа литературы, а Конан-Дойль с его Шерлоком Холмсом и Агата Кристи и другие – просто его ученики.
Тем временем подали грузовик – безотказную полуторку. В неё загрузили гору пожиток 3–4 семей, да ещё и нас рассадили между этими пожитками и поехали по шоссе на Нижний Новгород (тогда Горький).
По плану все семьи эвакуировали в Среднюю Азию, в Ташкент. Но поскольку путь лежал по Нижегородскому шоссе, мимо маминой родины, она решила остаться в родном доме в деревне Растригино Владимирской области Вязниковского (или Сергиево-Горского) района. Туда нас и завезли.
Несколько дней я провел с мамой и отцом в родовом солидном сельском доме – пятистенке из 6 комнат. Отец матери – мой дед – был священником. К несчастью или к счастью, он умер незадолго до революции. Отец мой, как партийный работник, все время был в «контрах» с моей бабушкой – попадьей, которая его ненавидела и идеологически, и как человека. Не очень оригинальная позиция тещи. Очень мой папа жадным был.
Когда я спросил, а где же церковь, мне показали очертания её фундамента. Церковь пытались разобрать на кирпичи для постройки колхозного склада. Получилась хилая хибарка. Мне объяснили, что кладка оказалась очень прочной. Вместо цемента или глины кирпичи проклеивались смесью чего-то с яйцами. Разбить их оказывалось практически невозможно. Из 10 кирпичей целым оставался один – остальные раскалывались. Во время разбора церкви кто-то все-таки вывесил лозунг: «Идет добыча кирпича по заветам Ильича».
Около дома были 3–4 огромные вековые липы, которые я не мог обхватить двумя руками. Наступала зима 1941 года. Никакого снабжения не было. Все мужчины ушли на фронт. Мы с отцом спилили и затем распилили одно из этих огромных деревьев. Потом накололи дров. Я был удивлен, какая здоровая поленница получилась из одного дерева, кубометров 7-10. Бабушка сказала, что до весны хватит.
Вскоре отец уехал, а я неделю или две ходил в школу в поселке Сергиевы Горки. Большое впечатление на меня произвел бабушкин сад, в котором уже созрели яблоки и груши. Около дома цвели высокие лилии. Мне было 11 лет, и лилии были почти моего роста. С тех пор эти лилии стали моим любимым цветком, хотя относительно меня они стали не такие уж высокие.
Книга детства
Уже в 1938–1940 годах, в возрасте 8-10 лет, возникла любовь к чтению книг. А виноват в этом Некрасов (наш Некрасов), написавший книгу «Приключения капитана Врунгеля». Именно эту книгу и читала нам пионервожатая в жаркие летние дни в 1939–1940 гг. в пионерском лагере.
С тех пор я несколько раз перечитывал эту книгу и считаю, что взрослые, которые её не прочитали, обладают неполноценным мышлением.
Я с глубоким уважением отношусь к Сергею Михалкову-старшему, который добился первого переиздания этой книги моего и его детства в 1983 году, после чего она стала общеизвестной.
Вот и в Растригино в 1941 году в последней темной комнатке-чулане стоял сундук, где бабушка хранила мамины вещи и её любимые книги. Среди этих книг оказались две книги академика Обручева – «Плутония» и «Земля Санникова» с блестящим описанием биологической эволюции. Эти книги, как и «Приключения капитана Врунгеля», а тем более Эдгар По и этногеографический справочник, оказали решающее влияние на формирование моего мышления и стремление к знаниям. К этим книгам добавилась и «Похождения хаджи Насреддина».
Вскоре мама в РОНО получила окончательное направление работать в школе в деревне Гостинино Селивановского района Владимирской области. Деревня эта находится в лесном районе, вдалеке от всех городов и городков – до Селиванова 12 км от железной и других дорог, до Горбатки 15 км, и как раз на полпути между Владимиром и Муромом. В общем, тишь да глушь. Я счастлив, что мы попали в этот русский край, где я познакомился с сохранившейся русской деревней ещё до того, как её разгромил Н.С. Хрущев.
Итак, я продолжил учебу в 5-м классе семилетней сельской школы.
Война в 1941 году
Шел ноябрь, у немцев продолжились нелады с Всевышним. Сначала они не могли быстро ехать – вязли в непролазной грязи из-за проливных дождей. Даже их танки Т-3 и Т-4 с узкими гусеницами вытаскивали с помощью лошадей. Затем в одну прекрасную ночь ударил морозец 5–7 °C. Вся немецкая техника вмерзла в эту грязь. Целую неделю немцы выдирали и выкалывали колеса, особенно пушек. Тягачи, пытавшиеся прямо сдвинуть пушки, срывали их с колес.
Далее вроде бы всё стало для них легче. Легкий морозец 5–7 °C и твердые дороги. И они снова начали наступать. Под Москвою начались жестокие бои. Страна мобилизовала все средства на отпор фашистам. В подмосковных районах были мобилизованы все колхозные лошади.
Из Сибири И. Сталин вызвал две дальневосточные армии, и они спешили к Москве. И тут на немцев свалилось совсем уж непредвиденное для них обстоятельство. В конце ноября ударил мороз -30 °C, а затем, в начале декабря -40 °C. Начались снегопады.
Бог был явно с большевиками и с русским народом. У немцев замерзла смазка у автоматов, и они почти неделю не могли стрелять. Замерзло масло в моторах, особенно в авиационных.
А к Москве подходили наши сибирские армии. Немцы лишились поддержки авиации. У немецких солдат в летней форме и пилоточках начали отмерзать различные органы. Немецкое наступление затормозилось, хотя на западе они взяли Истру и были в 20–25 км от Москвы. На северо-западе их отдельные танки «выскочили на Ленинградское шоссе». Только на юге они не дошли до Оки. Жители Тулы – туляки – расстреляли из пушек ворвавшиеся в город немецкие танки армии Гудериана, уничтожив почти полностью танковую дивизию. Другую – 4-ю танковую – дивизию полностью уничтожила танковая бригада Михаила Катукова, укомплектованная танками Т-34 и КВ.
Две школы курсантов при поддержке Катюш на 2 недели задержали наступление целого немецкого корпуса под Нарофоминском.
В критический момент на Западный фронт под Истру была переброшена эта героическая бригада Катукова – и наступление с запада застопорилось. Позиции немцев под Москвой растянулись. Резервы и снабжение отстали. Этот срок – 5–8 декабря – Г.К. Жуков и определил как оптимальный для общего контрнаступления.
И.В. Сталин к этому времени скопил необходимые резервы и 2 дальневосточные армии на флангах южнее и севернее Москвы. 7 декабря наши войска начали общее и успешное контрнаступление. Бои под Москвой развернулись с новой силой. Гитлер отдал приказ: «Не отступать!» Но немцы откатывались от столицы.
7 декабря японцы внезапно бомбили и потопили часть американского Тихоокеанского флота, базировавшегося на Гаваях в Пирл-Харборе. Однако им не очень повезло. Основная ударная сила Гавайской эскадры – два американских авианосца – накануне ушла в океан на учение и сохранилась как угроза японскому флоту. Америка объявила войну Японии. Германия – Гитлер – как союзник Японии объявила войну Америке, и война стала действительно Всемирной.
Глава 3
Деревня Гостинино
Русская деревня
Деревня Гостинино Владимирской области лежит в лесной части на полпути от Владимира и Коврова до Мурома, в Селивановском районе – т. е. в 12 км от станции Селиваново.
Итак, в декабре 1941 года нас подвезли и поместили в большой деревенский дом – пятистенку, с русской печкой и поленницей дров во дворе.
Дом состоял из двух частей: теплой – 3 комнаты, и через коридор, холодной части из двух комнат. Коридор вел в крытый двор. Это для меня тогда было огромное – по площади в 2 раза больше дома, высокое, примерно в 2 этажа, крытое сооружение из бревен.
В углу этого «ангара» находился «омшаник» – маленький сруб 3×3×2 метра. Это теплое помещение предназначалось для коров зимой, чтобы они не замерзли. Такое маленькое изолированное пространство корова могла подогреть теплом своего тела. Стенки омшаника были старательно проконопачены мхом, так что щелей, откуда могло дуть, не было.
В общем, это был нормальный двор русского крестьянина, тысячелетиями приспособленный для жизни людей и скота (коров, овец, коз) в нашей суровой русской лесной полосе – в зоне так называемого «рискованного земледелия».
В доме из кухни был спуск в шикарный погреб. Впечатление было такое, как будто хозяева только вчера куда-то уехали. Вскоре мы узнали, что это двор раскулаченного крестьянина. Такие же добротные русские дворы я увидел в деревнях в Киргизии вдоль озера Иссык-Куль, где был в командировке в 1985 году. Живут теперь в этих дворах киргизы. В 1917–1918 годах, когда мужики, хозяева этих дворов, русские казаки, ушли на братоубийственную гражданскую войну, с гор спустились конные киргизы. Плетьми они выгнали русских женщин, стариков и детей и загнали их в озеро. Большинство погибло. Только часть ушла в отдаленные русские казачьи поселения. Теперь в этих русских деревнях, в русских дворах вдоль Иссык-Куля живут киргизы.
Избиение русских в Киргизии было началом геноцида русского народа в России. «Руководители» коммунистической России и Красной армии не только не остановили этот геноцид, но по указанию Свердлова и Троцкого полностью поддержали его под лозунгом «Расказачивание казачества» – которое было не согласно с советской властью.
Мне повезло. В Гостинино я встретился с не разрушенной ещё Н.С. Хрущевым РУССКОЙ ДЕРЕВНЕЙ.
Наши предки славяне-русы-вятичи относительно плотно заселили нашу среднюю лесную полосу: Смоленск – Брянск – Москва – Рязань – Владимир – Суздаль, в конце III в. до н. э. – начиная с 220 г. до н. э., т. е. 2200 лет тому назад. В это время – 2200 лет тому назад – поселение Москва превратилось в укрепленный город. Это заселение произошло под давлением разрушительного нашествия степняков – персоязычных САРМАТОВ на древние земли земледельцев РУСОВ-СЕВЕРЯН в лесостепной зоне: Сумы – Харьков – Белгород – Курск – Воронеж. Значительная часть населения СЕВЕРСКИХ земель – непокорившиеся ВЯТШИЕ – ВЯТИЧИ – земледельцы, и отошли – переселились тогда на север – в лесную зону, создав тут княжества СЕВЕР – СЕВЕРЯН – ВЯТИЧЕЙ. Самым большим из них было княжество Рязанское, а также Пронское, Козельское, Смоленское. Москва в то время была небольшим городком.
Переселение с благодатных южных черноземных земель было тяжелым. Русы-северяне-вятичи попали в суровую северную климатическую зону, в зону малоплодородных лесных «подзолистых» глинистых или песчаных почв. Спасали избыток леса и воды – неизбежно возникло коллективное ведение сельского хозяйства.
В этих суровых краях, к тому же полных медведями и волками, невозможно, как на юге или в Польше, жить отдельными хозяйствами – хуторами. Природа способствовала созданию сельских сообществ – русских деревень.
В течение тысячелетий вятичи отрабатывали создание условий для жизни и ведение сельского хозяйства. Используя лес, они создали замечательную ДРЕВЕСНУЮ АРХИТЕКТУРУ как культовых, так и бытовых зданий – изб, что мы и увидели в деревне Гостинино. Остатки древесной архитектуры ещё сохранились в форме огромных церквей или, например, Кижи.
Вятичи создали самое северное в мире земледелие на базе такого целебного злака, как рожь, а также проса и льна, обеспечившего вятичей растительным маслом и тканями. Вятичи стали народом земледельцев самого северного в мире земледелия. Так, со II века до н. э. сформировался современный русский народ – народ самого северного в мире земледелия.
Это удивительно, но русская деревня в лесу – это потрясающе жизнеспособная ОБЩИНА. Так, в 1942–1945 годах я своими глазами увидел ЭТО. Из мужиков в деревне на 70 дворов (ферм) осталось всего 15–20 человек непризывного возраста, т. е. старше 50 лет. Остальных, очевидно, раскулачили. Они и организовывали, и руководили общинным хозяйством колхоза.
Гимн корове, петуху и русскому лесу
Но жизнь держалась и на другом. В каждом дворе было 3–5 детей.
Их жизнь обеспечивалась тем, что в каждом дворе была КОРОВА и росли на мясо телка или бычок. Свиней я не видел. Однако в каждом дворе было по 10–15 овец. В некоторых дворах были козы.
Все население от мала до велика ходило зимой в «модных» полушубках-дубленках из шкур этих овец и носило симпатичные ВАЛЕНКИ из шерсти этих овец.
Двое-трое из старших мужиков сохранили навыки ВАЛЯЛ – и валяли валенки для всей деревни. Шапки, естественно, были из бараньих шкур.
В каждом доме были прялки. В долгие зимние вечера женщины пряли пряжу из овечьей шерсти. Они обрабатывали и ЛЁН. В каждом доме был ткацкий станок.
Деревня обеспечивала себя как зимней – свитеры, так и очень красивой летней одеждой – льняными платьями, сарафанами, мужскими рубашками-сорочками.
Русская печь не только отапливала дом, но и давала широкие возможности для кулинарного искусства: выпечки различных размеров ПОДОВОГО ХЛЕБА, лепешек, блинов, супов или жарений. Конечно, для женщин это был постоянный напряженный, но привычный труд.
Основой жизни были все-таки коровы – они давали молоко, сливки, простоквашу и мясо, и дети росли здоровыми. Конечно, корову надо кормить, и сена она кушает прилично, почти полпуда (8 кг) в день. Это солидная копна сухого корма. На зиму требовалось не менее 100 пудов сена на корову. Вот это без мужиков обеспечить было не просто. Но женщины справлялись и с косами.
Мама преподавала в школе-семилетке, которая находилась в деревне. В эту школу пошел и я – в 4-й класс. Преподавание прерывалось только при морозах свыше 30 °C. А в 1941–1942 гг. морозы достигали -42 °C. К 1943 году, когда немцев отбросили далеко от Москвы, морозы смягчились до -20-25 °C.
Теперь я понимаю, что зима – январь, февраль, март – и весна – март, апрель, май – 1942 г. были просто жуткими для женщин, которые остались с детьми. Всё продовольствие со складов колхозов и лошади в примосковских областях были мобилизованы для фронта.
Есть было практически нечего. Мы получали 400 г ржаного хлеба в день. Этот хлеб я ходил получать в соседнюю деревню, где его выпекали в одной из изб. Так мы и получали 150 г на завтрак, 150 г на обед и 100 г на ужин, соседи продавали нам (на мамину зарплату) по 1 крынке (~2 л) молока. И всё. Что переживала мама, глядя на нас троих, я представляю только теперь и понимаю, что большую часть своей пайки она подкидывала нам. Это и привело к развитию у неё язвы желудка и ранней смерти в 1947 г. в возрасте 44 лет.
Несомненно, все русские женщины с детьми в 1942–1943 годах были ГЕРОЯМИ.
Положение несколько улучшилось в мае – начале июня 1942 года. На полях вырос ЩАВЕЛЬ. Щи из щавеля. Конечно, они очень полезны. В них почти всё, что нужно для жизни, кроме белков: и витамины, и микроэлементы. К тому же по вкусу – кисленькие – они нам, голодным, очень нравились.
Ещё легче стало, когда выросла молодая крапива – щи из крапивы и щавеля! Думаю, сейчас это можно сделать фирменным блюдом для современных ОБОЖРАВШИХСЯ москвичей. Они, как и для нас в 1942 году, могут быть спасением и от ожирения, и от всяких недостаточностей.
Где-то в соседней деревне для фронта заработал крахмальный завод. На это крахмальное производство потянулась «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» со всей округи. На этом заводе картошку по всем правилам автоматически чистили. Из картошки крахмал выделяли и отправляли на какие-то военные заводы. А вот измельченные очистки – МЯЗДРА – сливались в открытый большой ЧАН. Из него и черпала жизнь интеллигенция.
Мы с мамой тоже «подъехали» с тачкой, налили мяздры в бидоны. Это был ПИР – оладушки из мездры, поджаренные на неизвестно откуда взявшемся рыбьем жире. От голодной смерти мы были спасены.
В июне пошли грибы, затем ягоды: земляника, черника, брусника, и я просто не вылезал из леса. Грибы, особенно белые, которые были в избытке, в какой-то момент решили проблему белкового питания – т. к. мы ели их и жареными, и вареными, и в большом количестве сушили в русской печке.
Какое же это очарование! В солнечный день, особенно в сосновом лесу, выходишь на полянку. Всё в солнечном свете, и на полянке рядками стоят 10–15 красавцев белых грибов.
Несколько позже, к осени, на опушках встречались и ещё более красочные полянки, украшенные красными шляпками подосиновиков. От таких красот из леса выходить не хочется.
Я считаю неразумным демагогическое стремление наших высших РУКОВОДИТЕЛЕЙ газифицировать лесные деревни, в наше время, когда весь мир ищет альтернативное топливо. Лес – это наше возобновляемое альтернативное и притом традиционное топливо.
Лесной порядок я и наблюдал во время войны в Гостинино. Лесники строго следили, чтобы не вырубался здоровый молодой лес, а на месте плановых вырубок сразу вели посадки.
Население вырубало «сушняк», а также поваленные ветром деревья, собирали и вывозили лесные завалы и хворост – т. е. производили гигиеническую чистку леса, а заодно этим проводили и противопожарную профилактику.
Несмотря на наличие дров, я сам ходил в лес, собирая вязанки сухих веток, сухого хвороста по одной простой причине: сухой хворост – идеальная РАСТОПКА. Раз в неделю я собирал в лесу мешок еловых и сосновых шишек. Это идеальное топливо для самовара. Приятно было загружать его шишками и слушать, как он гудит, пока не закипит.
Такая чистка, а также прогон скота, частично вытаптывающего траву, содержали лес в чистоте и создавали условия для роста грибов. Если сравнить военный лес в Гостинино и наш лес под Истрой, между Истрой и Снегирями, можно прийти в ужас: сплошные завалы, сухостой, всё заросло травой. Если возникнет пожар, потушить его будет невозможно. К тому же от этой травы и завалов всё меньше места остается для грибов и ягод.
Это было написано в 2008 году. Наше руководство было слишком высоко, чтобы разглядеть пожароопасную обстановку в наших лесах. И гром грянул летом с 20 июня по 20 августа 2010-го. Небывалая жара в +33 – +38 градусов по всей европейской части России без единого дождя привела к одновременному возгоранию лесов. По всей европейской части России горели леса, горели деревни и поселки. Главное – загорелись ТОРФЯНИКИ. Дым-смог окутал Московскую, Рязанскую, Свердловскую, Саратовскую, Владимирскую, Нижегородскую области и Мордовию. Москва задыхалась от дыма и жара.
Наконец, Москва обратила внимание на лес не только как на источник валюты. Выход один – для начала оводнить торфяники, перегородив все осушительные каналы, и затопить их естественными осенними дождевыми и зимними талыми водами. Во-вторых, восстановить систему надзора и охраны лесов, созданную еще императором Павлом, путем создания системы ЛЕСНИЧЕСТВ.
Колхоз жил по законам ОБЩИНЫ. Так, нам были завезены дрова. Мы с мамой распиливали на короткие чушки, и мама их колола. Я пытался помогать, но в 1942 г. мне было всего 12 лет, и я пока мало что мог сделать. Основное занятие – быстро расти, и к весне 1943 г. в 13 лет я был реальным работоспособным «мужиком» и дрова колол уже сам.
В зимы 1942–1943 гг. в морозы – 35–42 °C – печь топили дважды, первый раз – вечером, на ночь. Но к середине ночи, а тем более к утру изба охлаждалась. Мы все втроем: я, брат и сестра – залезали наверх на лежанку, на теплые кирпичи русской печи. Утром печь топили второй раз, и она сохраняла пищу – щи… – горячей весь день до вечерней топки.
Весной, как только сошел снег, хозяева выпустили на улицу своих кур во главе с петухом. В каждом дворе было по 10–15 кур и один красавец – горластый петух. Петух был гордостью дома. Петухов тщательно отбирали из многих претендентов, которым потом отрубали головы – и в суп. Критерии отбора были жесткие. Он должен быть красивым, горластым, а главное – боевым, чтобы его не забивали соседние петухи.
Улица была очень широкая и большая. Часть её заросла травой. Группы кур гуляли и ловили насекомых и червей против своих домов. Петухи вели себя относительно мирно. Они громко пели – кукарекали, выпятив грудь – соревнуясь друг с другом. Мир иногда нарушался по вине кур. То та, то другая, увлекшись погоней за бабочкой или задумавшись, оказывалась на «чужой» территории. Это сразу же привлекало чужого петуха, хозяина территории, на которую забрела соседка. Ну, тогда на защиту прибегал свой петух. Начиналась драка, которая развлекала всех соседей. Как правило, петухи оказывались равной силы и после нескольких схваток расходились на свои территории. Если же один из петухов не выдерживал – бежал с поля боя и прятался в подворотню, оставляя своих кур, которых потом хозяйка находила на чужом дворе, его судьба была решена. Хозяйка начинала выращивать десяток петушков и из них отбирала наиболее достойного, горластого, красивого и боевого драчуна.
Наступала весна, и колхоз начал «пахоту». Ни лошадей, ни тракторов не было. В поле вышли все женщины и подростки с лопатами. Поле «пахали» – вскапывали лопатами. Вышла в поле и мама зарабатывать трудодни. Трудодень был весьма солидной валютой. На каждый трудодень гарантировали 1,0–1,5 кг зерна (хлеба). Я пытался помогать копать поле, но думаю, что в 12 лет толку от меня было мало. Мама же, как природный сельский житель, копала наравне с колхозницами. За работой следил и оценивал качество выкопки-вспашки бригадир – один из этих 55-60-летних потомственных крестьян.
На деревенском сходе серьёзно и обстоятельно обсуждали, какого из известных пастухов нанять для деревни. Обсуждалось, какой из кандидатов меньше травмировал скотину, у которого она приходила вечером домой более спокойной и сытой, у кого из пастухов коровы в прошлые сезоны давали большой удой.
При найме определялся и постой. Точно не помню, но, по-моему, каждый хозяин коровы, помимо платы пастуху, должен был содержать его на постое, кормить и поить его 5 суток, а хозяин козы – 2 суток. Хозяйки старались. Они хорошо знали: не угодишь пастуху – вечером твоя корова придет без молока. А утром, чуть свет, по деревне рожок пастуха, мычание коров, блеяние коз. Всё стадо идёт из одного конца деревни до другого и затем выгоняется на пастбище. Дойка 2 раза. Первая – в полдень на поле.
Корова, конечно, была основой нормальной жизни в деревне. Коровье молоко полностью удовлетворяло потребности детей в жизненно необходимых белках и жирах, а также в микроэлементах, антиоксидантах и витаминах, которые корова извлекала из растений.
Корова, требуя сено и сочные корма – свеклу, морковь, турнепс, прочно связывала крестьянина с землей.
Полный подрыв русской деревни осуществил Н.С. Хрущев после войны методом грабежа и разбоя. Этот люмпен отобрал всех личных коров и согнал их в общественные стада, чтобы крестьяне не отвлекались от труда в общественном колхозном хозяйстве.
В этих общественных стадах коровы в основном были расхищены под лозунгами различных налогов и поборов, а часть из них просто погибла от недостаточного ухода и кормления. Дети в деревнях остались без молока, и это было началом гибели русской деревни. Крестьяне были оторваны от земли, и это уже после того, как деревня пережила войну.
Пешие походы по русской природе
Тем не менее в июле-августе 1942 года я стал реально зарабатывать трудодни. Мама устроила меня почтальоном. Ежедневно меня будили вместе со стадом, и я отправлялся с почтой за 12 км в райцентр – Селиваново на почту. Там сдавал свою колхозную и получал в пакете всю почту для колхоза – и 12 км обратно. Всего 24 км в день, и к обеду я появлялся дома. Однажды сотрудники почты долго совещались, доверять или не доверять мне ценное письмо с зарплатами. В конце концов, доверили.
Вот с тех пор я полюбил пешую ходьбу – пешие походы. Все попытки друзей позже привлечь меня к передвижению на велосипедах или на мотоциклах были безуспешны. Позже были только пешие походы – через Кавказские горы, через Урал, или по пути Дерсу-Узала в Уссурийской тайге, или по молдавским степям, или пешком через горный Крым. Ведь только в «пешем» строю вы напрямую, без посредников общаетесь с природой. Ни на велосипеде, тем более на мотоцикле, вы не ощутите, например, прелести цветущего поля гречихи.
В солнечный день, когда вокруг тебя эти солнечные кванты, создающие звенящую тишину, видишь всю красоту цветущего поля, вдыхаешь опьяняющий медовый запах и слышишь убаюкивающее жужжание пчёл. С велосипеда этого всего не ощутишь. Не меньшее, своё собственное очарование имеет в солнечный день колосящееся поле ржи, украшенное голубыми цветами васильков.
Заходит солнце – и жизнь в поле как бы замирает. Очень с тех пор меня заинтересовало это жизнеутверждающее действие солнечных лучей – квантов.
Пообедав и отдохнув, я отправлялся в лес за грибами. Всего за три года эвакуации в Гостинино мы насушили приличный мешок белых грибов. С одной стороны, это хорошо, с другой – я так избаловался, что с тех пор признаю только белые и подосиновики. В крайнем случае, молодые подберезовики. С таким «воспитанием» мне очень тяжело в Подмосковном лесу.
Из военных сводок, которые до нас доходили в 1942 году, очень трудно было представить, что происходит на фронте. То бравые сообщения, что наши войска разгромили немцев и наступают на Харьков, то вдруг никаких сообщений об этих наших окруженных наступающих. Непонятные сообщения о сдаче Керчи, где была сосредоточена для наступления на осажденный Севастополь наша трехсоттысячная армия во главе с К.Е. Ворошиловым. И вдруг – немцы наступают на Сталинград. Бои под Сталинградом и в Сталинграде. Под угрозой перехват Волги. Понять всё это было трудно. Напряжение под Сталинградом передавалось всем, всему народу.
Подготовка к зиме 1943 года
Мама старательно готовилась к следующей зиме. Мы вскопали огород – земля на огороде была хорошо унавожена. Посадили морковку, картошку, свеклу, огурцы и помидоры. Мама купила трех цыплят – 1 петушка и 2 кур: черную и коричневую. Более того, она приобрела молодую козочку. Собак у нас не было, а кошки не прижились.
Я с удовольствием снес в подвал и там с гордостью осматривал горку морковки, горку свеклы и гору картошки.
Что меня сейчас удивляет. Вот тогда в суровые годы у нас в огороде на уровне Москвы чудесно росли огурцы и вызревали помидоры без всяких теплиц. Что с ними случилось? Теперь, в 1990-е, 2000-е годы ни огурцы, ни тем более помидоры не только не вызревают, но и не растут – гибнут без парников. Очень это интересно.
Мы на трудодни, заработанные мной и мамой, получили от колхоза большой мешок ржи.
Зиму явно переживём.
Нельзя быть упёртым
После открытия свойств замкнутых кривых я стал значительно более внимателен к окружающему меня миру, но, очевидно, ещё недостаточно.
Рожь – это зерно, а человеку нужна мука. В деревне многие имели ступки для размалывания зерна. Однако большинство мололо зерно на водяной мельнице в соседней деревне через поле в 3–4 километрах от нас. Деревня обеспечивала себя не только зерном, но и мукой.
Мама взвесила мне на безмене (весах) 20 фунтов зерна (8 кг). Я взвалил мешок на плечи наперевес и отправился на эту водяную мельницу. Сооружение это очень меня заинтересовало. Мостик, плотина, огромное колесо. Очень хочется увидеть, в каком состоянии она сейчас.
На мельнице шла работа. Хозяин-мельник клал на большие весы мешки с зерном, а два мужика брали их и ссыпали куда-то в жернова. Хозяин был, несомненно, хорошим человеком, чего я сразу не оценил. Поглядев на меня, он взял мой мешочек, прикинул его на руке на вес и высыпал туда же – в жернова.
Потом взял лоток, насыпал мне муки из ларя, завязал мешок и отдал его мне. Меня затронуло то, что он не взвесил мой мешочек ни до, ни после помола. Но я знал, что у меня 20 фунтов, и потребовал взвесить и дать мне эти 20 фунтов.
Мужик с удивлением поглядел на меня и сказал: «Слышь, пацан, я тебе насыпал с большим походом. Иди домой». Но я уперся: «Мне надо 20 фунтов». – «Парень, я тебе говорю, что у тебя много больше!» Я оказался большим занудой и упорно продолжал настаивать на своём. Очевидно, я здорово вывел мельника из себя.
«Ладно, – сказал он, – чёрт с тобой!» Он положил на одну тарелку весов гири. «Смотри, тут 20 фунтов». На другую тарелку он положил мой мешочек. Гири взлетели вверх. Хозяин взял лоток, развязал мой мешочек и стал методично отсыпать из него муку в ларь.
Я понял свою ошибку поздно, хотел крикнуть, что я согласен, но гордость не давала мне это сделать. Почти со слезами я глядел, как мука из моего мешка пересыпается в ларь. Хозяин при этом искоса поглядывал на меня.
В общем, «поход» был значительный, не менее половины веса этих 20 фунтов. Когда весы сравнялись, хозяин подкинул в мешок для «похода» лоточек муки, завязал его и подал мне. «Видишь, теперь точно 20 фунтов». Я чуть не плакал, жалко было «потерянной» муки. Однако взял мешок и отправился домой.
Да, мельник был, конечно, хороший мужик, но я его «допек».
Дома был пир, мама испекла лепешки на молоке из крынки, которую принесла соседка.
Наши цыплята росли, превращаясь в кур. На улицу мы их не пускали, и они гуляли по нашему крытому двору. На ночь они залетали на перекрытие под самую крышу – все-таки птицы.
Росла и козочка. Оказывается, козам надо мало сена. Им обязательно надо что-то грызть. Мама посылала меня в ближайшую берёзовую рощу нарезать ей березовых веников, чтобы она грызла веточки. От веточек ничего не оставалось. В лесу козы, конечно, вредители, а ворвавшиеся в сад – просто паразиты.
Вести из Сталинграда
В конце 1942 года наконец с фронта стали поступать понятные и радостные вести. Наши войска под Сталинградом окружили ударную немецкую 6-ю армию Паулюса – 30 дивизий, около 300 000 солдат.
В начале 1943 г. сообщили, что эта армия капитулировала и фельдмаршал Паулюс взят в плен вместе со 110 тысячами оставшихся у него в живых, полуобмороженных солдат. Красная армия наступала по всему фронту – от Воронежа и Курска до Кубани.
Настроение у всех стало другим. Люди в деревне стали ходить с гордо поднятыми головами.
Победа под Сталинградом была определена гениальным планом Г.К. Жукова и тем, что И.В. Сталин принял этот план и для реализации этого плана смог сосредоточить 60 дивизий против 30 немецких.
Второй причиной была ошибка А. Гитлера, который, в отличие от И. Сталина, не принял плана своего командующего – фельдмаршала Паулюса, о немедленном прорыве из окружения. Под влиянием Геринга он отдал приказ об обороне до прорыва окружения снаружи. Паулюс не простил Гитлеру гибели своей армии.
По улицам Москвы провели колонны немецких солдат, взятых в плен в Сталинграде.
Гитлер «рвал и метал», в позорном поражении он обвинял Г. Геринга.
Но война продолжалась. 2-й фронт союзники не открывали.
Тем временем японцы разгромили английский флот в Сингапуре, потопив там два линкольна. Они захватили Южный Китай, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Индонезию. С одной стороны, они воевали с англичанами на границе Бирмы, с другой – сосредоточили 100-тысячную армию на Новой Гвинее и островах, собираясь захватить Австралию; с третьей – они продолжали войну в глубине Китая с двумя китайскими армиями: коммунистической под командованием Мао Дзедуна и с гоминдановской под командованием Чан Кайши.
Основной их фронт проходил в просторах Великого Тихого океана и на его островах. Здесь, в битвах двух флотов – японского и американского, основной ударной силой стала авиация – самолеты, базирующиеся на авианосцах. Американцы наладили массовое производство различных самолетов и серийное производство авианосцев и стали одолевать. Кроме того, японцы и на нашей границе продолжали держать в Маньчжурии миллионную армию.
Стало ясно, что Япония раздулась, как огромный мыльный пузырь, готовый лопнуть в любой момент.
Я теперь уже с энтузиазмом продолжал ходить в школу в 5-й и затем и в 6-й класс сельской семилетки. В классе, где было всего 10–12 учеников, я оказался не только первым, но и единственным, полностью успевающим среди деревенских ребят. Это, конечно, отрицательно сказалось на моем общем образовательном потенциале. Поговорить было не с кем. Я мог только рассказывать.
Помимо взрослых пожилых учительниц (учителей-мужчин не было), в школе работали 2 молодые учительницы лет 25–30, Нина Ивановна и Надежда Ивановна. Жизнь у них, конечно, была невеселая. Парней и даже мужчин их возраста в деревнях не было. Но, в общем, они преподавали. Так, Надежда Ивановна преподавала нам сразу и математику, и физику, и химию, и, по-моему, историю. В самые тяжелые периоды войны даже в самых отдаленных деревнях школы работали.
Лошадь – это личность и друг человека
В начале 1943 г. в колхозы вернули лошадей – кажется, их пригнали из Казахстана и Монголии, а также из отбитых немецких обозов.
Сельское хозяйство оживилось. Мужики занялись вспашкой, посевом, необработанных земель не осталось. В полях поднимались рожь и просо (пшено). Кое-где можно было видеть цветущую гречиху. Всё это я видел, когда 2 раза в день – утром и после обеда – ходил через поле в лес за грибами и ягодами.
Однако лошадей оказалось больше, чем пожилых мужиков. К работе на лошадях, на вывозе из леса дров или с поля сена, приспособили и меня. Один из мужиков провел моё профобразование как возчика (извозчика). Он старательно и медленно показал мне, как запрягают лошадь. Как надевают уздечку, через неё на голову лошади надевают хомут. К нему ремнями пристегивают оглобли. Затем дал мне вожжи и показал, как их дергать – влево или вправо. С его помощью я вроде справился и даже развернул повозку в лесу у поленницы дров.
На следующий день утром всё оказалось не столь радужным. Мужик вывел коня, дал мне уздечку и куда-то срочно побежал. Я взял хомут, он оказался для меня, 13-летнего, достаточно тяжелым. Конь поглядел на меня и особого уважения ко мне не проявил.
Я попытался накинуть ему на голову хомут, а он эту голову поднял на высоту в два моих роста. Я пригнул его голову ниже, повиснув на уздечке. Однако как только я брал хомут, он поднимал голову. Положение зашло в тупик. После нескольких попыток я изнемог, присел у забора и стал думать: «Что делать? Звать на помощь, дядя, помоги? Но это же позор!» Конь с любопытством на меня поглядывал. И тут я нашел решение. Я пропустил ремешок от уздечки через хомут, затем повис на этом ремешке, пригнув голову коня почти к земле, и быстро привязал уздечку к забору. Конь теперь смог поднять голову только наполовину. Но и это было высоковато. Я залез на забор, подтянул к себе хомут и уже сверху надел коню на голову, а затем хомут, естественно, съехал на шею, где он и должен был быть.
Отдышавшись, я приступил к следующему этапу. Надо было завести коня задом к телеге между оглоблями. Хотя конь и был вредный, но после нескольких попыток он понял, что я не отступлю, и между нами установились нормальные деловые отношения. Я стал самостоятельно возить дрова, сено, снопы на ток… и это – в 13 лет! За работу с лошадьми в день записывали по 2 трудодня, а не 0,5, как за почту.
В перерыв, перед тем как разойтись на обед, или вечером мужики усаживались на бревна, сидели и покуривали закрутки – махорку из домашнего табака, завернутую в газету. Ко мне они относились как к равному члену трудового сообщества.
Мне запомнились две темы. Во-первых, война частично примирила их с колхозом. Они высказывали мнение, что, пожалуй, без колхоза мы бы войну не выдержали. Второй вопрос, который их интересовал и с которым они обращались и ко мне: «Слышь, парень, а после войны, как наши мужики победят и вернутся, вернет советская власть землю мужикам?» На мой ответ, что вряд ли, они грустно качали головами.
Во время войны, несмотря на раскулачивание и репрессии, деревня оставалась жизнеспособной. Мужики ещё стремились к земле, к работе на земле в соответствии с тысячелетними традициями русского крестьянства.
Трагическая роль антимарксистского «учения» Г.В. Плеханова о русском крестьянстве
Вопрос о нашем крестьянстве и земле давно расколол нашу «интеллигенцию» на русофилов и западников.
Окончательно проблему извратил экстра-интеллигент Г.В. Плеханов. Начитавшись К. Маркса о мелкобуржуазном болоте бюргеров и о том, что идеальное, справедливое коммунистическое общество может построить только рабочий класс, Г.В. Плеханов объявил этим мелкобуржуазным болотом, стоящим на пути к социализму, всё русское крестьянство, т. е. 80 % населения страны.
Для получения поддержки своих идей о необходимости превращения всех русских крестьян в пролетариев он послал к К. Марксу «пламенную» революционерку Веру Засулич.
К. Маркс сразу не ответил. Он засел за изучение русского языка и затем по русским первоисточникам изучил положение крестьян в России. Тем временем Г.В. Плеханов продолжал пламенно пропагандировать свои идеи о необходимости превращения крестьян в пролетариев для развития всемирной пролетарской революции.
Этими идеями он «заразил» многих своих учеников, в том числе и Владимира Ульянова-Ленина. Говорят о противоречиях между Г.В. Плехановым и В. Лениным. Но эти противоречия вначале были не более чем противоречиями между чертом черным и чертом рыжим.
Г.В. Плеханов был против силовых решений и считал, что для такого превращения крестьян потребуется несколько поколений. В.И. Ленин считал, что такое превращение надо делать быстро, насильственным революционным путем через диктатуру. Он очень хотел успеть стать во главе мировой революции.
Через несколько лет Г.В. Плеханов снова послал В. Засулич к К. Марксу. К этому времени К. Маркс уже изучил русский язык и положение крестьян в России и 8 марта 1881 г. написал Г.В. Плеханову следующее.
К. Маркс написал, что Россия гораздо ближе к социализму благодаря русской сельской общине, чем любое другое европейское государство. Он охарактеризовал русскую сельскую общину «как точку опоры социального возрождения России, и необходимость только обеспечить ей нормальные условия свободного развития, ибо эта община может развиваться как элемент коллективного творчества».
К. Маркс издалека увидел то, чего в упор не хотели видеть ни Г.В. Плеханов, ни русские интеллигенты: автономию и демократию русской сельской общины, выборность руководителей-старост, самоуправление с решением всех вопросов на общих сходах-собраниях, совместное владение землей при её индивидуальной обработке, выбор и отправку призывников на военную службу. Община выделяла средства (социальную помощь) своим членам, пострадавшим от стихийных бедствий (в кредит), а также больным.
К. Маркс мечтал, чтобы в Европе было создано что-то подобное – что так строго демократично стояло бы на защите прав и свобод человека и его главного права – права на жизнь.
К сожалению, Г.В. Плеханов для сохранения своего «имиджа» скрыл это письмо К. Маркса и навязал всем русским революционерам, в том числе и В.И. Ленину, свою антимарксистскую гипотезу о мелкобуржуазной природе русского крестьянства и о русской сельской общине как основном препятствии на пути к социализму.
Конечно, В.И. Ленин все равно бы пошел на эксперимент с построением социализма в нашей стране. Однако не было бы кровопролитной гражданской войны и истребительных мер по отношению к крестьянам Тамбовской губернии – тамбовскому крестьянству; восстанию против коммун.
Ленин увидел, что даже после истребления половины сельского населения молдавской бандой Котовского и дикой дивизией кавказцев оставшиеся в живых русские крестьяне Тамбовской губернии не стали пролетариями. Тамбовское крестьянское восстание экспериментально привело В.И. Ленина к тому же выводу, к которому К. Маркс пришёл теоретически:
Социализм в России можно построить только на базе русской сельской общины. И Ленин создал НЭП.
Так что интеллигента Г.В. Плеханова, который скрыл письмо К. Маркса и пустил русских «революционеров» по пути уничтожения русского крестьянства, я не могу признать порядочным человеком. Он является наиболее ярким представителем русской «интеллигенции» (диссидентов), лишенной и патриотизма, и связи с народом и предавшей русский народ.
Повернемся лицом к сельскому хозяйству
Почему молодежь рвется на эстраду? Самому тупому ясно, посмотрите телевизор. Почти весь эфир занимают пляшущие, свистящие, изображающие из себя идиотов юмористы. И что удивительно, каждый второй из них уже отмечен Государственной наградой: он или Заслуженный, или Народный. Вот молодежь и хочет попрыгать или покорчиться немного на сцене, в тепле, при свете, и чтобы сразу Народный и дачу во Флориде или на Мальдивах.
Есть заслуженные повара, врачи, железнодорожники, Заслуженные деятели науки. Но их как-то не очень замечают и почти не прославляют на телевидении. А вот в сельское хозяйство никто не идет. Более того, из деревни вся молодежь бежит. А почему? Да очень просто. Посмотрите телевизор. Увидите вы там заслуженного работника сельского хозяйства? Его работу, его жизнь? Ничего подобного. Увидите вы там только длинные речи о поддержке сельского хозяйства. Чем больше речей о поддержке, тем меньше реальной поддержки. Пора уравнять работников сельского хозяйства по почету хотя бы с заслуженными свистунами на эстраде и ввести почетные звания трех степеней:
1) Районный; 2) Областной; 3) Государственный.
И утвердить порядок их избрания.
1) Заслуженный зерновод; 2) Заслуженный овощевод; 3) Заслуженный садовод, 4) Заслуженный животновод (коровы…); 5) Заслуженный овцевод (овцы, козы…); 6) Заслуженный свиновод; 7) Заслуженный коневод; 8) Заслуженный птицевод; 9) Заслуженный рыбовод; 10) Заслуженный лесовод; 11) Заслуженный пчеловод.
На первой ступени собираются районные собрания по виду сельского хозяйства и тайным голосованием избирают «Заслуженного (…) района» с вручением грамоты и права на участие областной конференции.
На второй ступени собираются областные конференции избранных районных заслуженных деятелей и тайным голосованием избирают «Заслуженного (…) области, республики» с вручением медали и грамоты-справки об участии на Всероссийском съезде специалистов.
На третьей ступени (в декабре) собираются съезды заслуженных специалистов областей по каждому виду и тайным голосованием избирают «Заслуженного (…) Российской Федерации» с вручением ордена (медали) и денежной премии для финансирования развития его хозяйства.
Естественно, что телевидение и радио не смогут пройти мимо этих съездов. Страна узнает о настоящих героях, которые нас кормят в условиях нашей зоны рискованного земледелия с ее дождями, засухами, морозами. Возможно, и молодые люди захотят стать такими настоящими героями, а не бегать за героизмом в тропики.
Глава 4
Война 1943–1944 гг. Героизм солдат. Борьба полководцев и конструкторов военной техники
Рекомендация всем парням-горожанам для самоутверждения прожить в глухой деревне с коровами и дровами круглый год (ВСЕГО ОДИН год)
1943 год в деревне был почти нормальным. Наши курочки начали нести яйца. Коза родила 2 козлят, и мама стала её доить. К козьему молоку надо привыкнуть, ну, вроде как вначале к томатному соку или пиву. Но когда привыкнешь, то коровье кажется разбавленным водой. В козьем молоке в 2 раза больше жиров и других веществ, и по всем показателям оно является целебным продуктом.
На полях поднимался урожай, в лесу была масса ягод и грибов. В народе существует поверье: «Грибной год – к войне», и все военные годы действительно были грибными.
Само собой, приходилось все время копать и полоть в огороде, таскать воду из колодца и этот огород поливать, встречать стадо и загонять козу во двор; колоть дрова, носить поставки молока от колхоза в соседнюю древнюю, где работала маслобойня. С утра, после утренней дойки, мне в мешок наперевес ставили четыре трехлитровые бутыли с молоком. Брату две приспосабливали за спину, и мы отправлялись за 3 км на маслобойню. Там молоко из наших бутылей выливали, расписывались нам в накладной, и мы отправлялись обратно. Прогулка по природе, по полям, с переправой по мостику через речку, была очень приятной, особенно обратно без груза.
Оглядываясь в прошлое, теперь я понимаю, какой мощной жизненной зарядкой были эти три года деревенской жизни в настоящей деревне.
Уверен, любому парню, чтобы понять, что такое жизнь и в чем смысл жизни, необходимо хотя бы год пожить, как Робинзону, в «натуральной» отдаленной деревне без газа – на дровах, без электричества – на свечах и керосиновой лампе, и без других городских извращений вроде постоянно текущей горячей воды. За этот год в деревне можно очень хорошо изучить язык или подготовиться для поступления в какой-нибудь вуз, и на всю жизнь хватит и здоровья, и что вспоминать. Главное, он начнет понимать, что такое Родина. Главное, это будет настоящим самовыражением, самопроявлением и самоутверждением, в отличие от навязываемых нашим телевидением.
Молодые люди во все времена остаются таковыми и желают самоутверждаться. А как? Посмотрят телевидение – а там! Героями показывают лихачей, которые на трамплинах делают сальто, кто на лыжах, кто на велосипеде. Перевернулся – и герой!
Да нет, разовый кувырок – это вовсе не геройство, а лжеуспокоение. Героизм, как на войне, требует длительной выдержки. Это и даст вам не очень длительное, всего один год, проживание в отдаленной деревне. Там есть всё для героизма.
Борьба конструкторов военной техники
На фронтах весной 1943 года наступило зловещее затишье. Союзники открывать 2-й фронт в 1943 году не спешили.
А Гитлер наконец понял, что он со своими узкогусеничными танками Т-3 и Т-4, по всем показателям уступающими нашему созданному А. Кошкиным танку Т-34, войну в России не выиграет.
Танк Т-3, производство прекращено в 1943 г.
Экипаж – 5 человек.
Боевая масса – 19,8 т
Скорость хода – до 40 км/час
Основное вооружение – 37-мм пушка
Толщина лобовой брони – 30 мм
Был основным танком в начале войны.
Танк Т-4
Экипаж – 5 человек.
Боевая масса – 25 т
Скорость хода – до 38 км/час
Основное вооружение – 75-мм пушка
Толщина лобовой брони – до 60 мм
Стал основным танком после 1942 г.
Наш танк Т-34-76
Экипаж – 4 человека.
Боевая масса – 26 т
Скорость хода – до 55 км/час при широкой гусенице
Основное вооружение – 76-мм длинноствольная пушка
Толщина НАКЛОННОЙ лобовой брони – 45 мм
Наш Тяжёлый танк KB (Клим Ворошилов)
Экипаж – 5 человек.
Боевая масса – 43 т
Скорость хода – до 35 км/час
Основное вооружение – 76-мм пушка
Толщина лобовой брони – 75 мм
Таким образом, танки до 35–40 тонтн считаются средними, свыше 40 т – тяжёлыми.
После потери всех легких танков в начале войны основным танком Красной армии стал средний танк Т-34-76. Наш 26-тонный танк Т-34 на начало войны и первые 2 года войны был лучшим танком в мире. Его 45-мм наклонную лобовую броню не пробивали ни 37-мм пушки немецких танков, ни противотанковые пушки немцев.
Т-34 был самым низким танком и имел широкие гусеницы. Благодаря этому он легко передвигался и укрывался в лощинах на любой местности, выставив только свою неуязвимую башню.
Вот о башне. Вместо сварки башни из броневых плит, как это было принято у немцев, англичан и американцев, Кошкин стал производить ЛИТЫЕ башни, представляющие собой монолитный кусок металла с округлыми формами.
При попадании снаряда в башню Т-34 происходил не удар в стенку, а СОУДАРЕНИЕ двух тел. Поскольку масса башни была больше массы снаряда, он просто скользил и отскакивал от башни. Более того, в Т-34 был дизельный мотор. Давление паров над соляркой в десятки раз меньше, чем над бензином, и Т-34 не загорался от искр, выбиваемых снарядами.
Все эти качества и приводили к тому, что Т-34 просто расстреливал немецкие Т-3 и Т-4 из своей 75-мм пушки и давил их противотанковые орудия.
Для сравнения. Командующий Американской армией генерал Эйзенхауер страшно возмутился, что ему не докладывали и он последний узнал, что его американские танки самые плохие.
Действительно, американский танк Шерман для удобства танкистов был сделан самым высоким, т. е. лучшей мишенью для противотанковых средств. Кроме того, в нем был установлен мотор, работающий на лучших авиационных сортах бензина с высоким давлением паров. Эти танки загорались от первой же искры. В 1942–1943 годах американцы поставили нам первые несколько десятков Шерманов. Наши танкисты отказались воевать в этих танках, назвав их «горящими гробами».
А. Гитлер с начала 1943 года запустил в производство два типа тяжёлых танков.
1. По примеру нашего Т-34 был создан танк Т-5 – Пантера.
Экипаж – 5 человек.
Боевая масса – 45 т
Скорость хода – до 46 км/час
Основное вооружение – 76-мм пушка
Толщина лобовой брони – до 110 мм
Это была удобная конструкция, противостоящая нашему Т-34. Однако производство его было очень сложным для германской промышленности и поэтому было ограниченным.
Недостатком Пантер была высокая пожароопасность.
2. Основной ударной силой танковых войск Германии с 1943 года стал тяжёлый танк Т-6 – Тигр.
Экипаж – 5 человек.
Боевая масса – 57 т
Скорость хода – до 37 км/час
Основное вооружение – 88-мм пушка
Толщина лобовой брони – 100 мм
Всего было выпущено около 1500 Тигров. Одновременно была запущена в производство крупнокалиберная самоходная пушка Фердинанд.
Тигр имел лобовую броню 100 мм, которую не пробивали 76-мм пушки наших Т-34. Толщина бортовой брони у Тигра – 80 мм, и наши Т-34 могли пробивать её только с близкого 500- 700-метрового расстояния.
На Тигре установлена длинноствольная 88-мм пушка, пробивающая лобовую броню Т-34 с расстояния 1,5–2 км.
Снаряды Фердинанда просто сносили башни Т-34. Пушки Т-34 не пробивали лобовую броню Фердинанда.
К середине 1943 года техническое превосходство оказалось на стороне немецких бронетанковых войск. Вместе с тем наша пехота уже получила противотанковые средства: солдаты были вооружены противотанковыми гранатами и минами, бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми ружьями конструкции Симонова.
К началу битвы Илюшин окончательно отработал самолет – истребитель танков, пикирующий бронированный ИЛ-2 с пушкой, пробивающей сверху верхнюю броню даже Тигров, и сбрасывающий на танки термические бомбы, прожигающие броню танков.
3. Курская битва. Борьба полководцев. Второй перелом в ходе войны. С обеих сторон шла подготовка к битве за Курск.
И вот ударил гром. 5 июля утром началась эта шестая генеральная битва Великой Отечественной войны (1 – Смоленская, 2 – Битва за Киев, 3 – Битва под Вязьмой, 4 – Битва под Москвой, 5 – Сталинградская битва, 6 – Курская битва).
С севера против маршала К. Рокоссовского наступала немецкая группировка, в состав которой входили 6 танковых дивизий. Она продвинулась всего на 12 километров. Главный удар с юга наносила группировка под командованием фельдмаршала Манштейна, в состав которой входили 11 танковых дивизий с Тиграми и Фердинандами. Этот удар приняла на себя 1-я Танковая армия под командованием Михаила Катукова.
В 1941 году Катуков, имея одну танковую бригаду, под Тулой и Мценском фактически остановил наступление целой танковой армии из 4 танковых и 8 пехотных дивизий Г. Гудермана, сорвав окружение Москвы с юга. Это удалось ему, так как он разработал тактику танковых боев против ЧИСЛЕННО превосходящего врага, опираясь на КАЧЕСТВЕННОЕ превосходство наших танков Т-34 над немецкими Т-3 и Т-4. С юга немцы не вышли даже на Оку, т. е. были от Москвы более чем в 200 км.
В 1943 году под Курском перед Катуковым стояла обратная задача. Необходимо было разработать тактику танковых боев против КАЧЕСТВЕННО превосходящего противника. Катуков решил и эту задачу, что и привело к победе под Курском.
Наше Верховное командование перед битвой разработало директиву: «Наступление немецких танков встречать контрнаступлением наших танковых соединений лоб в лоб».
Катуков видел гибельность такой стратегии, но вначале вынужден был выполнять этот приказ и увидел, как Тигры и Фердинанды расстреливают наши Т-34 с расстояния в 1,5–2 км. Он решил обратиться в Генштаб, но тут ему позвонил И.В. Сталин и спросил: «Здравствуйте, Катуков. Доложите обстановку». Катуков прямо сказал, что с контрнаступлением мы поторопились и его надо пока отложить, мы потеряем все танки.
«Что Вы предлагаете?» – «Пока целесообразно зарыть танки в землю или поставить в засады, подпускать Тигры на расстояние в 300–500 м, на расстояние, на котором пушки Т-34 пробивают боковую броню Тигров, и уничтожать их прицельным огнем».
Сталин некоторое время молчал, потом сказал: «Хорошо. Вы наносить контрудар не будете».
И 1-я Танковая армия в течение 7 дней, с 5 по 11 июля, изводила – расстреливала непрерывно наступающие немецкие танки. Им помогали Ил-2.
В течение 7 дней немцы непрерывно атаковали. В каждой атаке участвовало до 200–300 танков и до дивизии пехоты. Они несли огромные потери, однако атаковали снова и снова по 5–6 раз в сутки на различных участках, каждый раз отодвигая нашу оборону на 1–2 км. Танкисты Катукова и пехота отходили и занимали новые позиции. К 6-7-му дню стало ясно, что немцы «выдыхаются» – их потери были слишком большими.
Тогда Катуков применил новый тактический прием – линию обороны на обратных склонах холмов. При этом наступающие немцы не видели наших и не могли проводить прицельную артподготовку. Первые же появившиеся на гребне холма немецкие танки сметал огонь неповрежденных огневых средств обороняющихся.
Было применено ещё одно страшное психологическое средство – гигантские огнеметы. В землю были зарыты 3 цистерны с горючей смесью. И немцы трижды напоролись на них. Каждый такой залп огнемета покрывал несколько гектаров. В огне гибло от 3 до 7 танков и до роты немецкой пехоты. Надо себе представить психологическое состояние немецких солдат, которые ждали, что в любой момент перед ними встанет стена огня и они превратятся в угли.
Однако немцам удалось с юга вклиниться в нашу оборону к 12 июля на 40 км. Но на этом они почти выдохлись.
Манштейн решил нанести последний удар на восточном крыле армии Катукова и стал сосредоточивать танки для прорыва 12 июля на Прохоровку.
В ответ Катуков 11 июля нанес упреждающий удар под основание немецкого клина, угрожая окружить всю немецкую группировку. Этот контрудар и решил исход битвы на юге. Немцы вынуждены были ослабить группировку под Прохоровкой – сняв часть войск для предотвращения окружения. Удар на Прохоровку был ослаблен, в нем участвовало 400–500 немецких танков, и его становило контрнаступление резервной 5-й Танковой армии под командованием Ротмистрова в составе 600–700 танков.
Победа под Прохоровкой далась нам большой ценой.
Наша 5-я Танковая армия пошла в лоб в контрнаступление. При сближении, ещё до того, как наши Т-34 подошли на расстояние в 400–500 м, немецкие танки и Фердинанды расстреляли 30 %, т. е. 1/3 танков 5-й армии. Именно этого и не допускал М. Катуков. Если бы Катуков воевал так же – лоб в лоб, он давно бы остался без танков, и немцы взяли бы Курск. Тем не менее численное преимущество наших танков дало им возможность сблизиться и завязать «свалку» на близком расстоянии.
Немцы, видя, что они опять начали нести серьезные потери, отступили. Немецкое наступление под Курском окончательно провалилось.
Однако на Прохоровском поле осталось подбитыми 60 немецких танков и более 200 наших Т-34. То есть всего в одном сражении Ротмистров потерял треть армии.
Под Курском немцы потерпели поражение, но такого разгрома, как под Сталинградом, не получилось, и война продолжалась. Немцы отступали по всему фронту, яростно обороняясь.
Весь период битвы под Курском с 5 по 14 июля вся страна вновь, как и во время битв под Москвой и Сталинградом, жила в состоянии напряжения. Все понимали опасность и возможность очередного отступления.
Сообщение о том, что Красная армия перешла в наступление, вызвало вздох облегчения всей страны. Таких состояний всеобщего напряжения, как во время Курской битвы, я больше не наблюдал, не было повода.
Теперь наше руководство поняло, что Тиграм и Фердинандам надо противопоставлять новую технику.
В производство был запущен наш 46-тонный танк ИС-2 с лобовой броней в 120 мм и пушкой калибра 122 мм. Снаряды этой пушки пробивали лобовую броню Тигров и сносили их башни.
Были запущены в производство и самоходные противотанковые 120- и 150-мм установки: САУ-120 и САУ-150. Танки Т-34 оборудованы длинноствольными 86-мм пушками.
Танк ИС-2
Экипаж – 4 человека
Боевая масса – 46 т
Скорость хода – до 37 км/час
Основное вооружение – 122-мм пушка
Толщина наклонной лобовой брони – 160 мм
Всего было произведено 2250 ИС-2.
Был выпущен модифицированный танк Т-34-85.
Экипаж – 5 человек
Боевая масса – 32 т
Скорость хода – до 55 км/час
Основное вооружение – 85-мм пушка
Толщина лобовой брони – 90 мм
85-мм пушка и 90-мм броня давали возможность этому среднему танку успешно бороться с тяжёлыми Тиграми. Танк Т-34-85 считается лучшим танком Второй мировой войны.
К середине апреля 1944 года техническое превосходство наших бронетанковых войск и штурмовой авиации ИЛ-2 было восстановлено.
Я и Екатерина II «О нищих»
Страна работала для фронта и продолжала жить нормальной жизнью со своими радостями и огорчениями.
Однажды мы с мамой шли лесной дорогой навестить соседнюю школу. Навстречу нам по дороге шёл поп-священник. Поравнявшись с нами, он снял шляпу, поклонился, пожелал нам доброго здоровья и пошел дальше. Я спросил маму: «Что это он с нами здоровается?»
«Он просто культурный и вежливый человек», – ответила мама. Это меня обескуражило. В школе и дома я был воспитан в воинственном антирелигиозном духе, а священников представлял не иначе, как идиотами в соответствии с образом попа в сказке А.С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде».
Эта встреча и реплика мамы полностью изменили и мои представления, и отношение и к священникам, и к религии, притом что я всё равно остался и остаюсь атеистом. У меня ещё больше укрепился интерес к истории.
Был и другой эпизод, оставшийся в памяти на всю жизнь. Мимо нашего дома шли два убогих, согнувшихся – старик и старуха с сумкой. Они подходили к каждому дому, протягивали руки и что-то жалобно просили.
Я не выдержал, выпросил у мамы горбушку хлеба и подал его старушке с чувством выполненного человеческого гуманитарного долга. Мама явно не разделяла моего настроения и поступка.
Однажды я возвращался с почты по улице одной из соседних деревень и увидел этих «убогих» старичков. Они подошли к калитке большого дома с высоким забором и постучали.
«А, это вы! – раздался из-за забора женский голос, – Ну, как сегодня?» «Да ничего, – ответила бабка, – всего несколько кусков хлеба». – «Ладно, бросьте этот хлеб корове и проходите быстро обедать».
Я остановился пораженный. Я отдал этим старичкам хлеб из нашей скудной пайки. Тот хлеб, каждый кусок которого для меня, брата и сестры был как лакомство. А тут!!
Не могу описать смесь чувств, которые ударили мне в голову. Это было возмущение, злость и чувство оскорбления в моих лучших помыслах и отношениях к людям. Эти «нищие» плюнули мне в душу – четко показав, что нищим-то являюсь я, а не они.
И это чувство и гадливое отношение к нищим я не могу забыть и вспоминаю их каждый раз, как вижу нищих, особенно с пропитыми физиономиями. Мне 80 лет, но я не могу побороть в себе это чувство оскорбления, нанесенное мне, действительно нищему и голодному, в детстве.
В отношении НИЩИХ, изображающих из себя бедных и несчастных, я полностью согласен с указом императрицы ЕкатериныII 1775 года, состоящем из 4 основных положений:
1. Запретить нищенство, попрошайничество.
Запрет Екатерины был не голословным и сопровождался хорошо разработанной системой мер.
2. Управляющим уездами, губерниями следить за тем, чтобы бедные жители их территорий не занимались попрошайничеством. Для этого создавать им условия (давать земельные наделы), где они могли бы работать и обеспечивать себя своим трудом.
Далее шли карательные меры для нерадивых.
3. Всех попрошаек брать и направлять в работные дома, т. е. заставлять работать принудительно.
Вот это мероприятие и надо ввести у нас в отношении неработающих алкоголиков, наркоманов, бомжей и особенно «нищих», толпами едущих в Москву с юга.
4. При этом выяснять, откуда родом эти нищие, и тех губернаторов или управляющих уездами штрафовать за каждого нищего на крупную сумму, чтобы им выгоднее было трудоустраивать нищих у себя.
Был и другой эпизод. Учителя в районе представляли собой единый дружный коллектив. Их сближали ежегодные районные конференции с итогами года и повышением квалификации, а также весьма низкая зарплата и необходимость вести подсобное хозяйство: огород, куры, козы… – у некоторых и коровы.
И вот однажды в 1943 году общую, уже областную конференцию решило провести областное начальство. Пригласили «всенародного старосту» – любимого председателя Президиума Верховного Совета Михаила Ивановича Калинина. Он согласился.
И тогда… Да, начальство решило «убить двух зайцев»: конференцию сделали объединенной – «Работников просвещения и торговли».
Всё чин чином. Зал. Президиум, в нем М.И. Калинин. Зав. гороно открыла конференцию и предоставила слово… Но тут на сцену вышла одна из учителей и обратилась к М.И. Калинину: «Это что, Вы нас сюда для унижения пригласили? Посмотрите. Эти торгаши все в золоте и мехах, а мы, учителя? Мы здесь, по сравнению с ними, выглядим нищими с нашими зарплатами и одеждой в заплатах. Мы не собираемся подвергаться такому унижению».
Все учителя встали и покинули и зал, и конференцию в целом.
Вскоре учителям увеличили зарплату, не помню, на сколько, но увеличили. В общем, положение не меняется и до сегодняшнего дня. И сейчас, в 2008 году у преподавателей даже вузов зарплата смехотворно унизительная. Даже профессор, доктор наук получает 10 000 рублей, а начинающий ассистент не более 3000 рублей при прожиточном минимуме в 4000 рублей. А как быть с семьей и детьми?
Поскольку жизнь стране и народу была гарантирована наступлением наших армий, эта жизнь в деревне текла без особых событий.
Собрали урожай 1943 года. Пережили зиму 1943–1944 годов. Провели посевную кампанию весны 1944-го как на колхозных полях, так и в личных огородах. Нас спасало по белкам и жирам козье молоко. По углеводам? Да, не было сахара, не было конфет, но…! Оказывается, без них можно обойтись. Даже лучше! Ведь сахар добывают из свеклы, удаляя все биологически ценные вещества. Мы, конечно, не могли добывать сахар из свеклы, но свеклы у нас было достаточно. Свекла вареная, свекла пареная, свекла в винегрете – она же очень сладкая. А сушеная свекла ничуть не уступает по вкусу ни финикам, ни кураге. Так что питание у нас было научно-идеальным. Маловато было только мяса. Но раз в неделю каждый из нас на завтрак получал по 2 яйца, и мы пили козье молоко.