Читать онлайн Валсарб бесплатно
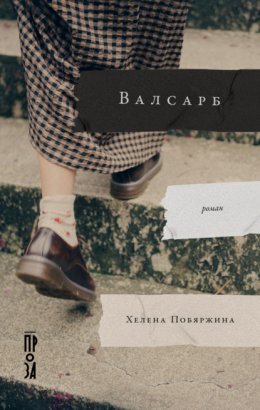
Редактор Наталья Нарциссова
Издатель П. Подкосов
Главный редактор Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Арт-директор Ю. Буга
Корректоры О. Смирнова, Ю. Сысоева
Компьютерная верстка А. Ларионов
Иллюстрация на обложке Getty Images
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Х. Побяржина, 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
* * *
Существует достаточно света для тех,
кто хочет видеть,
и достаточно мрака для тех, кто не хочет.
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ
А мы носились по лужайкам,
когда решались судьбы истории.
Мы не слышали выстрелов.
Вместо истории была гимнастика.
А мы носились по лужайкам,
когда шили нам сапоги.
Короткие ватники
держали нас крепко за спину.
ЭВА ЛИПСКАЯ
Вначале было Небо, и Небо было у Бога, и Небо было Бог.
Бог склонился надо мной, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и продолжение жизни, и мое начало. Он был жизнь, и я уверовала в него. Звали его Пан Бог Дед, и он не был свет, и он не был послан, дабы светить и озарять, или свидетельствовать о свете, или проповедовать истины, или отпускать грехи, но был послан сотворить меня по своему образу и подобию.
И создал Пан Бог Дед мир под небом своим в честь моего рождения и землю со всем сущим, и город с огромной горой на земле, и дом в городе с огромной горой. Потом создал Он светило великое рядом с собой, я зажмурилась от тепла его и удовольствия, и увидел Он, что это хорошо.
И создал Пан Бог Дед на тверди небесной звезды, чтобы озарить ими тьму. И рассеялась тьма над моей колыбелью, и увидел Он, что это хорошо.
Медленно и неторопливо чередовались дни и ночи расплывчатыми картинками, стирая грань между явью и сном. На восьмой день Пан Бог Дед отнес меня ксендзу, чтобы омыть от первородного греха, подарить вход в Царство Божье и дать имя.
А потом вернулся домой и сообщил нашим родственникам:
– Всё. Теперь я ее усыновлю.
Складываю домик из красного кирпича. Старый польский домик из старого красного кирпича. Чердачное окошко высоко, там, где солнце. Сто тысяч миллионов ступенек до входной двери. На самом деле, наверное, десять, наверное, пятнадцать. Но когда тебе пять, их сто тысяч миллионов, и спорить с этим бессмысленно. Вдоль ступенек – топинамбур и рудбекия. Такие высокие, что заканчиваются аккурат на уровне входной двери, к которой ведут сто тысяч миллионов ступенек. Клубни топинамбура Баба пыталась готовить в печке, а рудбекия растет просто для красоты. Она изо всех сил тянется вверх желтыми, взлохмаченными головками, но не может удержать себя на высоте собственного роста и еще до конца августа рухнет, согнувшись в три погибели, прямо на дорогу. Дорога эта и не дорога вовсе, а довольно крутая горка, ведущая с проезжей части вниз к нашему саду. По этой горке, минуя дом из красного кирпича, то и дело снуют люди с ведрами, вверх-вниз, вверх-вниз, вниз – пустое ведро, вверх – полное ведро. Вдоль дома тоже регулярно ходят люди. Все потому, что рядом с нашим садом находится колонка. Неизменно синяя колонка с порыжелыми и серебристыми лишаями напоказ, линяющая клочьями краски. Единственная колонка на всю округу.
Сил приложить нужно немало для того, чтобы она прыснула со смеху и расхохоталась. Пссссс! – старается сдержаться колонка всякий раз, когда на нее нажимают, точно дамочка преклонного возраста, которой рассказали сальную шутку, пытающаяся сохранить лицо и вести себя пристойно, – сссссс-ахххх-ха-ха-ха!!! – вода ударяется о жесть ведра, льется ровным потоком вниз, любопытные брызги бросаются сломя голову через край, остаются коричневыми слезами на песке.
Забавы ради воду проливать никто не станет. В доме из красного кирпича живет Дед, которого все уважают и боятся. Не потому, что это какой-то очень страшный дед, это обычный дед, только как будто всегда чем-то недовольный и угрюмый. А уважение и страх – слова-синонимы, когда имеешь дело с человеком, на чьей территории кому-то взбрело в голову установить колонку для всей округи.
В саду стоит хатка. Маленькая бледно-салатовая времянка. Она выглядит немного беспомощной в окружении шумных яблонь, немного сонной, оттого что в ней нет окон. Ее глаза закрыты сожалением и скорбью по чему-то давно минувшему. В стеклышке двери отражается хлопчатобумажная сетчатая занавеска, за дверью всякий раз обнаруживается уйма занимательных вещей. «Времянка называется хаткой, потому что раньше заменяла нам дом, была нашей маленькой хатой», – поясняет Баба. У меня не хватает воображения. Не может семейным домом служить лачуга, в которой не развернуться. Сейчас, действительно, сюда можно втиснуть довольно много ненужной мебели и всяких любопытных предметов, которые мама называет хлам, но жить вчетвером тут, пожалуй, неудобно. Две продавленные софы смотрят друг на дружку, соревнуясь в количестве пятен на обивке, и для прохода остается ровно три моих шага. Это в ширину. А длина времянки не составит и половины моей детской. Как бы то ни было, хатка весьма успешно притворяется, что у нее интересная жизнь. Это царство испорченных будильников, допотопных телевизоров с навсегда севшими кинескопами, мутных стаканов и пыльных керосиновых ламп, ваз с потертой позолотой и одиноких тарелок из разбитых сервизов. В самых неожиданных местах можно наткнуться на капустниц, потерявших пыльцу и уснувших навеки под целлофановыми крыльями. Из бесчисленных ящиков и коробок изливается море чужих воспоминаний, извергается лавина невысказанных эмоций. Каждый предмет здесь имеет историю, каждый из взрослых помнит ее немного по-своему. Невозможно выбросить стул с отломанной ножкой, ибо на этом стуле сидел еще твой папа, когда был таким же маленьким, как ты сейчас, может, мы его еще починим, отремонтируем, да, этот утюг тоже пригодится, это еще моей мамочки Казимиры утюг, не поднимай, не поднимай, надорвешься.
На столике лежат тетради, старательно исписанные чернилами, их фиолетовые глянцевые ручьи утекли в страну Нетинебудет, впали там в реку, которая пересохла. У папы-школьника очень красивый почерк, когда-нибудь и у меня такой будет. На титульном листе потрепанного учебника с недостающими страницами написано папино имя, у меня уже ритуал – листать этот учебник, когда мы заходим в хатку. Несказанная радость: разглядывать страницы и мечтать о своем имени на форзаце.
В хатке нет понятия пространства и времени. Она ведет себя, точно старый душеприказчик в поисках наследника. По крайней мере, со мной. Я то и дело норовлю утянуть что-нибудь из ее нутра, тем самым помогая разрешить судьбу вещей. А судьба у них яркая, даже самая незначительная безделушка выглядит как подлинное сокровище, пережив еще до моего рождения столько событий и переездов, что мне и не снилось. Хатка битком набита какими-то сложными деталями от автобусов и грузовиков, которые чинит Дед на своей работе, ветошью и выцветшими ситцевыми отрезами, старыми фланелевыми халатами и проеденными молью платками, хозяйственным мылом про запас, письмами и открытками: «Дорогой Сестричке и Эдику с наилучшими пожеланиями на Вельканоц!», километрами ваты в сеточках и отслужившими чугунными горшками «на всякий случай». Больше всего для таких случаев подходит герань или бальзамин: Баба высаживает в посуду живые цветы, и получаются неповторимые цветочные горшки, бывшие горшками для еды, но в прошлой жизни. Этому Бабу научила мама – прабабка Казимира, а прабабку Казимиру ее мама – прапрабабка Францишка. Во все времена есть отжившая свое посуда и цветы. И иной раз дырявый горшок и герань приносят пользу. Если не кому-то, то, по крайней мере, друг другу.
В хатке пахнет пылью и квашеными огурцами. Кислым огуречным запахом пропитаны даже елочные игрушки из ваты и папье-маше. Огурцами постоянно забита необъятная кадка с булыжником сверху. Булыжник называется гнет, я видела, как Дед подобрал его. Откуда берутся огурцы – неизвестно. Во всяком случае, в саду их не выращивают, в саду полагается расти цветам и плодово-ягодным кустарникам. А огород есть только за Тридевять земель, в местечке Заборные Гумна. Там жил Бабин отец, тощий, как жердь, старик, немножко похожий на Кощея Бессмертного, но однажды он все-таки умер, и теперь там осталась его жена, но не Бабина мама, не прабабка Казимира, а какая-то Сабина. Все это очень странно, наверное, огурцы для кадки в хатке выращивает эта Бабина «немама», потому что больше некому.
Время от времени мы путешествуем на громогласном мотоцикле туда – не знаю куда, в поисках того – не знаю чего. Иногда ездим за Тридевять земель. Это всегда приключение во главе с Дедом в зеленом шлеме, озирающим окрестности полководцем, беспристрастно и беспрестанно направляющим тарахтящий мотор прямиком в стаю соседских кур. Каждый раз я поначалу соглашаюсь безропотно и смиренно сносить любые неудобства ради увлекательной и веселой поездки, пока не обнаруживается упущенный памятью нюанс: сидеть в коляске мотоцикла придется у Бабы на коленях – и никак иначе. Баба большая, пышная, как ватрушка с творогом, жарко дышит мне в затылок и вечно пытается закрыть обзор, так надо, потому что дует, но мне же не видно, смотри, какой сильный ветер, а мне не видно ничего, тебя просквозит, да мне же не видно, не видно же ничего, снимисменяэто. То, что закрывает обзор, называется нелепым словом брезент, оно не позволяет нормально дышать, особенно летом, не говоря уже о возможности глядеть на проносящиеся мимо магазины, загорелых людей, лающих собак, греющихся на солнце котов и разноцветные дома в окружении пестрых садов и покосившихся заборов. Ветер сходит с ума, свистит в ушах и треплет волосы, но такие мелочи не помеха для того, кто желает мнить себя принцессой, объезжающей в карете свои владения. Воображаемые подданные снимают передо мной воображаемые шляпы, на проселочной дороге мою карету аутентично трясет, как всякую повозку, управляемую лошадьми. К моменту прибытия за Тридевять земель лошади моего величества успевают так наскакаться по ухабам, что я лишаюсь сил и возможности разрешить вопрос с огурцами и немамой Сабиной. Пока огурцы откуда-то берут и куда-то складывают, чтобы привезти домой и утопить в кадушке под булыжником, я чаще всего сплю, укрытая брезентом. К Сабине приглядеться я тоже не успеваю, в редкие моменты пробуждения, при любой погоде, она растекается красным пятном одной и той же трикотажной кофты, оттого мне кажется, что Сабина – самое красное слово на свете. Просыпаюсь я от треска мотоциклетного мотора, когда мы отправляемся в обратный путь: слева мелькают огромные поля и огороды Заборных Гумен, справа – разделяющий экватор – тридевятьземельный лес, назад ехать не так весело и не так интересно, чтобы приободриться, я начинаю петь, но тут же задыхаюсь, снимисменяэто, не видно же ничего, да мне же не видно, тебя просквозит, а мне не видно ничего, смотри, какой сильный ветер, но мне же не видно, так надо, потому что дует.
Если спуститься с высокого крыльца и подняться на горку, окажешься на улице Великой. Теперь она называется иначе, ничего великого и примечательного на ней нет, должно быть, поэтому передумали и переназвали, там, где я живу, дома большие, многоэтажные, и то улица называется просто и понятно – Садовая, а здесь дома старые, жильцы чаще всего тоже, вот и передумали. Так или иначе, здесь куда интереснее, чем на Садовой с ее серыми глыбами блочных домов на одно лицо, домов, немного на вырост, еще не вписавшихся в географию города. Они скромно подмигивают своими желтыми глазами и стыдливо заливаются краской по вечерам, будучи застигнуты за просмотром многосерийных закатов над озером.
На Великой вокруг домов огороды и цветы, в низких окошках висят занавески на ниточках, все друг друга знают и здороваются издалека, как в деревне. Я гордо шагаю за руку с Бабой по этой улице Великой, очень узкой улице без тротуара, мимо дома тети Вали, мимо дома Алеськи, у которой во дворе песочница, мимо дома старого Рысика, с которым дед играет в карты, мимо хлебного магазина справа, мимо магазина «Сувениры» слева, мимо длинной конторы хлебозавода. Все это занимает десять минут, и мы приходим в костел. Летом я бываю здесь чаще, потому что чаще гощу у папиных родителей. Баба ходит сюда как на работу, то есть каждый день. К тому же костел и Бабина работа тесно связаны друг с другом: Баба работает на хлебозаводе, а от него до костела рукой подать.
В костеле мне нравится. Пожалуй, это самое красивое место из всех, что я видела, а возможно, и самое красивое на свете. Костел похож на замок, хоть я и не была в настоящих замках, но, думаю, так они и выглядят: шпили высокие, окна полукруглые, двери тяжелые. Центральная парадная дверь открыта только по праздникам, боковая, в которую следует заходить в будни, не поддается моим детским рукам. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, только это нелегко, как с ручкой колонки, – без боя не войти в эту крепость и не напиться из живительного источника. Но Баба уверенно распахивает ее, мы ныряем внутрь, точно в темницу, становится и страшно, и смешно, потому что ничего не видно. В нос ударяет запах старого лака и мира. Делаешь несколько неверных шагов, входя в притвор, становишься вслед за Бабой на колени: нех бэндзе похвалёны Йезус Хрыстус, угол напротив озаряет лик огромной иконы Божьей Матери – ослепительно-золотой, невыносимо прекрасной, тени вокруг оживают, светлеют, дух захватывает от высоты потолков и цветных стеклышек в окнах, от органной музыки и пения на непонятном языке девушки на хорах, но Баба уже тянет за собой к лавкам, на свое заслуженное место, которое не куплено, конечно, что за глупости, детка, просто все знают, что я здесь сижу, потому что я всегда здесь сижу, много лет, меня здесь все знают, и Пан Бог тоже знает, и меня знает, и что я здесь сижу, и что ты – моя внучка, он все знает и все видит вообще.
Он стоит на крыльце и смачно курит папиросу, первый сорт, двадцать две копейки пачка. Свой табак, конечно, не сравнится, не так горчит, лучше пахнет, но где его взять в июне, до июня своей махоркой не разживешься, все, что он высадил недавно в садике, зазеленеет ближе к осени, а закончится еще до нового года. Даже с учетом сушки и ферментации. Он тушит папиросу о дно консервной банки, которая на крыльце служит пепельницей. Вспоминает, что не купил новую пачку, надо собраться и сходить в ларек у остановки, в голове шумит от выпитого, пару стопок на работе махнул с мужиками, всего пару стопок, даже запаха нет, но Галя учуяла, сказала, что одна с девчонкой в костел сходит. Он и сам знает, что нечего к Пану Богу пьяным являться, ему досадно, что именно сегодня подвернулся этот Алик со своим вином, сегодня будет красивая служба в честь Непорочного Сердца Панны Марии. Она сохраняла все слова Сына в сердце Своем. А Сын безраздельно принадлежал Отцу. Это верно. Так и должно быть.
Мимо него с горки опрометью скатываются двое ребят, у одного ссадина на локте, у другого разбито колено. Резко притормаживая, Ссадина хватается за молодой, упругий стебель у крыльца и с усилием тянет его вверх.
– Подумаешь, картошка, да это редька какая-то, – отзывается Разбитое Колено, наклоняясь за неизвестным клубнем.
– Верни на место! – раскатистым басом велит Пан Бог с небес.
Ребята на мгновенье замирают, и Разбитое Колено швыряет находку обратно на землю.
Крыльцо красного дома нетерпеливо поскрипывает у них над головами. Высокий помост Олимпа с миллионом ступенек вниз, на грешную землю. Мальчишки убегают, не оглядываясь. Нутром чуют, что этот Пан Бог, этот угрюмый дед из красного дома, не очень-то церемонится с простыми смертными. Дед спускается и подбирает клубни топинамбура, нелепых желтых цветов, которые выращивает Галина. Цветы многолетние, неказистые, но надо отдать должное – отлично украшают крыльцо в конце лета, если успеть их подвязать. Если сейчас пойти в ларек за папиросами, можно заодно и Галю с девчонкой на углу подождать.
Матерь Божья Валсарбская до того, как, собственно, стать Валсарбской, была самой обыкновенной Мадонной, жила в деревянном монастыре на острове, и ей там нравилось. Время от времени ее выносили из монастыря к людям, и она являла им чудеса, пока стар и млад у противоположного берега воздавали ей хвалу. Паломники шли к ее обители толпами, прося рыбы и хлеба, потомства и здоровья. Она освящала всякие воды и давала надежду людям с Большой земли. Но нечестивыми оказались монахи, живущие на острове. Не пожелали они делить пожертвования с нищими, и те прокляли их. Ударила в монастырь молния, вспыхнул он и сгорел дотла. Ничто не уцелело, кроме чудотворной иконы. Образ Мадонны в золоченом одеянии засиял на соседнем островке. Она решила обрести там новую обитель.
В это время в Валсарбе Ксендз Игнаций строил костел, чтобы Пан Бог не оставил город милостью своей. Долго не думая, прихожане попросили Ксендза перенести святой образ с острова в Валсарб. Ксендз добросовестно совещался с Господом, рассуждал, хорошо ли это будет, правильно ли он поступит, если заберет икону, но Пан Бог задумчиво молчал. Ему нужны были гарантии. Среди верующих Валсарба оставалось немало тех, кто ленился превозмогать грехи и страсти свои, стало быть, устраивать приют святыне здесь было попросту опасно. Однако Ксендз счел молчание знаком согласия, и образ перенесли. Сутки напролет ревностные католики Валсарба воздавали хвалу Пану Богу и Благословенной между невест, а на другой день с удивлением обнаружили, что Матерь Божья исчезла. Она вернулась на остров.
Ксендз обратился к Богу с вопросом, что он делает не так. Бог ответил: «На островах Мадонну почитали без малого триста лет, ей нелегко покинуть те места, дай ей время».
Вот только люди были нетерпеливы. Они жаждали без промедления завладеть персональной Богоматерью, гневались на спокойствие Ксендза и уповали на Божью милость. Снова и снова прихожане Валсарба шли крестным ходом, заносили образ в костел, но ни одна из попыток не увенчалась успехом: Матерь Божья была глуха к их литаниям и не желала разговаривать с ними. Упорно возвращаясь на остров, она будто давала понять, что иначе и быть не может.
Ксендз больше не просил помощи у Бога, не роптал и не сетовал, решив смириться с тем, что не избрал его Господь, подобно Веселеилу, не исполнил его Духом Своим, лишь напоследок поинтересовался, неужто он и приход его провинились настолько, что остаться святыне здесь непозволительно, неужто он затеял небогоугодное дело? И сказал Бог: «Помогу тебе милостью своей, и снизойдет моя благодать, когда икону с острова со всеми почестями перенесут истинно раскаявшиеся воры».
И послушал Его Ксендз, и стало так. И увидела Матерь Божья силу доброй воли, и взялась опекать землю, окруженную озерами, и покровительствовать городу Валсарбу.
Тише. Она спит. Не спит. Спит, спит. Надо было другое одеяло ей дать, ты холодное ей дала. Жарко, не выдумывай. Когда спишь, не жарко. Накрой моим тогда. Не буду сейчас, разбужу еще, как все прошло? Похоронили нашего Чеслава – вечный покой даруй ему, Пане, – как мы теперь без него, такой ксендз хороший. Говорят, он накануне еще несколько пар обвенчал, а вот как бывает. Раз – и нет человека, она поела? Поела, не переживай. Молодой же еще был, а? Лет на пять тебя старше. Совсем не возраст. Не возраст. Завтра хорошо протопить надо, стало холодать по ночам, я даже замерзла, пока ждала, а могилу будут бабы сторожить, чтоб не выкопали. Из исполкома поступают угрозы, непорядок, говорят… Вот курвы!.. Тише, Эдик! – непорядок, говорят, не положено хоронить не в местах, специально отведенных под захоронения… Я говорю, курвы, после смерти человеку покоя не дают! Такой человек великий, столько добра сделал, малую нашу окрестил. А где похоронили?.. А здесь, справа, если со стороны входа смотреть, сразу за костелом, там, где и ксендз Мечислав лежит, лучше места и не придумаешь. Он всегда будет дома теперь, и на небе, и на земле, рядом с костелом. Памятники им, дай Бог, со временем установят, когда все уляжется. Так жалко его, до сих пор поверить не могу… Надо бы сходить, посмотреть. Все хотят посмотреть, Эдик, но лучше не надо пока. Пока не прознали. Ой, мать, как будто кто-то не знает! А бабы говорили, он в тюрьме сидел, Чеслав наш. Так это всем известно, его же выпустили тогда почти сразу, после ультиматума, иначе в колхозах уборку не закончили бы. Збышек говорил, побоялись они, в нашем Белом доме, народного гнева, мол, проблем не оберешься. Не тогда, в молодости сидел, и долго, говорят, несколько лет. За что это еще? Якобы за дезертирство, что-то у него там со службой… Дезертир – это плохо. Да, но бабы точно не знают… Тсс!.. Да спит она, спит… Бабы точно не знают, может, он, вообще, за веру сидел, как мы теперь будем без него? А от чего умер, известно? Сердце. Инфаркт, наверное. Раз – и нет человека. С другой стороны, быстро, не мучился. М-да, хорошо, когда быстро. Святым людям – легкая смерть. Прими, Пане, молитвы наши за душу слуги твоего Чеслава Вильчинского, ксендза Валсарбского.
Валсарб – это город-кладбище. Здесь чувствуешь мертвых под ногами. Ксендза здесь хоронят прямо возле костела, католиков на одном кладбище, евреев на другом, а одного доктора похоронили прямо на Замковой горе. На Замковой горе действительно были замок и крепость, только немного игрушечные, потому что деревянные. До чего же они были ленивые и недальновидные, эти князья, строившие замок из дерева. Все знают, что дерево недолговечно. Если его не поточит жучок-короед, то оно обязательно сгорит. Не уцелевшие княжеские хоромы на просторах горы до сих пор маячат призраком. По крайней мере, я их там вижу, не знаю, как другие.
Доктор Нарбут, который похоронен на горе, жил позже, поэтому памятник ему сохранился. Это высокий обелиск с фонарем наверху. Фонарь служит маяком для рыбаков, ведь Замковую гору окружают озера. Доктор Нарбут жил во времена прапрабабки Францишки и лечил прабабку Казимиру. Он запрягал повозку и мчался спасать людей, даже когда вместо ноги у него уже был протез. Прапрабабка Францишка угощала его квашеными огурцами и несла горшки с бальзаминами в благодарность за спасение своих детей. Соседи сходились со всех окрестных дворов к тому дому, куда приезжал доктор Нарбут, – за советом. Он никому не отказывал в помощи, поэтому его похоронили, как ангела, над головами, на высоте четырнадцати метров, чтобы он продолжал спасать всех, кого невозможно спасти.
Раньше на Замковой горе были хоромы, а сейчас только деревья. Их посадили лет тридцать назад, так Дед говорит, а до этого было пусто и голо. А может, и не было. Я умею считать до тридцати, но мне не нравится считать. Читать мне нравится больше, и я уже знаю, как буквы складываются в слова, меня Баба научила по псалтырю. Жаль только, что я не понимаю этих слов, лишь некоторые. Как и пения девушки на хорах. Потому что это польские слова и написаны не такими буквами, как «ларек», «хлеб» и «сувениры». Я не умею читать «ларек», «хлеб» и «сувениры», я просто откуда-то знаю, что на магазинах по дороге в костел написаны эти слова. Я умею читать слова в Бабином молитвеннике, но не понимаю, что они означают.
В центре города есть Кладбище-с-Солдатами и Просто Кладбище. Они находятся друг напротив друга, через дорогу. Просто Кладбище похоже на круглую игольную подушечку: возвышенность, утыканная крестами-иглами сверху донизу. На Кладбище-с-Солдатами нет памятников, нет крестов, только холмики. Эти солдаты погибли давно, когда прабабка Казимира только родилась. Могилы все безымянные, поросшие мхом и вьюнком. Солдаты смотрят через дорогу на просто людей с Просто Кладбища и немного им завидуют. Просто люди помнят, как их зовут, со временем окружаются семьями, им приносят цветы и свечи. Солдатам раз в год приносят один венок на всех, а осенью они собирают на своих могилах гербарии.
На первом повороте от кладбищ стоит низенький беленький домик. Это ясли. Мама отвозила меня туда в коляске перед тем, как ехать на работу, но я этого не помню, хотя мама говорит, что в яслях мне нравилось. За яслями находятся валсарбские почта-телеграф-телефон в очень красивом старом доме из красного кирпича, где раньше была гостиница. Слева площадь. На площади стоит серебристый памятник главному революционеру: лысый дяденька, засунув руки в карманы пальто, устало наблюдает за городским движением. За спиной у него недавно посадили елочки, и теперь они украшают площадь вместе с памятником. Там же стоит большое белое здание – исполком. В нем работают люди, но я не знаю точно, чем они занимаются. Мужчины туда заходят исключительно в костюмах и при галстуках, а женщины – с огромными башнями из волос на голове. Таких людей показывают по телевизору в новостях, и они совсем не похожи на моих родителей. Мой папа не носит костюмы, ходит, не застегивая ворот рубашки и с пятнами машинного масла на брюках. А у мамы красивые русые волосы, которые она перед сном специально завивает на бигуди. В мае и ноябре вокруг памятника революционеру собираются люди со всех предприятий города и хором уверяют его в том, что он всегда живой. В костеле тоже поют, только по-польски, о вечно живом Сыне Божьем, и там тоже собирается довольно много народа. Я иногда задумываюсь, кто из них важнее: Святой Сын или серебристый революционер. С одной стороны, наверное, святой. С другой стороны, его никто не видел, а тут живой человек. То есть уже не живой, но и не мертвый. Не ясно до конца, так ли уж они бессмертны на самом деле. Если хорошенько поискать дуб, на котором висит сундук, можно отыскать яйцо, а в нем – чью угодно смерть на конце иглы. На площадь я хожу с мамой, в костел с Бабой, и спросить, кто из этих двоих главнее, не решаюсь. Что-то мне подсказывает, что этот вопрос моим близким не понравится. Для себя я решила, что если у Бога действительно был сын, он нравится мне больше главного революционера.
Еще мне нравится ряд польских домиков, сбегающий вниз от площади. Они называются Домики Клоса. Не знаю почему. У них каменные фундаменты и широкие ставни. Крыши сверху нахлобучены, будто шляпы. Иногда я воображаю, что живу в каком-нибудь из этих домиков, а не в скучном блочном доме с балконом. Старые постройки и вещи, по-моему, намного симпатичнее новых. Люди, которые здесь родились, должно быть, очень счастливы. Тут тебе рядом и площадь, и ресторан, где все празднуют свадьбы, и самое большое озеро в городе, и еще целых два кладбища: еврейское и братская могила с солдатами, погибшими на войне, про которую мы в детском саду учим грустные стихи. На еврейских памятниках выбиты непонятные значки. Язык евреев совсем не похож ни на польский, ни на русский. И буквы тоже. Получается, они очень умные, если разбирают эти значки.
Мемориал с солдатами окружен сквером. Здесь имена на братской могиле написаны по-русски. Это кладбище часто снится мне по ночам. Вот откуда я знаю, что мертвых там больше, чем указано на табличках. Не хватает имени как минимум одного парня. Мемориал всегда минуешь по дороге на автостанцию. Иногда, проходя мимо, я машу этому парню рукой, пока мама не видит. Впрочем, всегда можно сделать вид, что машешь вороне, сидящей на сосне. Сосен здесь много, а ворон над братской могилой больше, чем семечек в подсолнухе.
Что там, за окном, не видно, есть только красивые, переливающиеся узоры на стекле. Их рисует Мороз Иванович своим посохом, получаются перышки, листики, розочки, завиточки – и они никогда не повторяются. Мороз Иванович ездил в одно село на маминой родине, оно называется Гжель, там он брал уроки рисования у местных мастериц. Они расписывают белую посуду голубыми красками, а Мороз Иванович – прозрачные предметы серебром. Мастерицы работают круглый год, а Мороз Иванович – только зимой. В остальное время он спит в своей берлоге.
Красные санки мне купили давно, тогда я еще почти не разговаривала, но мама катает меня только в садик и иногда в магазин. Сегодня выходной, и папина очередь катать.
Я смогу спокойно убрать квартиру, говорит мама, пока вы покатаетесь. Убираться лучше, когда никто не путается под ногами.
Пойдем и найдем самую большую горку, говорит папа и улыбается.
Я молчу и не улыбаюсь. Мне известно, что если на окнах столько узоров и они не тают, даже когда на них долго дышишь, значит, на дворе очень холодно. Я не люблю, когда холодно. Я люблю сидеть в теплой квартире на диване и листать свои книжки. Папа так редко бывает дома, лучше бы он мне почитал. Больше всего мне нравится сказка про Сивку-Бурку. И сам конь с пылающей гривой нравится, и то, как его нужно звать, выйдя в чисто поле: «Сивка-Бурка, вещи и кабурка! Встань передо мной, как лис перед травой!» Конь такого же огненного цвета, как шерстка у лис. Он волшебный и исполняет желания. Я желаю остаться дома, но меня уже рядят в сто одежек – все без застежек: сверху шуба, на голову шерстяной платок, на руки кусачие варежки.
На улице градусов сто или тысяча холода, как я и думала.
Мороз и солнце, день чудесный, говорит папа. Солнце – белое и ровное блюдце, от него больно глазам, и я смотрю на сугробы, такие блестящие, как мамины голубые тени для век в прозрачной коробочке.
Сугробы большие, но нет подходящей горки, говорит папа, устраивая меня на сиденье. Папины слова клубятся, вылетают изо рта, будто пар из кастрюли.
У меня мгновенно леденеет нос, в щеки неприятно впиваются невидимые колючки. Улица похожа на большую морозильную камеру. Даже через мою шубку и все одежки пробирает холод. Наверное, папа тоже чувствует его. Но он улыбается и говорит: я знаю. Я знаю, куда мы поедем. Поедем на стадион, там самая высокая и безопасная горка.
До стадиона недалеко, только лучше бы я шла пешком. Санки подпрыгивают на каждой снежной кочке и каждом ухабе. Внутри у меня тоже что-то подпрыгивает.
Озеро встало, говорит папа. Подрастешь, купим тебе коньки.
Эти высокие тапочки с лезвиями носят люди в любимой маминой передаче «Чемпионат мира». Они умеют быстро бегать, вертеться волчком и даже прыгать в этих своих коньках. Иногда они падают. Я знаю, что лед – это скользко и больно. Я не умею вертеться волчком и не хочу коньки.
На стадионе пусто и белым-бело.
Наверное, все остальные катаются на какой-то другой горке, говорит папа. Не думаю. Скорее всего, все остались дома.
Закрыв глаза, я лечу вниз, не держу равновесие, санки круто сворачивают и заваливаются набок. Пока папа спускается, я догадываюсь, что нужно подняться, но у меня не получается. Маша говорила, что я вешу пуд. Даша говорила, что шубка и бурочки весят пуд. Поэтому я – Ванька-Встанька.
Папа стремительно поднимает меня, улыбается, отряхивая шубку: понравилось, а? Скажи, здорово? Давай еще?
Я смотрю на вершину, с которой только что спустилась. Черные карандаши деревьев вдали красиво сверкают белыми прическами, украшенными блестящей мишурой.
Любишь кататься – люби и саночки возить, говорит папа.
Он тянет санки за длинный шнур бельевой веревки, я держусь за нее, как прищепка. Под ногами хрустит. Сверху пугающе кричит галка. Солнце-лампа настолько яркое, что слезятся глаза. Мне хочется сказать: идем домой. Мне хочется сказать: холодно. Но папа такой веселый. Он лихо поднимается в гору, почти вприпрыжку, я не могу омрачить его радости, я буду счастлива его счастьем. Буду снова и снова тихо-мирно съезжать вниз, заваливаться набок на спуске, прилагать неваляшкины усилия, чтобы подняться, до тех пор, пока папа не скажет: пойдем домой? Пока шутливо не защелкает зубами: холодно.
У Даши белые волосы и серые глаза. Она вылитая Падчерица из фильма «Двенадцать месяцев». Подбородок у нее кверху, любопытный мышиный носик, будто постоянно принюхивается к чему-то.
Волосы она не красит, они такими белыми сами растут. Но мне нравятся такие волосы, как у Маши. Они настолько черные, что даже немного синие. Глаза у Маши, как вишни, темные, нос картошкой, на лбу угольные завитки. Маша очень симпатичная, мне вообще нравятся женщины с темными волосами. Только Маша не женщина, а нянечка. И Даша тоже. Они абсолютно разные, хотя одного возраста. Маше и Даше по восемнадцать, они – нянечки и девушки. Это мама мне сказала. Мама – женщина, потому что у нее есть я и папа, а Маша и Даша – девушки, потому что детей у них пока нет. Точнее, у них полно детей. В одной нашей группе пятнадцать человек.
Даша – очень серьезная и всегда чем-то занята. Если она не подтягивает чьи-нибудь спущенные трусы, то обязательно завязывает кому-то бант или шнурок. Маша – веселая и любит поболтать. Чаще всего она болтает со мной, а я не против. Мне нравится стоять, прислонившись спиной к печке, водить руками по скользкому бледно-розовому кафелю и слушать Машины взрослые истории, пока она заправляет пятнадцать кроватей после тихого часа. Она хотела поступить в институт, но провалила экзамен. Поэтому пока она нянечка, а потом будет историком. Жить уедет в большой город, а сюда будет приезжать только на раскопки. С Машей интереснее, чем играть в песочнице. Она столько всего знает! К примеру, она знает, что в нашем детском саду раньше жил хранитель города, и, по-моему, это очень странно – занимать такой большой дом, даже если у тебя есть жена и дети. Но Машина бабушка была с ним знакома, и, по ее словам, это совсем не удивительно, раньше все было иначе. Именно бабушка надоумила Машу быть историком, но пока ее истории слушаю только я.
Помимо воспитательницы, Маши и Даши, у нас есть дядя, который топит печь. Он приходит всегда во время тихого часа с охапкой поленьев и следами сажи на щеках. Этот дядя – военный и, наверное, помогает детскому саду на общественных началах, ведь топить печь нелегко. Он аккуратно укладывает в нее поленья, скрипит чугунной дверцей с круглой ручкой и уходит, удовлетворенно потирая руки и бормоча себе под нос одни и те же слова.
В комнате очень светло, даже если зажмуриться, темнее не становится, перед глазами пролетают то вверх, то вправо зеленые и черные блестящие круги, будто металлические пузыри, Ваня тоже не спит, даже не пытается притворяться, лежит и разглядывает свои ладошки, точно на них нарисовано что-то интересное, натюрморт или карта сокровищ, а Миша спит, он всегда спит, даже храпит иногда и пускает слюни, повезло ему, никогда не мешает свет. Наверное, те листочки на дереве, которые я видела вчера, еще немного подросли, а мама сказала, что это куст, а не дерево, а чем они отличаются, тем, что дерево намного выше, но они все высокие, это просто потому, что ты маленькая, вот подрастешь и поймешь разницу, и пойду в школу, обязательно пойдешь, да, в форменном платье из «Детского мира», да, сандалии будут белые, да, куплю.
Почему это листочки у деревьев сначала такие бледные, потом такие зеленые, а осенью такие разноцветные, надо бы сорвать один, принести домой, посмотреть, как он меняет цвет.
На уголке наволочки чернеет штамп, большой и безобразный, для чего штамповать белое белье черным, если это так уж необходимо, стоило бы придумать невидимый штамп. Еще штамп бывает на шкурах магазинного мяса и у мамы на работе. Странно, что столько вещей нуждается в штампах.
Когда Миша ворочается, то даже кровать скрипит, что, если он грохнется как-нибудь на меня и придавит своим верхним ярусом?
Ваня ковыряет в носу и думает, что его никто не видит.
– Паразиты, – это Маша вслух сказала за стенкой, здесь отличная слышимость. Сказала и заплакала. За окном радостно завторила ей какая-то птичка.
Паразиты – это скверно, это такие черви, которые заводятся внутри человека и могут есть за него всю еду, а человек только болеет и худеет. Паразиты и сволочи. Сволочь – это бранное слово, наверное, даже неприличное. Кто-то обидел Машу, кто-то молчал до седьмого мая, прошло уже десять дней, а эти преступники только сейчас открыли правду, но можно ли им теперь верить, если нужно было пить йод сразу и напоить всех детей, а они, паразиты и сволочи, молчали.
Интересно, как это – пить йод? Он же жжется и мажется. Станет ли от него коричневым язык? А зубы? Может, оттого, что некоторые люди пьют йод, у них такие некрасивые коричневые зубы и бывают? Всю баночку нужно выпить или только чуть-чуть? Нужно обязательно уточнить. А если бы я отказалась его пить, что тогда?
– Небо было багровое, красное небо и свечение вокруг, – Маша говорит.
Получается, она ходила в кинотеатр на фантастический фильм про красное небо? Неужели ей нравятся такие фильмы, удивительно.