Читать онлайн Барин-Шабарин 9 бесплатно
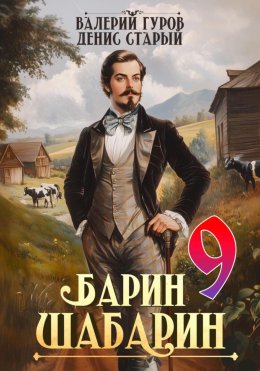
Глава 1
Тишина в детской была зыбкой, обманчивой. За дверью слышалось ровное дыхание спящих близнецов – Лизоньки и Алешеньки. Петя, наш пятилетний «адмирал», наконец сдался после третьей сказки о морских чудищах, засыпая с деревянной сабелькой в руке.
Я стоял на пороге детской, опираясь о косяк, чувствуя, как усталость, накопленная за день битв в Комитете и отражения теневых ударов, наваливается свинцовой тяжестью. И среди этой тишины, в мягком свете ночника, сидела она. Елизавета Дмитриевна. Моя Лиза. Жена, к которой я даже не прикоснулся после долгой разлуки.
Она не смотрела на меня. Ее пальцы, тонкие и обычно такие уверенные, бесцельно перебирали складки шелкового пеньюара. Профиль ее, освещенный сбоку, казался вырезанным из холодного мрамора.
Красивая. Недосягаемая. Мы не виделись месяцами. Война, дела, эта проклятая Аляска… Я видел, что Лиза ждала этого вечера. Ждала тепла моих рук, тихого шепота в темноте, забытья, но сейчас воздух в комнате был густым, как смола, пропитанным невысказанным. По обычаям этой эпохи мы должны были объясниться.
– Алеша… – ее голос прозвучал хрипло, неуверенно и в тоже время – страстно.
Видно, что соскучилась. Я – тоже. Сделав шаг внутрь комнаты, я сказал:
– Дети спят. Все спокойно.
– Спят, – ответила она, не поднимая на меня глаз. Ее голос был гладким, как отполированное стекло. – Петя долго не мог успокоиться. Спрашивал тебя. Хотел показать, как его фрегат потопил английский бриг.
Я кивнул. Каяться мне было не в чем. Я и не обещал, что буду сидеть с ними неотлучно.
– Завтра… – начал я, подходя ближе, пытаясь поймать ее взгляд. – Постараюсь отложить все дела и показать ему учебный морской бой. С холостыми выстрелами и абордажем.
– Завтра в восемь у тебя заседание Комитета, – отрезала она все тем же ровным, бесстрастным тоном. – А в девять тридцать – совещание у Военного министра. Прости, я видела пометки в твоем календаре. Выделено красным. «Неотложно».
Лиза знала меня. Знала, что я ни под каким предлогом не откажусь от дел, которые считаю важными. И использовала это знание сейчас как щит. Я сел на край кровати, почти в метре от нее. Достаточно близко, чтобы чувствовать легкий аромат ее духов – лаванды и чего-то неуловимо горького. Слишком далеко, чтобы коснуться.
– Прости, – прошептал я. – Знаю… знаю, что был далеко. Что ты одна… с детьми… в Екатеринославе, в дороге, здесь… Это… несправедливо, но…
Жена, наконец, повернула голову. Ее глаза, обычно теплые, как осенний мед, сейчас были темными, бездонными озерами. В них не было ни гнева, ни слез. Была… усталая, ледяная ясность.
– Несправедливо? – Она слегка наклонила голову, будто изучая редкий экспонат. – Алексей, ты забыл прислать цветы на нашу годовщину. Ты не был на крестинах Лизы и Алеши. Ты даже не спросил, как мы доехали? Я давно привыкла к твоему… отсутствию. Даже когда ты телесно здесь, мысли твои где-то далеко… В этих твоих комитетах, чертежах, шифровках. – Лиза помолчала, и в тишине шипение керосиновой лампы стало еще громче. – Это не несправедливость. Это… данность нашей жизни. Я приняла ее. Давно.
Я хотел возразить. Сказать, что строю будущее для них, для России. Что каждое решение в Комитете, каждый рискованный шаг – ради них. Однако слова застряли в горле. Они прозвучали бы фальшиво даже для меня самого. Потому что среди всех причин была и одна, о которой мы не говорили открыто. Тень, висевшая между нами почти два года. Тень, о которой супруга, похоже, знала. Нашлись доброжелатели.
– Я слышала, – произнесла она тихо, почти шепотом, но каждое слово падало, как камень. – Про Анну Владимировну Шварц… Что она… пыталась утопиться. В канале. Ее вытащили. Сейчас она в… – Лиза чуть помедлила, подбирая слово, – в заведении доктора Штейна. Для нервнобольных.
Вот и прозвучало это имя – Анна Шварц. Красивая, истеричная, безумно влюбленная когда-то… и безумная в буквальном смысле сейчас. Наша связь – давняя ошибка, краткий всплеск слабости на фоне бесконечной работы и отчуждения от Лизы.
Кончилось все быстро, уродливо. Анна смогла принять это. Не преследовала меня письмами, угрозами или попытками шантажа. Я о ней и не вспоминал, что было – то прошло. Однако ее пытались втянуть в политическую игру вокруг меня… Вот она и доигралась… До Екатерининского канала и лечебницы Штейна.
– Лиза… – начал я, голос предательски дрогнул. – Это… давняя история. Глупая. Постыдная. Она… не имела значения. Никогда.
– Для тебя – не имела, – парировала она мгновенно, и в ее глазах мелькнуло что-то острое, как лезвие. – Для нее – имела. Достаточно, чтобы броситься в ледяную воду. Достаточно, чтобы сойти с ума. – Она встала, подошла к окну, спиной ко мне. Ее фигура в тонком пеньюаре, очерченная тусклым светом из окна, казалась хрупкой и несгибаемой одновременно. – Я не ревную, Алексей. Бога ради. Тела? Они преходящи. Я знаю цену твоим амбициям. Но… – она обернулась, и в ее глазах стояли не слезы, а лед, – но когда твоя… слабость… ломает жизни, когда она приводит к таким вот… каналам и лечебницам… Это уже не просто твоя постыдная тайна. Это грязь. Которая может забрызгать тебя самого. И нас. Петю. Лизу. Алешу. Твои враги ищут крючок, чтобы зацепить тебя. И Анна Шварц с ее безумием – идеальный крючок. Ты ведь мог подставить нас. Не своей изменой, а своей… беспечностью.
Каждое слово било точно в цель. Я чувствовал, как гнев – на себя, на Анну, на эту ситуацию – смешивается с пониманием того, что Лиза в общем права. Что эта история – слабое звено. Что Щербатов или Андерсон могут докопаться. Использовать сумасшедшую женщину, чтобы бросить тень на меня, на Комитет. Опасность была не в самом факте давней связи, а в ее уродливом финале и в том, что я допустил его.
– Не я довел ее до этого, – сказал я, вставая. – Да, я не отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Я поддался ее просьбе, но сразу дал понять, что наша связь окончена. – Я сжал кулаки. – Ее пытались использовать против меня. Хотели запутать, втянуть в дешевый фарс, но Анна… Она перерезала горло одному из них и выстрелила в голову другому. Так что в канал она бросилась не из-за меня. И все же я помогу ей… Ее переведут в лучшее заведение. За границу, если надо. О ней позаботятся. Это… будет исправлено.
– «Исправлено»? – Лиза горько усмехнулась. – Жизнь, сломанную твоим равнодушием и ее безумием? Ты можешь запереть ее в самой дорогой клинике Швейцарии, Алексей. Но ты не исправишь того, что уже случилось. И не вырвешь того шипа, который теперь сидит во мне. Этот шип – знание о том, что мой муж, вице-канцлер, организатор великого восстановления Империи, так легко, так беспечно переступает через души. Что для него люди – пешки. Как в твоих комитетах. Как в твоей тайной игре на Аляске…
***
Рейкьявик. Название, означающее «Дымная Бухта», оправдывало себя. Холодный дождь смешивался с едким дымом от сотен печей, отапливающих низкие, крытые дерном дома. Воздух вонял рыбой, дегтем, влажной шерстью и угольной пылью.
«Святая Мария», втиснутая между потрепанной норвежской шхуной и черным от пыли британским угольщиком, казалась чужеродным лебедем в стае поморников.
Иволгин стоял на квартердеке, наблюдая, как команда, под неусыпным взором Бучмы, принимает последние мешки с углем. Каждый мешок был глотком жизни для паровой машины. Глотком, купленным слишком дорого.
Они стояли в Рейкьявике второй день. Это были два дня нервного ожидания, щемящей тоски по дому и постоянного чувства, что за ними следят. Иволгин знал – следят. «Ворон» не ушел. Он маячил на внешнем рейде, за туманной пеленой, вытянутый, тускло-серый, зловещий, как гроб. Его команда даже не была отпущена на берег. «Ворон» просто ждал, притаившись, как хищник у водопоя.
– Уголь приняли, капитан, – доложил старший помощник Никитин, поднимаясь на мостик. Его лицо было серым от усталости и небритой щетины, но в глазах горел старый огонь. – Пресная вода – полные цистерны. Провиант – на три месяца, если экономить. Соль, медикаменты… все, что смогли найти в этой дыре. – Он кивнул в сторону выхода из бухты. – А тот… все там. Как привидение.
– Вижу, – отозвался Иволгин, не отводя подзорной трубы от силуэта «Ворона». – Он ждет, когда мы выйдем.
– А почему он не взял нас здесь? – спросил Никитин, понизив голос. – В порту? Не захотел скандала?
– Потому что капитан его не дурак, – резко сказал Иволгин. – В порту – свидетели. Власти. Пусть это всего лишь датчане… Захват судна под Андреевским флагом – инцидент. А в открытом море…
Он не договорил. В открытом море можно было устроить «несчастный случай». Исчезновение. Или захват «по подозрению в пиратстве». Без лишних глаз.
Капитан скользнул взглядом по набережной, где толпились зеваки – выродившиеся потомки викингов. И обратил внимание на высокого человека с головы до ног затянутого в черную кожу. Он подошел к вахтенному матросу, дежурившему у трапа. Что сказал ему.
Парень сорвал бескозырку и просемафорил ею на мостик: «Русский. Просит разрешения пройти к капитану». Иволгин махнул рукой – пропустить. Незнакомец ловко взбежал по трапу. Поднялся на квартердек. У него было жесткое обветренное лицо.
– Вы – капитан? – спросил он, ощупывая Иволгина холодными голубыми глазами.
– С кем имею честь?
– Сотрудник Гидрографического департамента, Орлов, Викентий Ильич, – отрекомендовался тот.
Капитан «Святой Марии» не дрогнул не единым мускулом, хотя в голове у него тут же вспыхнула строчка из последней депеши Шабарина «Берегись „Орлов“. И вот перед ним человек, отрекомендовавшийся Орловым. Не его ли следует беречься?
– Вы с какого судна, господин Орлов? Я что-то не вижу в порту других русских кораблей.
– Если позволите, господин капитан, я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз.
Иволгин почувствовал, что Никитин, что стоял за спиной незваного гостя, напрягся.
– Ну что ж, извольте пройти в мою каюту, – сказал капитан и первым начал спускаться с мостика. Проходя мимо камбуза, окликнул стюарда:
– Мекешин! Кофе и сэндвичи на двоих в мою каюту!
Иволгин происходил из семьи завзятых англоманов. У входа в надстройку, он вежливо пропустил чужака вперед. Не хватало, чтобы тот воткнул ему под лопатку нож или выстрелил в затылок. «Берегись Орлов». Для экономии времени ни знаки препинания, ни тем более кавычки в депешах «Петра» не использовались. Вот и понимай, как хочешь.
Отворив дверь своей каюту, капитан «Святой Марии» пропустил гостя внутрь. Вошел сам, оставив дверь приоткрытой. На всякий случай. Орлов огляделся. Иволгин жестом пригласил его садиться в единственный в маленькой каюте стул.
Чужак остался стоять, только вдруг принялся неловко расстегивать левой рукой свой кожаный редингот. Закончив, произнес с виноватой улыбкой:
– Не сочтите за друг, господин капитан. Не могли бы вы помочь мне снять это одеяние. Видите ли, у меня ранена рука.
Иволгин помог ему освободиться от редингота. Орлов во время этой операции болезненно морщился. Когда кожаное одеяние оказалось снято, капитан «Святой Марии» увидел, что рукав сорочки на правой руке разодран, а предплечье наспех забинтовано. И кровь пропитала повязку.
– Я приглашу врача, – сказал Иволгин. – Вашу рану надо осмотреть и перевязать, как следует.
– Буду вам весьма благодарен, – откликнулся гость. – Однако – позже. Сначала – дело… Будьте любезны, господин капитан, предъявите ваши документы! Желательно – капитанский патент.
– А вы не находите, господин Орлов, что это уж слишком? Кто вы собственно такой?
– Скоро вы все узнаете, господин капитан. Я должен сначала убедиться…
Иволгин вынул из запираемого несгораемого ящика свои бумаги. Тут в дверь постучали. Оказалось, что это стюард принес кофе и сэндвичи. Капитан благодарным кивком выставил Мекешина за дверь. В это время Орлов без стеснения рассматривал его документы.
– Все в порядке, господин Иволгин, – пробормотал он. Потом шагнул к двери и плотно ее притворил и понизив голос, добавил: – На востоке солнце встает над Нуткой.
***
Последнее слово Лиза произнесла почти шепотом, но я дернулся, как от удара током. Она знает? Или – догадывается? Или просто брякнула наугад? Не хватало мне еще шпионажа в собственной семье…
Я подошел к ней вплотную. Хотел схватить за руки, заставить посмотреть в глаза, и сказать, чтобы она не смела больше говорить о моих делах. Слов не потребовалось. Лиза отшатнулась, как от прикосновения раскаленным железом. По глазам было видно – поняла, что хватила лишку.
– Не надо, – ее голос дрогнул впервые. – Не сейчас. Я устала. Я… не хочу больше разговоров. Не сегодня.
Она обошла меня, направляясь к двери в спальню. На пороге остановилась, не оборачиваясь.
– Люби детей, Алексей. Хоть их ты не считай пешками… А меня… оставь в покое. На сегодня.
Дверь закрылась за ней с тихим щелчком, который прозвучал громче любого хлопка. Я остался один в полутьме детской. Воздух гудел от невысказанного, от ее ледяного гнева и моей беспомощной сейчас ярости. Тень Анны Шварц, безумной и мокрой, висела в комнате тяжелым призраком. Я потушил ночник, оперся лбом о прохладное дерево кроватки Алеши. Дыхание детей казалось единственным якорем в этом море грязи и отчаяния.
«Люби детей… А меня оставь в покое…»
Слова эти жгли. Я повернулся, чтобы уйти, дать жене тот самый «покой», о котором она просила, но пройти мимо двери в нашу спальню, как мимо крепости с поднятым мостом, я не смог – ноги не слушались.
Гнев на себя, на Анну, на весь этот нелепый, грязный мир, смешался с чем-то иным. С дикой, животной тоской. Тоской по жене. По ее теплу, по запаху кожи, по тому забытью, которое только она могла дать. Месяцы разлуки, холодных ночей в казенных кроватях, постоянное напряжение воли, сжатой в кулак – все это обрушилось на меня волной, сметая осторожность и гордость.
Я не постучал. Просто толкнул дверь. Она не была заперта. Елизавета Дмитриевна стояла у зеркала, спиной ко мне, сняв пеньюар. Тонкая сорочка из кремового батиста очерчивала знакомый, любимый до боли изгиб спины, линию бедер.
Лампада перед иконой в углу бросала дрожащий свет на ее обнаженные плечи, на прядь темных волос, упавшую на шею. Она вздрогнула, услышав шаги, но не обернулась. Плечи ее напряглись.
– Лиза… – мой голос был чужим, хриплым от нахлынувшего желания. Я сделал шаг, потом еще один. – Я не могу… Я не уйду. Не сейчас.
Я подошел вплотную. Услышал ее сдержанное дыхание. Увидел, как под тонкой кожей на шее пульсирует жилка. Пахло лавандой, теплой кожей и слезами. Она не отворачивалась, но и не поворачивалась. Замерла, как лань, почуявшая охотника.
– Я просила оставить меня в покое, – шепотом сказала она, но в ее голосе не было прежней ледяной силы. Была усталость. И дрожь. Та самая дрожь, которую я знал.
– Я не могу, – повторил я, и мои руки, будто помимо воли, легли ей на плечи. Кожа под пальцами была прохладной, шелковистой. Она вздрогнула сильнее, но не отстранилась. – Месяцы, Лиза… Месяцы я не дышал. Только работал, воевал, интриговал… Я умираю без тебя. Даже… даже через всю эту грязь. Особенно через нее.
Мои пальцы скользнули вниз, по ее рукам, ощущая под батистом знакомые косточки запястий, тонкость предплечий. Я прижался губами к ее шее, к тому месту под ухом, которое всегда заставляло ее зажмуриваться. Вдохнул глубже. Лаванда, соль слез, ее – родной, единственный запах. Запах дома, которого я лишил себя.
– Алексей… не надо… – она попыталась вырваться, но движение было слабым, половинчатым. Ее тело помнило. Помнило мое. Столько лет вместе – ложь, измена, обиды не могли стереть мышечной памяти, химии притяжения, заложенной глубже любых слов. – Я не хочу… не сейчас… После того, что ты…
Я перекрыл ее слова поцелуем. Не нежным. Жестким, требовательным, полным отчаяния и голода. Она сопротивлялась секунду, губы ее были сжаты. Потом… сдалась. Со стоном, похожим на рыдание. Ее руки поднялись, не оттолкнуть, а вцепиться в мои волосы, притянуть ближе. Поцелуй стал глубоким, влажным, горьким от ее слез, которые текли теперь беззвучно, смешиваясь со вкусом нашего отчаяния.
Мы не шагнули к кровати. Мы рухнули на нее. Одежда была помехой, которую мы рвали, сбрасывали с себя в каком-то безумном, яростном танце. Никакой нежности. Только ярость плоти, заглушающая ярость души. Желание стереть дистанцию, боль, предательство – хотя бы на миг – чистым, животным соединением.
Мои руки сжимали ее бедра, поднимая ее навстречу мне. Ее ноги обвили мою спину, пальцы впились в кожу, оставляя следы. Мы двигались в жестоком, отчаянном ритме, не глядя друг другу в глаза, стараясь не думать, только чувствовать.
Чувствовать тепло, тесноту, знакомые изгибы, спазм наслаждения, который вырывался стоном из ее горла – стоном, в котором было больше боли, чем радости.
Это не было любовью. Это было забвением. Взрывом темной звезды, ненадолго освещающей бездну между нами. Когда волна схлынула, оставив нас мокрыми, дрожащими, лежащими рядом в темноте, наступила не тишина примирения, а тяжелое, стыдливое молчание.
Я чувствовал, как бьется ее сердце под моей ладонью, прижатой к ее груди. Так же часто, как мое. Но между нами лежало все невысказанное, вся горечь вечера. Страсть не сожгла мосты. Она лишь на миг заставила забыть о пропасти. Я обнял ее, прижал к себе. Она не отстранилась, но и не прижалась. Просто лежала, дыша. Глаза ее в темноте были широко открыты, смотрели в потолок.
– Лиза… – начал я, но слова застряли. Что я мог сказать? Извиниться за Анну? Обещать, что такого больше не будет? Это было бы ложью. Мы оба знали, что моя жизнь – это риск, расчет и постоянная игра с огнем. И люди рядом со мной могут обжечься. Даже она.
– Молчи, – прошептала жена. Ее голос был хриплым, опустошенным. – Просто… молчи. И держи меня. Пока не рассвело.
Я притянул Лизу ближе, вжавшись лицом в ее волосы. Держал. Крепко. Как утопающий держится за обломок. Знал, что утром стена между нами вырастет снова. Что разговоры, наподобие сегодняшнего, еще впереди.
Что враги не дремлют, а Иволгин, возможно, гибнет в океане. Но в эту темную минуту, в тепле ее тела, пахнущего лавандой и мной, было единственное спасение. Краткое, горькое, необходимое, как глоток воды в пустыне. Мы так и заснули – вцепившись друг в друга, не простив, не забыв, но на миг прекратив войну.
Глава 2
Вечный, назойливый питерский дождь, наконец, перестал молотить в окна, но легче от этого не стало. Я только что вернулся из Особого Комитета – с еще одной битвы за новые дороги, за фабрики, за будущее России, которому столь многие сопротивлялись.
Ей богу, на войне легче, чем в кабинетах. Все эти лощеные чинуши, хитрованы купчины – от них устаешь сильнее, чем в штыковой атаке. После часа— другого переливания из пустого в порожнее, у меня начинала болеть не только голова.
От желания разбить эти лощеные рожи ныли уже не только мышцы – кости. Эх, давненько я не брал в руки шашки. В смысле – шашку… Все не досуг… Зря я об этом подумал, как говорится – накликал.
Едва я потянулся к графину с водой, как вдруг дверь распахнулась без стука. Ворвался Верстовский. Лицо его посерело как небо на столицей, в руках он сжимал листок телеграфной депеши, держа его как отравленный кинжал.
– Ваше сиятельство… Екатеринослав… – голос его сорвался. – Губернатор Сиверс… Его карета… Взорвана на Соборной улице. Вместе с женой… и детьми. Никто не выжил. Их всех убило…
Графин выскользнул из моих пальцев, свалился на дорогой персидский ковер с глухим стуком. Вода растеклась темным пятном, смешиваясь с узором. Я не верил своим ушам… Выхватил у жандарма листок, прочитал депешу:
«Ваше высокопревосходительство… Третьего дня… Губернатор Сиверс… Вместе с домочадцами…»
Александр Карлович Сиверс… Тучный, вечно недовольный, но эффективный управленец. Моя крепкая опора в губернии, где я начинал и где столько всего было задумано и сделано. И сколько еще предстоит сделать…
Представляю ужас, какой испытает Лиза, когда узнает об этом… Ведь она знавала жену Сиверса… Да и я ее помню… Она так заразительно смеялась на балу всего-то год назад. И дети… двое мальчишек. Взорваны… От ненависти перехватило дыхание…
– Кто? – слово вырвалось хриплым шепотом.
– Неизвестно. Местные жандармы в недоумении. Депеша пришла с опозданием… Но… – Верстовский протянул другой листок – не телеграфный, а грязный, мятый, будто побывал во многих руках. – Это… нашли утром среди вашей почты, ваше сиятельство.
Я развернул бумагу. Почерк был грубым, угловатым, будто не пером писали, а вырезали ножом. Слова лезли в глаза:
«ПСУ СИВЕРСУ – СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ! ПЕСНЯ СПЕТА! НЕ ДРЕМЛЕТ ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ! ГОТОВЬСЯ, ШАБАРИН, ПРИСПОСОБЛЯЕМ ПЕТЛЮ И ТЕБЕ, ЦАРСКОМУ ХОЛУЮ, ДУШИТЕЛЮ СВОБОДЫ! КОРОТКА ВЛАСТЬ ПСОВ САМОДЕРЖАВИЯ! ДОЛОЙ ТИРАНОВ! ЗА ВОЛЮ НАРОДНУЮ!»
Ком в горле превратился в ледяную глыбу. Не просто террор. Послание. Личное. Мне. «Петлю приспособляем». Мои пальцы сжали бумагу так, что костяшки побелели. Перед глазами встали лица: Лиза, читающая перед сном. Петя, машущий деревянной саблей. Маленькие Лиза и Алеша, спящие в кроватках. И… взорванная карета. Обгоревшие детские тела. Петлю?..
– Верстовский, – снова заговорил я. – Немедленно. Экстренное совещание. В Третьем отделении, у графа Орлов. Пригласить… Нет, доставить всех, кто нужен.
Через полчаса в кабинете графа Орлова в здании Третьего отделения на Мойке собрались все, кого я велел доставить. За столом – сам шеф жандармов, его замы, представитель Министерства внутренних дел с лицом подлинного цербера закона. Я швырнул на стол мятое письмо «Народного Действия» и депешу о гибели Сиверса.
– Видите? – спросил я, не садясь. – Это не просто убийство. Это объявление войны. Лично мне. И всему, что я делаю. Особому комитету. Будущему Империи.
Граф Орлов, благообразный старик с холодными глазами, покачал головой, тяжело вздохнув:
– Ужасная трагедия, Алексей Петрович. Скверно. Скверно. Жандармы в Екатеринославе бездарны, конечно… Усилим розыск. Все силы бросим…
– Розыск? – перебил его я, стукнув кулаком по столу. Стаканы звякнули. – Они уже здесь, граф! В Петербурге! Они бросили вызов лично! Они знают, где я живу! Они пришли за мной! И за вами, если вы этого не понимаете! Хуже того – за нашим императором! Вспомните Владимирова!
– Ваше сиятельство, выбирайте слова, – зашипел чиновник из МВД. – Мы ведем наблюдение за всеми подозрительными кружками. Аресты воспоследуют…
– Аресты? – я горько усмехнулся, наклонившись к нему. – Вы будете арестовывать призраков?.. Пока они готовят следующий взрыв! Следующей кареты! Моего дома! Или – вашего!.. Они нападают из тени! Значит, и бить по ним нужно тоже из тени! Мне нужны не соглядатаи, а охотники!
Я выпрямился, глядя им в глаза – этим сытым, осторожным бюрократам.
– Я предлагаю создать особые группы. Своего рода эскадроны смерти. Вне всяких формальностей. Из ветеранов-фронтовиков, знающих цену свинцу и стали. Из агентов Третьего отделения, готовых на все. На средства из фондов Комитета и… лично моих. Им – должна быть предоставлена полная свобода рук. Выявление, слежка, ликвидация. Без суда. Без следствия. Без бумаг. На террор следует отвечать террором. Кровь за кровь. Они хотят тайной войны? Они ее получат. И узнают, что такое настоящий имперский порядок.
В кабинете повисло гробовое молчание. Граф Орлов побледнел. Его замы переглянулись. Представитель МВД вскочил:
– Это… это беззаконие, ваше сиятельство! Частные убийцы? Вне контроля Третьего отделения и нашего министерства? Это же хаос! Варварство! Самодержавие держится на законе…
– Самодержавие, – перебил я его ледяным тоном, – держится на силе. На умении отвечать ударом на удар. А закон? Закон хорош для мирного времени. Сейчас война. Война, которую объявили нам. Сиверс и его дети – первые жертвы. Кто следующие? Вы, граф? Ваши дети? Император?!
Я видел сомнение, страх, отвращение в их глазах. Они боялись моей идеи больше, чем террористов. Боялись ответственности. Боялись царя. Боялись меня.
***
– На востоке солнце встает над Нуткой, – повторил Орлов, его голос был низким, ровным, но в нем чувствовалась усталость, не физическая, а глубинная, как у человека, несущего слишком тяжелую тайну. – Вы узнаете этот пароль? Знак того, что я не самозванец. Хотя, глядя на меня, в этом можно усомниться.
Он опустился в кресло и взял чашечку с кофе, и в его серых, холодных глазах Иволгин увидел что-то новое – не ученую сдержанность, не расчет, а отблеск пережитого.
– Я узнаю пароль, – сказал капитан.
– Шабарин… Алексей Петрович… он знал, что «Святой Марии» понадобится проводник там, где карты лгут, а компас сходит с ума. Где лед строит лабиринты, а течения затягивают в ловушки. Там, в проливах между морями Баффина и Бофорта… Это моя стихия. Мое проклятие…
Гидрограф сделал паузу, словно собираясь с силами, чтобы выговорить тяжелые слова. Иволгин молчал, не двигаясь, чувствуя, что этому человеку нужно выговориться.
– Меня вызвали в к нему поздно ночью, – начал Орлов, его взгляд снова уплыл в прошлое. – И не – в кабинет. В «Каменный Мешок». Подвал. Алексей Петрович сидел за дощатым столом, в шинели, ибо там не жарко… Я заметил, что лицо у него… изможденное, но глаза горят. Как у вас сейчас, Григорий Васильевич… Он сказал мне: «Викентий Ильич, мне нужен человек, который знает Арктику как свои пять пальцев, который пройдет там, где другие сядут на мель или умрут во льдах. Человек, которого не купят. Ведь вы – сын своего отца, который погиб не зря… Поедете?» – Гидрограф замолчал, сжав кулаки. – Мой отец… лейтенант-гидрограф Илья Викентьевич Орлов действительно погиб… Его судно раздавило льдами у Шпицбергена пятнадцать лет назад. Официально – несчастный случай, каких хватает в Арктике. Неофициально… Шабарин считает, и не без оснований, что там поработали английские «контрабандисты», не желавшие, чтобы Орлов-старший нанес на карту их тайные фарватеры. Отец был… помехой. Как я могу быть теперь стать для них.
Иволгин кивнул, понимающе. Семейная месть – сильный движитель.
– Куда я должен направиться? – спросил я у Шабарина. – «В Рейкьявик, – ответил тот. – Там вы подниметесь на борт русского судна „Святая Мария“. И проведете его через северные проливы к Клондайку. Это миссия для живых или для мертвых героев. Выбирайте, Викентий Ильич…».
– Почему же вы не поднялись на борт еще в Кронштадте? – спросил капитан.
Его собеседник усмехнулся коротко и безрадостно.
– Путь мой был… мягко говоря, извилистым… Ведь мы не зря встретились с Алексеем Петровичем в «Каменном Мешке», вы вероятно и не знаете, что это такое…
Иволгин пожал плечами.
– Я сидел под стражей, – продолжал Орлов. – Был арестован по подозрению в убийстве англичанина… Даже Шабарину удалось вытащить меня из «Мешка» не сразу… В общем, к отходу «Святой Марии» я не успел… А далее, под чужим именем, с паспортом датского коммивояжера отправился в Гельсингфорс. Оттуда на пароходике в Стокгольм. Шабарин предупредил: «Англичане имеют длинные щупальца. Их агенты рыщут по всем портам, ищут слабые звенья в цепочке нашей агентуры». В Стокгольме я застрял на неделю. Ждал контакта. Им оказалась… прачка из русской миссии. Передала билет на поезд до Копенгагена и конверт с деньгами. В Копенгагене… – Гидрограф поморщился, будто вспоминая что-то неприятное, – … сам воздух пропитан шпионажем. Чувствовалось. Я сменил две гостиницы. Вышел на связь с агентом Шабарина – пожилым владельцем табачной лавки, выходцем из Архангельска. Он нашел мне место на «Северной Чайке» – старой, вонючей рыболовецкой шхуне, шедшей к берегам Исландии за треской. Капитан, хмурый исландец с лицом, как у тролля, получил за меня круглую сумму и приказ – молчать и не задавать вопросов.
Орлов отхлебнул кофе. Его пальцы тонкие и сильные, слегка дрожали.
– Плавание было адским. Шторм в Скагерраке чуть не отправил нас на дно, но позже стало еще хуже. Когда мы подошли к Рейкьявику… – Он замолчал, его глаза остекленели. – Городок, как игрушечный. Домики с травяными крышами, туман, запах рыбы и сероводорода. Я сошел на берег, почувствовав облегчение. Осталось только найти «Святую Марию». Я шел по мокрой от дождя набережной, ища причал, где мог бы стоять на приколе трехмачтовый паровой барк… И тогда меня ударили. Сзади. По голове. Тупым. Тяжелым.
Гидрограф невольно провел рукой по затылку, под волосами.
– Очнулся я в вонючем переулке. Двое. Не исландцы. Один – коренастый, с лицом боксера, другой – тощий, с глазами крысы. Говорили по-английски, с акцентом… ливерпульским, кажется. «Где карты, русский? Где маршрут? Говори – и уйдешь живым». Они знали, кто я. Значит, следили еще с Копенгагена. Или с самого Стокгольма. – Орлов сжал кулаки. – Я молчал. Тогда крысолицый достал нож. Длинный, тонкий, как для потрошения рыбы. Сказал: «Начнем с пальцев, гидрограф. Посмотрим, как ты будешь чертить маршруты без них». Я рванулся… не к выходу. К коренастому. Ударил его в горло основанием ладони. Тот захрипел. Крысолицый вскрикнул, замахнулся ножом… и тут грянул выстрел. Стреляли стороны набережной.
Орлов сделал паузу, переводя дух. В каюте было слышно, как трещит лампа.
– Пуля просвистела рядом. Попала в стену над моей головой. Крысолицый дернулся. Я воспользовался моментом – выбил нож, рванул к выходу. Бежал, не разбирая дороги. Сзади – крики, еще один выстрел. Я почувствовал жгучую боль в руке… как удар раскаленным прутом. Упал. Думал – конец, но нет. Поднялся шум – крики на исландском, беготня. Мои «друзья» смылись. Меня подобрали рыбаки. Пуля прошла навылет, повезло. Исландский лекарь зашил, наложил повязку. Две недели я пролежал, скрываясь на чердаке у старухи-хозяйки таверны, куда меня притащили. А затем моя хозяйка сказала, что в бухте Rússneska skipið – русский корабль… И… вот я здесь…
Иволгин долго молчал. Потом встал, подошел к карте, висевшей на переборке. Его палец ткнул в извилистый, забитый льдами проход между Баффиновым морем и морем Бофорта.
– Так вот почему вы здесь, Викентий Ильич, – сказал он хрипло. – Не просто потому что знаете здешние проливы. Вы знаете и о тех, кто за нами устроил охоту… Верно? – Капитан встретился с глазами Орлова. – Кто они? Британцы?
Гидрограф усмехнулся горько.
– А вы как думаете, Григорий Васильевич? Щупальца какого спрута оплели земной шар? Какова бы ни была цель вашей экспедиции – Лондон хочет забрать себе все. Потому они и гонятся за вами. – Орлов встал, шагнул к карте, что висела над койкой капитана, немалая ее часть представляла белое пятно – в прямом и переносном смысле. – Вам повезло, я знаю лазейки. Знаю, где лед ломается приливом. Знаю, где течение может вынести на чистую воду. Знаю, где можно спрятаться. Отец… он учил меня не только картам. Он учил выживать. Мстить. Не хочу заранее обнадеживать, капитан, но убежден, что мы с вами проведем «Святую Марию». И пусть они только попробуют нас остановить.
***
В этот момент дверь кабинета распахнулась. Молодой флигель-адъютант графа Орлова, бледный как полотно, влетел, не обращая внимания на чины:
– Ваше сиятельство! Срочно! Только что… на набережной Фонтанки… покушение на его императорское высочество великого князя Константина Николаевича! Бомба! Брошена в карету! Ранены лошади, кучер убит, охрана… Его высочество чудом жив! Отделался контузией и испугом!
Удара грома не было. Была лишь оглушительная тишина. Тишина, в которой звенел опрокинутый графин в моем кабинете, кричали дети Сиверса в огне, шипел фитиль бомбы под каретой брата царя. Граф Орлов медленно поднялся. Его лицо, еще секунду назад выражавшее нерешительность, стало каменным. Холодные глаза уставились на меня. В них уже не было сомнений. Был ужас. И понимание.
– Алексей Петрович, – его голос звучал хрипло, но твердо. – Ваше предложение… об этих… эскадронах. Оно чудовищно, но… – он задохнулся, глотая воздух. – Но, видимо, иного выхода нет. Готовьте план. Сегодня же. Я представлю его Государю. Лично. Только… ради Бога, полная секретность. Абсолютная.
Я кивнул. Ни слова. Ни торжества. Только ледяная волна облегчения, смешанная с горечью. Я получил карт-бланш. Карт-бланш на войну в тени. На создание машины смерти для уничтожения другой смерти. Цена? Душа. Принципы. Остатки иллюзий. Но Елизавета Дмитриевна, Петя, Лиза, Алеша… их лица вставали передо мной четче, чем когда-либо. Ради них. Ради будущего, которое я пытался выковать из стали и золота.
– Они будут готовы через неделю, – сказал я тихо, поворачиваясь к двери. – Охота начнется. И «Народное Действие» узнает, что значит разбудить настоящего пса. Пса Империи.
Весь день ушел на бумажную волокиту и согласования. Наконец, фельдъегерь доставил из Зимнего пакет. Я вскрыл его. Это был не указ. Письмо. Мне. «Алексей Петрович, я знаю, что сейчас обрушится на тебя, но действия твои одобряю полностью, хотя никакие указы и манифесты на сей счет опубликованы не будут. Действуй. Спаси Империю. Александр».
Я тут же поднес письмо к язычку свечи, понимая, что император не хотел бы, чтобы его прочитал бы кто-нибудь еще, пусть даже историк будущего, который станет изучать это время.
Покончив с письмом, я вышел в коридор Третьего отделения. За моей спиной остался шепот ужаса и несогласия. Передо мной был мрак петербургской ночи, прорезаемый редкими фонарями. Где-то там, в этой сырой темноте, прятались те, кто бросил мне вызов.
Они думали, что посеяли страх. Они не знали, что разбудили хищника. Эскадроны смерти будут моим ответом. Моей петлей для их грязных шей. И пусть Господь простит мне этот шаг. Ибо я уже не мог остановиться. Путь в ад был вымощен не только благими намерениями, но и взорванными каретами и криком детей, охваченных пламенем. И я вступил на него, не оглядываясь.
***
«Святая Мария» покинула порт Рейкьявика на рассвете третьего дня. Туман висел низко, цепляясь за воду. Барк скользил по бухте, как призрак. Иволгин приказал не запускать машину – идти на одних парусах. На мостике стояла гробовая тишина. Каждый вслушивался в шум ветра, выискивая в нем гул чужих машин.
Они миновали скалистые берега Фахсафлоуи, вышли в открытые воды Северной Атлантики. Туман начал редеть. И тогда вахтенные увидели его. «Ворон». Он шел параллельным курсом, в двух милях по левому борту. Без флага. Без опознавательных огней, лишь серый силуэт с высокой трубой, из которой валил густой дым. Его паровые машины работали ровно, без надрыва, легко сохраняю дистанцию.
– Курс? – спросил Иволгин, не отрывая глаз от подзорной трубы.
– Зюйд-вест, – ответил штурман Горский. – Идем в Лабрадорское море.
– Полный вперед, – приказал Иволгин. – Паруса на фордевинд. Выжимаем все, что можно.
«Святая Мария» вздрогнула и рванулась вперед, взбивая пенистый бурун. Паруса наполнились попутным ветром. Но «Ворон» даже не увеличил ход. Он просто… следовал. Как тень. Как зловещее напоминание. Его превосходство было оскорбительно очевидным. Он мог догнать их в любой момент, но не делал этого, словно играл в кошки мышки.
Холодный ад сменился штормовым. Воздух стал острым, колючим, как битое стекло. Солнце, даже в полдень, висело низко над горизонтом, бросая длинные, искаженные тени. Вода из серо-зеленой превратилась в чернильно-синюю, тяжелую.
Первые льдины появились, как белые призраки, плывущие навстречу. Потом их стало больше. Маленькие «блинчики», обломки побольше, целые поля битого льда, по которым «Святая Мария» продиралась с глухим скрежетом по обшивке.
«Ворон» не отставал. Он держался в трех-четырех милях позади, его тускло-серый корпус едва выделялся на белом фоне льдов. Иногда бронированный гигант пропадал из виду за ледяным торосом или снежным шквалом, но неизменно появлялся вновь. В упорстве его капитана было что-то нечеловеческое.
На борту «Святой Марии» напряжение достигло точки кипения. Холод проникал сквозь бушлаты, сковывал пальцы, забирался в душу. Постоянное присутствие «Ворона», его молчаливая погоня, действовала на нервы сильнее любого шторма. Матросы шептались. Глаза их бегали. Старый Никифор перестал рассказывать байки – он сидел на баке, уставившись в белесую даль, лицо его было бесстрастным. Даже Калистратов и Ушаков сделались угрюмыми и молчаливыми.
– Он нас загоняет, капитан, – ворчал Горский, придя в каюту капитана. – Загоняет во льды! Смотри! – Он ткнул пальцем в карту, разложенную на столе. – Впереди – пролив Дэвиса. А там – Баффиново море. Льды сомкнутся. И этот «Ворон» просто выждет. Или возьмет нас, как пингвина на льдине. Или мы сами сдадимся, когда уголь кончится, а лед стиснет борта!
Иволгин молчал. Он все понимал. «Ворон» был не просто кораблем. Он был охотником. Не он гнал «Святую Марию» в ледяную ловушку. Она сама туда шла, но капитан «Ворона», экономя силы своего судна, зная, что его железный корпус и мощные машины переживут русский барк в схватке со льдами. Или… или у капитана «Ворона» были иные планы? Может, он ждал, что команда русского корабля, не выдержав психологического давления, взбунтуется? Что капитана Иволгина скинут, как балласт, и сдадут корабль без боя?
– У нас еще есть уголь, Леонид Петрович, – наконец произнес Григорий Васильевич, его голос звучал глухо. – И ветер. И воля. Мы прорвемся.
– Прорвемся? – Горский горько усмехнулся. – Куда? В Баффиново море? Это самоубийство! Нужно поворачивать на юг! К Лабрадору! Пока не поздно! Там у нас есть шанс оторваться в прибрежных туманах, потеряться среди айсбергов…
– Юг – это отступление, – отрезал Иволгин. – Отступление от цели. Возможно, «Ворон» этого как раз и ждет. Он перережет нам путь. Нет. Только вперед. Только на север. Через пролив Дэвиса… Мы пойдем по самой кромке льда. Там, где он тоньше. Это шанс.
– Шанс?! – взорвался Горский. – Это не шанс, Григорий Васильевич! Это смертный приговор экипажу! Ты гонишь нас на убой, как скот! Ради чего? Ради того, чего может быть и нет?!
В каюте повисла тяжелая пауза. Иволгин медленно обернулся. Его лицо было непроницаемым, но в глазах – ледяная буря.
– Ради выполнения приказа, штурман, – произнес он тихо, но так, что Горский невольно отступил на шаг. – Ради долга. Ради России. А кто не готов идти до конца – тот может прыгать за борт прямо сейчас. И плыть к своему «Ворону». Может, ему там место найдется.
Несколько минут они молча смотрели друг на друга – капитан и его верный штурман, связанные долгими годами совместной службы и теперь разделенные пропастью нарастающего безумия этой погони. Гнев и отчаяние боролись в глазах Горского. Потом он резко развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла в иллюминаторах.
Иволгин остался один. Он подошел к иллюминатору. За толстым, покрытым инеем стеклом плыли белые громады айсбергов, подернутые синевой. Первые вестники ледяного плена Баффинова моря. А за кормой, в серой дымке, как привязанный злобный пес, следовал «Ворон». Его упорство было страшнее открытой атаки. Оно говорило: «Ваша судьба предрешена. Вы – наши. Рано или поздно».
Он сжал кулаки. Русская Америка была еще так далеко. А льды и «Ворон», словно подвижные губки слесарных тисков, медленно сходились. Нужен был какой-то дерзкий план, который сорвет замысел капитана вражеского корабля.
В дверь капитанской каюты постучали.
Глава 3
Тишина в карете была не просто отсутствием звука. Она была предметной, гулкой, как под куполом Исаакия перед службой. Лишь скрип пересохших кожаных ремней рессор, стук колес по неровному булыжнику Невского, да мерный, убаюкивающе-гипнотический «цок-цок-цок» копыт коренника нарушали эту звенящую пустоту.
Я откинулся на жесткую кожаную спинку, пальцы машинально крутили барабан револьвера. Его тяжесть даровала чувство защищенности. За запотевшим, подрагивающим от толчков стеклом проплывали знакомые фасады – строгие ампирные линии Растрелли, мрачноватая готика Кваренги, все это в промозглых сумерках раннего петербургского вечера.
Фонари еще не зажгли, и город тонул в серой, влажной мути, словно акварель, размытая дождем. Как обычно, я возвращался поздно. Снова. Лиза… Мысль о ней, о том разговоре в детской, о ее пальцах, перебирающих шелк пеньюара, как четки отчаяния, впилась в сознание острой, неотвязной занозой.
Недосказанность между нами густела, как туман над Невой, превращаясь в непроницаемую стену. Я видел глаза жены – не гневные, не обиженные, а… пустые. Как замороженные озера в декабре. Другого эта пустота жгла бы сильнее любого упрека, но не меня… У меня было слишком много дел.
«Тук-тук-тук». Секундомер в голове, заведенный еще в кабинете, отсчитывал последние мгновения до финишной черты предстоящего спектакля. «Тук-тук». «Тук». Взрыв.
Не оглушительный грохот, а скорее глухой, сдавленный «ууухх», будто под землей лопнул гигантский нарыв. Карету не подбросило – ее схлопнуло внутрь себя, как картонный домик под сапогом. Оглушительный треск ломающегося дерева, звон тысячи осколков, острых и холодных, впившихся в бархатную обивку буквально в сантиметре от моего виска.
Крики. Нечеловеческие, перепуганные – кучер Игнат, чей-то визгливый вопль из-за угла, дикое, захлебывающееся ржание лошадей, мечущихся в панике. И запах. Густой, едкий, невыносимый – серы, сожженного дерева, пороховой гари и… крови. Дым, белесый и едкий, мгновенно заполнил пространство, щекотал горло, застилал глаза слезами.
Я не шелохнулся. Не потому, что не испугался. Испуг – это инстинкт. Но его перекрыла волна иной, куда более знакомой энергии – холодной, отточенной ярости. Сработало. Как по нотам.
Сунув револьвер за пазуху, из заранее подготовленной ниши под сиденьем, скрытой от посторонних глаз ложным днищем, моя рука нащупала знакомый, успокаивающе-тяжелый холодок усовершенствованной пашки – по сути, первого в мире пистолета-пулемета.
Дверь кареты была искорежена, ее заклинило. Один резкий удар плечом – и она сорвалась с петель. Я выкатился наружу, но не на мостовую, усыпанную осколками и щепками, а в узкий, вонючий проулок, уводящий к глухой стене какого-то склада.
Мой «двойник» – арестант-смертник Степан, искусно загримированный под меня, которому пообещали помилование и денежное вспомоществование для чахоточной жены и двоих ребятишек, в обмен на эту роль – должен был сейчас лежать там, в дыму и обломках. Если не повезло, бедолаге, то мертвым.
Жалкая, дрожащая пешка. Но необходимая. Мысль о его детях, теперь сиротах по моей воле, меня не мучила. Они вырастут в достатке, получат образование в одной из тех специальных школ, которые я сейчас организовываю, получат профессию и работу.
Прислонившись спиной к холодному, шершавому, покрытому лишайником камню стены, я наблюдал. Хаос был идеальным прикрытием, живой ширмой. Из тени соседнего подъезда, словно вырастая из самой темноты, выскользнули двое.
Мои. Агенты Особого комитета, «невидимки», слившиеся с городом. Тени в человеческом обличье. Иван «Камень» Петров, бывший унтер с Кавказа, и юркий, как ящерица, Федор «Шило» Сомов. Бесшумные, эффективные.
Петров кинулся к перепуганным, но живым лошадям, успокаивал их тихим ворчанием, отводил в сторону, обрезая постромки. Сомов – к дымящимся обломкам кареты, где уже виднелось неестественно скрюченное тело в моем парадном сюртуке с имитацией ордена Святого Владимира.
Ловко, профессионально, «Шило» произвел осмотр места, быстро собрав улики. Я видел, как он нагнулся, поднял что-то мелкое, блеснувшее в последних лучах угасавшего света, бережно завернул в носовой платок. Потом его взгляд нашел меня в проулке – короткий, почти незаметный кивок. Чисто. Как хирургическая операция.
Через несколько минут они были рядом. Петров дышал ровно, лишь в его маленьких, глубоко посаженных глазах горел знакомый холодный огонь ярости, зеркало моей собственной. Сомов, пахнущий дымом и порохом, протянул сверток – платок с уликами.
– Ваше высокопревосходительство, – его голос был тихим, сипловатым, абсолютно лишенным эмоций, как во время чтения погодного бюллетеня. – Обломки детонатора. Кустарщина. Самопал, но… мощный. Гремучка с гвоздями. – Он чуть разжал платок, показав обгоревшие куски проводов, осколки медной обшивки корпуса, крошево металлических шпеньков. – И следы. Напротив, в подворотне дома купца Глебова. Кто-то наблюдал. Окурок… – Сомов чуть принюхался к другому, крошечному свертку в платке, – …английский, «Capstan Navy Cut». И отпечаток подбитого подковкой каблука. Хороший сапог, но подкова стерта неравномерно. Не наш фасон. Не наш пошив.
Я взял платок. Тяжесть обломков, запах гари и тонкий, чуть сладковатый аромат табака смешались в ноздрях. Да, любительщина. Но смертоносная. И след наблюдателя. Петля затягивалась, но не на моей шее. На их. Я скомкал платок с уликами и сунул в глубокий карман шинели. Собственный голос прозвучал хрипло от дыма, но твердо, как сталь, брошенная на наковальню:
– Начинаем «Возмездие». Немедленно. Без шума, без суеты. Как тени. Живых – ко мне, в «Каменный Мешок». Мертвых – в Неву. Пусть ищут. Пусть гадают. И… – я задержал взгляд на Петрове, – глянь, что там со Степаном. Если мертв – похоронить за мой счет. Жену и детей в Вологде обеспечить. Тайно. Пенсия от «Благотворительного фонда Купца Сидорова». Приказ ясен?
– Так точно, ваше высокопревосходительство, – кивнул Петров, в его холодных глазах мелькнуло что-то человеческое.
***
Утро ворвалось в мой кабинет в Зимнем не розовым рассветом над Невой, а грохотом типографских машин, отраженным в кричащих, словно раненые птицы, заголовках газет, аккуратно разложенных на полированном столе из карельской березы.
«ПОЗОР! ШАБАРИН ЧУДОМ СПАССЯ ОТ ГНЕВА НАРОДА!» – орала желтая «Пчела». «НАРОДНЫЙ ГНЕВ РАСТЕТ! РЕПРЕССИИ – ТОПЛИВО ДЛЯ ТЕРРОРА!» – вторила ей, прикрываясь либеральным флером, «Столичная мысль».
Карикатура на первой полосе «Пчелы» была особенно ядовита: я, невероятно толстый, с орденами величиной с блюдца, прячусь под столом в истерике, а крошечная бомбочка с фитильком пляшет передо мной; вокруг – плачущие вдовы в черном, сироты с пустыми мисками и жирный кот, доедающий икру. Мастерски злобно. Деньги оппозиции, врагов внутри и снаружи, лились рекой, отравляя умы.
Через час я был уже на Совете попечителей Особого комитета, собравшемся в Малиновом зале. От дыхания двух десятков мужчин и жара каминов в зале было душно. Питерское лето в этом году теплом не радовало, так что окон не открывали. Царь сидел во главе стола, бледный, как мраморная статуя, пальцы нервно перебирали край скатерти.
Его глаза, обычно ясные, сегодня были мутными, избегали встречных взглядов, смотрели куда-то в пространство над головами министров. Попечители – галерея лиц. Одни, как старый князь Оболенский, прятали глаза в ворохе никому не нужных бумаг.
Другие, как саркастичный князь Воронцов, смотрели на меня с немым, но легко читаемым укором: «Довели!». Третьи, как лукавый барон Фитингоф, наблюдали со скрытым, едва уловимым злорадством.
Генерал-адъютант Карпов, начальник сыска Третьего отделения Собственной Его императорского величества канцелярии, наше «всевидящее око», разводил пухлыми руками, его лицо лоснилось от испарины.
– Ваше императорское величество, господа советники… – заговорил он. – Трудные, ох, какие трудные времена! Бомбисты – змеи подколодные, мастера маскировки! Прячутся в самой гуще народа, как тараканы в щелях! Выявить, обезвредить… задача тонкая, требующая времени, осторожности…
– В гуще народа? – спросил я и мой голос прозвучал не громко, но с такой ледяной резкостью, что все вздрогнули, будто получили удар током. Даже царь поднял глаза. Я медленно встал, опираясь ладонями о почти горячую поверхность стола, чувствуя, как каждое звено орденской цепи давит на ключицы. – Они ползают по главной улице столицы, генерал! Взрывают кареты на Невском проспекте средь бела дня! А где ваше «всевидящее око» Где ваша сеть осведомителей? Спят сладким сном в теплых постелях? Или ждут, пока змея ужалит самого Помазанника Божьего?! – Я обвел взглядом стол, останавливаясь на тех, кто вчера в кулуарах шептался о «необходимости диалога», о «смягчении курса», о «политической целесообразности». Воронцов отвел глаза. – Мягкотелость, господа, – продолжил я, понизив голос до опасного шепота, который заставил всех наклониться вперед, – это не добродетель! Это лучший корм для террора! Это их воздух! Каждая наша слабина, каждое колебание, каждый вздох сомнения – это кровь на мостовой завтра! Кровь невинных женщин и детей! Вы этого хотите?! Вы готовы нести этот крест?!
Тишина в зале стала гробовой, звенящей. Слышно было, как потрескивают дрова в камине и как тяжело дышит Карпов. Генерал покраснел, как рак, потом побледнел до серого оттенка. Капелька пота скатилась по его виску. Царь смотрел на меня теперь пристально, почти с надеждой, как на последнюю соломинку.
– Сила, – продолжил я, чуть громче, отчеканивая каждое слово, чтобы оно врезалось в сознание, как гвоздь, – Только сила. Точная, безжалостная и мгновенная, как удар карающей десницы Господней. Только она остановит этот хаос, эту чуму, разъедающую тело Империи! Россия не будет трепетать перед крысами, наводнившими ее столицу! Она их раздавит!
Едва я умолк, как заговорил император. Он даже поднялся. Так что пришлось встать всем присутствующим. Заложив руку за борт своего офицерского мундира, Александр в эту минуту стал похож на человека, который будет править Россией почти сто лет спустя. Если, конечно, история ее не изменится радикально, на что я рассчитывал.
Не хватало только трубки и грузинского акцента. Да и глаза были выпуклые романовские и смотрели не с хитроватым прищуром мудрого горца, а с византийской уверенностью в своем праве «царствовать и всем владети…» Старцы в зале притихли, словно уже умерли. Понимали, что слово самодержца будет решающим.
– Власть карать и миловать только в деснице Господней, – заговорил он. – И… в моей, как Помазанника Божьего, но коли Он вручил мне карающий меч, я вправе его вложить в руку того, кто не поднимет ее на невинного, но отнимет жизнь у того, кто стремится отнять ее у других. Человек, в руки которого я вверяю сейчас этот меч, находится среди вас, господа. Он уже доказал своей службой интересам Империи, своей верностью Престолу, любовью к Богу и Отечеству, что не посрамит честного имени русского дворянина, сколь жестокими бы его деяния ни казались тем, кто излишне мягкосердечен к нашим врагам. Посему всем министерствам и департаментам империи, всем ее служащим, надлежит повиноваться ему, как мне самому. Любое противодействие этому человеку – по злому ли умыслу, по недоумию ли – будет расцениваться мною, как государственная измена, со всеми вытекающими из оного последствиями. Доведите сие до своих подчиненных, господа, советники. Разумеется – негласно.
***
«Щит Империи». Так я назвал их. Не «Черные Вепри», как предлагал кто-то из моих помощников. Слишком зверино и примитивно. Щит. Защита. Сталь, закаленная в горниле. Команда отборных, верных только мне, прошедших через ад Крымской войны, Константинополя, Варшавы, Марселя и уже познавшие мрак питерского подполья.
Эскадроны смерти? Возможно. Но это был мой скальпель, острый и беспощадный, вскрывающий гниющую плоть столицы. Я чувствовал их присутствие даже здесь, за толстыми стенами Зимнего – тени, готовые к действию.
И посему, получив полное одобрение самого венценосца, той же ночью я выпустил «Щит» на охоту. Петербург погрузился во влажный, холодный сумрак, пронизанный редкими огнями фонарей, отражавшимися в лужах, как слепые глаза.
Как призраки, выныривая из колодцев дворов и черных пастей подворотен, мои щитоносцы пресекали готовящиеся преступления. Не только – террор. Грабеж, убийство, изнасилование – любой криминал.
Не лязг сабель, не горделивые выкрики – тихий скрип дверей, взломанных ломами, обмотанными тряпьем, приглушенные хрипы в темноте, короткие, как выдох, команды. Так осуществлялись облавы на явочных квартирах в районе Сенной площади, где вонь дешевой харчевни смешивалась с запахом нищеты и гнили.
На конспиративных мастерских в мрачных доходных домах Коломны, где под видом часовщиков или аптекарей бомбисты варили свои адские смеси. Щитоносцы находили банки с едкой кислотой, склянки с ртутью, обрезки медных проводов, литографские шрифты, которыми печатались проклятия «тирану Шабарину» и корявые чертежи новых бомб, придуманных «народными мстителями». Каждая находка была красноречивее любых газетных пасквилей. Улики упаковывались в мешки, как урожай смерти.
Бывали и перестрелки. Короткие, яростные вспышки во тьме трущоб у Обводного канала. Оранжевые сполохи выстрелов, режущие ночь, крики боли, больше похожие на стон, глухие удары прикладов о кость и плоть.
Мои люди не брали пленных в горячке боя. Никакой пощады, никаких сантиментов. Я требовал результатов, а не зверства ради зверств. Но эффективность в этой грязной войне часто выглядела как немотивированная жестокость для тех, кто не видел, как выглядит человек после взрыва гремучей ртути, в банке, начиненной гвоздями. Кто не слышал предсмертного хрипа невинного кучера или ребенка, пробегавшего мимо.
И город просыпался другим. Да, страх витал в сыром утреннем воздухе, густой, липкий, осязаемый. Его можно было вдохнуть, как туман. Но это был уже не только страх перед невидимым, вездесущим террором. Это был и страх перед безжалостной, неумолимой мощью «Щита». Передо мной. Петля затягивалась туже, сжимая глотку столицы. Город замер, прислушиваясь к шагам в ночи, к скрипу ступеней. Даже звон колоколов с колокольни Петропавловской крепости звучал как погребальный набат.
Я тоже не отсиживался в сторонке в то мокрое питерское лето, прочувствовав на себе всю ее сырость, которая была не просто влажностью, а живой, пронизывающей до костей субстанцией. Она же сочилась по серым, покрытым мерзлой слизью и чем-то бурым, похожим на запекшуюся кровь, стенам подвала.
Сырость впитывалась в толстое сукно моей шинели, пробиралась под воротник мундира, смешивалась с едким запахом человеческого пота, страха, рвоты и старой крови, въевшейся в каменный пол. Это место – сырой, низкий, как склеп, подвал под казармами моих «щитоносцев» на Галерной улице – существовало вне официальных протоколов, вне законов, написанных для солнечного света. Здесь царили законы тени, войны и возмездия. Воздух был тяжелым, словно его можно было резать ножом.
Я приезжал сюда для того, чтобы вести допросы. И вот передо мною, на грубом стуле, привязанный веревками к спинке, сидел очередной подследственный. Молодой. Лет двадцати, не больше. Лицо бледное, восковое, с огромным сине-багровым фонарем под левым глазом. Губа распухла, запекшаяся кровь бороздкой тянулась от уголка рта к подбородку. А вот глаза… Глаза светились фанатичным, неистовым внутренним огнем.
Кто он? Студент Практического технологического института? Рабочий с Чугунолитейного? Неважно. Его взяли вчера на полуподвальной конспиративной квартире в Песках, с двумя фунтами гремучей ртути в банке и пачкой листовок. Не рядовой боевик. Связной. Координатор мелкой ячейки. Звали его, по документам, Егор Семенов.
Я стоял перед ним, сняв волглую шинель и оставшись в темно-зеленом мундире без знаков различия и регалий. Незачем сбивать допрашиваемого с панталыку золотом шитья и орденскими звездами. При виде высокопоставленного чиновника, он сразу почувствует себя героем, борцом с самодержавием. А должен почувствовать себя вошью, гнидой, которую раздавить не жалко.
Понятно, что я не собирался кричать на него. Тем более – мордовать. Щитоносцы не жандармы и не палачи. Мы – карающий меч контрреволюции. Телесные истязания – удел слабых, глупых и отчаявшихся. А я смотрел Семенову в глаза. Холодно. Пристально. Без ненависти, но и без жалости. Как ученый на интересный, но опасный экземпляр.
Мой заместитель, Седов, настоящая каменная глыба с лицом, изъеденным оспой, как после дроби, стоял у железной двери, неподвижный, слившись с тенью. Его дыхания не было слышно. Он его затаил, чтобы не пропустить ни одного слова, которое будет произнесено здесь – ни моего, ни подследственного.
***
– Егор, – начал я тихо, почти ласково, как разговаривают с запуганным зверьком. Голос звучал странно гулко в каменном мешке. – Ты не убийца. Не чудовище. Ты… заблудший. Одураченный. Использованный. Твои друзья, те, кто дал тебе эту банку со смертью, однажды пытались меня убить. Знаешь? – Я сделал паузу, давая словам впитаться, как яду, и увидел, как его зрачки чуть расширились. – В карете был не я. Арестант. Бывший солдат. Звали его Степаном. У него остались жена, Марья, и двое детей в Вологде. Девчонка Аленка, лет восьми, и мальчишка Ванька, пяти лет. Сироты теперь, Егор. Благодаря тебе. И твоим друзьям. Благодаря этой гремучке в банке.
Фанатичный блеск в глазах Егора дрогнул. В глубине, за огнем ненависти, мелькнуло что-то другое – растерянность? Крайне слабая, но все же жалость? Я продолжил, методично, как хирург, вскрывающий нарыв:
– Ты веришь, что твои банки, твои бомбы принесут свет? Свободу? Всеобщее счастье? Взгляни сюда. – Я кивнул Седову. Тот молча шагнул вперед, его сапоги глухо стукнули по камню. Он бросил на пол у ног Егора пачку тех самых листовок, изъятых в Песках. А сверху – аккуратно положил фотографию в деревянной рамке. Старая, выцветшая. Пожилая женщина с усталым, но добрым лицом, мужчина в мещанском сюртуке с бакенбардами, двое детей – девочка с косичками и мальчик в гимназической форме. Обычная разночинская семья. – Твои хозяева, Егор. Знакомы? «Пламенник» и его ближний круг. Живут в хорошей, теплой квартире на Английском проспекте. Пьют дорогой цейлонский чай из фарфоровых чашек. Пишут воззвания о страданиях народа, о его гневе. А посылают на смерть таких, как ты. И таких, как Степан. Ты – расходный материал в их большой игре. В чужой игре, Егор. Чьей?
Егор напрягся всем телом, губы задрожали, обнажая сцепленные зубы. Он попытался отвернуться, резко дернув головой. Седов, не меняя выражения лица, грубо, одним движением огромной лапы, вернул его голову лицом ко мне. Костлявые пальцы моего зама впились в щеку парня.
– Кто платит, Егор? – Мой голос стал жестче. – Кто дает деньги на квартиру на Английском проспекте? На кислоту? На хорошую бумагу для листовок? На тот самый дорогой чай? Чьи интересы ты обслуживаешь, разнося по городу банки со смертью? Чьи?!
Последнее слово прозвучало как удар хлыста. Я не ожидал прорыва. Но он случился. Не от страха перед болью, которую Седов мог причинить легко. От внезапной, дикой ярости преданного дурака. От острого, как нож, осознания, что его «святое дело», его жертвенность – всего лишь грязная ложь, прикрытие для чужих целей. Его лицо исказилось гримасой бессильной злобы.
– Не знаю! – выкрикнул он хрипло, срываясь, слюна брызнула из распухшего рта. – Не знаю имен! Клянусь! Деньги… приходят через Ригу! Контора… «Балтийская торговая компания»… Ящики с «оборудованием»… с пометкой «Лондон»! Консульство… их курьеры, в бархатных ливреях… всегда… всегда курят! Этот… этот английский табак! Пахнет… как в аду! Вы – тиран! Палач! Но… они… они используют нас! Как скот! Как пушечное мясо!
Он затих, задыхаясь, судорожно глотая воздух, плевая на пол кровавой слюной.
«Балтийская торговая компания». Рига. Ящики «оборудования» из Лондона. Курьеры консульства. Английский табак. Все совпало с уликами, которые мы собирали на месте терактов или изымали на конспиративных квартирах. Не прямое указание на Форин-офис, конечно, но нить прослеживается достаточно ясно, как лед на Неве. Очень, и очень ясно.
Я отступил на шаг. Сырость подвала вдруг показалась не просто влажностью, а ледяным дыханием далекого, туманного острова, донесшимся через тысячи верст. Не «Народное действие» было истинным врагом. Оно было лишь оружием. Топором в руках кузнеца. И кузница эта стояла не где-нибудь, а на берегах Темзы. Истинный враг дышал ненавистью к возрождающейся России, к ее будущему. Ветер дул с запада. Несло холодом, запахом пороха и сладковатым дымком «Capstan Navy Cut». Внезапно, с невероятной ясностью, я вспомнил запах табака, который распространял вокруг себя британский военный атташе Монтгомери во время нашей встречи у австрийского министра иностранных дел.
– Перевести в камеру, – приказал я Седову. – Отдельную. Сухую. Накормить. Перевязать раны. И пусть доктор осмотрит его.
Сказав это, я больше не смотрел на Семенова, а направился к выходу, к узкой, скрипучей лестнице, ведущей наверх, в мир света и условностей. Данных накапливалось все больше, затягивая петлю доказательств причастности британских властей к «внезапному» взрыву в России революционной активности.
Теперь я знал, куда направить не только «Щит», но и тонкие щупальца дипломатии, финансового давления. Война вышла на новый, куда более опасный уровень. Ветер с Темзы грозил стать ураганом, способным смести все на своем пути. И я обязан был встретить его во всеоружии, не дрогнув.
Правда, одного давления и дипломатической игры мало. Лондон должен почувствовать на себе всю тяжесть русского возмездия. Веками англичанка гадила безнаказанно, встречая любой отпор недоуменным: «And what about us? – А нас-то за что?». А – за все! За кровь невинных! За то, что вы всюду суете свой сопливый нос и гадите, гадите, гадите…
Глава 4
Холодное утро билось в высокие окна кабинета в Зимнем, отражаясь в полированной поверхности стола, как в замерзшем озере. Запах свежей газетной бумаги, все еще кричащей о «позоре» и «бессилии», смешивался с терпким ароматом кофе и запахом горячего воска от только что вскрытых конвертов с донесениями.
Я стоял у окна, глядя, как первые лучи осеннего солнца, бледные и робкие, цепляются за позолоту шпиля Адмиралтейства, пытаясь растопить ранний иней на его игле. Мысль о Егоре из подвала, о его фанатичных глазах и кровавой слюне, о сладковатом запахе «Capstan» и нити, ведущей к Темзе, была как заноза. И для того, чтобы ее вытащить требовалась иголка особого рода. Здесь скальпеля «Щита» не достаточно, здесь требовался инструмент мощнее.
– Ваше высокопревосходительство, – тихий голос прервал мои размышления.
Я все-таки обзавелся молодым расторопным секретарем, Фомку оставил для домашних хлопот. Молодой чиновник, поблескивая стеклышками очков, стоял передо мною, держа в руках папку с гербом.
– Проект Устава Императорского института прикладных наук и технологий одобрен его величеством. И… господа ученые ждут в Синем зале.
Я кивнул, не отрывая взгляда от шпиля. «Одобрен». Одно слово, но какая борьба стояла за ним! Колебания царя, ворчание казначея Фитингофа о «непомерных расходах», язвительные намеки моего старого союзника Воронцова, что «России нужны не ракеты, а грамотные земские учителя». Но я продавил. Сила не только в страхе, но и в видении. Видении грядущей мощи Империи.
Синюю залу заполняло необычное для дворца оживление. Запах дорогого сукна и пудры смешивался здесь с едва уловимыми химическими нотами – скипидаром, кислотой, металлом. Не придворные львы, а люди иного склада.
Профессор Якоби, седой, с птичьим профилем и живыми, мерцающими от нетерпения глазами, что-то горячо обсуждал с бароном Шиллингом-младшим, сыном умершего изобретателя телеграфа, размахивая листком с формулами.
Химик Зинин, плотный, с окладистой бородой и спокойным, как глубокое озеро, взглядом, внимательно слушал молодого, пылкого Обухова-младшего, металлурга, чьи руки, покрытые мелкими ожогами и следами металлической пыли, жестикулировали, описывая свойства новой стали.
Полковник Константинов, грузноватый, круглолицый, больше похожий на доброго дядюшку, чем на талантливого инженера-ракетчика, стоял чуть в стороне, стискивая свернутый в трубку чертеж, который принес по моей просьбе. В воздухе витала энергия открытий, смелая мысль, вырвавшаяся из пыльных аудиторий на волю.
– Господа, – мой голос мягко, но властно прервал гул. Все обернулись, смолкли. Я почувствовал их взгляды – смесь надежды, любопытства и осторожного недоверия ученого к чиновнику высокого ранга. – Его императорское величество соизволили утвердить Устав. Императорский институт прикладных наук и технологий рождается сегодня. – Я позволил себе легкую улыбку. – Не в парадных речах, а в делах. Вот ваши назначения и… ключи.
Я подошел к столу, где лежали тяжелые связки ключей и папки с печатями. Каждому – здание под лаборатории на Васильевском острове, средства из моего личного фонда и самого императора – в обход Фитингофа. Право набирать лучших выпускников университетов и организуемых попутно технических училищ, независимо от их сословного статуса.
По глазам ученых мужей было видно, как воодушевлены они открывающимися возможностями. Я знал, что Якоби уже завершает разработку новых гальванических батарей. Обухов колдует на легированными сплавами, а Константинов мечтает о куда более мощных боевых ракетах.
– Профессор Якоби, – я обратился к старому электротехнику, – помните, нам нужны генераторы переменного тока, электрические двигатели, ну и батареи, разумеется. Это будущее наших заводов, машин на суше и на море, средств связи. Доведите все это до ума. Барон Шиллинг, ваш телеграф должен опутать Империю проводами быстрее, чем осенняя паутина – лес. Господин Зинин, без ваших новых соединений – ни пороха надежного, ни красок стойких, ни лекарств. Господин Обухов… – Я взял со стола небольшой образец – обломок английской корабельной брони, привезенный нашим агентом. Он был тяжел, прочен, отливал холодным, мертвенным блеском. – Наша сталь должна быть крепче. Легче. Дешевле. Это – щит флота и меч армии. Полковник Константинов… – Я повернулся к ракетчику. – Ваши «игрушки» должны научиться лететь дальше, бить точнее. Голос России должен быть услышан даже… за океаном. Готовьте испытания. Тайно, разумеется. В случае успеха – подумаем о серийном производстве.
Ученые один за другим брали ключи и папки и спешно откланивались. Им не терпелось приступить к работе. Остался, как мы заранее условились, лишь Константин Иванович Константинов. Я провожал ученых взглядом, думая о том, что многие годы эти лучшие умы Империи сталкивались с непониманием чиновников и жадностью финансистов. Да и общество относилось к разработкам отечественных гениев с недоверием и пренебрежением. Куда, дескать, нам с нашим кувшинным рылом да в калашный ряд.
Я кивнул ракетчику и он принялся раскатывать свой чертеж на большом круглом столе.
– Алексей Петрович, – начал полковник, когда я подошел к столу. – Вот разные вариант конструкции и компоновки пускового станка.
Она начал показывать свои чертежи. Я перебрал листы, нашел схему знакомую до боли. Несколько направляющих, идущих параллельно друг другу. «Катюша», только без автомобиля.
Если на суше использовать, то придется таскать лошадями, потом их распрягать и уводить подальше. А вот на пароходе такую можно сделать стационарной. А именно применение на флоте меня сейчас интересовало больше всего. Я невольно просвистел «Катюшу».
– Что это за мелодия, ваше сиятельство? – заинтересовался Константинов.
– «И бойцу на дальнем пограничьи от Катюши передай привет…» – напел я и добавил: – Продолжайте разрабатывать вот эту схему, Константин Иванович. Подумайте над вариантом корабельной установки.
***
– Войдите! – сказал Иволгин.
Дверь открылась. На пороге каюты появился Орлов.
– Добрый день, Григорий Васильевич, – сказал он. – Я не один.
– Здравствуйте, Викентий Ильич. Пусть ваш товарищ тоже войдет.
Вслед за гидрографом в каюту буквально протиснулся охотник-промысловик Кожин. Капитан «Святой Марии» пригласил их садится. Гости кое-как разместились в тесной каюте.
– Разговор у нас будет секретный, Григорий Васильевич, – предупредил Орлов.
Иволгин кивнул и налил пришедшим своего любимого рому. Гидрограф пригубил. А аляскинский охотник опрокинул бокал надо ртом, крякнул, поморщился, отер усы.
– Эта бесконечная погоня начинает заметно влиять на умонастроения команды, – без обиняков начал Орлов. – Уйти от «Ворона» мы не сможем. Действия его экипажа предсказать невозможно. Выход один – превратиться из загоняемой дичи – в хищника.
Кожин согласно покивал.
– Что вы имеете в виду? – спросил капитан «Святой Марии». – У нас всего одна шабаринка на борту и четыре пулемета. Если мы откроем о британцам огонь, они нас в щепки разнесут.
– Верно! – кивнул гидрограф. – Об открытом нападении не может быть и речи. Нужно обездвижить корабль противника и захватить его капитана в заложники. При этом, «Святая Мария» должна оставаться недосягаемой для артиллерии британцев.
– И как вы намерены обездвижить бронированный паровой фрегат?
– А вот – как! – произнес Орлов и развернул карту проливов Баффинова моря.
***
На учрежденный по высочайшему повелению День Русской Учености, когда должно было состояться торжественное открытие трех новых университетов – в Екатеринославе, Нижнем Новгороде и Томске – я отправился в родной Екатеринослав. Благо его теперь связывала железнодорожная ветка с Харьковым.
И вот в теплый сентябрьский денек я стоял на кафедре в переполненной, душной от дыхания сотен людей аудитории здания бывшей Екатеринославской гимназии, которая приютила студентов и преподавателей, покуда не будет воздвигнут комплекс зданий для самого Университета.
В гимназии провели ремонт, так что запах свежей краски, древесной пыли, юношеского пота и женских духов гулял по залу для проведения торжественных актов. Передо мной было море молодых лиц. Разночинские, поповские, дворянские, купеческие, крестьянские и сыновья рабочих, допущенных к высшему образованию по особому указу. На задних рядах – местные сановники, промышленники, их жены и дочери. Явно пришли, чтобы полюбоваться на парней.
– Господа студенты! – Мой голос, усиленный акустикой зала, прозвучал гулко. – Вы стоите не просто в стенах гимназии, ныне преобразованной в Университет. Вы стоите на пороге новой эпохи! Эпохи, где знание – не роскошь для избранных, а насущный хлеб Империи! – Я видел, как загораются глаза у парней, особенно у тех, чьи лица были обветрены и суровы. – Там, за этими стенами, куют сталь, тянут рельсы, строят машины. Это делают отцы многих из вас, но без ваших умов, без света науки, все это – лишь слепая сила! Ученый, инженер, исследователь – вот новые солдаты России! Солдаты на поле прогресса! Ваша битва – не за клочок земли, а за будущее! За то, чтобы русская мысль, русское слово, русское изобретение звучало громко и гордо на весь мир! Чтобы наша сталь была крепче, наши машины – умнее, наши корабли – быстрее! Знание – вот новая сталь России! И вы – ее кузнецы!
Аплодисменты были сначала робкими, потом перешли в громовые овации. Я видел слезы на глазах у старика-профессора, восторг на молодых лицах. Контраст с ночными акциями «Щита», с сырыми подвалами и ненавистью «народных освободителей» был разителен, почти болезнен. Две стороны одной медали. Молот и наковальня. Инвестиции в будущее против отчаянной борьбы с ползучей интервенцией в настоящем.
После моего выступления, начались речи профессоров и даже некоторых студентов. Потом был объявлен банкет. И не только для высокопоставленных лиц – для всех присутствующих в зале. Одного ресторана Морица не хватило, чтобы вместить всех гостей. Пришлось арендовать все приличные заведения в городе. За что местные рестораторы были мне безмерно благодарны. Простой народ тоже не остался в стороне от Дня Русской Учености.
К нему была приурочена специальная ярмарка, где можно было торговать чем угодно, но купцы, предлагавшие товары касающиеся народного просвещения – книги, тетради, карандаши, наглядные пособия – получали льготу по выплате податей. Здесь же устраивались представления, но необычные балаганы с кривляющимися скоморохами и тягающими пудовые гири силачами, а спектакли с научными сюжетами – путешествиями в дальние страны и таинственными изобретениями безумных ученых.
Огромной популярностью пользовались две постановки, созданными силами местного театра и, увы, на мои деньги. Это «Путешествие на Луну», по новой повести князя Одоевского, опубликованной с продолжением в журнале «Электрическая жизнь», и «Чудовище Франкенштейна» по роману британки Мэри Шелли. Правда, без балагана все же не обошлось.
Чего только стоили мало одетые танцовщицы, задирающие ноги на стартовой площадке эфиролета, отправляющегося на наш естественный спутник. Или пожирающий людей заживо безымянный монстр, который был создан – по сюжету пьесы – немецким ученым русского подданства по фамилии Франкенштейн в Олонецкой губернии.
Ничего. Лиха беда начало. Вон как пацаны у афиш крутятся, медяки считают. Билеты-то не дешевы! Я, оставив охрану у входа в шатер, где шли представления, вошел внутрь, направившись прямиком в закуток антрепренера, господина Вертопрахова. Увидев меня, он вскочил, принялся кланяться, предложил чаю.
– В другой раз, Серафим Ионыч, – сказал я. – У меня вот какое дело к вам. Пусть ваши зазывалы объявят, что детей обоего пола, в возрасте от двенадцати до шестнадцати проходят на представление «Путешествие на Луну» бесплатно. Вернее – за мой счет. Я распоряжусь.
– Всенепременно исполню, Алексей Петрович!
– Только, Серафим Ионыч, уберите в от греха подальше девиц из кордебалета. А то Синод ваше представление прикроет.
***
Кабинет в Зимнем казался уютным после екатеринославского ливня, который обрушился на город в день моего отъезда, но напряжение в нем висело гуще дыма от камина. Передо мной – не ученые мужи, а столпы земные: представитель Святейшего Синода, владыка Антоний, с лицом аскета, но умными, проницательными глазами; и трое «китов» русского капитала – Кокорев, плотный, краснолицый, с цепким взглядом хозяина жизни; Солдатенков, сухой, элегантный, с манерами аристократа; Демидов, потомок горных королей Урала, мощный, молчаливый, с тяжелым взглядом.
– Господа, – начал я без преамбул, раскладывая на столе свежие газеты с отчетом о об открытии университетов и… менее приятные экземпляры с карикатурами и криками о «провале». – Вы видите две России. Одна – строит университеты, рвется вперед. Другая – невежественна, темна, легковерна. И именно во тьме второй России плодятся мифы о «тиране Шабарине», растут корни террора, как поганки после дождя! Неграмотный мужик – легкая добыча для любого бунтовщика, для любой вражеской пропаганды! Он не прочтет статьи и рассказы в «Электрической жизни», не поймет выгоды ваших заводов! Он услышит лишь ересь, сулящую рай на земле ценой крови! – Я ударил кулаком по газете с карикатурой. – И эта кровь может быть вашей! Кровью ваших детей!
Кокорев нахмурился, постукивая толстыми пальцами по ручке кресла. Солдатенков приподнял бровь. Демидов не шелохнулся. Владыка Антоний сложил руки на животе, его лицо было непроницаемо.
– Потому, – продолжил я, смягчая тон, но не нажим, – я учреждаю Высочайшую комиссию по всенародному просвещению и ликвидации безграмотности. Но одной комиссии мало. Нужны школы. Тысячи школ! В каждом селе! В каждой слободе! Нужны книги, азбуки, учителя! Нужен «Школьный фонд». – Я посмотрел на купцов. – И я обращаюсь к вам, столпы русского предпринимательства, к вашей мудрости и патриотизму. Жертвуйте! Не только на храмы – на школы! Каждая построенная школа – не просто здание. Это – крепость! Крепость против тьмы, суеверий и бунта! Крепость, защищающая ваши капиталы, ваше дело, ваше будущее и будущее ваших детей в сильной России!
Повисла тишина. Тяжелая, как чугунная ограда Летнего сада. Кокорев первым нарушил молчание:
– Школа – дело богоугодное, Алексей Петрович. Но мужик, грамотный – он же хитрее! Требовательнее! Платить за обучение не будет, а жалование захочет побольше!
– Василий Александрович, – парировал я, – темный мужик сожжет ваш завод во время бунта, не понимая, что лишает себя работы. Грамотный мужик – ваш лучший работник, понимающий свою выгоду. Он купит ваши ситцы, ваши инструменты, вашу сталь. Он расширит ваш рынок! И он не поверит первому крикуну о «земле и воле»! Он прочтет законы и поймет, кто ему враг, а кто – защитник.
Солдатенков кивнул, почти незаметно:
– Логично. Просвещение – вложение. В покой государства и безопасность торговли. Я внесу.
– И я, – глухо проговорил Демидов. – На Урале школ не хватает. Людей толковых – тоже.
Кокорев вздохнул, но кивнул:
– Ладно уж… внесем. Но с отчетностью, Алексей Петрович! Чтоб не разворовали!
– Отчетность будет прозрачной, как слеза, – пообещал я. Потом повернулся к владыке Антонию. – Ваше высокопреосвященство. Церковь – опора народа. Священник в селе – самый уважаемый человек. Его слово – закон. Я предлагаю союз. Государство даст средства, учебники. Церковь – помещения приходов, кадры. Священники – учителя грамоты. Ведь грамота – ключ! Ключ к Слову Божьему, к пониманию Писания, к истинной вере и… к преданности Царю-Батюшке. – Я сделал ударение на последнем. – Тьма невежества – поле для ересей и бунта. Свет знания под сенью Церкви – залог благочестия и верности престолу.
Владыка Антоний медленно поднял глаза. В них читалась вековая мудрость и понимание тонкости моей игры.
– Дело благое, господин вице-канцлер, – произнес он веско. – Просвещение народа во славу Божию и на благо Отечества – долг пастырей. Синод рассмотрит ваше предложение. Благосклонно. Но… – он поднял палец, – учебники должны проходить церковную цензуру. Чтоб не затесалось вольнодумство под видом азбуки.
– Разумеется, ваше высокопреосвященство, – я склонил голову. – Слово Божие и верность Престолу – основа основ. В узор народного просвещения нужно вплести золотые нити купеческих капиталов и суровые нити церковного авторитета.
***
Теплый круг света от настольной керосинки лег на карту Северной Америки, где моей рукой был обведен красным карандашом район Клондайка. Новостей от Иволгина или Орлова по-прежнему не было. И это меня изрядно беспокоило.
Я понимал, что сейчас они движутся через ледовые поля в проливах между морями Баффина и Бофорта. Сам по себе этот путь для парового барка не легок, а если учитывать, что за ними гонится британский бронированный пароход «Ворон», под командованием Маккартура – опытного морского хищника – то выполнение задачи и вовсе становилось призрачным. А выполнить ее было необходимо.
Золото. Оно было! Тот самый Клондайк, легенда, которая должна стать явью, будущим Империи, но чтобы начать добывать это золото в экономически оправданных количествах, одной разведки мало – нужны люди, машины, политические решения и… деньги.
Огромные деньги. Те самые, которые с таким скрипом выделялись сейчас на институты и школы, за которые Фитингоф держался как скупой рыцарь за свои сундуки. Просить у царя? Он и так на грани недовольства мною после всех этих терактов и ультиматумов. Фитингоф завопит о разорении. Щербатов заноет о «ненужной авантюре на краю света».
Я встал, подошел к окну. Ночь. Петербург спал, или делал вид. Где-то там, в темноте, ползали «змеи» «Пламенника», шипели английские шпионы, копошились министры-предатели. Золото было реальным, но недосягаемым. Нужен был ход. Гениальный? Отчаянный? Рискованный до безумия.
Идея родилась внезапно, как вспышка магния в темной комнате. Виртуальное золото. Игра на жадности и страхе. Я сел за стол, схватил лист бумаги и начал писать быстро, почти неразборчиво, шифруя мысли в код для своего самого надежного лондонского агента – «Джеймса Бонда».
«Срочно. Максимально желтая пресса. „The Star“, „The Penny Dreadful“, все, кто любит сенсации. Вброс: „Русские нашли Эльдорадо на Аляске! Небывалые запасы золота в долине реки Маккензи (указание ложное)! Богатства хватит, чтобы скупить весь Лондон! Царь станет богаче Креза! Угроза британскому торговому превосходству!“ Подробности: экспедиция под руководством капитана Иволгина (имя подлинное), образцы невероятного качества, планы немедленной промышленной добычи. Источник – „высокопоставленный аноним в русском МИДе“. Цель: паника, жадность, истерия. Должны клюнуть. Ш.»
Я оторвал лист, сложил его вчетверо, запечатал сургучом с личной печатью без герба. Вызвал Петрова.
– Передать агенту ноль ноль семь в Лондон. Самым быстрым и надежным путем. Жизненно важно. Приказ – выполнить немедленно по получении.
Петров взял письмо, спрятал во внутренний карман, кивнул:
– Понял. Будет исполнено.
Он исчез в темноте коридора. Я остался один. Карта Аляски лежала передо мной, красный круг Клондайка горел, как раскаленный уголь. Я только что поджег фитиль информационной бомбы. Она взорвется в Лондоне, но осколки должны были прилететь в Петербург… и принести мне золото. Виртуальное. Пока. Остальное зависело от Иволгина, от Орлова, от «Святой Марии» и от того, сумею ли я сыграть на человеческой алчности лучше, чем англичане играли на человеческом отчаянии.
За окном завыл ветер. Он дул с запада. С Темзы. Я почувствовал его холодное дыхание на щеке. Игра началась. По-крупному. Да, я только что выпустил бумажного тигра. Даже – двух. Тигров по имени Жадность и Страх. Теперь они помчатся по коридорам Форин-офиса, по биржевым залам Сити, по редакциям желтых газет. Что они натворят? Панику? Истерию? Желание любой ценой перехватить этот призрак золота?
Риск был огромен. Это могло спровоцировать открытое столкновение. Но игра стоила свеч. Если британцы и американцы клюнут… если Лондон забьется в истерике… тогда деньги Консорциума потекут рекой. Я получу ресурсы для реальной добычи. И уже настоящий, а не бумажный тигр – Россия – получит свои клыки и когти.
Глава 5
В настоящем лондонском тумане нет никакой романтики. Это не туман даже, а – смог! Удушливый, желто-серый, пропитанный сажей тысяч каминов, угольной пылью и кислым душным дыханием Темзы, он обволакивает здания, превращая неоготический шпиль Вестминстера в призрачный обелиск, а купол Собора Святого Павла – в гигантское серое привидение, нависшее над городом. На улицах Фильден-Лейн, узкой, как щель между зубами, где ютились редакции самых крикливых бульварных листков, туман смешивался с едким запахом свежей типографской краски, серы и дешевого табака.
В душной, закопченной редакции газеты «The Star» царил привычный хаос. Грохот печатных машин, лязг линотипов, крики наборщиков, ругань редакторов. Но сегодня в воздухе висело нечто иное – электричество ажиотажа, жадного предвкушения. Главный редактор, мистер Бартоломью Снид, человек с лицом, напоминающим помятый пергамент, и вечно красным от виски носом, сидел за столом, заваленным гранками. Перед ним лежал листок, пришедший по дипломатической почте из Голландии. Без подписи, но Снид знал почерк этого человека. Это был «Shadow – Тень». Его самый ценный, самый дорогой источник в русских кругах. За информация которого газетные магнаты платили золотом.
– Боже всемогущий, – прошептал Снид, его глаза, маленькие и острые, как у крысы, бегали по строчкам. – «Эльдорадо… Маккензи… несметные богатства… золото, способное затмить Калифорнию… Царь – богатейший монарх мира… прямая угроза британскому превосходству…». Он схватил красный карандаш. – Дженкинс! – заорал он так, что заглушил грохот машин. – Сюда! Всю первую полосу – под это! Заголовок: «РАСКРЫТА ТАЙНА РУССКОЕ ЭЛЬДОРАДО!» Подзаголовок: «Царь нашел золото, чтобы купить весь мир! Угроза Британии!» Ищи карту Аляски! Любую! Обведи реку Маккензи жирным красным! Рисунок! Царя, роющего лопатой золото, а Британия – в виде плачущего льва! Живо!
Словно улей, потревоженный палкой, редакция взорвалась новой волной криков и беготни. Запах возбуждения смешивался с типографской гарью. Снид, дрожащими руками налил себе виски. Это был не просто сенсационный материал. Это была информационная бомба, и он держал в руках фитиль. И Снид не прогадал. Бомба взорвалась на следующий день. Тираж «The Star» мгновенно исчез с прилавков. Покупатели рвали номера из рук мальчишек разносчиков, вступали в потасовку друг с другом. Готовы были платить за вожделенный номер по шиллингу и более. Пришлось срочно допечатывать.
С рассветом Лондонская фондовая биржа, величественное здание которой обычно дышало степенностью и холодным расчетом, сегодня напоминала адский котел. В воздухе, пропитанном запахом дорогих сигар, пота, пыли и бумаги, словно повис гигантский рой разъяренных шершней. Толпа маклеров, банкиров, спекулянтов – все в черных сюртуках и цилиндрах – сбилась в кучки, крича, размахивая руками, газетами. Газетами с кричащими заголовками «The Star» и подхватившей эстафету «The Penny Dreadful»: «РУССКОЕ ЗОЛОТО ЗАТОПИТ МИР!», «АКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВЗЛЕТЕЛИ!», «ПАНИКА НА РЫНКЕ ЗОЛОТА!».
– Продавай консоли! Все! – орал седой маклер с трясущимися руками, тыча пальцем в котировки. – Россия затопит рынок золотом! Цена рухнет!
– Купить акции Русско-Американской компании! Где они?! – вопил молодой спекулянт с безумными глазами. – Они там! Они контролируют Аляску! Они захватили реку Маккензи!
– Бред! – кричал другой, с лицом, пунцовым от ярости. – Это провокация! Русские ни черта не нашли! Продавай все русские бумаги! Война будет! Война!
Курс акций российских предприятий, представленных на бирже, скакал как бешеный. Почти забытые биржевиками акции Русско-Американской компании, взлетели на сотни процентов за минуты. Цена на золото на мировом рынке сначала рванула вверх от новостей о «невероятных запасах», потом резко пошла вниз на страхе «затопления рынка». Биржевой зал превратился в поле боя. Цилиндры слетали с голов, галстуки съезжали набок, слюна в пылу спора летела во все стороны. Запах страха и жадности был осязаем. Информационная бомба, заложенная Шабариным, сработала идеально.
Пароходные и другие судовладельческие компании захлебнулись от заявок на фрахт до берегов Аляски. Фирмы и частные лица готовы были арендовать все что угодно – пароход, угольный барк, шхуну, яхту – едва ли не баркас, лишь бы добраться до золотоносных песков далекой реки Маккензи. В лавчонках, которые торговали книгами и учебными принадлежностям, скупили все, что имеет хоть какое-то отношение к географии северных широт.
Не только британские, но и французские и американские издательства срочно напечатали книгу Александра Маккензи, которая на русском языке называлась так: «Путешествия по Северной Америке к Ледовитому морю и Тихому океану, совершённые господами Херном и Маккензием, с присовокуплением описания меховой торговли в Канаде производимой, всех зверей в Америке обретающихся, нравов и обыкновений внутренних диких», и тиражи ее мгновенно исчезли с прилавков.
Золото реки Маккензи было информационным призраком, мыльным пузырем, который рано или поздно лопнет, но оно приносило предприимчивым людям уже вполне реальные кружочки из желтого металла. Коротко говоря – не только Лондон, но и весь Запад «клюнул». И задохнулся в золотой лихорадке собственной алчности.
***
В Петербурге стоял ясный, морозный день. Солнце, холодное и яркое, искрилось на позолоте Зимнего дворца, играло в инее на деревьях Александровского сада, но моем кабинете царила атмосфера грозового напряжения. Воздух был густым от запаха дорогих гаванских сигар, выдержанного армянского коньяка и нетерпения, тщательно скрываемого за масками делового равнодушия.
Я сидел во главе длинного стола из красного дерева, за которым сидели самые могущественные люди Империи. После меня, разумеется. Это были «акулы отечественного капитала», как их величали газеты, Василий Кокорев, Павел Демидов, Иван Солдатенков, ну и новый в этих стенах человек, судостроитель Николай Путилов, во время войны организовавший здесь, в Питере, производство паровых котлов и прочих технологических узлов для двигателей пароходофрегатов и других военных судов. Рядом с ним притулился осторожный министр финансов барон Фитингоф и несколько других влиятельных сановников, чьи интересы были тесно связаны с промышленностью и торговлей.
На столе, вместо привычных бумаг, лежали свежие, еще пахнущие типографской краской лондонские газеты: «The Star», «The Penny Dreadful» и даже «The Times». Напечатаны они были, правда, не в Лондоне, а в Петербурге. Текст статей передан сюда по телеграфу, благодаря которому время получения новостей значительно сократилось. Судя по заголовкам, солидная «The Times», хоть и осторожнее, но тоже поддалась охватившему британский мир ажиотажу. Ее, кричащие о русском Эльдорадо заголовки, бросались в глаза.
Я не спешил. Дал гостям время прочесть, прочувствовать масштаб паники, бушевавшей за границей. Наблюдал. Видел, как Кокорев хитро прищурается, оценивая перспективу, как Демидов нервно постукивает костяшками пальцев по столу; как Фитингоф бледнеет, представляя гипотетические расходы; как Путилов мысленно уже строит ледоколы для проникновения в северные воды Аляски.
– Господа, – голос мой прозвучал тихо, но с такой силой, что все разговоры мгновенно стихли. Я поднял одну из газет. – Вы видите? Они знают. Англия знает о нашем золоте. Они в панике. Они видят, как их вековое финансовое превосходство тает, как весенний снег под лучами русского солнца. – Я произносил слова медленно и веско, всматриваясь в лицо каждого из присутствующих. – И что делает загнанный в угол зверь? Он становится опасен. Он не смирится. Он будет драться. Не по-джентльменски, а по-уличному грязно.
Я положил газету и сделал паузу, давая словам осесть в их умах, как снегу за окном.
– Драка уже идет, – продолжал я. – Взрывы на улицах Петербурга – их рук дело. Финансирование террористов, этих «борцов за свободу», которые убивают наших детей – их рук дело. Пиратский пароход «Ворон», который прямо сейчас гонится за нашим кораблем «Святая Мария» в арктических льдах, чтобы проследить путь к нашему золоту – их рук дело! – Я ударил кулаком по столу. Стаканы звякнули. – Дипломатическое давление, шпионаж, саботаж наших заводов, поддержка мятежников на окраинах Империи – вот их оружие! И если золото Аляски станет реальностью, они пойдут ва-банк. Война, господа. Полномасштабная война. Финансовая блокада. Морская блокада. Все, чтобы задушить Россию в колыбели ее возрождения!
В кабинете повисла тяжелая тишина. Слышно было, как потрескивают дрова в камине. Даже Кокорев перестал улыбаться. Фитингоф вытер платком вспотевший лоб.
– Но… оно, золото-то есть? – осторожно спросил Солдатенков. – Это не просто… газетные утки?
– Есть, – отрезал я, доставая из кармана сюртука небольшой кожаный мешочек. Развязал его и высыпал на бархатный лоскут горсть желтого песка. Не просто песка. Крупные, неровные крупинки, тяжелые, с характерным тускло-желтым, но неоспоримым блеском. Настоящее золотоносное сырье. Привезенное с Аляски с огромным риском. – Первые пробы с Клондайка. Доставленные еще Лаврентием Загоскиным. Богатейшие россыпи. Но… – я ссыпал песок обратно в мешочек, – лежат они в дикой глуши, за тысячи верст, в вечной мерзлоте. Добыть его, защитить, доставить – задача не просто для казны. Задача для людей сильных. Сильных и объединенной общей целью.
Я обвел взглядом сидящих за столом.
– Предлагаю создать Консорциум по защите Русского Золота. Вы, господа промышленники, финансисты, патриоты России – вкладываете капитал сейчас. В усиление охраны сухопутных и речных путей на Аляске, в создание вооруженных отрядов из казаков и бывших солдат, в строительство форпостов, в развитие рудников по его добыче – пароходы, машины, инструменты. В защиту нашего достояния от английских хищников! – Я выдержал паузу, нагнетая напряжение. – Взамен… вы получаете гарантированную долю в будущих доходах от приисков Клондайка. Не бумажные обязательства. Долю в золоте. В том самом золоте, которое сделает Россию великой, а ее защитников – богатейшими людьми Империи. По сути, вы покупаете не просто акции нашего Консорциума – вы покупаете само будущее России. И свое собственное.
Реакцию их нельзя было назвать мгновенной и бурной, но она все же воспоследовала.
– И какова же будет моя доля? – осведомился Кокорев.
– Какие гарантии? – скептически хмыкнул Демидов. – Золото в земле, а враг в любой момент снова может оказаться у наших ворот.
– Это авантюра! – зашипел Фитингоф. – Казна не выдержит сопутствующих расходов! Риски колоссальные!
– Риски? – переспросил Путилов. – Риски – это сидеть сложа руки, пока англичане подбираются к нашему золоту! Я – за! Мои верфи построят корабли для плавания к северным берегам Аляски! Но и моя доля в доходах должна быть весомой!
– Патриотизм – это прекрасно, Павел Матвеевич, – мягко, но с укором сказал Солдатенков, – но дело есть дело. Нужны хорошо составленные договоры, гарантии возврата вложений, если… если золото не оправдает надежд.
Я слушал их – жадных, скептических, азартных, расчетливых и видел, как работает мой план. Паника Лондона, как в зеркале, отразилась здесь, в этом кабинете, трансформировав жадность в патриотический порыв. Я поднял руку, требуя тишины.
– Гарантии? – произнес я. – Гарантия – это я. Алексей Шабарин. Моя воля. Моя рука, которая сокрушает врагов Империи внутри и снаружи. Гарантия – это золото на столе и паника в Лондоне, которую я создал! Детали по долям, договорам – это к господин Фитингофу и его крючкотворам. Одно скажу, все будет по справедливости. Кто сколько вложит в дело, с того и получит. Однако решать нужно сейчас. Покуда англичане не опомнились. Кто со мной? Кто вложится в золотое будущее России и в свое собственное?
Я смотрел на них. На Кокорева, который уже мысленно считал проценты от недобытых тонн; на Демидова, представлявшего новые сталелитейные цеха, построенные на аляскинское золото, на Путилова, уже видящего русские крейсера, патрулирующие Тихий океан, на осторожного Солдатенкова, просчитывавшего выгоды и риски. Даже Фитингоф, бледный, но осознавший неизбежность, кивнул нехотя. Создание Консорциума стало делом решенным.
***
Полигон решили устроить в глухих лесах под Новгородом, подальше от любопытных глаз. Было раннее утро. Воздух был морозным, хрустально-чистым, пахнущим хвоей и снегом, но к нему примешивался запах свежей древесины, машинного масла и… чего-то химически острого – видимо, нового бездымного пороха Зинина. Глубокий, нетронутый снег искрился под косыми лучами солнца. Стояла тишина. Не безмятежная, а скорее – напряженная, звенящая, как натянутая струна.
Я поднялся на небольшой деревянный помост, закутавшись в тяжелую медвежью шубу. Рядом – полковник Константинов, его лицо было бледнее снега, глаза горели лихорадочным блеском. Позади – группа офицеров Генштаба и ученых ИИПНТ, их дыхание стелилось белым паром.
В сотне саженей, на заснеженной поляне, стояло странное сооружение. Направляющие рельсы уходили в небо под острым углом. И на них лежала стальная «сигара» в человеческий рост, с острым носом и короткими крылышками стабилизаторов. Ракета Константинова. «Гром-2». Усовершенствованная. Начиненная не фейерверочной смесью, а боевым зарядом на основе разработанных Зининым химических соединений.
– Готово, ваше высокопревосходительство, – доложил Константинов, голос слегка дрожал от волнения. – Расчеты перепроверены трижды.
Я сдержанно кивнул. Хотя трудно было сохранить хладнокровие в такую минуту. Ведь это был не просто эксперимент. Я надеялся, что это будет прорыв. Громовой голос России, который должен будет громко зазвучать в мире.
– Давайте, полковник.
Константинов махнул рукой. Наблюдатели замерли. Расчет у ракеты, одетый в тулупы, сделал последние приготовления и отбежал в укрытие, раскручивая катушку с проводом, который они потом подключат к динамо-машине. Константинов поднес к губам рупор:
– ПУСК!
Раздался не грохот, а резкий, сухой хлопок, как будто лопнула туго натянутая парусина. Из хвостовой части ракеты вырвалось не привычное облако дыма, а почти невидимая струя раскаленных газов – результат горения бездымного пороха. «Сигара» сорвалась с направляющих с невероятной скоростью, оставив лишь легкий шлейф перегретого воздуха.
Она рванула в синеву неба, с воющим звуком, похожим на свист гигантской пули. Все взгляды устремились вверх, затая дыхание. Ракета набрала высоту, стала маленькой точкой, потом начала плавно снижаться по дуге… к цели. К имитации оборонительных укреплений.
Взрыв мы услышали не сразу, сначала ослепительная вспышка, бело-оранжевая, как будто солнце в миниатюре. Затем – глухой, сокрушительный «бум» от которого задрожала земля под ногами. Я прижал бинокль к глазам. Деревянный бруствер окопа исчез. На его месте взметнулся столб снега, земли и черного дыма. Когда дым рассеялся, на снегу зияла воронка, а вокруг валялись обугленные обломки бревен.
Вернулась тишина, но теперь она была иной – потрясенной. Потом раздались сдержанные аплодисменты офицеров. Ученые перешептывались, записывая данные. Константинов вытер платком лоб. Он дрожал всем своим внушительным телом, то ли от восторга, то ли от пережитого волнения.
– Ваше высокопревосходительство, – наконец выдавил он. – Запуск экспериментальной ракеты «Гром-два» произведен. Цель поражена.
– Вижу, – произнес я. – Теперь нам нужно научиться запускать их пакетом, то есть – залпом. И знаете, господа, это не игрушки. Это новый голос России. Голос, который скоро услышат за океаном. Примите мои поздравления, полковник Константинов. Буду хлопотать о присвоении вам генеральского звания. Надеюсь, скоро мы увидим запуск нашей…
– «Катюши», – с улыбкой напомнил Константин Иванович наш сравнительно недавний разговор.
– Так тому и быть, – сказал я.
Мы спустились с помоста, расселись по саням. Кучеры хлопнули вожжами и лошадки повлекли санки по наезженному полозьями насту. Загремели колокольчики под дугами. Странный звук для места, где только что была запущена боевая ракета – первая ласточка грядущей ракетной мощи Империи.
У ворот, которые вели на территорию городка, где жили испытатели не только ракет, но и других опытных образцов артиллерии, мимо нашего небольшого кортежа прошагал взвод солдат. Судя по веникам, которые они держали под мышками, солдатики направлялись в баню, сотрясая морозный воздух лихой песней.