Читать онлайн Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии бесплатно
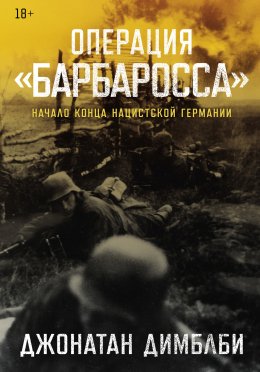
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Максим Коробов
Научный редактор: Сергей Кондратенко, канд. ист. наук
Редактор: Олег Бочарников
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Казакова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Барановская, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Jonathan Dimbleby, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
⁂
Моим внукам Барни, Хлое, Максу и Артуру
Карты
Предисловие
Гитлеровское вторжение в СССР, начавшееся 22 июня 1941 года, стало самой масштабной, кровавой и варварской военной операцией в истории войн. По своим задачам операция «Барбаросса» – так фюрер назвал эту безумную авантюру – должна была стать решающей кампанией Второй мировой войны. Если бы он достиг своей цели и уничтожил Советский Союз, судьба Европы оказалась бы в его руках. В реальности, когда спустя меньше шести месяцев армии Гитлера достигли окраин Москвы, всякая надежда на осуществление его бредовой мечты о тысячелетнем рейхе рухнула.
Конечно же, вермахт – собирательное название сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил нацистской Германии – в ходе войны еще предпримет крупные наступления и одержит немало впечатляющих побед. Но эти триумфы будут эфемерны. К концу 1941 года нацисты уже потеряли сколько-нибудь реалистичный шанс выиграть войну. Еще на протяжении трех с половиной лет на земле Советского Союза будет проливаться кровь десятков миллионов жертв ужасной развязки, исход которой был предрешен. Как бы обескураживающе это ни прозвучало для тех, кто по понятным причинам считает, что доблестные войска союзников, высадившиеся на побережье Нормандии в июне 1944 года, сыграли решающую роль в победе над Гитлером, исторические факты говорят о другом.
Именно Великая Отечественная война, как Сталин назвал боевые действия на Восточном фронте, окончательно определила судьбу Гитлера, а не «День Д»[1]. Это вовсе не означает, что те, кто пожертвовал своими жизнями во время высадки в Нормандии, сделали это напрасно. Напротив, прежде всего именно им миллионы жителей Западной Европы обязаны своей свободой и демократией – тем, чего советский диктатор лишит их соседей, обреченных после Победы оказаться в «сфере влияния» Кремля. Сталину удалось подчинить себе столь значительную часть послевоенной Европы, потому что именно его солдаты, а не западные союзники сокрушили Третий рейх на полях сражений. Хотя сроки и способы окончательного уничтожения нацистов определялись совместно США, Великобританией и Советским Союзом, именно провал операции «Барбаросса» стал важнейшим поворотным пунктом войны в Европе. После почти шести месяцев ожесточенной борьбы гибель нацизма стала неизбежной.
Я также не хочу приуменьшить масштаб человеческих страданий, перенесенных во время Первой мировой войны (потери только в битве на Сомме, продолжавшейся немногим меньше пяти месяцев, составили более миллиона человек) или в других сражениях Второй мировой (ведь в Сталинградской битве за тот же срок погибло примерно столько же людей). Однако ни один военный конфликт в долгой истории войн не достигал такого масштаба кровопролития, как операция «Барбаросса», когда за сравнимый период времени погибло, было ранено или пропало без вести почти в шесть раз больше людей.
Нацистское вторжение в Советский Союз застало Сталина врасплох и потрясло весь мир. Почти все думали, что Красная армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Но уверенность немцев в победе оказалась преждевременной. В этой книге прослеживается ход операции «Барбаросса» с самого ее начала и до конца 1941 года, когда гитлеровские армии подошли к советской столице. Я не пытался подробно разбирать каждую отдельную битву, происходившую на трех фронтах огромного театра военных действий, и вместо этого сосредоточился на группе армий «Центр» – главной ударной силе вторжения, которая должна была возглавить наступление на Москву. Следя за продвижением этой группы армий, я во многом полагался на отчеты, дневники, письма и мемуары ее руководства, включая командующего группой армий генерала Федора фон Бока, его фронтовых командиров (включая самого прославленного танкового генерала Третьего рейха Хайнца Гудериана), а также офицеров и солдат, служивших под их началом. Многие из этих людей с бесхитростной откровенностью писали своим близким о страхе и восторге битвы; об убийствах, о товариществе, о тоске по дому; о бесконечных маршах по иссохшей под палящим летним солнцем земле; о вездесущей осенней грязи, в которой застревали машины и которая, подобно капкану, хватала в свои вязкие объятия ноги пехотинцев и лошадей, тянувших артиллерийские лафеты; о холодной зиме, когда температура упала до –35 ℃ и десятки тысяч людей теряли конечности из-за обморожений.
Операция «Барбаросса» не только не принесла нацистам гарантированной победы, но и стала источником ожесточенных споров между генералами на передовой и армейским верховным командованием в тылу. По мере углубления этого раскола начальник штаба сухопутных войск Франц Гальдер тщетно пытался играть роль посредника между ними и Гитлером, верховным главнокомандующим вермахта, чьи непредсказуемые решения превращали эту миссию в настоящий кошмар, о чем Гальдер каждый день открыто писал в своем военном дневнике. Кампания группы армий «Центр» против советских войск, которыми в основном руководил величайший полководец Сталина генерал Георгий Жуков, была беспощадной, напряженной и жестокой, как и боевые действия двух других групп армий – «Север» и «Юг». Однако и по своему масштабу, и по характеру она выходила далеко за рамки обычного военного конфликта.
Восточный фронт был полем битвы, на котором мужество проявлялось сполна, а верность долгу ценилась превыше всего, но где ни одна из сторон не придавала особого значения общечеловеческим нормам гуманности. Рыцарская честь уступила место ненависти – первобытному чувству, которое разжигали безапелляционные и жестокие приказы руководителей двух стран. Эти двое не только хотели лично руководить ходом боевых действий, но и требовали не давать никакой пощады и не проявлять милосердия к врагу. В этой титанической схватке законы и обычаи войны, установленные общепринятой в то время Женевской конвенцией, были отброшены.
Солдатам армий вторжения постоянно внушали, что их противник принадлежит к низшей человеческой расе, и войска действовали соответствующим образом. Как на поле боя, так и за его пределами с советскими военнослужащими и гражданскими постоянно обращались чудовищно. Старшие офицеры вермахта закрывали глаза на пытки и убийства, совершаемые подчиненными, и нередко сами отдавали приказы о расправах над людьми, которых считали политическими комиссарами, шпионами или партизанами. На такие кровавые эксцессы со стороны немецкой восточной армии (Ostheer) советские войска отвечали взаимностью и не испытывали угрызений совести, обращаясь с немцами как с насильниками и бандитами, по отношению к которым никакие карательные меры не казались чрезмерными. Смертоносное сочетание ненависти и страха служило оправданием для исключительной жестокости. Характерно, что описания подобных инцидентов, оставленные их участниками или молчаливыми наблюдателями, наполнены самооправданиями и даже бравадой, в которых лишь изредка можно различить нотки стыда или отвращения. Но какой бы ужасающей ни была правда, ни один рассказ об операции «Барбаросса» не может позволить себе ее игнорировать.
Большинством солдат Красной армии двигал либо патриотизм, либо стремление вернуть родную землю. Некоторые вдохновлялись идеологическими убеждениями, но всем было очевидно, что режим Сталина держится на страхе в неменьшей степени, чем на искренней поддержке народа. Уверенность советского диктатора, что он окружен идеологическими врагами, шла рука об руку с абсолютным безразличием к жизням других людей. Как в военное, так и в мирное время он без колебаний отправлял неугодных на смерть. Генералов расстреливали без суда и отправляли в тюрьмы по надуманным обвинениям. Солдатам, которые бежали с поля боя или сдавались в плен, оказавшись в безвыходном положении, угрожала смертная казнь, а их семьи ждал не только позор, но и потеря средств к существованию и права на пенсию. По указанию Сталина Ставка (советский орган высшего военного управления) организовала заградительные отряды[2], которые размещались за линией фронта и расстреливали тех, кто предпочитал спасаться бегством, а не погибнуть под натиском врага.
Несмотря на все это, советскому вождю удалось заручиться поддержкой подавляющего большинства населения: народ сплотился вокруг него ради общего дела. Как показывают письма и мемуары (некоторые из этих документов лишь недавно были обнаружены в ранее засекреченных советских архивах), солдаты и мирное население стойко переносили тяготы войны, объединенные общей целью – борьбой против захватчиков. Многие основные архитектурные достопримечательности Москвы были замаскированы, в городе ввели комендантский час. Под постоянными воздушными налетами рабочим удалось демонтировать тысячи промышленных предприятий стратегического значения для последующей транспортировки на Урал, где они были в безопасности и вскоре возобновили работу, быстро наращивая темпы производства. Осенью 1941 года, когда немцы вплотную подошли к внешнему кольцу еще не до конца укрепленной обороны Москвы, столица была переведена на осадное положение. Нарушителей порядка или комендантского часа расстреливали на месте. Под руководством Жукова десятки тысяч едва экипированных добровольцев – мужчин и женщин, молодежи и стариков – упорно возводили внутренние городские баррикады, рыли траншеи и устанавливали противотанковые ловушки в глубокой грязи или смерзшейся почве посреди суровой русской зимы. Режим, основанный только на страхе, никогда не смог бы добиться такой самоотверженной преданности. Без нее поражение было бы неизбежно.
Преступления против человечности, совершаемые на поле боя, по своему масштабу значительно уступали зверствам, которые нацисты творили за линией фронта. Советских военнопленных форсированным маршем гнали в тыл. Их избивали, унижали, лишали еды, воды и медицинской помощи. Десятки тысяч умирали, так и не дойдя до созданных на скорую руку лагерей военнопленных, куда их сгоняли как скот. Они толпились за колючей проволокой, не имея крыши над головой, водопровода, канализации и прочих элементарных средств выживания. От голода некоторые доходили до каннибализма, но большинство просто умирало. Эта книга документирует беспощадную жестокость, которая стала неотъемлемой составной частью операции «Барбаросса». К маю 1945 года в плену погибло около 3 млн советских солдат. Две трети из них умерли от голода или были расстреляны еще до конца 1941 года.
И это еще было не самое страшное. На восточных территориях, захваченных вермахтом в 1941 году, четыре айнзацгруппы (группы особого назначения, или «боевые команды») под руководством старших офицеров прочесывали город за городом, безнаказанно совершая массовые убийства. Создание айнзацгрупп было одобрено Гитлером и осуществлено высшим руководителем СС Генрихом Гиммлером и шефом Главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом, которые стали главными архитекторами холокоста. Изначально айнзацгруппы получили приказ уничтожать «евреев, занимающих партийные и государственные посты», но вскоре им дали негласное разрешение убивать всех евреев без разбора – мужчин, женщин и детей. Командиры айнзацгрупп были фанатиками, которые из «спортивного» азарта стремились превзойти друг друга показателями казней. По их приказам жертв хватали во время облав, отнимали у них личные вещи, расстреливали и сбрасывали в братские могилы. Эти убийцы действовали не в одиночку. Высшие генералы вермахта не только знали о роли айнзацгрупп, но и во многих случаях сами были причастны к их деятельности, хоть и яростно отрицали это после окончания войны. На всех территориях, оккупированных в ходе операции «Барбаросса», военнослужащие регулярной армии, подразделения местной полиции и другие военизированные формирования помогали убийцам выполнить свою миссию. Существует огромное количество доказательств – в официальных приказах и отчетах, в донесениях самих исполнителей, а также в показаниях свидетелей и немногих жертв, которым удалось выжить. Эти свидетельства настолько же неопровержимы, насколько и ужасающи. Ни одно описание операции «Барбаросса», претендующее на полноту, не может оставить их без внимания.
В первые недели вторжения стремление убивать явно превосходило имевшиеся возможности. Однако со временем убийцы усовершенствовали свои методы, систематически расстреливая большие группы мужчин, женщин и детей – жуткое достижение, о котором они докладывали вышестоящим, сопровождая отчеты точными статистическими выкладками. В течение шести месяцев с начала нацистского вторжения, после серии чудовищных экспериментов с разными видами отравляющих газов, начали работу первые лагеря смерти, в том числе Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим. Началась индустриализация массовых убийств. К Рождеству 1941 года в расстрельных рвах и газовых камерах был уничтожен первый миллион жертв гитлеровского «окончательного решения». По злой иронии судьбы самое ужасающее преступление XX века было единственным элементом созданной фюрером апокалиптической картины Третьего рейха, которому вплоть до последних месяцев войны не препятствовали поражения на фронте. Обойти молчанием этот аспект операции «Барбаросса» – значит оставить без внимания один из ее самых прямых и непосредственных итогов.
Чтобы полноценно описать гитлеровское вторжение в СССР, нужно учитывать не только его последствия, но и причины. Операция «Барбаросса» не возникла в историческом вакууме – она стала прямым следствием политического кризиса, который охватил Европу после окончания Первой мировой войны. Именно поэтому – возможно, к удивлению некоторых читателей – первая часть этой книги начинается с событий весны 1922 года, когда Советский Союз и Германия, еще недавно бившиеся насмерть на фронтах Первой мировой и ставшие изгоями для остального мира, подписали договор о сотрудничестве[3]. Этот дипломатический шаг оказался шоком для европейских демократий. Это был внезапный удар, который привел в замешательство британского премьер-министра Ллойд Джорджа и перечеркнул его кропотливые усилия по выстраиванию общеевропейского консенсуса во имя стабильного экономического развития, а значит, мира и безопасности.
Чтобы разобраться в операции «Барбаросса», нужно распутать тугой клубок политических интриг, разыгравшихся на европейской сцене. Без этого понять ее причины невозможно. А для этого придется описать ту смесь высокомерия и страха, которая заставила разобщенные демократии Западной Европы смотреть на СССР с антипатией. Это не только сделало осмысленный диалог с Кремлем невозможным, но и привело к тому, что большинство западных стран воспринимали неуравновешенного фюрера Германии как меньшее из двух зол. С момента краха Версальской системы до политического взлета Гитлера, сталинского террора в СССР и подписания пакта Молотова – Риббентропа, который в 1939 стал для Европы настоящим потрясением, официальные документы, письма, дневники и мемуары главных действующих лиц показывают, что европейские лидеры преследовали противоречащие друг другу или вовсе недостижимые цели. В результате континент неумолимо двигался к новой войне, которой никто не хотел (за исключением Гитлера и, возможно, Сталина, главной целью которого было избежать прямого вмешательства СССР в разгоравшийся конфликт), но которую никто не мог остановить.
Спустя год после начала Второй мировой войны, когда немецкие танки уже покорили бо́льшую часть Западной Европы, Гитлер решил отложить вторжение на Британские острова, чтобы сперва уничтожить СССР. У этого судьбоносного решения было множество причин, но непосредственным спусковым крючком для операции «Барбаросса» стали события на Балканах. Поэтому в этой книге особое внимание уделяется ожесточенной борьбе между Москвой и Берлином за контроль над этим взрывоопасным и стратегически важным регионом Европы. Когда в конце ноября 1940 года прямые переговоры между советским наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и Гитлером зашли в тупик, вызвав раздражение обеих сторон, фюрер приказал своим генералам к следующей весне разработать детальный план вторжения в Советский Союз. В июне 1941-го, уже оккупировав Югославию и выбив англичан из Греции, он оказался в состоянии войны на два фронта.
Таким образом, операцию «Барбаросса» нельзя отделить от конфликта, быстро принимавшего глобальный характер, и это ключевой контекст, в рамках которого я рассматриваю немецкое вторжение. Спустя считаные часы после того, как стало известно, что вермахт вступил в войну с СССР, Черчилль, а через несколько дней и Рузвельт – в менее напыщенных выражениях – объявили о безоговорочной поддержке Советского Союза. Вскоре Вашингтон и Лондон заключили неожиданный союз с единственным в мире коммунистическим государством, а трое лидеров этого союза стали известны как «Большая тройка». Это было событие тектонических масштабов, которое напрямую повлияло не только на ход боевых действий на Восточном фронте, но и на всю послевоенную историю Европы. Поэтому в моем описании операции «Барбаросса» особое внимание уделяется не только военной кампании, но и напряженной человеческой и политической драме этого бурного, порой конфликтного, но крайне важного тройственного партнерства, когда дипломатические представители из Вашингтона и Лондона вновь и вновь отправлялись в Кремль, чтобы поговорить со своенравным советским диктатором.
Гитлеровское вторжение в Советский Союз изменило ход истории. Как следует из подзаголовка этой книги, я убежден, что последние шесть месяцев 1941 года стали самым важным периодом XX века. Операция «Барбаросса» была не просто роковой авантюрой – именно она привела Гитлера к поражению.
ЧАСТЬ I
Мир катится к войне
1. В начале пути
В пасхальный уик-энд 1922 года изысканный курорт Рапалло на итальянской Ривьере заполнили толпы состоятельных итальянцев, ценивших мягкий климат этого средиземноморского побережья. Спокойствие и сдержанная элегантность города издавна привлекали иностранцев, в особенности людей, интересующихся искусством и культурой. Ведь именно на улочках Рапалло Фридрих Ницше вынашивал идеи, которые позднее стали основой его знаменитого труда – философского романа «Так говорил Заратустра», который многим казался совершенно невнятным. Наслаждаться тихими аллеями и уютными кафе сюда приезжали Ги де Мопассан и лорд Байрон, а в те годы среди завсегдатаев города были поэт Эзра Паунд и английский эссеист Макс Бирбом, знаменитый своими изящными карикатурами на британских аристократов.
Рапалло украшали руины монастыря, древняя базилика с покосившейся колокольней, множество средневековых церквей и остатки двух за́мков. Один из них стоял на скалистом мысу возле гавани, которую он некогда защищал от нападений пиратов. Любители мест с менее почтенной репутацией могли найти здесь несколько укромных казино и даже парочку ночных клубов. Самым внушительным зданием был построенный в стиле неопалладианства отель Excelsior Palace, который мог похвастать более чем 140 номерами и бассейном с видом на море. Его гостями часто становились состоятельные люди и дипломаты, ценившие уединение и конфиденциальность.
Именно здесь в тот пасхальный уик-энд руководитель германского МИДа Вальтер Ратенау и советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин со своими делегациями доводили до финального вида соглашение между двумя странами, которое обсуждалось на секретных переговорах в течение нескольких недель. Они прекрасно понимали, что Рапалльский договор, как его назовут позднее, был дипломатической бомбой замедленного действия, которая взорвется уже в пасхальный понедельник, всего в 40 километрах от Рапалло – в городе Генуе. Эффект взрыва обещал быть оглушительным, а сопутствующий ущерб – непоправимым.
Проходя через плотную толпу фотографов и журналистов к большому залу заседаний в палаццо Сан-Джорджо в Генуе, построенном еще в XIII веке, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж в тот понедельник, 10 апреля 1922 года, не имел ни малейшего представления, что замышлялось в Рапалло. Он излучал уверенность и решимость. После продолжительного тура челночной дипломатии ему в конце концов удалось склонить 34 европейские страны к участию в большой конференции, где, как он надеялся, их давняя вражда уступит место взаимопониманию, а подписанный международный договор – разумеется, благодаря его выдающимся переговорным талантам – принесет континенту долгожданные порядок и процветание.
Амбиции Ллойд Джорджа не знали границ. Накануне своего отъезда в Италию он заявил в палате общин, что Европа «раздроблена на куски разрушительной стихией войны» и его цель в Генуе ни много ни мало «восстановление единства» континента[4]. В духе сказанного он выбрал время своего появления в палаццо, рассчитывая на максимальный эффект. И не ошибся – делегаты поднялись со своих мест и наградили его долгими аплодисментами.
Британский премьер-министр был не только тщеславным политиком, привыкшим находиться в центре внимания, но и человеком с поистине стратегическим мышлением и мощным воображением. Как один из лидеров четырех союзных держав-победительниц – Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов, которые тремя годами ранее в ходе бесконечных споров сформулировали положения Версальского договора, – он одним из первых осознал, что Парижская мирная конференция не только не залечила глубокие раны Первой мировой, но и не сделала почти ничего, чтобы предотвратить их новое воспаление, чреватое катастрофическими последствиями.
В лучшем случае Версальский договор лишь наложил повязку на гноящуюся рану. Он провел новые границы на карте Европы, выкроив множество независимых государств на территориях, где этнические и культурные конфликты на протяжении более чем полувека до этого сдерживались властями четырех соперничавших друг с другом автократий. Европейский «баланс сил» – концепция, сформулированная в первой половине XIX столетия австрийским канцлером князем Клеменсом фон Меттернихом, архитектором Священного союза, и усовершенствованная «железным канцлером» Германской империи Отто фон Бисмарком, провозгласившим Второй рейх в 1871 году, – начал рушиться задолго до 1914 года. К концу Первой мировой войны он окончательно потерпел крах.
В Версале была расчленена Австро-Венгерская империя, некогда удерживавшая под своим шатким контролем огромные пространства Центральной и Восточной Европы. Теперь лишь сказочная архитектура ее столиц, Вены и Будапешта, напоминала об утраченном имперском величии Габсбургов. Подобным же образом Османская империя – «больной человек Европы», – изрядно потрепанная с краев задолго до начала войны, потеряла свои владения на Балканах, которые были конфискованы победителями и перераспределены между ее постоянно ссорящимися бывшими составными частями[5]. Неспокойный деспотический режим Российской империи пал жертвой большевистской революции. Царь Николай II, последний из династии Романовых, был убит, а крупнейшая страна континента оказалась втянута в пучину Гражданской войны. Не менее впечатляющим было крушение германского колосса, который под властью последнего кайзера Вильгельма II возвышался над Европой на протяжении жизни целого поколения, а ныне лежал разбитый и униженный.
Народы Европы, чья жизнь прежде четко регламентировалась указами самодержцев, вдруг оказались в хаосе обломков, оставленных войной, жертвами которой стали более 40 млн человек, включая почти 10 млн погибших на полях сражений солдат и более 6 млн мирных жителей за линиями фронта. Еще 10 млн стали перемещенными лицами внутри собственных стран или пытались пересечь наспех установленные в Версале новые границы, скитаясь в поисках убежища и пропитания. Хотя некоторые страны переживали послевоенный бум, внушавший осторожный оптимизм, бо́льшая часть европейской экономики лежала в руинах. На фоне растущей безработицы и повсеместной нищеты большинство людей испытывали горе и отчаяние. Постепенно становилось ясным, что Версаль, разбившись о скалы благих намерений и самообмана, не смог достичь своей высокой цели и выстроить основу для разрешения этого экзистенциального кризиса.
Самым амбициозным проектом, обсуждавшимся на Парижской мирной конференции, было создание международного форума по глобальной безопасности. Его основная идея заключалась в том, что все государства можно убедить перейти от борьбы за выживание к бескорыстному поиску международной гармонии. В знак уважения к президенту США Вудро Вильсону, питавшему романтическую надежду, что так мир можно будет сделать «безопасным для демократии», этот нравственно безупречный проект был воплощен в Версале в форме Лиги Наций. Это была грандиозная, но слишком хрупкая идея, которая не выдержала ударов, последовавших за катастрофой 1914–1918 годов.
Эта хрупкость с безжалостной очевидностью проявилась вскоре после того, как президент Вильсон вернулся из Версаля в Вашингтон, хвастливо заявив перед сенатом, что «наконец-то мир узнал Америку как спасительницу мира»[6]. Возможно, это льстило самолюбию некоторых американцев, которые хотели верить, что их сыновья не напрасно погибли на европейских полях сражений, но подавляющее большинство сенаторов США не разделяли восторга президента. Более того, они предпочли руководствоваться заветом своего наиболее почитаемого отца-основателя Джорджа Вашингтона, предупреждавшего, что Соединенным Штатам в будущем следует избегать «опутывающих союзов» с другими странами. Поэтому конгресс отказался как поддержать приверженность Вильсона идее Лиги Наций (что в результате ее крайне ослабило), так и ратифицировать Версальский договор, который ее породил.
В течение двух следующих десятилетий Соединенные Штаты практически ушли с европейской дипломатической сцены, отдав предпочтение политике отстраненного нейтралитета и позволяя себе лишь эпизодические – с выгодой для себя – вмешательства в дела Европы. Для многих американцев она вновь стала далеким континентом, о котором они мало что знали и еще меньше заботились. Лишь с началом Второй мировой войны в 1939 году президент Рузвельт почувствовал себя достаточно сильным политически, чтобы сообщить упирающемуся конгрессу, что «опутывающие союзы» вновь стали насущной необходимостью[7]. Тем временем европейцы должны были сами заботиться о своем спасении.
Версальский договор не только не сделал Европу «безопасной для демократии», но еще сильнее обострил напряженность, которая по разным причинам вскоре охватит континент. После многих недель мучительных, нередко ожесточенных споров победители наконец определились с данью, которую предстояло взыскать с поверженного германского левиафана. Чтобы навсегда устранить угрозу немецкого реваншизма, вновь образованный рейх, чьи лидеры даже не были допущены к переговорам, на которых решалась судьба их страны, лишался всех завоеваний, подвергался военным и экономическим ограничениям и обременялся финансовыми санкциями.
Когда только что избранные руководители Веймарской республики были приглашены выслушать свой приговор, подтвердились их худшие опасения. Молодая демократия должна была уступить обширные территории, которые либо были частью Германской империи с момента ее образования в XIX веке, либо оказались захвачены во время войны: Эльзас и Лотарингия возвращались Франции, Рейнская область попадала под оккупацию союзников, Саар передавался под французское управление на 15 лет, а часть земель отходила Бельгии, Чехословакии, Польше и Литве. Полный пересмотр границ, заложенный в Версале, растянулся на пять лет. Несмотря на то что по Версальскому договору Германский рейх[8] по-прежнему оставался крупнейшим государством Европы к западу от Советского Союза, немцам казалось, что их великую страну расчленили – унижение, к которому добавилось решение союзных держав конфисковать африканские колонии. Рейхсвер (силы обороны рейха) решено было радикально сократить, что, по сути, превращало имперскую военную машину в военизированную полицию численностью не более 100 000 человек, лишенную права производить или иметь в своем арсенале броневики[9], танки или военные самолеты. Еще более спорным был пункт об «ответственности за развязывание войны», который налагал на Германию огромные финансовые репарации в качестве компенсации за разрушения, к которым привела воинственность кайзера.
В соответствующем разделе Версальского договора первый параграф (статья 231) гласил: «Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников». Несчастные руководители Веймарской республики оказались перед простым выбором: либо принять условия капитуляции, либо ожидать вторжения и оккупации союзными державами. Им оставалось лишь подписать документ там, где было указано. Хотя наложенные санкции и не были такими грабительскими, как позднее заявляли жертвы, – Германия, вопреки распространенному мнению, не оказалась совершенно «поверженной и беспомощной»[10], – этого было достаточно, чтобы породить в немецком народе глубокую обиду и ощущение несправедливости. Договор воспринимался как жестокое и мстительное наказание за преступления, в которых сами немцы не считали себя виновными.
По другим причинам, которые вызывали не меньше разногласий, Россия также была исключена из Парижской мирной конференции. Как и президент Вильсон, Ллойд Джордж испытывал определенную симпатию к восстанию российского пролетариата против тирании царей, считая, что оно выражает законные требования радикальных перемен после веков угнетения. «Заявить, что мы сами подберем тех, кто будет говорить от имени великого народа, было несовместимо со всеми принципами, за которые мы сражались»[11], как он сообщил французскому премьер-министру Жоржу Клемансо. Эти слова отражали широко распространенную в Европе и на Британских островах позицию. Однако Клемансо, который был непреклонен в своем мнении, что Германия заслуживает карательных мер, наложенных на нее в Версале, настаивал на том, что любое дипломатическое заигрывание с большевиками лишь подстегнет революционные настроения среди обедневшего и враждебно настроенного рабочего класса Европы.
Французскому лидеру вторил британский военный министр Уинстон Черчилль, высказываясь еще жестче и не стесняясь в выражениях. «Цивилизация, – гремел Черчилль перед толпой во время избирательной кампании в ноябре 1918 года, – полностью искореняется на гигантских территориях, а большевики прыгают и скачут, подобно стае кровожадных бабуинов, среди руин городов и трупов своих жертв»[12]. В отличие от Ллойд Джорджа, Черчилль считал, что новый режим в Москве не просто недоговороспособен, но и одержим идеей мировой революции. «Из всех тираний в истории человечества большевистская тирания – самая страшная, самая разрушительная, самая отвратительная», – обращался он к своим слушателям в Лондоне. По этому поводу Ллойд Джордж сухо заметил: «Его герцогская кровь восстала против поголовного истребления герцогов в России»[13]. Герцогская это была кровь или нет, придет время, когда события вынудят будущего премьер-министра заговорить с Москвой совсем иным тоном.
Европейский консенсус в пользу исключения русских и немцев из Версальской конференции был настолько прочным, что Ллойд Джордж не мог ему противостоять. В то самое время, когда в Париже делегаты расставляли в договоре последние точки над i, 180 000 солдат нескольких западных государств участвовали в Гражданской войне, которая разразилась в России после революции 1917 года. Союзники поддерживали Белое движение, боровшееся против большевиков, но их действия не были подкреплены четкой стратегией. В течение 12 месяцев войска медленно, со скоростью краба двигались к некоей туманной цели – лишь для того, чтобы вскоре после Версаля их отозвали назад без видимой причины, разве что в качестве демонстрации собственной нерешительности[14]. Таким образом, они не только не смогли заставить лидеров молодого коммунистического государства свернуть с революционного пути, но и еще больше усилили и без того растущее в Москве подозрение, что Запад объединился в стремлении подавить революцию и по возможности подорвать ее изнутри любыми доступными средствами. В последующие годы паранойя Сталина лишь укрепила это вполне обоснованное подозрение.
Накануне Генуэзской конференции Ллойд Джордж яснее осознал, что с двумя крупнейшими государствами континента больше нельзя обращаться как с изгоями. Они были слишком велики по территории и населению и к тому же слишком нестабильны, а потому опасны, чтобы их можно было просто игнорировать. Оба государства-парии нужно было вернуть за стол переговоров. Без их участия, считал он, невозможно найти выход из нараставшего европейского кризиса или создать устойчивую систему безопасности на континенте. В отличие от своих коллег, Ллойд Джордж понимал, что дальнейшая изоляция может подтолкнуть Германию и Советский Союз к сближению, заставив их забыть идеологические разногласия ради тесного экономического и стратегического партнерства. Такой союз мог разрушить хрупкий баланс сил в Европе. Поэтому в преддверии Генуэзской конференции Ллойд Джордж вложил изрядную долю своего политического капитала, чтобы заставить французов согласиться на участие Германии на переговорах и одновременно преодолеть отвращение ряда других стран-участниц (в том числе консерваторов из собственной шаткой коалиции) перед самой мыслью о том, что им придется сесть за один стол с революционерами-большевиками.
Хотя Москва и Берлин были недостаточно сильны, чтобы бойкотировать встречу в Генуе, ни одна из этих стран не была особенно рада приглашению на конференцию Ллойд Джорджа. Они прибыли в Италию, не питая особых надежд, что оковы, наложенные на них в Версале, будут сняты. За несколько дней до этого премьер-министр уведомил Чичерина, что СССР получит экономическую помощь, только если Кремль согласится выплатить Западу огромные долги и займы, полученные царским режимом до революции[15]. Чичерин был образованным интеллектуалом, унаследовавшим крупное состояние. Он много путешествовал и говорил на всех основных европейских языках. Он написал книгу о Моцарте и восхищался Ницше (неизвестно, правда, знал ли он о том, что Рапалло был одним из любимых мест отдыха этого философа). В то же время он входил в круг ближайших соратников Ленина и был убежденным большевиком. Очевидно, что он также был очень чувствителен и весьма обидчив. Итальянцы, сами того не желая, дали ему повод почувствовать себя оскорбленным, разместив его делегацию – вместе с немецкой – достаточно далеко от главного места проведения конференции в Генуе. Накануне его прибытия корреспондент The Manchester Guardian Артур Рэнсом, имевший хорошие связи в Москве (вскоре он прославится как автор серии детских книг «Ласточки и амазонки»), писал, что Чичерин заявил формальный протест: «Единственная связь с Генуей – длинная дорога, очень удобная для организации покушений… наш приезд в Геную может стать невозможным, если мы столкнемся с необходимостью ежедневно подвергать себя риску»[16]. Его протест проигнорировали. Если и были нужны примеры, подтверждавшие пренебрежительное отношение Запада к Советскому Союзу, это был один из них.
Его немецкий коллега Вальтер Ратенау, назначенный на пост министра иностранных дел только в январе этого года, был видным промышленником еврейского происхождения. Либеральный интеллектуал, известный своей порядочностью и терпимостью, он твердо настаивал на том, что Германия должна соблюдать условия Версальского договора, какими бы обременительными они ни были. Этим, а также своими высказываниями в пользу диалога с Советским Союзом он заслужил репутацию политика крайне левых взглядов. У него было ничуть не меньше оснований опасаться покушения, чем у Чичерина: накануне Генуэзской конференции он даже написал, что предчувствует гибель от рук той или иной группы фанатиков. Несмотря на свое отвращение к большевизму, который он высмеивал как попытку навязать народу России «принудительное счастье», он продолжал верить, что экономическое и политическое сотрудничество с СССР поможет предотвратить приход к власти немецких ультранационалистов, требовавших создания «Великой Германии».
С точки зрения рейха сделка с Кремлем имела и практический смысл. За три года, прошедшие после Версаля, Франция так и не смягчила свою позицию. Ке-дʼОрсе, как все называли французское Министерство иностранных дел, продолжало настаивать, что Германия обязана выплатить репарации в полном объеме, – эта бескомпромиссность существенно ограничивала возможности Ллойд Джорджа для дипломатического маневра. Британский премьер-министр находился под сильным влиянием выдающегося экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который ушел в отставку из Министерства финансов в знак протеста против «отвратительного и мерзкого» обращения, которому Германия подверглась в Версале. Несмотря на это, Ллойд Джордж не мог предложить германскому правительству ничего утешительного: как бы он ни старался, добиться снижения выплат, которые, по его мнению, становились невыносимым бременем для истощенной казны рейха, было невозможно.
Несмотря на разногласия, Москва и Берлин имели достаточно общих интересов, чтобы договориться о сотрудничестве, которое позволило бы им обойти унизительные условия Версальского договора и вырваться из порочного круга изоляции и долгов, навязанных победителями в Первой мировой войне. Для этого двум континентальным гигантам требовалось лишь возобновить старые связи и приспособить их к новым условиям времени.
До Первой мировой войны Австро-Венгрия, Османская империя, Россия и Германия – центральные державы[17], продолжавшие доминировать на континенте, – постоянно заключали и расторгали союзы в попытках сбалансировать свои пересекающиеся и зачастую противоречивые интересы. Отношения между Россией и Германией искусно выстраивались так, чтобы избежать конфликта. Благодаря дипломатическому мастерству Бисмарка в 1887 году страны даже подписали секретный договор, метко названный «Договором о перестраховке», согласно которому стороны обязывались поддерживать благожелательный нейтралитет и при определенных обстоятельствах оказывать друг другу военную помощь. Хотя после отставки «железного канцлера» три года спустя сам договор не был продлен, тесные дипломатические связи, основанные на семейных узах и взаимовыгодных экономических отношениях, сохранились вплоть до самого начала Первой мировой войны.
Иными словами, Рапалльский договор 1922 года стал возрождением бисмарковской Realpolitik[18]: он требовал от Москвы и Берлина отказаться от горького наследия Первой мировой войны и посмотреть на ситуацию трезво. Лишь четырьмя годами ранее, в феврале 1918 года, германские войска пересекли демаркационную линию[19], угрожая оккупировать обширные территории России, и без того сильно ослабленной в ходе Гражданской войны. Грозя этим дамокловым мечом, 3 марта 1918 года Берлин вынудил Ленина подписать Брест-Литовский мирный договор, условия которого были ничуть не менее суровы, чем те, что вскоре навяжут самой Германии на Парижской мирной конференции[20]. Однако едва Версальский договор вступил в силу, и СССР, и Германия – в полном соответствии с политическими традициями XIX века – без колебаний начали секретные переговоры о восстановлении довоенных экономических связей, которые до 1914 года были исключительно важны для обеих стран.
Как ни странно, идея этих переговоров изначально возникла в берлинской тюрьме. В декабре 1918 года марксист-революционер Карл Радек по указанию Ленина отправился в Германию, чтобы помочь молодой коммунистической партии, которую возглавляла Роза Люксембург, разжечь революцию в стране, охваченной протестами. Радек не церемонился. Вскоре после его прибытия трения между правящей социалистической партией и коммунистами переросли в открытую уличную войну. Восстание спартакистов в январе 1919 года унесло жизни по меньшей мере 160 участников восстания и мирных жителей, а также более 30 бойцов военизированных формирований, присланных правительством для подавления мятежа. Люксембург схватили и расстреляли без суда. Радеку повезло больше: его арестовали и отправили в берлинскую тюрьму.
Несмотря на грабительские условия Брест-Литовского договора (который был аннулирован после поражения Германии в войне), отношение Берлина к Москве определялось новой Realpolitik. Поскольку и Германия, и Советский Союз считали себя жертвами Версальской системы, установление взаимовыгодных связей стало казаться им весьма желанной перспективой. Чтобы обозначить этот новый курс, германские власти перевели Радека в другую, гораздо более комфортабельную часть тюрьмы Моабит, где с ним обращались как с высокопоставленным дипломатом, а не опасным преступником. По его собственным словам, ему позволили открыть там «политический салон»[21], куда наведывались ведущие германские промышленники и члены правительства, включая министра иностранных дел Ратенау. Ко времени освобождения Радека из тюрьмы и возвращения в Москву в 1920 году его дипломатия начала приносить плоды[22]. Торговые делегации, включая представителей крупнейшей компании Европы, производителя вооружений Friedrich Krupp AG, вскоре засновали между двумя странами, стремясь возобновить прибыльные довоенные операции.
В постверсальский период в европейской и американской прессе появлялись многочисленные сообщения о растущих коммерческих связях между Германией и Советским Союзом. В Берлине за несколько месяцев до Генуэзской конференции начали ходить слухи и появляться газетные заметки о готовящемся официальном соглашении между СССР и Германией. Несмотря на это, лорд Д’Абернон, ленивый и некомпетентный посол Великобритании в германской столице, либо не смог правильно интерпретировать эти сигналы, либо отнесся к ним с исключительной беспечностью, так и не предупредив Лондон. В результате премьер-министр пребывал в блаженном неведении о советско-германских переговорах до судьбоносного пасхального понедельника, когда ему сообщили о Рапалльском договоре. Его потрясение от этой новости могло сравниться разве что с яростью. Как «пионер личностной дипломатии»[23], он поставил на карту свой авторитет международного государственного деятеля, рассчитывая на успешный исход Генуэзской конференции. Он также понимал, что новый общеевропейский договор помог бы укрепить его пошатнувшуюся репутацию на родине, придав новый импульс его карьере премьер-министра. «Волшебник из Уэльса», которого многие считали «человеком, выигравшим войну», был полон решимости войти в историю как человек, обеспечивший мир на континенте. Но как только он услышал о сделке между Москвой и Берлином, заключенной за его спиной в Рапалло, он понял, что эти надежды пошли прахом. Условия договора он еще не знал, но этого и не требовалось – достаточно было того, что договор подписан.
Он был вне себя, хотя произошедшее вряд ли стало для него полной неожиданностью. Тремя годами ранее, когда лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Италии и Франции готовились подписать Версальский договор, он отправил Жоржу Клемансо секретную записку, предостерегая, что слишком суровое наказание, которого добивалась Франция для разгромленного агрессора, может привести к тому, что Германия «сделает ставку на большевизм и предоставит свои ресурсы, мозги, огромную организационную мощь в распоряжение революционных фанатиков, которые мечтают о вооруженном захвате всего мира большевизмом»[24]. В пасхальный понедельник 1922 года казалось, что этот сценарий начал сбываться.
Ллойд Джордж был в ярости. Во время официального обеда для делегатов он обрушился с упреками на немецкую делегацию и публично обвинил Ратенау в «двойной игре»[25]. Гнев премьер-министра был пронизан отчаянием. Все, чего он пытался достичь в течение десяти недель напряженных дипломатических усилий, оказалось разрушено. Даже известный своей двуличностью министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон (который к тому же питал личную неприязнь к Ллойд Джорджу), узнав о произошедшем, с отвращением заметил: «Кажется, мы снова погружаемся… в то же болото предательств и интриг, что и в довоенные годы»[26].
В свойственной ему манере Ллойд Джордж быстро взял себя в руки, попытавшись заретушировать правду глянцевым лаком валлийского красноречия, которое, впрочем, никого не обмануло. По итогам еще трех дней беспорядочных споров газета The New York Times сообщила, что «участники конференции, казалось, предчувствовали надвигающуюся катастрофу и теперь ее делегаты заняты поисками козла отпущения. Это похоже на вечеринку, испорченную озорным мальчишкой, и вопрос теперь в том, кого назначить виноватым»[27]. К 19 мая, когда дипломаты в последний раз покидали палаццо Сан-Джорджо, всем было ясно, что встреча не принесла никаких значимых результатов[28]. Генуэзская конференция оказалась полным провалом, который поставил крест на подобных международных собраниях на целое поколение[29], а Ллойд Джордж вернулся в Лондон без пальмовой ветви «мира для наших времен», которая была ему так нужна, чтобы убедить коллег по рассыпавшейся коалиции, что у него еще есть политическое будущее. Как и ожидалось, в октябре 1922 года он был смещен с поста и больше не вернулся в первый эшелон британской политики. Человек, которого он упрекал в «двойной игре», заплатил за свою подпись под Рапалльским договором еще дороже – собственной жизнью. 24 июня 1922 года, когда шофер отвозил Вальтера Ратенау на работу, с его машиной поравнялся большой мерседес. Один из пассажиров открыл огонь из автомата, убив министра иностранных дел на месте. Он был не первым видным немецким политиком, который расстался с жизнью подобным образом, и, увы, не последним. Политические убийства становились «новой нормой» в Германии – стране, которая по-прежнему страдала от травм, нанесенных как войной, так и миром.
И в Версале, и в Генуе правительства Европы продемонстрировали, что, несмотря на общее желание исцелить раны мировой войны, они слишком разобщены, а их интересы слишком противоречат друг другу, чтобы этот замысел воплотился в жизнь. Без участия самого мощного государства западного мира они не смогли разработать четкий план восстановления, а без него, как предостерегал Ллойд Джордж, дальнейшие потрясения были лишь вопросом времени. Шок Рапалльского договора был предзнаменованием, указывающим, что две крупнейшие державы континента не позволят другим диктовать свою судьбу; что недавние враги, уничтожавшие друг друга на полях сражений, так или иначе готовы сотрудничать, чтобы вырваться из сложного положения, в которое их поставили. Рапалльский договор не был причиной разворачивающейся катастрофы, но, оглядываясь назад, можно сказать, что он лишь подтвердил жестокую истину: «война, которая положит конец всем войнам», на самом деле ничего не решила.
Хотя официально Рапалльский договор ограничивался гарантиями дипломатического и экономического сотрудничества, включая нормализацию отношений, взаимный отказ от каких-либо территориальных претензий и соглашение о благоприятствовании торговле и инвестициям, взаимопонимание между двумя сторонами шло намного дальше и имело гораздо более серьезные последствия. Договор обеспечивал дипломатическое прикрытие для тайных военных переговоров между Германией и СССР, направленных на обход жестких ограничений, наложенных на рейх, и на восстановление его военной мощи.
У Великобритании не было твердых доказательств этой угрозы, но Форин-офис[30] насторожился. В своей записке Керзону, отправленной через десять дней после того, как новость о Рапалльском договоре потрясла мир, один проницательный служащий Уайтхолла предупреждал: «Я убежден, что… между сторонами есть полное взаимопонимание относительно того, что немцы окажут русским помощь в строительстве армии, и в особенности военно-морского флота: такое сотрудничество может коренным образом изменить будущее Европы»[31]. Его предостережение не совсем соответствовало фактам. Хотя Советы и получали важную военно-техническую информацию, главным результатом договора было то, что немцы в обход условий Версаля смогли начать восстановление своих вооруженных сил вдалеке от любопытных глаз Западной Европы.
Буквально через несколько недель после подписания договора в Рапалло Москва дала согласие на создание летной школы рейхсвера в Липецке (460 километров к югу от столицы) и завода по производству химического оружия в Вольске (300 километров к югу от Самары). Под видом производства тракторов такие оружейные компании, как «Крупп» и «Юнкерс», открыли фабрики под Москвой и Ростовом-на-Дону. На испытательном полигоне недалеко от Казани немецкие офицеры отрабатывали тактические маневры, которые будут использованы в 1940 году при прорыве французских оборонительных линий и – по горькой иронии – против советских войск летом 1941 года. Хайнц Гудериан, который прославится на обоих фронтах как один из самых блестящих танковых стратегов Гитлера, позднее косвенно признавал значимость этого весьма циничного соглашения: «С 1926 года за границей работала опытная станция, где проводились испытания немецких танков…»[32] В награду за щедрость Москвы советские офицеры получили возможность проходить обучение в германских военных академиях по программе обмена, где обе стороны весьма неплохо изучили организационные особенности и методы друг друга.
Военный союз был подкреплен торговым соглашением между двумя странами. В обмен на крупные займы большевистское правительство экспортировало в рейх огромное количество зерна. Только в 1923 году – сразу после голода, во время которого в западных областях России от истощения и вызванных им заболеваний погибли 5 млн советских граждан, – объем поставок превысил 3 млн тонн. Взамен Москва использовала кредиты немецких банков для закупки промышленного оборудования и запчастей, необходимых для восстановления военно-промышленного комплекса страны, который сильно пострадал в годы войны и революции.
Сбитые с толку и встревоженные, британцы обеспокоенно наблюдали за сближением двух континентальных гигантов. «Мы не можем допустить… гегемонию Германии или возможного русско-германского блока на континенте»[33], – заметил Остин Чемберлен, глава внешнеполитического ведомства Великобритании, в то время как его сотрудники старались выработать политику противодействия, пропитанную глубоким отвращением к коммунизму. Распространенное предубеждение Форин-офис относительно «непрестанной, хотя и не осязаемой опасности»[34], исходившей от СССР, привело Лондон к выводу, что Москва представляет более серьезную угрозу европейской безопасности, чем Берлин. Несмотря на Версаль, Великобритания попыталась отвадить руководителей Веймарской республики от общения с «русским медведем». При поддержке Франции, Бельгии и Италии Лондон разработал серию взаимосвязанных соглашений, призванных убедить немцев, что рейх больше не считается изгоем среди европейских демократий.
Плодом этого дипломатического наступления стал Локарнский договор 1925 года. По условиям соглашения немцы и французы окончательно согласовывали общую границу и отказывались применять силу друг против друга; Франция и Бельгия выводили войска из промышленного сердца Германии – Рура (который они оккупировали в 1923 году, когда рейх не смог выплатить ежегодные репарации); подтверждалась демилитаризация Рейнской области, предписанная в Версале; наконец, Германию формально вновь принимали в семью западноевропейских народов, пригласив вступить в Лигу Наций. Договор в Локарно приветствовали как соглашение, обеспечившее тот самый «мир для нашего времени», которого не удалось добиться в Генуе тремя годами ранее. Но это был очень хрупкий сосуд, который едва ли мог сдержать взаимные обиды и страхи, все еще терзавшие Европу.
Русские давили на Берлин, добиваясь отказа от условий Локарнского договора, и были огорчены решением рейха поддаться на уговоры Лондона. Чтобы заверить вечно подозрительную Москву в отсутствии намерений присоединиться к антисоветскому блоку, немцы поторопились подтвердить экономические и военные связи, зафиксированные в Рапалльском договоре. В апреле 1926 года, через четыре месяца после вступления в силу соглашения в Локарно, руководитель советского внешнеполитического ведомства Чичерин прибыл в германскую столицу, где обе стороны в рамках нового Берлинского договора обязались продлить срок действия пакта о взаимном нейтралитете еще на пять лет. Как с сожалением заметил Остин Чемберлен, немцы предпочли «служить и нашим и вашим»[35].
Хотя британские министры были недовольны позицией Веймарского правительства, куда более резкую реакцию у них вызывал большевистский режим, который они одновременно презирали и боялись. В кремлевском руководстве они видели олицетворение желания уничтожить свободу и демократию на Западе и заменить капитализм коммунизмом, который неизбежно приведет к «диктатуре пролетариата». Это отношение было отчасти оправданным, но в то же время близоруким. В бурные годы, последовавшие за приходом Гитлера к власти, оно нанесло серьезный ущерб дипломатическим отношениям между Лондоном и Москвой, что в итоге сослужило британским интересам дурную службу. Высокомерно отвергая советские претензии на статус «великой державы», Остин Чемберлен не только пресек все попытки Кремля получить западные займы, но и в типичном для Уайтхолла покровительственном тоне заметил: «У них явно завышенная самооценка. Они не настолько важны для нас, как они полагают, и они сильно льстят себе, если думают, что британская политика продиктована мыслями о них»[36].
Подобно своим европейским коллегам, британские министры испытывали раздражение от упорных, хоть и неуклюжих попыток Москвы подорвать западные демократические институты, в то же время претендуя на равный статус со своими идеологическими противниками. В случае с Великобританией примером была символическая поддержка Всеобщей стачки 1926 года, когда Москва сделала скромное пожертвование Британскому конгрессу тред-юнионов. Ссылаясь на это нарушение дипломатических норм со стороны аккредитованных в Лондоне советских дипломатов, преемник Ллойд Джорджа на посту премьер-министра Стэнли Болдуин разорвал дипломатические отношения с Москвой[37]. После Локарно, где, по утверждению главы британского МИДа, правительство «сошлось в схватке с Советской Россией за душу Германии», основная цель Великобритании была однозначна: по словам Остина Чемберлена, необходимо было «накрепко привязать Германию к западным державам» и не допустить, чтобы рейх «поддался искушению» вернуться в объятия Советов[38].
Хотя следующее лейбористское правительство Рамсея Макдональда в 1929 году восстановило официальные отношения с СССР, противостояние между Лондоном и Москвой лишь укрепило убежденность Сталина, что Великобритания намерена мобилизовать европейские демократии для уничтожения большевизма. Взаимное недоверие и непонимание так сильно изуродовали англо-советские отношения, что в течение следующего десятилетия конструктивный диалог между Лондоном и Москвой был практически невозможен.
Но более непосредственным – и куда более разрушительным – ударом по хрупкой европейской стабильности оказался не большевизм, а биржевой крах 1929 года. В течение предыдущих пяти лет после сложных переговоров американские банки поддерживали на плаву немецкий рейхсбанк крупными займами, которые помогли компенсировать расходы на выплату репараций, наложенных на Веймарскую республику в Версале. В результате хлипкая немецкая экономика начала восстанавливаться и крупные производственные отрасли вновь обрели устойчивость. Финансовый пожар гиперинфляции, пожиравший жизни и средства к существованию в середине 1920-х, удалось потушить. Немецкие граждане почувствовали относительное благополучие и стабильность. Но когда мировая финансовая система внезапно рухнула, американцы отозвали свои займы и система жизнеобеспечения оказалась отключена. Немецкая экономика отправилась в свободное падение, промышленное производство упало, и за три года более 6 млн немцев – как белые воротнички, так и те, кто трудился в фабричных цехах, – остались без работы. Оказавшись в водовороте Великой депрессии, семьи теряли свои сбережения и начинали голодать, дети массово заболевали из-за недоедания. В атмосфере нищеты и негодования по стране стремительно распространился зловещий вирус – болезнь, которая зародилась в смуте послевоенной Германии и против которой, казалось, не существовало лекарства.
Маргинальное политическое движение, основанное 5 января 1919 года, которое в тот момент насчитывало всего 24 участника, называло себя Немецкой рабочей партией. Чуть более чем за десятилетие оно стало крупнейшей силой в рейхстаге. К тому времени оно называлось Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП, или нацистская партия). Идеология этого движения была антисемитской и расистской, а методы – жестокими. Его лидером был безработный австрийский ветеран Первой мировой войны, который получил Железный крест (первого и второго класса) за храбрость, но так и не смог стать профессиональным художником. Гитлер внушил своим последователям, что немцы – расово чистый народ, которому суждено покорить Европу, истребив все неарийские народы. Ослепленные этой псевдонаучной теорией, они фанатично следовали за ним. Вскоре, поддавшись мессианскому красноречию Гитлера, на съездах нацистской партии стали собираться огромные толпы, которые с восторгом внимали ему, а затем вскидывали вытянутые правые руки в приветствии с криками «Sieg Heil!». А он тем временем вел их к катастрофе, которая окажется гораздо ужаснее всего, что навязали немцам победители в Версале.
Любой, кто продирался через тяжеловесные и однообразные пассажи в «Майн кампф»[39], не мог не заметить безграничную ненависть ее автора к «еврею», которого тот изобличал как «паразита», «пагубную бациллу» и «смертельного врага», от которого необходимо избавиться во что бы то ни стало. Искажая историю до гротеска, Гитлер утверждал, что именно эти «недочеловеки» в 1918 году вырвали из рук у немцев победу и вручили ее союзным державам. Затем они вступили в «извращенный и дегенеративный» сговор со своими коллегами-марксистами в веймарском правительстве и в результате произвели на свет Версальский договор, который был «инструментом неограниченного вымогательства и позорного унижения». Отвращение Гитлера к «международному еврейству» было неразрывно связано с его ненавистью к большевизму и неуемной жаждой Lebensraum – жизненного пространства, без которого немецкая «раса господ» не сможет вновь обрести свое истинное предназначение.
Гитлер обладал уникальным даром разжигать тлеющие в народе обиды и предрассудки, предлагая взамен путь к спасению – мессианский образ страны, восстающей из пепла, чтобы вновь стать великой мировой державой. Огромные аудитории, слушая его, доходили до экстатического исступления. Спустя чуть больше десяти лет методами уличного бандитизма и политических манипуляций национал-социалистам удалось овладеть сознанием нации – сперва на митингах, а затем и у избирательных урн.
Вначале же казалось, что у нацистов нет никаких шансов стать массовым движением. 8 ноября 1923 года они сделали первый шаг, организовав попытку государственного переворота против недавно назначенного комиссара Баварии, который должен был выступить с речью в мюнхенской пивной. На следующий день, рассчитывая, что расквартированный в городе гарнизон рейхсвера поможет им свергнуть веймарское правительство, они устроили марш с целью захвата ключевых государственных объектов. В ходе последовавших беспорядков баварская полиция открыла огонь, застрелив 15 участников шествия и случайного прохожего. Вместе с Рудольфом Гессом, одним из организаторов провального «пивного путча», Гитлер был арестован и осужден за государственную измену. Однако судья, симпатизировавший нацистам, не отправил его в обычную тюрьму, а назначил всего пять лет ареста с содержанием в крепости (Festungshaft), где Гитлер жил в относительном комфорте и уже через девять месяцев вышел на свободу. Поскольку его не привлекали к физическому труду, время заключения он посвятил написанию своей тяжеловесной, но пугающей книги, которая позже будет опубликована под названием Mein Kampf («Моя борьба»)[40].
На декабрьских выборах 1924 года нацисты смогли набрать только 3 % голосов, что дало им всего лишь 32 места в рейхстаге из 472. Но за шесть лет, на фоне разразившегося в стране экономического кризиса, они увеличили свою долю избирателей в шесть раз: на выборах 1930 года они получили 18 % голосов. Теперь они были силой, с которой приходилось считаться. Напряжение росло. Уличные столкновения между штурмовиками нацистской партии (известными как СА, или коричневорубашечники) и их соперниками из социал-демократической СПД и Коммунистической партии Германии обостряли нараставший политический кризис. В июле 1932 года нацисты получили 37 % голосов, что сделало их крупнейшей партией в рейхстаге, располагавшей 230 местами. СПД (бывшая правящая партия) и коммунисты сильно отстали со своими 21 и 14 % соответственно. Нацисты набрали больше голосов – 13 745 680, – чем остальные две партии, вместе взятые. Однако, поскольку ни одна другая партия не желала вступать с ними в коалицию, им пока еще не удавалось сформировать парламентское большинство. Результатом был политический тупик.
Четыре месяца спустя, в ноябре, в попытке найти выход из этого тупика президент Пауль фон Гинденбург (занимавший свой пост с 1925 года) распустил рейхстаг и объявил новые выборы. На этот раз поддержка нацистов сократилась на 4 %, но они вновь оказались крупнейшей партией и получили больше всего голосов. Поскольку более мелкие партии по-прежнему были не готовы объединиться в коалицию, чтобы помешать приходу Гитлера к власти, рейхстаг вновь оказался парализован. Гинденбург, пользовавшийся большим авторитетом как главнокомандующий кайзеровской армией во время войны, а с осени 1916 года фактически возглавлявший правительство, оказался в полной растерянности. Хотя он и стал живым воплощением образа отца нации, на самом деле это был уставший и ослабленный возрастом человек. Он явно не мог соперничать с Гитлером. 30 января, не видя другого способа преодолеть политический кризис, Гинденбург пригласил к себе лидера нацистов и официально назначил его канцлером Германии. 30 января 1933 года Гитлер принял присягу.
Это был знаменательный поворот событий. Обладая редким даром популистской риторики, Гитлер говорил людям именно то, что они хотели услышать: что самую могущественную державу Европы лишили законного места в мире, изгнали из ее собственных земель, отняли у нее право носить оружие и унизили финансовыми репарациями, которые – хотя их выплата прекратилась в 1932 году – он объявил причиной обнищания немцев.
Добавив к этой взрывоопасной смеси идею, что главная причина их нынешних невзгод – заговор еврейских плутократов, он сумел убедить в этом великое множество людей, в остальном вполне разумных. Они даже не пытались задаваться вопросом, действительно ли во всем виноваты плутократы и если это так, то в чем разница между еврейскими и нееврейскими плутократами. Они также предпочли не замечать, что, хотя некоторые евреи действительно были банкирами, большинство из них составляли обычные лавочники, торговцы и ремесленники, зарабатывавшие себе на жизнь в том, что сейчас назвали бы сферой услуг. Европа веками была пронизана антисемитизмом, и Гитлер лишь подогревал существовавшие предрассудки, придавая им нужное ему направление. В бурной атмосфере той эпохи шаг за шагом, наслаивая одну ложь на другую, он приобрел достаточно сторонников среди избирателей, что в конце концов позволило ему уничтожить те самые демократические институты, которые привели его к власти.
Помимо идеологических разглагольствований Гитлера, заставлявших сердца избирателей биться быстрее, они имели весьма смутное представление о том, как именно их фюрер распорядится полученной властью. Его первое официальное обращение к нации 1 февраля 1933 года не прояснило ситуацию. Сделав акцент на «глубочайшей нищете» миллионов немецких мужчин и женщин, которая угрожала «катастрофой невиданных масштабов», он объявил, что его «первейшим долгом» является «восстановление единства духа и воли нашего народа (Volk)». Ради этой цели он пообещал вести «беспощадную войну против духовного, политического и культурного нигилизма». В речи, впрочем, не было упоминаний ни о еврейской «бацилле», ни о жизненном пространстве (Lebensraum).
Если бы избиратели смогли присутствовать на секретном совещании Гитлера с руководством армии, которое прошло через два дня, им открылась бы гораздо более ясная и зловещая картина. Противников нацистов, как он сообщил собравшимся генералам, нужно «стереть в порошок», а единственным способом борьбы с марксизмом должно быть его «полное уничтожение». Демократия – это «раковая опухоль», которую нужно вы́резать на корню. Потребность в жизненном пространстве, возможно, потребует завоевания новых земель с их последующей германизацией, для чего жизненно необходимо наращивать германские вооруженные силы. Одни слушатели были в восторге, другие пришли в растерянность. Но никто не высказал ни слова протеста. Как писал известный биограф Гитлера Ян Кершоу, «с каким бы пренебрежением они ни относились к этому вульгарному и горластому выскочке, перспектива восстановления мощи армии как основы для экспансионизма и немецкой гегемонии» совпадала с давними планами военной элиты Германии[41].
Затем Гитлер обратился к ведущим промышленникам страны, пригласив их в принудительном порядке прибыть 20 февраля к нему на встречу, которая должна была состояться на вилле, принадлежавшей Герману Герингу, пилоту-асу Первой мировой войны и самому близкому сподвижнику фюрера. Геринг вступил в нацистскую партию в 1922 году после того, как выслушал одну из публичных речей Гитлера. Он принял участие в марше вместе с остальными лидерами «пивного путча» и был ранен, после чего его тайно переправили из Мюнхена в австрийский город Инсбрук. Из-за того, что в качестве обезболивающего использовался морфин, у него возникла наркотическая зависимость, и он некоторое время лечился в клинике. Вернувшись в Германию, он был избран в рейхстаг на выборах 1928 года. В июле 1932 года, когда нацисты стали партией большинства, они получили конституционное право назначить председателя рейхстага. Гитлер выбрал Геринга. После того как лидер нацистов стал канцлером, он назначил Геринга на пост министра внутренних дел Пруссии, что поставило под его контроль крупнейшие полицейские силы Германии. Объединив множество подразделений, он вскоре создал новую секретную полицию – гестапо, руководство которой позднее передал Генриху Гиммлеру.
Промышленники прекрасно понимали, что Геринг, как и Гитлер, не тот человек, от которого можно безнаказанно отмахнуться. Закончив свою речь словами, что дни парламентской демократии сочтены, а революционную левую угрозу, если потребуется, раздавят силой, Гитлер покинул виллу Геринга. Его заместитель продолжил развивать эту тему. Требуя финансовой поддержки, он призвал собравшихся пополнить истощенную партийную казну, чтобы обеспечить НСДАП победу на предстоящих выборах, назначенных на 5 марта 1933 года. Эти выборы, как объяснял им Геринг, «наверняка станут последними на десять, а возможно, что и на сто лет вперед»[42].
Для некоторых из присутствовавших это было заманчивым обещанием, даже если ради него приходилось пойти на сделку с силами тьмы. Для тех, кто придерживался международного взгляда на экономику и политику, перспектива была не столь привлекательной, но от нее практически нельзя было уклониться. Семнадцать ведущих предприятий, как и требовалось, внесли в НСДАП 3 млн рейхсмарок, что стало мощным финансовым подспорьем для нацистской кампании в последние дни накануне голосования.
В конце месяца Гитлер сделал еще один шаг к укреплению своей власти. Под предлогом подавления мифического коммунистического мятежа, в организации которого он обвинил заговорщиков, якобы устроивших поджог Рейхстага 27 февраля, он без труда убедил Гинденбурга – непоколебимого консерватора – в необходимости немедленного ограничения гражданских свобод[43]. В атмосфере, отравленной угрозами и насилием со стороны нацистских линчевателей-боевиков, более 17 млн избирателей отдали свои голоса национал-социалистам на выборах 5 марта, во время которых оппозиционным партиям было запрещено вести агитацию. Гитлер набрал 43,9 % голосов. Вооружившись этим мандатом, полученным в нечестной борьбе, он пошел еще дальше. Запретив депутатам от коммунистической партии присутствовать на парламентской сессии 23 марта (из-за последствий пожара в Рейхстаге заседание проходило в здании Кролль-оперы), он протащил через парламент так называемый Закон о чрезвычайных полномочиях. Этот закон с очень метким названием наделял Гитлера правом издавать указы без участия парламента и использовать силу по своему усмотрению для поддержания общественного порядка. До конца Второй мировой войны в Германии больше не будет выборов.
2 августа следующего года Гинденбург умер от рака легких в возрасте 87 лет. Начался всенародный траур. На государственных похоронах Гитлер постарался сыграть заметную роль, но к тому времени он уже ликвидировал все остатки немецкой демократии. Проведя показательный плебисцит, он упразднил пост президента и, приняв на себя его полномочия, сосредоточил в своих руках полный контроль над всеми государственными институтами, включая вооруженные силы. Фюрер и сплотившиеся вокруг него нацистские фанатики отныне могли свободно навязывать свою волю 67-миллионному населению. Они хорошо знали, чего хотят: сделать Германию доминирующей державой в Европе, вернуть территории, «похищенные» у них в Версале, уничтожить коммунизм, искоренить еврейскую «заразу» и создать Lebensraum для высшей арийской расы на землях Восточной Европы и прочих территориях, ныне населенных «неполноценными» славянскими народами. Для достижения этих целей германскую экономику нужно перевести на военные рельсы, а все препятствующие этому договоры и соглашения игнорировать или отменить. Способы, средства и сроки реализации этих планов были еще не ясны, но сами цели глубоко укоренились в сознании нацистов. Лишь немногие немцы пытались сопротивляться. Большинство – в той или иной степени – либо соучаствовали, либо покорно соглашались, либо подчинялись из страха. Третий рейх достиг зрелости.
2. Диктаторы и демократы
25 марта 1933 года, спустя два дня после того, как внесенный Гитлером «закон о чрезвычайных полномочиях» был одобрен рейхстагом, в газете The Manchester Guardian вышла статья без указания автора. Это было сообщение из Советского Союза от британского журналиста Малькольма Маггериджа, который с прошлого года был аккредитован в Москве. Он прибыл со своей женой Китти, «полный решимости», как он позднее писал, «отправиться туда, где, как я полагал, наступает новая эра» и с намерением получить советский паспорт вместо британского. Он был вовсе не одинок в этих мечтаниях. Среди множества левых интеллектуалов Великобритании, разделявших его взгляды, были Беатрис Уэбб – тетя Китти Маггеридж, которая вместе со своим мужем Сиднеем выступила соучредительницей Лондонской школы экономики, журнала The New Statesman и Фабианского общества, – и самый блестящий сторонник этого общества драматург Джордж Бернард Шоу.
Будучи горячим поклонником СССР, Шоу двумя годами ранее по специальному приглашению приезжал в Москву и провел там девять дней, занятый «установлением фактов». Его окружили заботой и вниманием, катая по столице в лимузине с открытым верхом в компании его попутчиков, лорда и леди Астор. Эта семья владела обширным Кливденским поместьем на берегах Темзы. Нэнси Астор была известной светской львицей, а в 1919 году стала первой женщиной, избранной в британский парламент. Аристократическая чета и драматург-социалист были поражены тем, что им показали в Москве. Их чествовали революционные писатели и художники, а затем пригласили в Кремль на встречу с Иосифом Сталиным. Шоу был в восторге. Чрезвычайно польщенный тем, что с ним обращаются как со старым другом, после трехчасового разговора со Сталиным он объявил о своем отъезде в Лондон в следующих выражениях: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны – страны отчаяния»[44].
Одобрительная позиция Шоу как одного из самых заметных публичных интеллектуалов западного мира имела большое значение для Кремля, и после своего возвращения в Лондон он не разочаровал большевиков. Когда на пресс-конференции его спросили о перебоях с продовольствием и голоде в некоторых областях России, он заявил, что не видел в России «ни одного недоедающего человека, молодого или старого», и затем язвительно добавил: «Говорите, они пухнут от голода? Может быть, их впалые щеки раздуты из-за кусочков резины во рту?»[45]
Такие ремарки от столь заметной фигуры во многом способствовали тому, что либеральная общественность на Западе примкнула к сторонникам коммунизма, которые клеймили всех критиков СССР как капиталистов-реакционеров или твердолобых представителей правящих классов, больше всего опасавшихся, что коммунистический вирус заразит миллионы голодных людей – мужчин и женщин, потерявших работу во время Великой депрессии. В отсутствие доказательств обратного было легко поверить, будто Советский Союз – рай на земле и образец для всего человечества.
Малькольм Маггеридж не был столь легковерным. Лишившись многих иллюзий после шестимесячного пребывания в сталинской России, он решил разобраться, есть ли у слухов о массовом голоде какие-то основания. В начале 1933 года он отправился в поездку, где вскоре столкнулся с ужасающей реальностью. В одном маленьком ярмарочном городке, как он сообщал, «гражданское население очевидным образом голодало… они не просто недоедали, как, например, большинство крестьян в восточных странах и некоторые безработные в Европе, а вообще почти ничего не ели на протяжении нескольких недель». Один из этих несчастных, беспокойно озираясь в страхе, что его могут подслушать, сказал ему: «У нас нет ничего, вообще ничего. Они все забрали». Маггеридж километр за километром проходил по пустым полям. Земля была не пахана, а домашний скот погиб. Закрома стояли пустые, и не было посевного зерна для следующего урожая. Повсюду, где он был, он видел лишь «отчаяние и растерянность»[46]. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что он стал свидетелем гуманитарного кризиса, который разразился из-за стремления режима во что бы то ни стало – говоря неумолимым языком революции – «ликвидировать кулаков как класс» и учредить коллективные хозяйства на экспроприированных землях. Кулаки – мелкие землевладельцы, нередко имевшие более двух гектаров земли, что было достаточно для найма работников, – по мнению большевиков (часто справедливому), были внутренне враждебны революции и отказывались передавать государству свои земельные наделы и средства к существованию.
«Ликвидация», будучи важным этапом первой сталинской пятилетки, требовала от партийных работников изымать все имущество кулаков, а их самих выгонять из домов, которыми их семьи нередко владели на протяжении многих поколений. Операция не ограничивалась Кавказом и Украиной. В январе 1933 года начальство давило на партийных работников в богатых зерном районах Центральной России, пытаясь ускорить программу реквизиции и выселения. Первый секретарь обкома партии Центрально-Черноземной области комиссар Юозас Варейкис, готовый, как и его коллеги в других местах, с энтузиазмом выполнить любой приказ ради достижении поставленных Кремлем целей, объяснял своим товарищам, что им предстоит раскулачить от 90 000 до 150 000 крестьянских хозяйств, изгнать из домов от 12 000 до 13 000 кулацких семей, а также арестовать или казнить их «контрреволюционных» вожаков[47].
В течение нескольких недель хаос, спровоцированный этой узаконенной этнической чисткой, привел к тому, что запасы хлеба в этом чрезвычайно плодородном регионе начали подходить к концу. Шесть месяцев спустя начальник регионального отделения ОГПУ (государственной тайной полиции) был вынужден телеграфировать Варейкису, что урожай после весеннего сева не убран, а зерно «гниет и прорастает». В мае 1933 года начальник ОГПУ сообщал: «Только в деревне Борисовка более тысячи человек умерли от голода… В целом ряде деревень трупы умерших уже долгое время не убирают… Колхозники покидают деревни и направляются в города».
Начальство, ничуть не смущаясь подобными сообщениями, которые нескончаемым потоком поступали в Кремль, требовало еще более жестких мер. Сталин поручил эту задачу Вячеславу Молотову[48]. Как председатель Совета народных комиссаров и ближайшее доверенное лицо Сталина, он нес прямую ответственность за проведение программы «ликвидации» и «коллективизации». Черноземье имело ключевое значение для успеха этой программы. Расположенный примерно в 700 километрах к юго-западу от Москвы, этот регион с его 350 000 квадратных километров высокоплодородных земель был одной из главных житниц столицы. С присущим ему ледяным хладнокровием Молотов не принимал в расчет умиравших от голода крестьян, продолжая делать все, чтобы экспроприации в Черноземье продолжались без всяких послаблений. В личной телеграмме Варейкису он указывал комиссару, оказавшемуся в затруднительном положении: «Ни о каких отклонениях от плана… не может быть и речи… смягчающие обстоятельства не учитываются»[49]. Крестьян, призывавших к неповиновению, надлежало высылать в другие области СССР, а в случае сопротивления – расстреливать на месте.
Убежденные коммунисты – такие как Лев Копелев[50], вместе с тысячами других молодых партийных работников направленный в сельскую местность для проведения раскулачивания, – были готовы платить эту цену:
И в страшную весну 1933 года, когда я видел умиравших от голода, видел женщин и детей, опухших, посиневших, еще дышавших, но уже с погасшими, мертвенно-равнодушными глазами, и трупы, десятки трупов в серяках, в драных кожухах, в стоптанных валенках и постолах… Видел и все-таки не сошел с ума, не покончил с собой… А по-прежнему верил, потому что хотел верить[51].
Много лет спустя он изменит свое мнение, но в то время он, молодой и образованный человек, был убежден:
Мировая революция была абсолютно необходима, чтобы восторжествовала справедливость… Но еще и для того, чтобы потом не стало границ, капиталистов и фашистов. И чтобы Москва, Харьков и Киев стали такими же огромными, такими же красивыми городами, как Берлин, Гамбург, Нью-Йорк, чтобы у нас тоже были небоскребы, улицы кишели автомобилями и велосипедами, чтобы все рабочие и крестьяне ходили в красивой одежде, в шляпах и при часах[52].
Эта картина, как он признавался, настолько затмила ему разум, что он проникся настоящей ненавистью к кулакам. «Я был убежден, что мы – бойцы невидимого фронта, воюем против кулацкого саботажа за хлеб… но еще и за души тех крестьян, которые закоснели в несознательности… не понимают великой правды коммунизма»[53].
Многие из жертв голода жили на юге страны[54], и именно здесь кулацкое сопротивление коллективизации было наиболее упорным. Зная, что урожай конфискуют местные власти – по произвольным и невыполнимым нормам, установленным Молотовым для обеспечения продовольственного изобилия в городах, – многие крестьяне опускали руки и отказывались работать на своих полях. Тем кулакам, которым хватало смелости и смекалки прятать урожай, грозила «ликвидация» в самом прямом и ужасном смысле слова. Подписанный лично Сталиным в 1932 году указ Политбюро сделал «кражу» зерна преступлением, караемым смертной казнью. Крестьянину достаточно было спрятать всего один мешок, чтобы оказаться перед расстрельной командой.
Сотни тысяч крестьян, избежавших расстрела на месте, погибли от голода, жажды и болезней во время долгого изнурительного пути из родных деревень в отдаленные районы страны. Когда поезда, везущие этих несчастных, останавливались, трупы вытаскивали и складывали рядом с вагонами, чтобы затем прямо здесь же похоронить их. Неисчислимое их количество осталось в безымянных могилах. Те, кому удалось выжить – «административные переселенцы», как их официально называли, – в поисках пищи в чужих негостеприимных землях вынуждены были рыться на помойках и попрошайничать.
Страдания переселенцев были велики. В мае 1933 года неназванный госслужащий, потрясенный представшим перед ним зрелищем, докладывал:
В поездках я часто был свидетелем того, как административные выселенцы бродили по селам, словно тени, в поисках куска хлеба или отходов. Они едят падаль, режут собак и кошек. Селяне держат двери на замке. Те, кому удается войти в дом, падают перед хозяином на колени и со слезами просят куска хлеба. Я видел несколько смертей на дороге между селами, в банях и в сараях. Я сам видел голодных агонизирующих людей, ползущих на четвереньках по обочине. Их забрала милиция, и они умерли спустя несколько часов[55].
При всем бесстрастном усердии партийных работников по сбору первичной статистики установить точное количество погибших за время массового голода 1932–1933 годов так никогда и не удалось. Вероятно, Сталин и не собирался ликвидировать крестьянство вообще, ограничившись только кулаками, но массовая голодная смерть была прямым следствием его политики. Вероятно, не менее 10 млн[56] советских граждан умерли в результате казней, голода, болезней и депортаций во внутренние районы страны[57].
Мало кто на Западе осознавал масштаб этой катастрофы. Во многом это было заслугой хорошо отлаженной советской пропагандистской машины, которая работала как внутри страны, так и за рубежом. Она хвалила, поддерживала, а иногда и финансировала послушных и доверчивых. Так, на самом пике геноцида Бернард Шоу вместе с 20 другими известными личностями опубликовал в The Manchester Guardian возмущенное письмо, утверждая, что во время их визитов в СССР никто из них не увидел доказательств
рабской эксплуатации, лишений, безработицы и циничного неверия в возможность перемен… Везде мы видели полный надежд и энтузиазма рабочий класс… [который был] свободен в рамках, установленных самой природой, а также ужасным наследием тирании и некомпетентности их прежних правителей… По нашему мнению, продолжение нынешней клеветнической кампании стало бы настоящей катастрофой…[58]
Шоу был не одинок. Некоторые другие знаменитости международного масштаба были не менее идеологически ангажированы, в том числе писатели-романисты Г. Дж. Уэллс и Андре Жид. Артур Кестлер, который в это время жил в Москве, своими глазами видел умиравших от голода детей, хоть и не признавал этого долгие годы. В его описании это были «жуткие младенцы с огромными недержащимися головами, тонкими, как палочки, руками и ногами и раздутыми выпирающими животами»[59]. При этом жертв голода он изображал «врагами народа, которые предпочитали просить милостыню, а не работать»[60].
Самым влиятельным из большевистских попутчиков был уроженец Ливерпуля журналист Уолтер Дюранти, московский корреспондент газеты The New York Times. Бесстыдный апологет советской системы, Дюранти руководствовался не столько идеологическими убеждениями, сколько стремлением вести комфортный образ жизни в Москве, который полностью зависел от благосклонности Кремля. Чтобы сохранить свой привилегированный статус, он был готов облить грязью любого, кто критиковал его излишне оптимистичные репортажи о жизни в СССР, публиковавшиеся в одной из самых авторитетных американских газет. Если кто-нибудь – пусть даже косвенно – сомневался в правдивости его материалов, реакция Дюранти была совершенно беспощадной.
Весной 1933 года молодой репортер New York Evening Post Гарет Джонс, вопреки запрету на поездки на Украину, в течение десяти дней пешком ходил из деревни в деревню, где видел доведенных до отчаяния крестьян, «которые ели корм для скота». Джонсу удалось получить визу для въезда в СССР благодаря советскому послу Ивану Майскому, желавшему снискать расположение бывшего премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, у которого Джонс работал советником по иностранным делам. Однако это не повлияло на его объективность. Услышав от крестьян слова «хлеба нет, мы умираем», он честно описал их трагическое положение. В других обстоятельствах его душераздирающий репортаж, опубликованный в нескольких газетах США и Великобритании, вызвал бы значительный резонанс[61]. Однако Дюранти, который несколько месяцев назад получил Пулитцеровскую премию за освещение событий в СССР, моментально набросился на журналиста-новичка. Пользуясь своим статусом, он решил заткнуть Джонсу рот и обвинил его в том, что тот создал «страшилку»[62]. В своем малодушном стремлении сохранить хорошие отношения с советским руководством большинство аккредитованных в советской столице представителей западной прессы поспешили занять сторону своего коллеги Дюранти[63]. Хотя тому и пришлось скрепя сердце впервые признать, что Россия столкнулась с «недостатком продовольствия», который мог привести к массовому недоеданию, Дюранти заверил читателей The New York Times, что «всякие слухи о голоде в России… раздуты враждебной пропагандой»[64]. Пока репутация пулитцеровского лауреата в США продолжала укрепляться, Джонс был полностью (и, как впоследствии окажется, буквально) уничтожен своими оппонентами[65].
В Великобритании Маггеридж также переживал период затмения. Став свидетелем того, как отряд милиции конвоировал колонну голодных крестьян из деревни, он писал: «Самое худшее в классовой войне то, что она никогда не заканчивается. Сначала расстреливают и переселяют отдельных кулаков, затем группы крестьян, затем целые деревни»[66]. Он задавался вопросом: «Почему же такое множество очевидных и фундаментальных фактов о России проходит мимо внимания даже самых серьезных и интеллигентных людей, которые там побывали?»[67] Если его вопрос и вызвал какую-то реакцию, то это было скорее недоверие, чем шок. Беатрис Уэбб, которая за несколько месяцев до этого сама вернулась из восьминедельной поездки в Москву, была озадачена, как она выразилась, «удивительно истеричной клеветой Малькольма на Советский Союз», в которой он «ярко и дерзко изобразил картину голода и гнета среди крестьян на Северном Кавказе и Украине»[68]. Такая готовность некритически впитывать кремлевскую пропаганду была широко распространена не только среди либеральной интеллигенции, но и – что еще показательнее – в европейских посольствах. Западные правительства располагали независимыми источниками информации, которых было достаточно, чтобы понять: Маггеридж и Джонс не преувеличивают. Но по дипломатическим соображениям они предпочитали не заострять на этом внимание.
В полном согласии с политикой британского правительства, балансировавшего между отвращением к СССР и тревогой по поводу прихода Гитлера к власти, высокопоставленный дипломат Форин-офис Лоуренс Кольер проявлял показательное равнодушие. Отвечая на встревоженный запрос одного депутата, он писал: «Правда состоит в том, что мы, конечно же, располагаем кое-какими сведениями о голоде… Однако мы не хотим предавать их огласке, так как это вызвало бы недовольство советского правительства и нанесло бы ущерб нашим отношениям»[69]. Таким образом, смертоносный голод на Украине, Кавказе и в некоторых областях самой России был практически проигнорирован внешним миром.
Лишь спустя несколько десятилетий оценка Маггериджем массового голода 1932–1933 годов как «одного из самых чудовищных преступлений в истории, настолько ужасного, что в будущем люди вряд ли смогут поверить в то, что такое происходило на самом деле»[70], была в конце концов признана правдивой[71]. В большинстве случаев те, кто хоть сколько-нибудь интересовался событиями в СССР, были склонны разделять точку зрения Дюранти, который непринужденно повторял слова, приписываемые то Робеспьеру, то Наполеону: «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц»[72]. Готовя это блюдо, Сталин с полной ответственностью за происходящее разбил 10 млн яиц. А вскоре разобьет еще больше.
В марте 1933 года в США в должность вступил новоизбранный президент Франклин Рузвельт. Его главной задачей было положить конец Великой депрессии. Европа была в смятении, в Германии пришел к власти Гитлер, а в Советском Союзе население подвергалось беспощадным репрессиям. В отличие от своего предшественника Герберта Гувера, Рузвельт был «интернационалистом»[73], но в наследство ему достались изоляционистский конгресс и страна, охваченная бедностью и лишениями. Пытаясь дать людям надежду посреди экономического бедствия, он начал инаугурационную речь одним из самых известных своих афоризмов. «Позвольте мне выразить твердое убеждение: единственное, чего нам следует бояться… это сам страх», – заявил он, давая понять, что его приоритетом было «во что бы то ни стало преодолеть» то, что он назвал «чрезвычайной ситуацией в нашем доме»[74]. В то время, когда социальная деградация, безработица, недоедание, в некоторых районах почти доходившее до голода, угрожали разорвать общественную ткань нации, международные отношения неизбежно отходили далеко на второй план перед лицом острой необходимости перезапустить надломленную капиталистическую систему Америки.
Решением, которое выбрал Рузвельт, стал «Новый курс», и в первые месяцы президентства он полностью сосредоточился на его реализации. Но сложное положение, в котором оказалась Европа, не ускользнуло от его внимания. Рузвельт не хотел просто наблюдать за кризисом со стороны. После неудач в Версале и Генуе и весьма скромных успехов в Локарно европейские правительства вновь пытались согласовать свои противоречивые интересы, надеясь заложить основу для экономической стабильности и стратегической безопасности. Поставив перед собой задачу защищать интересы США в мировой экономике, Рузвельт отправил представителей на две важные международные конференции, которые проходили параллельно, но имели разную повестку – одна в Лондоне, а вторая в Женеве.
На открывшейся в июне Всемирной экономической конференции в Лондоне очень скоро выяснилось, что американские переговорщики, действуя по поручению президента, были ничуть не более расположены к отказу от протекционизма как основного средства борьбы с Великой депрессией, чем их европейские коллеги. В результате 27 июля 1933 года конференция была фактически сорвана своим самым важным участником. В феврале 1932 года в Женеве началась претенциозно названная «Всемирная конференция по разоружению». Вскоре и она зашла в тупик: Франция заявила, что сперва следует договориться о безопасности и лишь затем – о разоружении, в то время как Германия требовала снятия ограничений, наложенных Версальским договором, чтобы снова вооружиться ради обеспечения собственной безопасности. Взяв шестимесячную паузу, в феврале 1933 года делегаты собрались вновь, уже чувствуя на себе зловещую тень только что установившегося в Германии нацистского режима. Но это лишь укрепило решимость Рузвельта добиться «очень, очень определенного» успеха в Женеве.
В доказательство своей доброй воли он распорядился сократить американскую армию, которая и так имела весьма скромный размер в 140 000 военнослужащих (всего на 40 000 больше, чем Германии было позволено иметь по Версальскому договору). Этот шаг встретил яростное сопротивление со стороны Военного министерства США. В ходе бурных споров в Белом доме начальник штаба армии генерал Дуглас Макартур, как сообщалось, выразил надежду, что когда США проиграют следующую войну и «простой американский парень, лежа в грязи с вражеским штыком в животе и вражеским сапогом на горле, произнесет свое предсмертное проклятие», то он прохрипит имя Рузвельта, а не Макартура[75]. Рузвельт был взбешен таким вопиющим нарушением субординации, и Макартур был вынужден отступить. Но генерал не смирился. Много лет спустя он вспоминал: «Меня чуть не стошнило прямо на ступени Белого дома»[76].
Инициатива президента не принесла результатов. Несмотря на его обращение ко всем 54 участникам с призывом «полностью ликвидировать все наступательные вооружения», дипломаты в Женеве продолжили поддерживать военный протекционизм, как их коллеги в Лондоне – протекционизм экономический. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Последний удар был нанесен в октябре 1933 года, когда по поручению Гитлера германская делегация (возглавляемая Йозефом Геббельсом, недавно назначенным министром народного просвещения и пропаганды) покинула переговоры. Вдобавок немцы одновременно вышли из Лиги Наций (в которую Веймарская Германия была принята в 1926 году), мотивируя свой шаг отказом других держав предоставить Третьему рейху право на военный паритет. Получив горький урок в Лондоне и Женеве, Рузвельт решил хотя бы на время увести Соединенные Штаты с политической арены по ту сторону Атлантики, устало заметив: «Нам предстоит пережить период отказа от любого сотрудничества… в течение следующего года или пары лет»[77].
У этого отступления было одно важное исключение: Советский Союз. В октябре 1933 года президент вызвал двух своих самых доверенных помощников: Генри Моргентау, главу Сельскохозяйственного кредитного управления, которому в ближайшем будущем предстояло стать министром финансов, и Уильяма Буллита, опытного дипломата, который в 1919 году приезжал в Москву и пытался заключить мирное соглашение для прекращения Гражданской войны в России (он представил проект соглашения Уилсону, но конгресс отказался его поддержать). В отсутствие успехов в других частях Европы Рузвельт поручил им установить контакт с Москвой в надежде улучшить отношения между Белым домом и Кремлем – или, как он выразился на пресс-конференции, объясняя эту неожиданную инициативу, между «двумя великими странами, двумя великими народами»[78]. Превосходя своих противников-изоляционистов в конгрессе в стратегическом воображении, он полагал, что сближение с Москвой даст милитаристскому режиму в Токио четкий сигнал о недопустимости агрессивной политики в регионе, где пересекаются интересы СССР и США. В 1931 году японцы уже оккупировали Маньчжурию, что снова обострило давний пограничный спор с СССР, и, следуя лозунгу «Азия для азиатов», готовились к дальнейшей территориальной экспансии, что угрожало прямым столкновением с США в Тихом океане.
Москва не мешкала. После 16 лет дипломатической изоляции (с тех пор, как США приняли решение разорвать отношения после прихода большевиков к власти в 1917 году) соблазн восстановить официальные связи с самым мощным государством мира – и последней крупной страной, формально все еще не признавшей СССР, – был непреодолим. Уже через несколько дней советский нарком иностранных дел Максим Литвинов – изворотливый переговорщик, про которого говорили, что «он может сухим пройти через воду», – был на борту самолета, следующего в Вашингтон, куда он прибыл 8 ноября. Литвинов был идеальным кандидатом для этой миссии. Когда-то он был революционером-эмигрантом и вел жизнь, полную взлетов и падений, колеся по всей Европе и секретно закупая оружие, которое затем переправлялось в Россию для большевистской фракции запрещенной Социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Он жил в Лондоне, где в 1903 году в здании Лондонской библиотеки встретился с Лениным, жил в одном доме со Сталиным во время V съезда РСДРП в 1907 году и женился на англичанке[79]. Теперь, в свои 57 лет, он был интеллигентным и великолепно образованным дипломатом, искушенным в жизни и прекрасно подготовленным для того, чтобы выстраивать непринужденные отношения со своими западными коллегами. Его сопровождал вездесущий Уолтер Дюранти, чьи приторно хвалебные статьи о сталинской диктатуре в The New York Times обеспечили ему не только долговременную благодарность Кремля, но и восхищение Госдепартамента США.
Первые сигналы не обнадеживали. Переговоры на официальном уровне забуксовали почти сразу же после вступительных любезностей, и через два дня стороны оказались в тупике. Это побудило Рузвельта лично вмешаться в происходящее, и он пригласил Литвинова в Белый дом для разговора с глазу на глаз. Вдвоем они быстро установили контакт, настолько при этом очаровав друг друга, что к концу вечера набросали проект «джентльменского соглашения» между двумя правительствами.
Литвинов с радостью согласился на два ключевых условия. Во-первых, он должен был подтвердить, что правительство СССР не станет вмешиваться во внутренние дела США через пропаганду или подрывную деятельность, – пункт, который был не более чем жестом доброй воли и вряд ли стоил бумаги, на которой был написан. Второе условие – уважение религиозных прав американских граждан, живущих в СССР, – был более важен. Вопрос свободы вероисповедания имел большое значение для католической церкви и поэтому всерьез рассматривался в Вашингтоне как с политической, так и с моральной стороны.
Во время Великой депрессии несколько тысяч граждан США, разочаровавшись в таявших перспективах осуществления американской мечты, соблазнились заманчивой картиной рая для рабочих, которую для них рисовали такие люди, как Дюранти. Изображая советскую действительность в розовых тонах, он среди прочего уверял своих читателей, что все концентрационные лагеря ГУЛАГа «представляют собой нечто вроде коммун, где каждый живет сравнительно свободно, не в тюремных условиях, но при этом обязан трудиться на благо общества… Это определенно не заключенные в американском смысле слова»[80].
И главное – там была работа. В 1931 году Генри Форд подписал сделку стоимостью в 40 млн долларов на строительство завода в Нижнем Новгороде (расположенном почти в 320 километрах от Москвы), на котором должна была производиться сборка 75 000 седанов несколько устаревшей модели «А». Более 100 000 американцев выразили желание там трудиться, и 10 000 были приняты на работу. К 1931 году в Москве проживало достаточное количество американцев, чтобы сделать рентабельным выпуск англоязычной газеты Moscow News. Школы с преподаванием на английском языке открылись в четырех советских городах – Москве, Ленинграде, Харькове (где располагался тракторный завод), Нижнем Новгороде[81].
Хотя многие из этих искателей приключений вскоре разочаровались в большевистском режиме, их неудачный опыт мало повлиял на отношение к Советскому Союзу в США. Гораздо важнее было то, что множество законодателей и религиозных деятелей испытывали отвращение к коммунизму и атеизму, поэтому любое открытое соглашение с Москвой не смогло бы ускользнуть от их критики.
Чтобы успокоить скептиков в конгрессе, Литвинов с радостью согласился выплатить до 150 млн долларов в счет погашения задолженности, остававшейся после Первой мировой войны, что было несколько меньше 600 млн, на которых настаивал Госдепартамент, но вполне достаточно, чтобы заключить сделку. Утром 17 ноября 1933 года Литвинов и Рузвельт подписали договор, установив дипломатические отношения между двумя правительствами впервые со времен большевистской революции. Убедительные фальшивки Дюранти в The New York Times не определили отношение Вашингтона к Кремлю, но, несомненно, устранили некоторые весьма существенные препятствия на пути к этому сближению. Если бы американская общественность была встревожена правдой о сталинской «ликвидации» кулаков и массовом голоде среди советских крестьян, Рузвельт, который всегда был чувствителен к настроениям нации, был бы вынужден держать советского министра иностранных дел на расстоянии.
В реальности все опасения Рузвельта по поводу публичной реакции на его заявление о том, что Америка готова распахнуть свои объятия первому коммунистическому государству в мире, были быстро рассеяны. Соглашение было тепло встречено руководителями бизнеса и даже конгрессом, за исключением нескольких скептиков. Не менее значимым было то, что основные церковные конфессии, получив заверения, что их прихожане – в отличие от русских верующих – не будут подвергаться преследованиям со стороны большевистского режима, не стали протестовать. Политическое чутье Рузвельта его не подвело.
Первый официальный посланник президента США в СССР прибыл в Москву, намереваясь открыть новую эру согласия между двумя идеологическими соперниками. Уильяма Буллита, чей первый визит в Советский Союз в 1919 году не был забыт, приветствовали в Кремле как старого друга. Расточая радушие и поражая экстравагантностью, редкой даже по стандартам тех дней, новый посол распахнул двери американского посольства для всех сколько-нибудь значимых персон Москвы. Весь город только и говорил о приемах, которые он устраивал. По крайней мере однажды он пригласил около 500 гостей на кулинарную оргию изумительных деликатесов, которая, как говорили, могла сравниться с самыми расточительными дореволюционными банкетами[82][83]. Но чем больше Буллит узнавал о советском режиме, тем меньше восторгов по отношению к нему он испытывал. Тягостная атмосфера всепроникающей секретности, подозрительности, слежки и репрессий, окутывающая город, постепенно стала внушать ему отвращение. Через три года он вернулся в Вашингтон и вновь появился на политической сцене уже как страстный и убежденный антикоммунист.
Перемена взглядов Буллита не повлияла на планы американского президента. Ничто не смогло разубедить его в том, что стратегические отношения с СССР крайне важны для американских интересов и должны быть сохранены любой ценой, – ни отказ Кремля погасить просроченные долги, ни продолжающаяся деятельность агентов советской разведки в США, ни сопротивление московских руководителей торговли, которые не желали заключать выгодные сделки с американскими экспортерами, ни все более красноречивые доказательства жестокости и тирании Сталина.
Поэтому не случайно преемником Буллита Рузвельт выбрал Джозефа Дэвиса. Умелый адвокат, опытный дипломат и давний личный друг Рузвельта, Дэвис поддерживал все его планы, доходя до такой степени преданности, что это сказывалось на его критическом мышлении. Полный решимости укрепить связи Вашингтона с Кремлем, он закрывал глаза на свидетельства сталинской жестокости, маскируя их юридическими формулировками, что подрывало те этические ценности, которые он, как ожидалось, должен был отстаивать. Неизвестно, одобрялось ли такое равнодушие в Белом доме, но его доклады никогда не проверяли всерьез, и это защищало президента от необходимости пересматривать свой стратегический приоритет – поддержания сердечных трансатлантических отношений с этой «великой страной».
Во время массового голода 1932–1933 годов Сталин обнаружил, как легко можно манипулировать международным мнением, чередуя постоянные отпирательства с умело сфабрикованными полуправдами, предназначенными для одурачивания легковерных. Это не означало, что он считал свое положение неуязвимым.
Советский диктатор появился на свет в 1878 году в грузинском городке Гори. Сын обедневшего сапожника, иногда поколачивавшего свою жену, Иосиф был миниатюрным ребенком, достаточно сообразительным для того, чтобы поступить в духовную семинарию в Тифлисе. Он был певчим в хоре и писал неплохие стихи; некоторые из них вошли в грузинские поэтические сборники. Но в возрасте 20 лет, прочитав недавно опубликованный «Капитал» Карла Маркса и с головой окунувшись в радикальные идеи, он покинул стены семинарии убежденным атеистом и начинающим революционером. Вскоре он оказался в центре хитросплетений различных идеологов, целью которых было свержение репрессивного царского режима Николая II. За годы подпольной работы по организации беспорядков его не раз арестовывали и бросали за решетку.
После печально известного расстрела демонстрации в Санкт-Петербурге в 1905 году он сформировал вооруженные группы, которые совершали нападения на армейские арсеналы, вымогали деньги у местных предпринимателей и иногда вступали в стычки с правительственными войсками. В том же году чуть позднее, присутствуя в качестве делегата на большевистской конференции в Санкт-Петербурге, он встретился с Лениным и вскоре стал одним из его близких соратников. К 1912 году он был не только членом Центрального комитета, но и редактором подпольной на тот момент партийной газеты «Правда». На протяжении своего взлета к вершинам власти он часто оказывался в тюрьме или в ссылке. Во время революции 1917 года он вместе с Лениным и Троцким входил в триумвират, определивший весь ход советской истории.
Во время Гражданской войны Сталин продемонстрировал свою необычайную готовность прибегать к государственному насилию и террору для подавления любых признаков контрреволюции. Он часто ссорился со своими единомышленниками (в случае со Львом Троцким это противостояние доходило до смертельной вражды), но при всей своей беспощадности и честолюбии был глубоко не уверен в себе. Ленин обращал внимание на его невоспитанность и не одобрял хамские и бесцеремонные манеры, но при этом доверил Сталину пост генерального секретаря партии. В том же году Ленин слег с инсультом, а в 1924 году скончался. После этого восхождение Сталина к вершинам абсолютной власти шло постепенно, но неотвратимо. За время своего возвышения он нажил много врагов и всерьез опасался, что его окружение может попытаться либо подорвать его авторитет, либо – как он сам уже много раз поступал с другими – избавиться от него совсем.
Поэтому, используя как предлог убийство Сергея Кирова, одного из руководителей советского Политбюро (при обстоятельствах настолько неясных, что в покушении можно было заподозрить самого советского лидера), Сталин развязал кампанию, которая войдет в официальную историю как Большой террор. За два месяца, прошедшие с 1 декабря 1934 года – даты убийства Кирова, были расстреляны почти 200 высокопоставленных коммунистов. В Советском Союзе не было слышно ни одного голоса протеста, а зарубежные апологеты режима вновь нашли оправдание этим злодеяниям. Как игриво заметил Бернард Шоу: «Вершина лестницы – очень неудобное место для старых революционеров, у которых нет административного опыта, нет опыта в финансовых делах, которые формировались как нищие, гонимые беженцы с одним Карлом Марксом в головах, а не как государственные деятели. Их часто приходится сталкивать с лестницы с петлей на шее»[84].
Провести Большой террор оказалось несложно. Сталин уже имел под рукой необходимые инструменты: прочное полицейское государство, завещанное ему Лениным, который учредил ЧК[85] для осуществления кампании Красного террора в первые годы революции, когда были казнены от 150 000 до 250 000 «контрреволюционеров». Ленин также организовал множество рабочих лагерей, в которых вместе с «обычными» преступниками содержались политические противники режима, подвергаясь всевозможным жестоким лишениям и издевательствам. Те, кто выживал в этих условиях, находились в полной власти тюремных надсмотрщиков, которым разрешалось выходить далеко за рамки гуманного обращения – вплоть до неприкрытого садизма.
Унаследовав от Ленина верховную власть, Сталин расширил сеть постоянной слежки, арестов, задержаний, пыток, внесудебных казней и каторги, в итоге создав систему ГУЛАГа, охватившую всю страну. Названия менялись (в 1922 году ЧК превратилась в ОГПУ, которое, в свою очередь, в 1934 году влилось в состав НКВД[86]), но карательная миссия ведомства оставалась неизменной. К середине 1930-х годов сталинисты из Политбюро получили полный контроль над рычагами государственной власти. За исключением кучки левых и правых уклонистов, бормотавших себе под нос слова протеста, но не имевших почти никакого влияния, вся оппозиция была уничтожена. Будучи формально всего лишь первым среди равных, для своих противников Сталин оказался практически неуязвим. Но паранойя нашептывала ему другое: ему нужно было уничтожить гораздо больше подрывных элементов в тщетной надежде изгнать мучивших его демонов. Мысли представляли для него неменьшую угрозу. Когда же они были облачены в форму поэтической иронии, то становились опасной заразой. Когда великий советский поэт Осип Мандельштам написал эти строки: «Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают», он был обвинен в контрреволюционной деятельности. В 1938 году его приговорили к пяти годам исправительных работ, и он умер от холода и голода в сибирском пересыльном лагере до того, как добрался до пункта назначения. Одним из роковых преступлений Мандельштама стало стихотворение, известное как «эпиграмма на Сталина», где он прямо изобразил диктатора как ликующего убийцу, у которого «что ни казнь – то малина»[87][88].
Хотя в терроре, развязанном Сталиным в СССР, так или иначе были замешаны все члены Политбюро, именно он был его главным вдохновителем. Это он инициировал чистку низового состава коммунистической партии, и он же санкционировал повсеместное использование пыток для выбивания «признаний» из попавших под подозрение «врагов народа», их заставляли оговаривать других людей и приписывать им преступления, которые те не совершали. Наконец, именно он придумал показательные процессы, на которых вслед за карикатурной пародией на судебное разбирательство – действо, за которым он сам иногда наблюдал с галереи, расположенной над залом заседаний, – Верховный суд выносил приговор, словно издеваясь над самой идеей правосудия.
На первом из таких показательных процессов Верховный суд всего за шесть дней признал 16 человек виновными в заговоре с целью свержения правительства; после этого все они, как и планировалось с самого начала, были расстреляны в подвалах Главного управления НКВД в центре Москвы, на Лубянке, – там же, где невиновных людей регулярно пытали, чтобы выбить фальшивые признания[89]. На втором показательном процессе, в январе 1937-го, суду потребовались те же шесть дней, чтобы приговорить к незамедлительному расстрелу 13 из 17 обвиняемых. Оставшиеся четверо были приговорены к долгим срокам исправительных работ.
Посол США счел своим долгом лично присутствовать на всех судебных заседаниях и подробно фиксировал происходящее. На основании этих записей Дэвис составил длинное послание американскому госсекретарю Корделлу Халлу, назначенному на этот пост в 1933 году (и занимавшему его вплоть до своей отставки в 1945-м). В этом докладе он описывал, как обвиняемые сидели, «в отчаянии обхватив головы руками или прижавшись лицами к решетке», и слушали речь государственного обвинителя, который зачитывал их уже подписанные признания военному триумвирату, осуществлявшему над ними суд[90]. Он явно был задет за живое.
Несмотря на все это, посол докладывал госсекретарю Халлу, что «пришел к нелегкому выводу: суд доказал, по крайней мере, само существование разветвленного заговора в политическом руководстве, направленного против советского правительства». И добавил: «Полагать, что процесс был срежиссирован заранее… значило бы допустить участие во всем этом творческого гения, равного Шекспиру»[91]. В пьесах Шекспира не обошлось без дураков, а в лице Дэвиса Сталин обрел своего полезного идиота.
Одним из трех обвиняемых, избежавших смертного приговора, был Карл Радек, который получил десять лет исправительных работ в обмен на показания, уличавшие в измене ряд самых высокопоставленных фигур в советской иерархии. Среди разоблаченных им были ведущий марксистский теоретик Николай Бухарин и маршал Михаил Тухачевский, один из самых значительных военачальников Красной армии.
Во время Советско-польской войны 1920 года, будучи командиром в свои 27 лет, Тухачевский показал себя блестящим знатоком тактики, и его карьера быстро пошла в гору. К концу 1920-х он становится автором новаторских военных теорий и радикальным реформатором. К несчастью для него, однажды ему случилось упрекнуть Сталина, который в то время был членом Революционного военного совета Юго-Западного фронта, за вмешательство в военные вопросы. Сталин не забыл эту стычку. К 1929 году, когда он стал официальным лидером партии, Тухачевский поднялся до поста начальника штаба РККА. Видя в нем потенциальную угрозу своей власти, Сталин сразу же начал попытки подорвать несокрушимый авторитет харизматичного военачальника.
В 1930 году ложные обвинения в том, что Тухачевский планирует переворот, стали поводом для расследования, которое, несмотря на все старания ОГПУ, не обнаружило против него ни малейших улик. Удачный для Сталина момент наступил только во время показательного процесса в январе 1937 года, на котором Радек, пытаясь спасти свою шкуру, обвинил Тухачевского в измене. Судьба маршала была решена. Во время допросов и пыток он подписал протокол (испачканный его собственной кровью), в котором признавал нелепое обвинение в том, что он – немецкий агент, сотрудничавший с Бухариным с целью свержения советской власти[92]. Приговор был неизбежен. 11 июня 1937 года, на особой сессии военного трибунала, куда не допускались адвокаты, а решения не подлежали обжалованию, он и еще восемь военачальников Красной армии были приговорены к высшей мере наказания.
Тем же вечером, после того как Сталин утвердил смертный приговор, Тухачевского вывели из камеры на Лубянке и выстрелили в затылок. Исполнителем казни был главный палач НКВД генерал-майор Василий Блохин, назначенный Сталиным на эту завидную должность в 1928 году. Он руководил группой официальных убийц, которые по приказу НКВД осуществили множество массовых казней. За это Блохин удостоился всевозможных наград, включая орден Ленина.
После казни Тухачевского жена военачальника Нина и двое его братьев, бывших военными инструкторами, также были расстреляны. Его трех сестер отправили в ГУЛАГ, а маленькую дочь выслали, как только она достигла совершеннолетия (она оставалась в ссылке до самой смерти Сталина в 1953 году). Гораздо раньше пятеро из восьми судей, приговоривших Тухачевского к смерти, сами были расстреляны, как будто их настигло возмездие.
Сталинская паранойя опиралась на царившее в высших эшелонах партии навязчивое убеждение, что Советский Союз с момента революции находится в состоянии осады, сталкиваясь с опасностями как извне, так и изнутри. К середине 1930-х годов, когда над Европой начали сгущаться тучи большой войны, этот страх стал повсеместным. Источником вируса без всяких доказательств назвали советское высшее военное руководство. Некоторые из его высокопоставленных представителей действительно служили в старой императорской армии во время Первой мировой войны или воевали на стороне белых во время войны Гражданской. В нем стали видеть гнездо «внутренних врагов», которые замышляют подорвать большевистский строй при поддержке агентов иностранных держав, таких как Великобритания, Польша, Япония или Германия.
Жертвами репрессий стали множество маршалов, генералов, комкоров и комдивов, а также один адмирал. За месяц, прошедший с момента казни Тухачевского, более тысячи старших офицеров были «разоблачены» как участники «военно-фашистского» заговора против Советского государства. Одних расстреляли, других бросили в тюрьму, а прочих исключили из партии. К концу осени 1938 года 10 000 человек из руководства вооруженных сил были арестованы, а еще 35 000 – отстранены от службы (хотя 11 000 из них позднее были восстановлены в армии)[93]. Атмосфера террора затрагивала всех, независимо от звания. Младшие офицеры старались не проявлять инициативу и лидерские качества, предпочитая безропотно выполнять распоряжения начальства и стараться не привлекать к себе внимания. Уничтожение верхушки Красной армии не только лишило вооруженные силы многих талантливых и способных командиров, но и нанесло мощный удар по моральному состоянию как офицеров, так и рядовых солдат. В более широком смысле, хотя главной целью репрессий, возможно, и не было pour encourager les autres[94], чистки произвели именно такой эффект на каждого советского гражданина, подавляя любую мысль о критике или неповиновении.
Исполнители Большого террора отныне орудовали по всему Советскому Союзу, выявляя и уничтожая все новые «антисоветские элементы». После «разоблачения» заговора Тухачевского многие тысячи людей были арестованы агентами НКВД, которые с бешеной энергией рвались выполнять произвольные квоты, спущенные из Политбюро. Под общим руководством главы НКВД, карлика-садиста Николая Ежова, из обвиняемых с помощью пыток дежурно выбивались признания. Избиения были настолько жестокими, что глаза жертв «буквально выскакивали из орбит»[95]. Трибуналы-тройки выносили бессудные смертные приговоры одним росчерком пера. Пост главы НКВД обеспечивал огромную власть, но был смертельно опасен для того, кто его занимал. Ежов сменил Генриха Ягоду (руководившего массовыми казнями кулаков) в 1936 году. В следующем году Ягоду признали виновным в измене и расстреляли. Еще через год Ежова сняли с поста, а его место занял Лаврентий Берия, который немедленно нашел повод расстрелять своего предшественника как «врага народа». Берия продержится на посту гораздо дольше (он был казнен только в 1953 году, после смерти Сталина) и станет ответственным за гораздо большее количество жертв, чем кто-либо из его предшественников.
Вместе с Молотовым и другими высокопоставленными членами Политбюро советский вождь лично утверждал расстрельные приговоры десяткам тысяч арестованных органами НКВД, просто поставив свою подпись напротив их имен в списках, которые регулярно представлялись в Кремль. Только за один день в конце 1938 года они вдвоем с Молотовым таким образом отправили на смерть 3167 человек[96]. Как впоследствии невозмутимо заявит его верный соратник, «спешка была всюду… Иногда попадались и невинные»[97]. К концу года, после того как Сталин приостановил Большой террор, количество жертв достигло, по самым скромным подсчетам, 750 000. Эти люди были «ликвидированы» не потому, что совершили какое-то преступление, а для того, чтобы не иметь возможности совершить преступления в будущем. Определяя «врагов народа» как тех, кто осмеливался сомневаться в «правильности партийной линии» не только на словах, но даже «в своих мыслях, да, даже в мыслях»[98], Сталин своей деспотической властью во имя социалистической революции вершил судьбы 160-миллионного народа. Таково было положение в СССР, когда Европа стремительно приближалась к катастрофе Второй мировой войны.
3. Челночная дипломатия
В Лондоне к этому времени в центре политической повестки оказалась проводимая правительством политика умиротворения. С точки зрения стратегических интересов кровавый террор в России был пустяком, лишь подтверждавшим мнение кабинета министров о том, что СССР находится под властью деспотичного режима варваров-революционеров. С момента своего приезда в Лондон Иван Майский, галантный и общительный советский посол, из кожи вон лез, пытаясь добиться расположения некоторых наиболее влиятельных фигур в лондонских политических кругах. При этом он не забывал всячески демонстрировать преданность своему хозяину в Москве, но в личных дневниках он предстает проницательным и беспристрастным наблюдателем. «[Невилл] Чемберлен является вполне законченным типом реакционера с совершенно отчетливой и резко сформированной антисоветской установкой… [Он] не только теоретически признает, но и весьма полнокровно ощущает, что СССР – вот основной враг, что коммунизм – вот основная опасность для столь близкой его сердцу капиталистической системы… Таков премьер-министр, с которым нам сейчас приходится иметь дело в Англии»[99]. Возможно, Майский был бы еще менее лестного мнения о британском лидере, если бы знал, что после их первой встречи в 1932 году (на тот момент Чемберлен был канцлером казначейства) «заядлый реакционер» вскользь охарактеризовал нового советского посла как «весьма отталкивающего, но при этом довольно сообразительного маленького еврея»[100].
Точка зрения Чемберлена, согласно которой связи с Москвой идеологически выходят за рамки приличий, а политически не представляют никакой ценности, стала преобладающей как в Уайтхолле, так и в Вестминстере[101]. Министры и госслужащие разделяли мнение, что единственный способ предотвратить вовлечение Великобритании в еще одну разрушительную войну в Европе – умиротворение германского фюрера, а не провокации в его адрес. Коллективный разум кабинета министров не допускал даже мысли, что СССР мог бы сыграть конструктивную роль в сдерживании нацизма, укрепив тем самым стабильность в Европе.
Лишь крохотная часть членов парламента от консерваторов не соглашалась с общим мнением правительства. Из этого меньшинства только Черчилль – этот период его жизни позднее назовут «дикими годами» – и в меньшей степени Энтони Иден (подавший в феврале 1938 года в отставку с поста министра иностранных дел в знак протеста против позиции Чемберлена) могли повлиять на общественное мнение за пределами Вестминстера. После прихода Гитлера к власти Черчилль стал относиться к большевизму с меньшей неприязнью. Четырьмя годами ранее, в июле 1934 года, в своей речи в поддержку заявки СССР на вступление в Лигу Наций (которая вскоре была принята), Черчилль выступил за нормализацию отношений с Москвой ради противостояния нацистам, которых он считал гораздо более серьезной угрозой для Британской империи. С его стороны это было не внезапным идеологическим кульбитом, а результатом стратегической оценки неустойчивого баланса сил в Европе. Тогда же он привлек внимание палаты общин, призывая коллег понять, что Россия «больше всего стремится к поддержанию мира» и может стать «гарантом стабильности в Европе». Наоборот, он предостерегал, что милитаристский режим в Германии не только решительно настроен на наращивание вооружений, но и «легко может пуститься в авантюру за пределами своих границ, которая будет иметь очень опасные и даже катастрофические последствия для всего мира»[102].
Будущий премьер-министр Великобритании не ошибся в своей оценке нацистской Германии. Любой, кто обращал внимание на соответствующие пассажи в «Майн кампф»[103], не мог сомневаться в намерениях Гитлера создать свою империю. Демагогический гений фюрера проявился в том, что он смог найти подходящие слова, которые вошли в резонанс с легендой об ударе ножом в спину, популярной среди немцев, – о том, что Версальский договор был «инструментом неограниченного вымогательства и позорного унижения», который пал «на народ подобно удару кнута»[104], – и с его одержимостью территориальной экспансией. Как Гитлер дал понять на секретном совещании с генералами, состоявшемся сразу после его прихода к власти, лишь путем агрессии и завоеваний Германия могла обрести жизненное пространство (Lebensraum). Некоторое время спустя один из его фанатичных приверженцев, министр сельского хозяйства Рихард Дарре[105] (занимавший высокое место в иерархии СС), в своей речи на собрании руководителей имперского крестьянства[106] очертил примерные географические контуры грядущей нацистской империи:
Естественным регионом для его заселения немецким народом является территория к востоку от границ рейха до Урала, ограниченная с юга Кавказом, Каспийским морем, Черным морем и водоразделом, отделяющим Средиземноморский бассейн от Балтийского и Северного морей. Мы заселим это пространство в соответствии с законом, гласящим, что высшая раса всегда имеет право завоевать и присвоить земли низшей расы[107].
Можно было спорить об очередности военных задач, стоявших перед рейхом, о вариантах и сроках их решения, но строгая приверженность общему плану была обязательной для тех, кому предстояло устанавливать этот новый порядок в Европе. В августе 1934 года, после смерти Гинденбурга, от каждого военнослужащего потребовали принести клятву верности фюреру. Через семь месяцев Гитлер отказался соблюдать военные ограничения, наложенные на Германию в Версале. Год спустя, в марте 1936-го, после формальной денонсации Локарнских соглашений германские войска заняли Рейнскую демилитаризованную зону. За исключением Советского Союза, европейские страны, как и Соединенные Штаты, предпочли закрывать глаза на эти неоднократные нарушения международного порядка.
В Лондоне сторонников военного ответа не нашлось. Отсутствие заметных протестов или демонстраций окончательно убедило военного министра Даффа Купера в том, что британской публике глубоко безразлична ремилитаризация Рейнской области[108]. Большинство членов британского парламента (согласно записи в дневнике одного из них, Гарольда Николсона) тоже были «настроены ужасно прогермански, то есть попросту боялись войны»[109], в то время как предшественник Чемберлена на посту премьер-министра Стэнли Болдуин мрачно заметил, что Великобритания в любом случае не располагает достаточной военной мощью, чтобы заставить Германию соблюдать международные договоры[110]. Во время частной встречи с ведущими консервативными парламентариями в июле 1936 года Болдуин был живым воплощением благодушия. Когда прибыла делегация обеих палат парламента, он непринужденно отмахнулся от тревожных предсказаний Черчилля относительно Гитлера, заявив:
Никто из нас не знает, что происходит в голове этого странного человека… Нам всем известно [его] стремление на восток, которое он изложил в своей книге, и если он двинется на восток, это не станет для меня трагедией… Если Европе так или иначе предстоит война, я бы предпочел, чтобы в ней участвовали большевики и нацисты[111].
Столь неуклюжим образом премьер-министр выразил мнение, которое постепенно становилось общим местом в Уайтхолле и которое – как давно подозревала Москва – будет определять переговорную позицию Великобритании по отношению к большевистскому режиму в следующие несколько лет.
В ноябре того же года, выступая в палате общин, Черчилль настаивал, что перед лицом нацистской угрозы Великобритании следует перевооружиться, и со всей своей язвительностью обрушился на Болдуина за его нерешительность:
Как он нас заверил, все очень неопределенно. Я не сомневаюсь, что это действительно так. Видеть суть сложившегося положения может каждый. Правительство просто не может определиться или же не в состоянии добиться этого от премьер-министра. И поэтому они увязли в этом странном парадоксе, решив только одно – не принимать решения, уверенные в своей неуверенности, непреклонные в желании пустить все на самотек, несгибаемые в бесконечных колебаниях, всемогущие в бессилии[112].
Два года спустя, 12 марта 1938 года, уже после того как Гитлер назначил себя главнокомандующим вермахта, его 8-я армия триумфально вступила в Австрию. Перед ликующими толпами в Вене Гитлер выразил свою радость, что «Германский рейх обрел еще один бастион». Но его замыслы были куда масштабнее. Сразу после аншлюса Гитлер приступил к завершению подготовки следующей захватнической операции. 28 мая он сказал своим генералам: «Я полон решимости стереть Чехословакию с карты мира»[113]. Президента Чехословакии Эдварда Бенеша проинформировали, что в случае отказа передать рейху Судетскую область (большинство населения которой составляли немцы) Германия решит вопрос военным путем.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, крупные европейские державы по инициативе Великобритании в лихорадочной спешке приступили к раунду международных переговоров, которые, впрочем, не внушали особой надежды. Невилл Чемберлен, готовый идти почти на любые уступки, чтобы избежать нового военного конфликта в Европе, впервые за 16 лет сел на самолет и начал собственный тур челночной дипломатии. В последнюю неделю сентября, больше напоминая просителя, чем равного партнера, он прибыл в Мюнхен, чтобы официально подтвердить: ни Великобритания, ни Франция не будут всерьез сопротивляться требованиям Гитлера. В Судетской области проживало 3,5 млн этнических немцев, недовольных своим положением. Большинство из них мечтали, что нацисты их «освободят». Местные лидеры использовали экономические трудности населения как повод для разжигания националистических настроений и требований предоставить региону автономию. В августе 1938 года, пытаясь склонить правительство Чехословакии к компромиссу, Чемберлен отправляет в Прагу дипломатическую миссию под руководством национал-либерала лорда Ренсимена. Втайне от англичан лидеры судетских немцев получили из Берлина приказ сорвать любые попытки заключить сделку. Ренсимен потерпел неудачу, но по возвращении в Лондон доложил, что стремление судетского меньшинства обратиться за помощью к своим «братьям по крови» в Германии было «естественным развитием ситуации в сложившихся обстоятельствах».
Важнее было то, что ни одно западное правительство – и особенно британское – не было готово рисковать жизнями своих солдат в военной авантюре, сопряженной с серьезными рисками. В Лондоне и Париже преобладало мнение, что вооруженное вмешательство в любом случае не спасет Чехословакию от немецких танков. Тем не менее, хотя нацисты увеличили военные расходы до такой степени, что к 1938 году на них уходила бо́льшая часть германского ВВП, вермахт был далеко не так силен, как думали противники умиротворения. Преувеличенные оценки военной мощи Третьего рейха со стороны Черчилля возымели эффект, обратный ожидаемому: они еще больше усилили поддержку политики умиротворения. Так, в своем радиовыступлении на радиостанции Би-би-си 27 сентября Чемберлен в довольно резкой манере высказал мнение многих людей, которые боялись бомбардировок люфтваффе[114]: «Как ужасна, фантастична и невероятна сама мысль о том, что из-за конфликта в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем, нам придется рыть траншеи и примерять противогазы». Лишь очень немногие готовы были возражать, когда он добавил: «Как бы сильно мы ни симпатизировали маленькой нации, на которую покушается большой и сильный сосед, мы не можем только из-за этого каждый раз вовлекать всю Британскую империю в войну. Если нам предстоит сражаться, для этого должны быть более веские причины».
Бенеш был унижен и потрясен. Полностью исключенный из переговорного процесса в Мюнхене, он не имел иного выбора, кроме как согласиться со сделкой, заключенной на следующий день через его голову британским премьер-министром, к которому присоединились лидеры Франции и Италии. Согласно их решению Судетская область была передана нацистам.
В это время в самой Германии нацисты воплощали в жизнь планы Гитлера по внутреннему переустройству Третьего рейха. С момента его прихода к власти те, кто осмеливался противостоять нацизму, подвергались преследованиям полиции согласно новым законам против изменников родины и тысячами отправлялись в лагеря. Не удовлетворившись этим, Геринг, Гиммлер (к этому времени возглавивший СС) и Гейдрих, которого Гиммлер назначил своим преемником на посту руководителя гестапо, составили список нацистов, которые, по их мнению, представляли угрозу верховной власти Гитлера в государстве и партии. Во время «ночи длинных ножей» в конце июня 1934 года СС и гестапо при поддержке бойцов личного батальона Геринга ликвидировали 85 штурмовиков – членов нацистской военизированной организации, руководимой Эрнстом Рёмом, которого Гитлер опасался как своего возможного конкурента. Рёма арестовали, заключили в тюрьму, а затем расстреляли. Гитлер оправдывал чистку, обвинив Рёма в измене.
Точно так же с ужасающей силой ускорились меры по устранению еврейской «бациллы». Из 50 000 предприятий – собственниками которых были евреи, – существовавших на момент прихода Гитлера к власти, к 1938 году продолжали работу лишь 9000. Остальные – крупные и мелкие – пришлось выставить на торги или закрыть (к огромной выгоде таких фирм, как Mannesmann, Krupp и IG Farben, скупавших эти активы по минимальным ценам). В том же году был принят целый ряд новых ограничений. Еврейским врачам и адвокатам было запрещено работать по профессии, а в августе был издан указ, предписывающий всем евреям добавить к своим именам в официальных документах слово «Израиль» или «Сара». С октября в паспорта евреев начали ставить букву «J».