Читать онлайн Закулисные тайны и другие истории… бесплатно
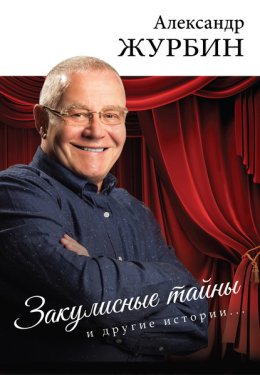
Автор благодарит
Благотворительный Фонд «Искусство, Наука и Спорт», НО «Фонд Михаила Рудяка» за помощь в издании этой книги Отдельная горячая благодарность Оксане Вирко
Авторы фотографий:
Белоцерковский М., Борисов С., Витас, Гуревич М., Жигачева Н., Понятовская Т., Родионов С., Терко Ю., Файнберг Е., Феклистов Ю., Четверикова Н.
Шарж на титульном листе – Михаил Беломлинский
© Журбин А., 2020
© Издательство ООО «АрсисБукс», 2020
© Дизайн-макет ООО «АрсисБукс», 2020
Книга композитора в двух частях
Первая часть
Предисловие
Ну вот, кажется, готова и следующая книга. Эта – уже девятая по счету.
Она состоит из двух частей.
Первая часть – колонки из журнала «Русский Пионер». Года три я был колумнистом этого журнала и писал колонки почти в каждый номер. Посвящены они чему угодно, и чаще всего – не музыке. Мне было интересно писать на темы, которые предлагала редакция журнала, и участвовать в этом наряду с Дмитрием Быковым, Виктором Ерофеевым, Андреем Макаревичем, Андреем Бильжо и многими другими заметными персонажами российской жизни.
Вторая часть – это тексты из портала «Сноб» и газеты «Известия», интервью, которые я давал разным СМИ, интервью, которые я брал для разных СМИ, ну и множество разных строчек, включая даже шутливые стихи. Многое печатается впервые и написано специально для этой книги.
Волнуюсь, как всегда. Издание книги – особый процесс, это Слово, которое автор посылает Urbi et Orbi, и ты никогда не знаешь, «как наше слово отзовется».
Но, как говорит поэт, взамен «нам сочувствие дается».
И ради этого стоит писать и издавать книги.
Александр Журбин
Что делать с клиентом, или 3 уровня суеты
Слово «суета» в русском языке имеет 3 уровня, 3 стадии, 3 смысла.
1. Низкий – ленивый.
2. Высокий – карьерный.
3. Греховный – кайфовый.
* * *
Низкий означает: беготня, торопливость, хлопотливость, потливость (ну, последнее так, для рифмы) и еще: не суетись, в смысле – не торопись, не спеши, знаменитое наше «не суетись под клиентом».
По-английски это будут слова «rush», «fuss», «stir», «hustle». (как всегда, в английском много корней для одного и того же понятия, каждый корень имеет свой оттенок; в русском корней гораздо меньше, зато русский силен своими префиксами и суффиксами, или, как говорят филологи, «деривационными морфемами»).
Кстати, название знаменитой комедии Шекспира «Много шума из ничего» гораздо точнее перевести «Много суеты, и всё ни о чем», поскольку слово «ado» тоже переводится как «суета»
Но эта суета, так сказать, мелкого смысла, второго сорта. Есть еще сходные словечки: «суетня», «мельтешня», «суматоха», «сумятица», «суматошливый» и что-то еще рядом, и всё это означает – неразбериха, торопливость, хлопоты, беготня.
Когда это определение прикладывается к какому-то человеку, звучит довольно обидно: когда говорят «он сильно мельтешит», «он очень суетливый» – то, как правило, в негативном смысле. Сам про себя человек никогда не скажет: я очень суетливый, я все время суечусь. Или скажет это с негативным оттенком, как у Губермана:
- Когда я спешу, суечусь и сную,
- то словно живу на вокзале
- и жизнь проживаю совсем не свою,
- а чью-то, что мне навязали.
Вообще человек, претендующий на некоторое достоинство и самодостаточность, скорее скажет: Я не суечусь. Я не люблю суетиться. Давайте без суеты…
То есть этот род суеты – что-то плохое, отрицательное, негативное.
И вместе с тем это выражение («Все это – суета сует»), так нам всем знакомое и всеми любимое, оно очень удобное, под ним можно отсидеться, отлежаться, на него можно все свалить. Подниматься над суетой, как пела когда-то Пугачева, совершенно не хочется, куда удобней полежать на диване с любимым айпэдом, уткнувшись в очередной сериал. А когда кто-нибудь скажет тебе: вставай, давай что-нибудь делать, проснись! – так удобно ответить: чепуха это все! Ерунда! Суета сует и всяческая суета!
* * *
Второй смысл – «высокая суета». В библейском смысле. «Суета Сует», по латыни Vanita Vanitatum.
Все знают, впервые это прозвучало в «Книге Екклезиаста», которую по преданию сочинил Царь Соломон (впрочем, многие ученые считают это предположение несерьезным, у Соломона было до фига других дел, у него было, согласно Библии, семьсот жен и триста наложниц, на писание книжек времени не было).
Я лично впервые услышал (а вернее, прочитал) это словосочетание на оригинальном языке (на иврите), когда в юности читал «Одесские рассказы» Бабеля. В рассказе «Конец богадельни» сказано:
– «Гэвэл гаволим» [суета сует (евр.)], чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, – ты душа-человек, с тобой можно жить… «Кулой гэвэл»… [и всяческая суета… (евр.)]
Что-то в этом звучании («гэвел гаволим») меня тогда проняло, есть здесь какая-то мощная сила, что-то поистине исконное, ветхозаветное, древнееврейское. (Так же как, скажем, «писахов-писахов» (на старославянском «еже писах – писах», по латыни Quod scripsi, scripsi), а по-русски «что написал, то написал», знаменитая фраза Понтия Пилата).
Или какое-нибудь «Ave Ceasar, morituri te salutant». (Тут и перевода не требуется…)
Этот смысл слова «суета» особенно ярко высвечивается в названии знаменитого романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» (по-английски «Vanity Fair»).
Здесь суета – это тщеславие.
И сразу возникают все окружающие слова: честолюбие, стремление к славе, к почестям, к богатству.
В словаре советских времен сказано, что все эти слова выражают отрицательную оценку.
А вот и нет. Со времени издания словаря в 70-е годы прошлого века все сильно изменилось. И быть честолюбивым совсем не стыдно и не зазорно.
Наоборот!
Сегодня ребенка с младых ногтей приучают: сынок, рвись вверх! Рвись вперед! Ты должен быть первым! Ты должен быть лидером!
И все учебники жизни, все эти сегодняшние руководства от Дейла Карнеги и Л. Рона Хаббарда до Татьяны Огородниковой и Натальи Толстой учат одному: Выделяйтесь! Пролезайте! Выпрыгивайте! У вас есть шанс!
Или попросту говоря – суетитесь. И получите то, что вы хотите!
Можно смело сказать, это влияние Америки: Америка – страна суеты, страна Vanity. Там в школе учат: пробивайся, продвигайся, ты можешь, ты должен!
И это, кстати, действует. Многие пробиваются и добиваются. Посмотрите на Барака Обаму – настоящий self-made man, поднявшийся из самого низа общества до самого могущественного офиса на Земле.
То есть можно смело сказать: суета в первом значении очень подходит «обломовской» России: не суетитесь под клиентом, все и так произойдет, от вас ничего не зависит. Отдыхайте!
А во втором значении очень подходит нынешней «глобализированной» молодежи: суетитесь и под клиентом, и над клиентом, и сбоку от клиента, все время шевелитесь, гоните прочь апатию и скуку, и вы добьетесь! И вы пробьетесь! Ура! Вперёд!
* * *
Есть и третий вид суеты.
И он называется «Кайф, или Греховная суета».
Помните фильм «All that jazz»?
Лучший перевод этого названия – «Вся эта суета».
Да-да, артистическая суетная жизнь, она немного poignant: джаз, музыка, танцы, немного порочно, немного ядовито, кайфово-наркотично, в дыму, предательски, болезненно, немного извращенно, и даже с гнильцой, вульгарно, при этом страстно и нервно.
Это все я перевожу на русский многозначное слово poignant.
Такая суета – не плохо и не хорошо. Это просто жизнь. Вот такая артистическая жизнь. Где все суетятся, смеются, весело ненавидят друга, ведут себя как дети (часто превращаясь в очень злых детей), где главное слово – успех, а провал – повод для самоубийства, но все равно главное играть, неважно, на рояле, на сцене, на экране, играть словами или красками, главное – играть!
Здесь все что-то продают, и все являются клиентами, все вместе суетятся, одновременно и обманывая, и обожествляя друг друга.
Основная мания здесь: быть в центре внимания. Фраза из фильма «Birdman» «You’re not an actor, you’re a celebrity» («ты не актер, ты знаменитость») – главная дезидерата на этом уровне суеты…
* * *
Я не могу забыть, как в фильме «Devil’s advocate»(1997) Дьявол (которого играет Аль Пачино) совращает и развращает адвоката Кевина (Киану Ривс), и когда тот полностью разрушен, произносит сакраментальную фразу: VANITY is definitely my favourite sin («Суета/Тщеславие – определенно мой самый любимый грех».)
О знаменитой строке Мандельштама: «Значенье – суета, а слово – только шум» до сих пор идут споры. Значит ли это, что любое значенье – суета. Важно как это звучит – а о чем – неважно?
Или наоборот, суета – это и есть главное значение: чтобы мы ни написали, это всего лишь суета, и не более.
Уже никто не расскажет, что имел в виду поэт.
Выбирайте сами.
И можно суетиться по-разному, выбрав любой из трех описанных вариантов.
Выбор – за вами.
Одиночество полезно, но не для всех
Тот, кто любит одиночество,
либо дикий зверь, либо Господь Бог.
Фрэнсис Бэкон
Каким бывает одиночество?
Крутым, как свидетельствует Ахмадулина («Ах, одиночество, как твой характер крут.»)
А каким еще?
Тут гигантское разнообразие.
Одиночество может быть жалкое и царственное, угрюмое и величественное, гордое и безысходное. Если поднапрячься, то можно вспомнить еще 30–40 определений одиночества, и все они будут высвечивать разные оттенки этого состояния.
Кто только ни рассуждал об одиночестве – философы, писатели, художники, ученые, политики, музыканты.
Вот что, например, сказал великий Эйнштейн: «Я живу в одиночестве, которое болезненно в молодости, но прекрасно в годы зрелости и старости».
А уж поэты и писатели? Практический каждый поэт, от мала до велика, как-нибудь отметился и что-нибудь написал про это. Существуют толстые антологии стихов об одиночестве, если погуглить – миллионы строк, от Пушкина до Бродского, от Шекспира до Одена.
Величайший роман ХХ века называется «Сто лет одиночества» и он настолько замусолен, что о нём и писать не хочется.
То же относится к музыке. Пьес под названием «Solitude» известно более 100.
Именно поэтому постараюсь обойтись без цитат. Слишком объёмен и доступен материал, текст развертывается слишком легко и охотно, как говорил Аркадий Белинков (чьё имя сегодня помнит только Дима Быков).
Попробуем порассуждать об одиночестве на материале собственных наблюдений.
Итак, я считаю, что есть две главные категории одиночества: одиночество добровольное и одиночество вынужденное.
То есть – вот то самое гордое одиночество, которое упоминалось, есть одиночество добровольное.
Человек уходит в монастырь, в скит, становится отшельником, путешественником по пустыне, переплывает в одиночку океан, и множество других вариантов. Причем высшей стадией такого одиночества будет уход навсегда, до смерти, до кончины. Суицид – высшая стадия подобного ухода. Ухода окончательного и бесповоротного. Каждый умирает в одиночку, самоубийцы особенно. У одра умирающего часто стоят люди, самоубийца всегда один, публичное самоубийство – большая редкость (напоминаю про случай Роберта Бадда Дуайера, кто не помнит, наберите в интернете).
Самоубийство среди отшельников бывает редко. Чаще человек, не выдержав одиночества, возвращается в мир людей.
* * *
Уход в монастырь – это не уход в одиночество. Напротив, это скорее уход в коллектив, в некое обобществленное сознание. В монастыре иноки живут по два-четыре человека в келье, вместе едят, пьют, молятся. Никаким уединением здесь и не пахнет. Это нечто вроде армии. Или тюрьмы.
Скит – более жесткая форма, это тоже монастырь, только маленького размера, иногда на 10–12 человек. Там часто бывают уединенные жилища-кельи, где живут отшельники. Но, насколько я понимаю, всё-таки едят они вместе, у них есть моменты общих собраний, решение каких-то хозяйственных или духовных проблем. До полного одиночества здесь тоже далеко.
Подчеркну – жить одному очень трудно. Чисто физически, отбросим все духовные и психологические проблемы. Питаться, мыться, выполнять всякие гигиенические процедуры, уж не говоря об одежде, обуви, лекарствах. В теплом климате или в холодном, но без людей вокруг, без инфраструктуры человек может прожить в полном одиночестве не больше недели. Примеры Робинзона Крузо или Федора Конюхова не в счет, это исключения. Потом: у Робинзона был Пятница, у Конюхова есть рация.
Существует, правда, совсем крайняя степень монашеского уединения: те, кто принимают великую схиму, они называются великосхимники, и степень их уединенности от мира близка к абсолюту. Но и они не достигают крайней степени одиночества: все равно кто-то их кормит, кто-то дает одежду, кто-то убирает грязь.
Впрочем, лично я великосхимника никогда не видел, и ничего про это прочесть не удалось.
Затворники-отшельники есть, конечно, и в других религиях. Например, в буддизме желающий стать ламой проводит 2 полных цикла по три года и три месяца, как принято в тибетской традиции, в строгом затворничестве, в Гималаях. После этого он становится ламой.
Добровольно отказался от жизни с людьми Гаутама Будда.
У евреев были секты аскетов и анахоретов, а также секта ТЕРАПЕВТОВ, про которую мало что известно. Практически нет письменных источников. Известно, что они ели только ночью, не ели мяса, на праздники тихо пели и танцевали.
Да и сам Иисус НАЗАРЕЯНИН (более известный как Иисус Христос, то есть Помазанник), вполне возможно, какое-то время своей жизни был отшельником-анахоретом (в те «темные годы» его биографии, от 12 до 30, о которых все Евангелия умалчивают). Франсуа Мориак, тонкий исследователь жизни Христа, пишет: «…В свободные часы Иисус любил уходить надолго в уединенные места, где среди тишины звучал в Нём небесный голос. Там, в одиночестве, на холмах Назарета, незаметно готовилось будущее мира.»
Впрочем, это лишь фантазия. На самом деле никто не знает, как проводил Христос эти годы.
* * *
Все, что было сказано об отшельниках, относится к верующим людям. Они уходят в одиночество добровольно, стараясь таким образом искупить свои грехи, отделиться от остального человечества и приблизиться к Богу. И таким образом гарантировать себе загробную жизнь в Раю. Здесь нельзя не увидеть некое корыстолюбие: типа я немного помучаюсь, но потом буду вечно кайфовать. Мне такая позиция не близка, но никого не осуждаю.
* * *
Какие еще причины, кроме религии, могут быть признаны уважительными для добровольного ухода в одиночество?
Это может быть связано с болезнью, душевной или физической, это может быть следствием какого-то профессионального исследования или личными семейными обстоятельствами.
Все это было в человеческой истории.
Вот Сэлинджер, удивительный, пока толком не понятый казус мировой литературы. Успешный писатель, автор одного романа и 9 новелл, уходит в добровольное отшельничество, проводит так около 60 лет и умирает в возрасте 91 года. Насколько мне известно, ничего из написанного «в заточении» так и не опубликовано, и не ясно – или там гениальная проза, или записки сумасшедшего в буквальном смысле слова.
Есть еще похожая история с замечательным писателем Томасом Пинчоном, которым я одно время зачитывался: его много лет никто не видел, одно интервью он дал в самом начале пути, в 1969 году, тогда же появились его блеклые черно-белые фотографии, и всё – а книги продолжают выходить до сих пор.
Подобный миф творит себе и Пелевин. Я знаю нескольких людей, утверждающих, что они его родственники, живущие в разных городах и странах. Но на вопрос о писателе Пелевине они начинают как-то странно улыбаться и закатывать глаза. Что наводит на мысль: а жив ли он? И даже больше: а был ли он когда-нибудь? Но ведь книги исправно выходят (хотя они, на мой взгляд, катятся по наклонной плоскости, одна хуже другой).
Среди известных в России композиторов отшельником называли Исаака Шварца. Никогда с этим не соглашусь! Я имел счастье быть знакомым с Исааком Иосифовичем, и могу засвидетельствовать, что он был человеком редкой витальной силы, очень любил общаться, разговаривать с людьми, сплетничать, рассказывать анекдоты, словом, был как все мы. Как говорил поэт,
- …И меж детей ничтожных мира,
- Быть может, всех ничтожней он.
Но когда Божественный глагол касался его чуткого слуха, он выдавал свои чудные мелодии, и здесь наверное дух Сиверской помогал (не путать с ИВЕРСКОЙ БОГОМАТЕРЬЮ: Сиверская – это деревня под Ленинградом, где он жил). Впрочем, записывал он музыку всё равно на «Мосфильме», а не в «широкошумных дубравах» среди проводов, микрофонов и мониторов. И никакого духа отшельника в нём вовсе не было.
* * *
Художников-отшельников было много, и сейчас их много. Все они художники второго класса.
А художники первого класса всё-таки всегда были в центре событий, общались с королями и принцами, олигархами и премьер-министрами.
Исключения – Ван Гог (был слегка, а может, и не слегка безумен), Марк Ротко (на время запершийся в свое доме в Ист-Хэмптоне и тоже проявлявший признаки безумия), Гоген (до конца жизни отправившийся на Таити) – но и они не были одиноки.
У Ван Гога всегда был брат Тео, у Ротко – его жёны, у Гогена – его таитянские любовницы.
А вот Энди Уорхол – как раз подтверждение моего тезиса, был первоклассным мастером и общался только с высшим светом, одиночество ему было незнакомо, его всегда окружал целый рой молодых любовников.
Что уж говорить о Дали или Пикассо – великих мастерах самопиара! Блестящая имитация безумия когда надо и холодная расчетливая голова.
А одиночество – никогда!
* * *
Резюмируя эту часть, могу сказать: одиночество – тяжелая участь. И те, кто выбирают это сознательно, делают это по какой-то экстраординарной (или экстравагантной) причине: фанатичная вера, психическое расстройство, проблемы личной жизни. Просто так уйти в полное одиночество – такого не бывает. Это – пытка. Без серьезных причин на такое не пойдешь.
* * *
А вот вынужденное одиночество – это мрачная история.
Например, тюрьма, одиночная камера.
Или карцер на военной службе.
Или когда самолет падает, ты выживаешь, но оказываешься на необитаемом острове, в пустыне или в тайге.
Но гораздо более распространенная причина вынужденного одиночества – старость.
Кому из нас не знакома ситуация, когда кто-то из стариков остался один? Когда папы уже нет, а мама живет еще долго?
Подобное случилось в моей семье. Папа ушел, а мама пережила его на 25 лет. И конечно, ей было очень непросто. Мы – я и мой брат – как могли старались скрасить её дни. Но как подумаешь, что происходило, когда дверь за нами закрывалась, и она оставалась одна… не пожелаю никому.
Удивительный клип мелькнул на днях в Ютюбе… Про старика, который известием о своей смерти заставил всех родных приехать к нему на Рождество.
Глядя на этот ролик, сердце заходится и набегает слеза.
Жизнь одиноких людей – грустная тема. Даже тех, которые утверждают, что они так живут по собственной воле. И как бы ни хорохорились «убежденные холостяки», этакие вечные жеребцы, как бы ни развлекались «веселые вдовушки», а всё-таки лучше, когда у тебя кто-то есть. Друг или подруга, тётя или племянник, кум или сват – какая-то живая душа. Хотя бы собака или кошка! И чтобы всегда, а не иногда.
- Нет, без цитат всё-таки не обойтись.
- Вот как по-разному относились
- к одиночеству великие.
- Мягко: Бунин.
- Что ж! Камин затоплю, буду пить…
- Хорошо бы собаку купить.
- Трагически: Мережковский.
- Стремясь к блаженству и добру,
- Влача томительные дни,
- Мы все одни, всегда одни:
- Я жил один, один умру.
- Издевательски: Маяковский.
- Единица! – Кому она нужна?!
- Голос единицы тоньше писка.
- Кто её услышит? – Разве жена!
- И то если не на базаре, а близко.
Всё вышесказанное относится к людям. Обыкновенным людям. Человекам. Человечеству.
Но есть и другие люди. Назовем их Художниками. У них отношения с одиночеством совсем иные.
Об этом есть целая библиотека, миллиарды умных слов. Но лучше всех выразил это Пушкин.
- Ты царь: живи один.
- Дорогою свободной
- Иди, куда влечет тебя
- свободный ум…
Тут уместно вспомнить строчки Евтушенко из прекрасного стихотворения «Одиночество».
- Спасибо женщинам, прекрасным и неверным,
- за то, что это было всё мгновенным,
- за то, что их «прощай!» – не «до свиданья!»,
- за то, что в лживости так царственно горды,
- даруют нам блаженные страданья
- и одиночества прекрасные плоды.
Ведь творчество (если мы говорим о creative art, а не performing art) – почти всегда происходит в одиночестве. Поэтому для Художника, для Творца одиночество не только возможно – оно необходимо.
«Творческий человек» должен иметь жену, детей, имущество и т. д., но нужно также приберечь для себя какую-нибудь клетушку, которая была бы целиком наша, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединиться и «вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши родные, ни приятели, ни посторонние. Только так создается искусство».
Это сказал не я, а Мишель Монтень.
На этом и закончу.
Маленький шаг в правильном направлении
Собственно говоря, человеческая жизнь – это несколько шагов.
Не так уж мало, но не так уж и много. Уже давно подсчитано, что человек делает за день примерно 5000 шагов. Сейчас это очень просто измерить: есть приложение «Здоровье» для смартфонов, и оно исправно измеряет количество сделанных вами шагов.
Мы живем в среднем 70 лет (около 26 000 дней), значит, за жизнь мы делаем 128 млн шагов.
Но это, как говорится, в среднем по палате. Это если вы начали ходить с первого дня рождения, и без устали продолжаете ходить до 70 лет.
В реальности всё не так.
Мы практически не ходим первые три года, и очень мало ходим в старости. Отнимаем 10 лет, и получается 110 миллионов шагов.
Всё равно много, скажете вы.
110 миллионов – такое число обычное человеческое воображение представляет с трудом.
Но ведь и это число неточное. Мы ездим, мы летаем и плывём, мы любим полежать на диване, посмотреть телевизор или почитать книгу, мы сидим в офисах, в столовых и ресторанах, мы любим присесть на скамейке в парке. С возрастом развиваются всякие болезни, болят колени и поясница, ходить становится трудно. довольно часто мы ложимся в больницу, и в этот период не ходим вообще.
Поэтому смело уменьшаю количество наших шагов ещё на 20 процентов. Остается примерно 90 миллионов шагов.
Все равно это очень много.
Но не у всех это получается, далеко не все доживают до 70 лет.
Пушкин прожил 37 лет, Моцарт 35, Шуберт 29, Лермонтов 27. А великие рокеры – Джим Моррисон, Курт Кобейн, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин – они все ушли в мир иной в 27 лет.
Причем каждый из помянутых и не помянутых (поэт Дмитрий Веневитинов умер, не дожив до 22 лет, однако он входит во все хрестоматии русской литературы), прошел свой земной путь, ровно столько, сколько он должен был пройти, сколько ему было отмерено судьбой.
Значит, дело не в количестве шагов, и считать эти миллионы совершенно бессмысленно.
Дело не в количестве шагов, дело в их качестве.
В ПОХОДКЕ.
Все люди ходят по-разному.
Некоторые идут по-военному. Печатая шаг. Они прошли курс молодого бойца, они знают команду «шире шаг», видно, что они служили в армии, а возможно, и сейчас служат в каких-нибудь мутных, загадочных войсках.
Некоторые парят над землей. Даже летят.
Это балетные люди.
Или юные девы.
«Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз…»
Помните, Бунин говорил о легком дыхании Оли Мещерской, и о том, что «никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как её».
Иногда – крайне редко – нам встречаются в жизни такие ангелы. Каждый, наверное, вспомнит, что в юности, в школе, в училище, в институте, встречались такие удивительные создания, которые, пожалуй, выглядели нелепо в повседневной, бытовой советской жизни, откуда мы все родом.
* * *
Я не могу забыть, как в пионерлагере, куда родители отправляли меня каждое лето (это было под Ташкентом, пионерлагерь назывался «Овощной»), всё было затрапезно и провинциально, но кормили хорошо, – а для родителей это было главное, – так в этом пионерлагере вдруг случилось чудо.
На вечерней линейке появились двое. Это были мои ровесники, мальчик и девочка лет 13–14. Откуда они взялись – до сих пор не знаю. Но было ясно, что их привезли в лагерь, чтобы посмотреть – понравится ли им там, и захотят ли они там остаться.
Наверное, они были брат и сестра. А может, просто друзья.
Они были одной породы. Оба блондины, высокие, лица, что называется, нордические, красивые, глаза голубые, похожи на норвежцев или датчан. Впрочем, я не видел тогда ни норвежцев, ни датчан, скорее видел их изображения в книжках с картинками, в каких-нибудь сказках Андерсена. Напомню, это примерно 1959 год. Мы все там – чумазые школьники, в основном русские, но были там и узбеки, и корейцы, и армяне, и евреи.
Средний слой советского народа, все жили примерно одинаково.
Пионерлагерь принадлежал, если не ошибаюсь, авиастроительному заводу, на котором тогда работал мой отец. Ни у кого не было личных автомобилей, только у 10 процентов был домашний телефон. В Ташкент наша семья приехала в эвакуацию, да так там и застряла на долгие 20 лет.
И вот в этом пионерлагере, в этом «коллективе», если так можно сказать, насквозь пропитанном комсомольско-пионерскими идеями, грохотом горнов и барабанов, ежедневными гимнами утром и вечером, подъёмами и опусканиями флага, борщами и макаронами по-флотски – вдруг появляются два инопланетянина, юноша и девушка.
Одеты они были как все – в пионерской форме, белый верх, черный низ, красный галстук на шее. Но явно эта форма была какая-то специальная, из каких-то особых немнущихся материалов. Обувь была на юноше черная, туфли начищенные до блеска, прямо-таки сверкающие, а девушка была в туфлях на каблуках, и это делало её необыкновенно стройной.
Ходили они взявшись за руки. Время от времени что-то говорили друг другу и тихонько посмеивались.
Вечером был костер и танцы. Я играл на аккордеоне какие-то популярные мелодии (как сейчас помню шлягер того лета – песню «Ландыши», а также популярные песни из репертуара Утесова, Шульженко, Бернеса).
Наверное, стоит упомянуть, что я был не просто пионером в этом лагере, а младшим музыкальным работником (был еще и старший), и получал за свою работу деньги, за три летних месяца приносил домой 150 рублей.
Конечно, я был популярен среди пионеров, и мне это очень нравилось. Иногда после отбоя вожатые звали меня в свою палатку, и я на правах взрослого сидел с ними за столом, они под мой аккомпанемент горланили песни. хотя спиртного мне не давали, мне было 14 лет.
В этот вечер у костра мне очень хотелось понравиться этой новенькой паре. Особенно девушке, конечно. Хотя она была примерно моего возраста, но выглядела намного старше, и была абсолютно недоступна. Время от времени, когда я играл, бросала на меня заинтересованный и любопытный взгляд.
Её брат, а может, друг, неотступно был рядом и держал за руку. А когда стали заводить пластинки (такая была quasi – дискотека), они очень красиво танцевали всякие там танго и фокстроты. И тут я увидел её изумительную пластику, её движения, её походку.
Весь лагерь смотрел на них разинув рот..
Наутро они исчезли..
А вечером, в палатке вожатых (а слуги, как известно, все знают), я услышал, что это были дети одного из главных авиаконструкторов того времени, какого именно – сейчас не помню, ну типа Ильюшина или Туполева. Они учились где-то в Англии, а на лето приехали в СССР, и Папа предложил детям посмотреть южный пионерлагерь, но детям не понравилось, и они улетели на собственном самолете куда-то под Москву.
Вот, собственно, и вся история. Она не имеет эффектного конца, где, скажем, я бы встретился с этой девушкой через 15 лет, и она бы сказала: «Ой, а вы знаете, я вас помню.»
Нет, ничего такого не было.
Но я запомнил этих людей. И понял, что есть разные породы, не только у животных. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.
И у них другая походка.
Хочу подчеркнуть: я вовсе не считаю авиаконструкторов какими-то небожителями (хотя в каком-то смысле это так и есть). Настоящей элитой, духовной элитой нации я считаю людей культуры и науки, истинных творцов, сочинителей, созидателей. Таких на самом деле очень мало в каждой стране, но именно они есть генофонд этой страны, именно они передают в будущее заветные смыслы.
Но богатый человек – даже в те баснословные и мрачные времена, которые уже никто не помнит, – мог дать своим детям хорошее образование, красиво их одеть и обуть, научить хорошим манерам.
В тот момент я понял – я хочу в этот мир, я хочу в Москву. Я хочу быть, как эта парочка. Я хочу посмотреть весь мир, я хочу хорошо одеваться, научиться себя вести в обществе, занять в этом обществе какое-то положение.
Надо было сделать шаг.
ШАГ!
И я его сделал.
Правда, не сразу.
Прошло ещё лет 10, но я переехал в Москву, а потом и в Нью-Йорк. И всюду чего-то добился…
* * *
Это был трудный путь. Я сделал в жизни много шагов. Иногда неверных. Ложных. Шёл в неправильном направлении. Потом возвращался и начинал сначала.
* * *
У нас много песен о шагах.
«Шаги, шаги, по трапу, по траве.»
Или вот ещё песня: «Сделай шаг, сделай шаг один…»
Или вот новый шлягер: «Шаг за шагом».
А есть и такая новая песня: «Шаг за шагом вместе с Христом».
Вообще «шаг» – принятая в русском языке метафора, и её употребляли все поэты, от Пушкина:
- Здесь каждый шаг в душе рождает
- Воспоминанья прежних лет
До Бродского
- Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.
- Я шаг свой не убыстрю.
- Известную тебе лишь искру
- гаси, туши
И конечно, слово «шаг» в русском языке имеет много значений. Так же, как и в английском слово «step».
Тут и «шаг за шагом», и «шагистика» и «шагомер».
Конечно, «шаг» – это прежде всего движение ноги при ходьбе.
Но и мера длины, и расстояние (вспомним «в шаговой доступности»).
Но меня больше всего интересует Шаг как поступок. Он сделал решительный шаг.
Это был безрассудный шаг.
Она пошла на опрометчивый шаг.
И миллион других эпитетов к этому слову.
Вот именно такие шаги каждый из нас может найти в своей жизни, и в жизни близких.
…NN сделал решительный шаг и выступил против своего начальника. В результате этого начальника уволили.
…ХХ пошел на безрассудный шаг и стал жаловаться на своего начальника. После чего был уволен.
…Она выскочила на мороз без верхней одежды, это был опрометчивый шаг: она простудилась и на несколько недель слегла в больницу.
Тут можно придумать тысячи разных вариаций «шагов», и правильных, и ложных, «шагов», ведущих к успеху, или наоборот, к неудаче.
Как правило, мы идем на какой-то поступок, на какой-то шаг, и не представляем себе, куда это может привести.
Некоторые шаги выглядят как явная неудача, но внезапно приводят к неожиданному взлету, успеху, удаче.
* * *
Вот еще пример из моей жизни.
Я учился музыке в Ташкенте, как виолончелист. И достигнув определенного возраста, решил, что мне надо поступать в Московскую консерваторию (о своем желании «покорить Москву» я уже писал выше). И вот, взяв подмышку свой большой и нелепый инструмент (довольно плохого качества, виолончель производства советского Музпрома), я прилетел в Москву и начал сдавать вступительные экзамены.
…Я провалился. Меня не приняли. Я играл на виолончели, может, и неплохо для Ташкента, но очень плохо для Москвы. И инструмент у меня был ужасный, и смычок, и струны, всё это было такое доморощенное и самодеятельное. А вместе со мной поступали зубры, ныне знаменитые на весь мир виолончелисты, они уже брали уроки у Ростроповича или Шаховской.
Конечно, я был хуже.
И это была катастрофа. Я был вынужден вернуться в Ташкент и прожить там еще 4 года. Я ужасно страдал и мучился, понимая, что жизнь моя закончена.
Но жизнь оказалась умнее меня.
Представим, что я бы поступил в Московскую консерваторию и закончил её, получил диплом виолончелиста.
После чего я бы сел в какой-нибудь оркестр и всю жизнь боролся, чтобы стать помощником концертмейстера группы виолончелей где-нибудь в Челябинске, или в Воронеже, а может, и в Москве… Я бы, возможно, ездил на какие-то короткие гастроли за рубеж, привозил бы дефицитные товары, и на вырученные деньги кормил семью и учил детей.
* * *
Но нет, судьба распорядилась по-другому. После ташкентской ссылки (где мне пришлось отслужить в Красной Армии) я опять приехал в Москву, на этот раз с легкостью поступил в класс композиции известного профессора Николая Пейко, закончил аспирантуру в Ленинграде, и довольно скоро стал известным композитором.
Как это произошло – ума не приложу, здесь явно сработали Высшие силы. Но то, что мне казалось ложным, неправильным шагом, просто катастрофой, – имею в виду неудачное поступление в Московскую консерваторию, – на деле оказалось изящным ходом моего провидения: я стал тем, кем должен был стать.
* * *
Главное, наверное, – не следовать ленинской формуле: шаг вперед, два шага назад. Я уж не помню, по какому поводу вождь высказался таким образом, а нынешняя молодежь, небось, и не слыхала о такой «походке».
Но могу сказать, опираясь на свой опыт: только вперед! Да, можно сделать шаг назад, чтобы «остановиться, оглянуться». Но потом надо обязательно найти в себе силы, и сделать два – да чего там два – три-четыре шага вперед.
* * *
Так получилось с отъездом в Америку. Не буду углубляться в детали, об этом я писал в своих книгах.
Вкратце.
В 1990 году мы с женой и 11-летним сыном уехали в Штаты. Мне была предложена неплохая позиция: зарплата, жилье, медицина.
Сын подрастал, был явно талантливым музыкантом, и было ясно, что ему неплохо бы поучиться в Нью-Йорке, освоить язык и вообще Западную жизнь.
В 1990 году можно было уезжать уже без всяких проблем, без потери гражданства, жилья и пр.
И мы уехали.
Мы сделали этот неожиданный и опасный шаг. Риск был велик. Я мог потерять свое имя, репутацию, прекрасно развивающуюся композиторскую карьеру.
Что нас ждало в Штатах – никто не знал.
Жизнь там складывалась по-разному. Много хорошего, но было и немало проблем.
Америка – совсем не рай, там надо бороться за свое место под солнцем.
Но это хорошо делать молодым, до 20 лет.
У нашего сына всё сложилось хорошо. На сегодня он известный американский композитор, пишет музыку для кино и для балета, выступает с концертами по всему миру.
А мне было уже за 40 и делать карьеру заново было довольно поздно.
Проведя в Америке 12 лет, я вдруг понял – надо возвращаться.
В Америке говорят: надо жить там, где ты работаешь. Если ты живешь в Чикаго, а тебе предложили хорошую работу в Лос-Анджелесе – не задумывайся и переезжай!
Американцы легко переезжают, бросают насиженные места, мебель и прочий скарб, селятся на новом месте, заводят новых друзей, новую мебель и новую жизнь.
Мне предложили работу в Москве. Меня ждал новый фильм, новая работа в театре, концерты в лучших залах, певцы, оркестры и т. д.
И я, недолго подумав, вернулся в Россию.
О, это было непростой ШАГ!
Конечно, переезд равен двум пожарам, даже на соседнюю улицу, а если в другой город, то, наверное, трём. А если совсем в другую страну, да ещё через океан – это равно извержению вулкана, цунами и пожару одновременно.
Но не это самое страшное.
Перевезти вещи, оформить все документы, позаботиться обо всех младших и старших родственниках, продумать все банковские операции, налоги, билеты, контейнеры, картины, библиотеку – это большая головная боль.
Но это всё преодолимо.
Страшнее всего – ложно понятая гордыня.
Ужасное чувство, что ты потерпел неудачу.
И тебе очень стыдно.
Ты понимаешь, что каждый будет подходить к тебе, и говорить сочувственно (в кавычках):
«…Ну что, ты вернулся? Не удалось там, а? Не получилось завоевать Бродвей и Голливуд? А чо ты, ваще, ведь музыка, она ведь интернациональна, сыграл бы им свои песни, свои мелодии?»
И ещё такое:
«.А ты зря сюда вернулся. Поезд-то твой ушел. здесь уже другие кумиры, а про тебя давно забыли. 12 лет – это не шутка.»
Сколько я этого наслушался.
Но я сказал: ребята, дайте мне попробовать. Может, не всё потеряно.
Стал с удвоенной силой работать. написал огромное количество новых сочинений в самых разных жанрах. Стал проводить свой Фестиваль каждые 5 лет, с большим количеством премьер, и театральных, и концертных.
Появились новые фильмы, спектакли, радио– и телепрограммы.
Оказалось, я сделал правильный шаг. Храбрый шаг. Рискованный шаг.
Но это был настоящий Шаг!
И всем рекомендую – рискуйте! Делайте ставки! И выигрывайте!
Но вместе с тем будьте осторожны. Трезво оценивайте свои возможности! Потому что неправильно выбранная
дорога может привести к несчастью, к катастрофе, к смерти, наконец.
Поэтому думайте, прежде чем сделать первый шаг.
Знайте: всё всегда начинается с маленького шага… но его надо сделать в правильном направлении.
И всё будет хорошо.
Мне отмщение или Вечная вендетта
Когда объявили тему номера «МЕСТЬ», сразу подумал: про это писать не буду.
Ну нечего мне писать про месть. Нет никакого опыта: никому в жизни не мстил. Не было у меня таких поводов, не было кровной вражды, какой-то страшной ревности, измены, за которую обычно мстят.
Не было никакой семьи, к которой была бы родовая враждебность, битв за наследство (да и наследства никакого не было), не было больших денег, спора за доброе имя, никаких диффамаций, публичных поношений, борьбы за честь и достоинство.
Всего этого счастливо удалось избежать.
Не было ничего подобного и в предыдущих, и в соседних поколениях. Родители – скромные инженеры, никогда не попадавшие в «зрачок общественного внимания», по выражению Юрия Трифонова. Да и остальные члены семьи, родственники, друзья проживали вполне ординарную жизнь, в которой не было больших страстей, самоубийств, заточений в тюрьму и других сногсшибательных историй.
А стало быть, не было мести.
Ведь месть – это большая страсть, яркое чувство, пламенное влечение, жар, пыл, неудержимая тяга, неостановимое желание отомстить.
Нет, не нашел я в своей душе ничего такого. И в близких тоже.
Мстил ли я кому-нибудь? Вряд ли. Да и не за что было. Никто мне не сделал ничего плохого, грех жаловаться, я плыл по реке жизни вполне уверенно, было много удач, разных личных и публичных достижений, много поводов радоваться.
Ну и печалиться тоже. Смерть родителей, творческие неудачи, финансовые трудности, проблемы со здоровьем – всё это было.
Как и у всех.
Но мстить было некому и не за что. Все развивалось как в любой жизни, я никому не желал зла и из всех конфликтов старался выходить мирно.
Правда, есть пара-тройка людей, которых я терпеть не могу, и очень желаю, что бы у них всё было плохо. Они сделали мне гадости, а я им нет. Уверен: жизнь им отомстит за меня. Такое уже было в моей жизни.
Я сидел на берегу реки, и по ней проплыл труп моего врага.
Но я ничего для этого не сделал.
Просто отметил в своем мысленном компьютере: еще один.
Короче, колонка «о мести по личным воспоминаниям» как-то не получалась.
* * *
Я огляделся по сторонам и вдруг понял, что месть разлита вокруг нас плотным слоем. Вся человеческая история – это история мести одних людей другим. Это история бесконечных «ответных ударов», и ни один удар не остается без ответа.
Заглянем в главную книгу большОй части человечества (не бОльшей, а именно большОй): в Библию.
(Всё-таки китайцев и индусов значительно больше, чем христиан, даже если не трогать всех прочих…)
Библия – это книги о мести. (Старый и Новый Завет)
Знаменитое «око за око, зуб за зуб» впервые прозвучало еще в кодексе Хаммурапи, задолго до Торы (Пятикнижия).
(Законы Хаммурапи написаны примерно за 1700 до новой эры, а Тора примерно за 600 лет.)
Тем не менее в «Книге Исхода» (Вторая книга Торы) почти в точности процитировано «око за око, зуб за зуб»), как это было у старика Хаммурапи. В Библии эти слова цитируются много раз, на разные лады.
Конечно, звучит это очень жестоко. Представить себе, что один человек у другого выбивает глаз, а потом приходит его брат и точно так же выбивает глаз у обидчика – страшное зрелище. Лишение глаз – одно из самых жестоких наказаний на свете, вспомним несчастного Глостера из шекспировского «Короля Лира».
Да и зуб вырвать без наркоза – тоже довольно неприятно.
Но вообще-то ничего такого здесь и не имелось в виду. Это просто была формула равного возмездия, и всё это про зубы и очи – некая поэтическая формула. Тут вполне могло быть «стул за стул» или «стол за стол». Просто у деда Хаммурапи, или у Моисея, автора Пятикнижия, было романтическое воображение.
На самом деле это означало: месть должна быть равновеликой (или равнозначной). Если у тебя украли козу – укради козу и ты. Если у тебя увели жену – сделай что-то в этом роде. Ну а если у тебя убили брата – убей его убийцу.
* * *
Главный мститель в христианской религии – Бог. Мне – отмщение, сказал он. Что значит – не лезьте со своими глупыми толкованиями и предложениями. Я сам решу, кто виноват. И сам отомщу.
Слова эти впервые звучат во Второзаконии, то есть последней книге Пятикнижия, немного в другом виде: Мне (принадлежит право на) отмщение, и Я воздам.
Причем говорит их не Иисус Помазанник, который всё-таки получеловек-полубог, а тот самый Всевышний, (через пророка Моисея), полноценный Бог, воспетый в Ветхом Завете, и не имеющий ни имени, ни определенной внешности. Впрочем, почему? Есть имя Элохим, есть имя Яхве, он же Иегова, есть имя Саваоф, есть Адонай, и еще пара десятков имен для разных целей и ситуаций.
К реальному Богу всё это не имеет отношения, он на эти имена не откликается).
Что касается внешности – сказано в одном месте книги Бытия, буквально в самом начале: «И сотворил Бог человека по образу и подобию своему».
Специалисты трактуют так: мол, по образу это да, а подобие (а может, и «преподобие») приходит позже (или не приходит вообще).
Я считаю эту фразу ошибочной. Ведь это писал человек по имени Моисей, и он вполне мог ошибиться, или что-то придумать, может, недослышал, недопонял, да мало ли что.
Думаю, на самом деле было сказано примерно так: «Бог создал человека в таком образе, в котором он сам (Бог) мог бы иногда появляться. При этом Бог может появляться в любом образе, а человек – только в одном…»
Но Моисею это показалось унизительным. И он слегка переврал это место в священном тексте.
Ну сами посудите, может ли быть, что Всемогущий и Вездесущий Бог – это некий мужчина в хорошо сшитом костюме, или старичок с седой бородой и посохом, или, скажем, юноша с женскими чертами, как на некоторых картинах Леонардо..
Верили бы вы в такого Бога?
Но это так, мысли по ходу.
Итак, функция мщения у иудеев и христиан отдана Богу.
Именно он, Бог, мстит, именно он мстительно наблюдает за тем, что творят смертные, полусмертные и бессмертные, взвешивает их вину и воздает им по заслугам.
А у греков для мести была специальная богиня – Немезида. (Там специальные боги есть практически для всего).
Как у всякого мифологического персонажа, у неё масса версий происхождения: то ли она была дочерью Зевса, то ли его женой, то ли и тем и другим одновременно (в мифологии это бывает).
Но Немезида – богиня цивилизованная. Она мстит только за дело, у нее в руках весы, глаза завязаны, она воплощение справедливости, так же, как близкая ей по духу Фемида.
Но есть в древней мифологии более яростные богини – Фурии, Эринии, всякие там Медузы Горгоны, – которые налетают на каждого смертного, терзают его, рвут плоть и душу на части. Это уже не воздаяние, это уже не справедливость, это просто ужас, который заложен в любой человеческой судьбе.
И когда у вас наступают тощие годы, годы лихолетья, когда «пришла беда – открывай воротА» и рушится всё, что вы сделали за свою жизнь, и вы «возводите очи гОре» и спрашиваете: за что?… ответ, как правило, бывает прост: а ни за что!
Просто за то, что ты родился и живешь на свете, «зачат во грехе и рожден в мерзости, путь твой – от пеленки зловонной до смердящего савана», – как сказал Роберт Пенн Уоррен.
И лучше не скажешь.
Обратимся к литературе.
Кто главный мститель в литературе? В каком литературном произведении присутствует мотив мести?
Их много.
Вся античная литература, и древнегреческая, и древнеримская, – это антология разных видов мести. Брат мстит за сестру, мать за дочь, жена мстит мужу, сын отцу. Нет смысла всё это перечислять. Существуют тысячи книг, миллионы страниц на эту тему, вы их легко найдете в любой интернет-библиотеке, на всех языках.
В трагических пьесах Шекспира мотив мести присутствует практически всегда.
* * *
Вспомним «Ромео и Джульетту», где можно говорить о кровной вражде, о мести беспричинной, построенной только на вражде двух родов, уходящей вглубь веков, когда никто уже толком не помнит, почему враждуем. Враждуем и всё, вендетта по-итальянски.
* * *
Бесконечной рекой льется месть в пьесе «Макбет». Мстит Макдуф, мстит Леди Макбет, мстит сам Макбет. Мы видим в конце гору трупов, и все они – жертвы яростной мести.
* * *
Или вот, скажем, «Отелло». Есть ли там мотив мести? Да, безусловно.
Но не у Отелло к Дездемоне. Ей мстить не за что, она ничего плохого не сделала, и Отелло это прекрасно знает. Отелло вообще не любит Дездемону, у него есть целый гарем женщин, на Дездемону ему наплевать…. А вот Яго мстит. Реально мстит Отелло за то, что он, Яго, умный красивый и белый, не имеет того, что имеет чернокожий мавр: ни поста, ни красотки жены, ни капитала. Вот за это и мстит.
* * *
И, конечно, главный мститель Шекспира – принц датский Гамлет, мстящий за своего отца, безвинно убитого короля. И здесь гора трупов, появившихся из-за желания одного человека отомстить другим.
Уберите из этой пьесы чувство мести, жажду возмездия – и никакого «Гамлета» не будет.
* * *
Нельзя пропустить еще одного персонажа, правда, уже из французской литературы. Это, конечно, граф Монте-Кристо, несчастный Эдмон Дантес, которого все сначала обманули, раздели и бросили в тюрьму, а затем он всем отомстил.
Наверное, граф Монте-Кристо, так сказать, мститель в химически чистом виде. Всё остальное про него помнится как-то слабо, а ведь там и Мерседес, и Гайде, и аббат Фариа, и даже сам Наполеон. Но в моей памяти осталось три подонка: Данглар, Фернан и Кадрусс, которым граф элегантно и мощно отомстил.
* * *
В русской литературе мотив мести вялый.
Можно ли сказать, что Онегин застрелил Ленского из мести? Вряд ли. Он, скорее, обязан был следовать закону чести, где было сказано, что обидчика надо наказать. И он наказал – без всякой страсти, без всякого желания. Равнодушно.
То же и Ленский, который пошел на дуэль, потому что это красиво, и потому что так положено… Вряд ли он так сильно любил дурашливую Ольгу, чтобы отдать за неё свою молодую жизнь.
Так же вряд ли Швабрин в «Капитанской дочке» настолько сильно любит Машу, что из-за неё становится предателем. Он просто предатель по натуре, а Маша лишь капля в его судьбе.
Уж если всерьез, то настоящее мщение было у Пушкина только один раз, и было это не в творчестве, а в реальной жизни, и это привело его к смертельному исходу на Черной речке.
* * *
Пожалуй, в русской литературе самая сильная месть – у Лескова в «Леди Макбет Мценского уезда». Там описана реальная мстительница, Катерина Измайлова. И там поистине шекспировские страсти. Лесков хотел достичь этого уровня и достиг.
А у Гоголя в «Страшной мести», ууух. и вовсе нет никакой мести.
Перечитайте этот текст сегодня, и вы поймете, что после всех зомби, монстров, гаргулий, каннибалов, демонов и прочих чудовищ, которых вы волей-неволей видели в кино или по телеку (особенно если у вас есть дети или внуки), сказка Гоголя пройдет, в лучшем случае, для детей первого класса. Для детей второго класса она покажется слишком примитивной и совсем не страшной.
И месть там смешная, колдун убивает свою дочь, а потом мертвецы вонзают в него свои зубы. Ой, не смешите меня! Мы это уже видели тысячу раз.
* * *
Кто еще мстил в России?
Володя Ульянов отомстил за брата. анекдот, конечно, но вполне возможно, что этот мотив частично присутствовал. Хотя, вообще говоря, мы мало знаем о семье Ульяновых.
Хрестоматийный глянец убрали, но ничего нового не добавили. Так и осталось в головах нашего поколения «.когда был Ленин маленький с кудрявой головой». (стихи Агнии Барто, как выяснилось, были пародией на абсолютно идиотский мармеладный стишок малоизвестной поэтессы Маргариты Ивенсен).
Что еще про месть?
Ну, еще «Неуловимые мстители» приходят на ум. хотя за что они там мстят – уже не помню. И почему они «неуловимые» тоже не помню. Неужели, как в анекдоте, потому что они нафик никому не нужны?
И как нам относиться сегодня ко всем этим большевистским героям, Будённым и Котовским, Лазо и Чапаевым? К тем, которые уничтожали царскую Россию, уничтожали науку и культуру, грабили церкви и университеты, делали налеты на города и хаты, мстили буржуям за свою тупость и малообразованность?
Нам что, их любить? Или ненавидеть? Или просто нервно смеяться?
Вопрос без ответа.
* * *
Ну и последнее про месть.
Про оперу.
Вот тут месть занимает, пожалуй, первое место среди движущих оперу страстей и сюжетов.
Бегло:
«Кармен» (Бизе). Хозе мстит Кармен за то, что она предпочла Эскамильо, и убивает ее.
«Дон Жуан» (Моцарт). Командор приходит, чтобы отомстить развратнику, и вместе с ним проваливается в преисподнюю.
«Риголетто» (Верди). старый шут мстит Герцогу за то, что тот соблазнил его дочь, и пытается его убить. Но по воле судьбы убитой оказывается его дочь.
«Лоэнгрин» (Вагнер) славится своим Дуэтом Мести во втором акте, когда Ортруда и Фридрих обещают отомстить Эльзе. Здесь есть лейтмотив мести, который потом появляется так или иначе во всех операх Вагнера.
Вообще, тема, мотив возмездия (она же часто называется тема рока, тема судьбы) есть практически во всех серьезных операх.
Просто перечислю: это «Пиковая дама» Чайковского и «Орестея» Танеева, это «Фауст» Гуно и «Осуждение Фауста» Берлиоза, это есть в опере Вебера «Волшебный стрелок» и в операх Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. Мотив ревности, мотив неизбежной смерти, мотив судьбы – всё это вырастает из мщения.
Потому что опера – самое подходящее место для обитания мести. Здесь она, месть, находится органично, и пребудет здесь всегда.
Без мстительных чувств опера просто засохнет и перестанет существовать.
* * *
Краткое резюме.
Без мести не было бы жизни на Земле. Именно благодаря отмщению, которое взял на себя Бог, на Земле устанавливается гармония, закон и порядок. Каждый проступок, каждое нарушение общественного договора карается возмездием: подзатыльником, пощечиной, постановкой в угол на горох, заключением под стражу, пожизненным заключением, электрическим стулом.
Поэтому мстите, господа! Не оставляйте безнаказанным ни одно зло, которое вам причинили. Око за око лучше, чем подставить другую щеку.
Чем больше зло будет чувствовать, что ему дадут жесткий отпор, тем больше есть шанс, что оно трусливо отползет в свою грязную нору, и, возможно, никогда больше не покажется на свет.
И жить станет лучше.
Детство – это счастье!..Или нет?
(Лев Толстой – специалист по детству)
«…Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.» (Лев Толстой, из повести «Детство»)
Затертая до дыр цитата.
Но как без неё? Кто лучше Льва Николаевича описал эту золотую пору?
Без Толстого в России никуда. Когда пишешь любой текст, всегда уместно походя заметить: «Толстой говорил», и дальше любая белиберда, и все поверят, что это так и есть.
Авторитет Толстого непререкаем, каждая фраза гениальна, каждая истина – в последней инстанции. Сравнить его – в смысле непререкаемости – можно только с Библией и Шекспиром. Даже Данте и Гете не так авторитетны. А остальные – просто мелюзга.
Вот и про детство: он – главный авторитет.
Толстой утверждал, что помнил, как его купали в ванночке в младенчестве. Проверить, правда ли он это помнил, невозможно. Но раз Толстой говорит – значит, правда. В России все в это свято верят.
Хотя он столько раз менял свои взгляды, и многократно утверждал совершенно противоположные вещи.
Но ему можно всё. Он – Лев.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС О ДЕТСТВЕ
Но мы собираемся сегодня поговорить не о Толстом, а о детстве.
Вот первый вопрос.
1. Всегда ли детство золотое? А может ли быть детство несчастное, мучительное, жуткое, страшное, мерзкое, отвратительное (продолжите ряд сами).
На первый вопрос отвечаю – да, конечно. Об этом полбиблиотеки. Счастливое детство достается лишь малому проценту человечества, при любом строе, во все времена.
Счастливое детство – исключение.
Если под счастьем имеется в виду материальное благосостояние, достаток, много вкусных и полезных продуктов, чистота, уход, свежий воздух, регулярный медицинский надзор, купания в море или в бассейне, няньки, гувернеры и т. д.
Примерно это и есть счастье в детстве. Поскольку у ребенка нет никаких политических или идеологических представлений, он не понимает, какое правительство управляет его страной, живет ли он при тоталитарном режиме или при свободной демократии, при христианстве или буддизме, может ли он свободно передвигаться по миру или заперт в железной клетке.
Всё это он поймет позже.
Вообще – когда начинается детство?
На этот счет есть разные теории…
Считается официально, что с рождения до 1 года – это младенчество.
До трёх лет – раннее детство.
Затем, с трёх до шести – дошкольный возраст.
Затем младший школьный возраст лет до 11.
И всё! До свиданья, детство!
С 12 лет начинается «тинейджерство». Мастурбации, поллюции, менструации – как говорил один мой знакомый, «низ начинает волновать». А до разрешенных половых сношений еще 6 мучительных лет. Именно в эти годы, в возрасте от 12 до 17 происходят преступления на сексуальной почве, именно в этом промежутке бесятся мальчишки и девчонки, именно в эти годы вокруг школ смрадно пахнет насилием и педофилией.
Но это уже не детство. Это «пубертат», или половое созревание… И это вне нашей сегодняшней темы.
Еще на минуту вернемся к Толстому и его семье.
Детство Льва Николаевича и его многочисленных детей, с гувернерами и слугами, с крепостными крестьянами (фактически рабами) и огромными поместьями было, безусловно, счастливым. Во всяком случае, исходные, начальные условия были в высшей степени благоприятными. И первые три-четыре года в жизни каждого из них были, конечно, сладостными, идеальными, идиллическими, и у папы, и у детей, и у внуков.
Ну, внукам повезло меньше. Многие из них дожили до советской власти, и пережили немалые мучения и лишения, у них всё отняли, их жизнь счастливою не назовешь.
Но до 1917 года всё было прекрасно.
И всё же у каждого по-своему, по-разному.
Возьмем лишь одного сына Льва Толстого – Льва, Льва Львовича Толстого, возможно, одного из самых амбициозных толстовских детей, и при этом одного из самых несчастных. Всю жизнь он боролся со своим отцом, яростно ему завидуя, писал антитолстовские рассказы, пьесы, романы, даже памфлеты против отца, и очень хотел стать писателем, таким как Лев Николаевич. Увы, все вокруг над ним только посмеивались, ни критика, ни публика его не принимали, все считали бездарем и завистником, и, наверное, правильно делали. Почитайте хорошую книгу Павла Басинского «Лев в тени Льва», вы многое узнаете о великом папе и мятущемся сыне.
ОТ ТЯЖЕЛОГО ДЕТСТВА К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ
О страшных страданиях вымышленных детей из художественной литературы – от «Детей подземелья» до «Оливера Твиста»; от реального невымышленного детства Антона Павловича Чехова до скорее всего вымышленного тяжелого детства Алексея Максимовича Горького – об этом написаны тысячи страниц.
Как правило, в романах тяжелое детство заканчивается счастливой жизнью. Золушка всегда начинает и выигрывает, становится принцессой (или графиней) и ходит в хрустальных башмачках.
В реальной жизни – как раз наоборот. Кто плохо начинает – без всех описанных выше признаков материального счастья – как правило, и кончает плохо, в тюрьме, на каторге, живет в нужде, много болеет, рано умирает. И дети такого человека живут плохо.
Но о тех, кто начал плохо, и провел мрачную, скудную, нищую жизнь, мы почти ничего не знаем. Те, кто умерли в концлагерях и на полях войны, те, кто скончались от голода, утонули, или сгорели на войне на пожаре – они нас не интересуют.
О них не пишут романов, не снимают кино.
Они просто материал для статистики, для учета. Пушечное мясо. Мясо обыденной жизни.
Бывают исключения.
Но редко.
ВТОРОЙ ВОПРОС О ДЕТСТВЕ
2. Может ли человек вспоминать свое детство как несчастное, мучительное, жуткое (вернитесь к предыдущему ряду синонимов).
Уверен, таких людей почти нет.
Сужу по себе, по своим друзьям и знакомым, по книгам и фильмам.
Я в детстве жил в довольно сложных условиях. Родители были инженеры, получали жалкое советское жалованье, жил я в провинциальном грязном городе Ташкенте, у нас какое-то время не было вообще своего жилья, мы жили у каких-то друзей, я спал в корыте, когда мне уже было года четыре, я это помню.
Тем не менее я вспоминаю свое детство с нежностью и любовью. Всё равно Ташкент казался лучшим городом на свете, были любящие папа и мама, позже появился любимый братик, и все радости советской жизни – игры во дворе в футбол, в «ошички» и «лянгу» (две специфические среднеазиатские игры), походы в кино и театр, музыкальная школа, новые книги и виниловые пластинки. Всё было радостно и светло, жизнь текла как чистая незамутненная река.
Только потом я узнал, что в это самое время рядом были аресты и ГУЛАГ, голод и нищета, незаметно проскочили мимо «дело врачей-убийц» и смерть тирана.
В воспоминаниях детство – всегда счастливое. Плохое забывается, остается только хорошее.
ПЛОД И МУЗЫКА, ИЛИ ЗВУКИ ВНУТРИ
Говорят, что когда эмбрион достигает веса 500 граммов, он уже считается человеком и официально называется «плод». В этот момент уничтожение плода – уже убийство.
Не будем вдаваться в сложные споры между сторонниками абортов и их противниками. Здесь вечный спор между pro – life и pro– choice; как между «остроконечниками» и «тупоконечниками», этот спор никогда не будет закончен…
Поговорим лучше о музыке. Точнее, о влиянии музыки на плод.
Прежде надо установить, что такое ребенок.
Выше я уже сообщил общепринятую классификацию младенчества, раннего детства и т. д.
Доктор Фрейд считал, что именно в младенчестве ребенок получает главные впечатления, которые влияют на всю его жизнь.
Но существует довольно большой период до младенчества. Это так называемый пренатальный период, или период внутриутробного развития.
Теперь официально считается, что именно в этот период надо начинать приучать ребенка к музыке.
Уже сравнительно давно утверждается: музыку дети начинают воспринимать во чреве матери.
Впрочем, я не очень верю в теорию, что если будущая мать ребенка слушает хорошую добротную классическую музыку, то якобы ребенок рождается с хорошим, добрым сердцем, с прекрасным здоровьем, безо всяких физических и душевных недостатков.
Существует масса исследований, и на Западе и у нас, которые доказывают, что слушая музыку Моцарта ребенок, вернее плод (всё-таки «ребенок» – это после его появления на свет) замирает от удовольствия, наслаждается, а вот музыка Бетховена или Брамса заставляет его волноваться и нервничать… Звуки песен советских композиторов (говорят) расслабляют плод, а вот тяжелый рок ребенка раздражает, он начинает метаться во чреве и буквально стучать ногами и руками.
Всё это многократно описано, люди получили за это массу ученых степеней и международных премий.
Но я в это не верю.
Я думаю, что плод во чреве является всё-таки еще не самостоятельной единицей, он (плод) непосредственно и очень тесно связан с организмом матери. Да и гены отца тут важны, они уже проявляются. Думаю, что Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, находясь во чреве матери, как раз хорошо реагировал на рок-н-ролл, и вряд ли любил квартеты Бартока.
А, скажем, сын Бориса Пастернака и художницы Евгении Лурье Евгений Пастернак скорей всего в этой ситуации (во чреве) любил Шопена и Скрябина, а джаз, наверное, выводил его из себя, и он бил ручками и ножками.
Но вообще, по большому счету, это всё какая-то ахинея, псевдонаука и псевдоисследования. Что-то вроде алхимии или френологии.
Так и представляю себе ученого, приставившего микрофон к животу беременной женщины, запускающего музыку разных жанров, и считающего: раз, два, три.
Ага (считает ученый), под джаз он ударил ножкой 5 раз, а под Шуберта – 3.
Значит, джаз раздражает больше – пишет этот псевдоученый, делает несколько глубокомысленных выводов и защищает очередную диссертацию или издает очередной трактат.
Существует масса статей о том, что у коров лучше удои под Гайдна, розы лучше расцветают под Беллини, а курицы лучше несут яйца под русские народные песни.
Не верю ничему.
Всё это болтовня. Что-то напоминающее пресловутую телегонию. Матка (в каком-то смысле родина всех нас) нас слышит, матка нас знает.
Как можно доказать, что нравится плоду? Спросить у него (лет через 10) – помнишь, милый, что ты слушал, находясь в утробе? И милый отвечает: конечно, я помню, это был квинтет Брамса… мне понравилось…
И здоровье малыша здесь ни при чем. Если он, не дай бог, родился с какой-нибудь травмой или врожденной болезнью, то Брамс здесь не поможет. И даже Моцарт будет бессилен.
А если он родился в рубашке, суперрозовощеким младенцем, а потом мамаша сознается, что слушала исключительно Стаса Михайлова – то уверен, Стас Михайлов здесь ни при чем. Просто у ребенка крепкие, здоровые гены, и он выдержал всё, в том числе и русский шансон.
Это я к тому, что музыка, конечно, воспитывает человека. Но всё-таки человека, а не плод.
ПОРА ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ
Сегодня, когда музыка превратилась в разновидность спорта, когда здесь царит абсолютно олимпийская терминология: «Citius, Altius, Fortius!», что значит Выше! (для вокалистов), Быстрее! (для пианистов), и Сильнее! (для дирижеров), детям, которых родители готовят в профессиональные музыканты, надо начинать смолоду.
Нормальный возраст сейчас для начала музыкальных занятий в Китае – 2 года (!). Да, уже в два года ребенок, почти младенец, начинает изучать музыку. А к 6 годам уже бегло играет на рояле (или на скрипке) и демонстрирует «чудеса пиротехники».
К музыке, к настоящей музыке, это почти не имеет никакого отношения. Только в редких случаях.
Но китайцы давно поняли, что человек, занимающийся музыкой, таинственным образом развивается, его мозги очень рано начинают понимать гармонию мира и устройство мироздания. В случае если даже ребенок не станет профессиональным музыкантом, он всё равно получит мощный толчок для развития многих основных навыков, связанных с учебным процессом и общим развитием мозга, он многое поймет, порою даже интуитивно, не осознавая этого, он почувствует, что вся Вселенная построена на одних и тех же математических формулах.
Может, в этом секрет «китайского экономического чуда»? Это во многом относится и к корейцам, и к японцам. Восточные люди сейчас составляют 80 процентов от всех музыкантов в симфонических оркестрах мира, выигрывают многие исполнительские конкурсы, становятся мировыми звездами (Ланг Ланг).
Между музыкой и азиатской мировой экспансией есть какая-то таинственная связь.
Знаменитая теория, изложенная Германом Гессе в романе «Игра в бисер» о том, что в основе всего, что есть на свете, лежат универсальные формулы, и эти формулы наиболее ярко проявляются в музыке и в математике, и что человек, знающий и понимающий эти субстанции, эти формулы, владеет миром – эта теория сегодня находит научное подтверждение.
И азиаты это понимают.
* * *
В завершение хочу сказать: Господа, учите ваших детей музыке. Приучайте их к классике, пусть музыка окружает их с раннего детства до «тинейджерства». Увидите – от этого будет толк. Даже если они не станут профессиональными музыкантами – они станут лучше как люди, у них разовьется чувство гармонии мира, понимание цельности мироздания.
Достаточно два, а лучше три года занятий, чтобы поймать эту волну, настроить себя на правильный лад.
Если после этого срока вы поймете, что вашего ребенка это тяготит – бросайте, не надо себя мучить. Эти три года все равно останутся в его сознании, в его душе.
Может, через некоторое время его потянет обратно, и он захочет вернуться к музыке. Конечно, виртуозом-скрипачом или пианистом ребенок уже не станет. Для этого есть строго отмеренные академические сроки.
Но он может стать неожиданно хорошим тромбонистом… флейтистом… барабанщиком. А может, музыкальным режиссером? Или музыкальным журналистом?
Есть масса вариантов. Главное – пройти эти 3–4 года начальной грамотности.
И детство будет не потеряно.
И вашим детям будет интересно жить на свете.
И они будут счастливы – не только в детстве.
А всю жизнь.
Лови свой шанс, или Carpe diem!
Сегодня главный шанс, который есть у каждого человека – это сфотографироваться. Успеть сделать фото. Зафиксировать себя и то место, где тебе довелось побывать. И того, кто был рядом.
Конечно, такое возникло не вчера. Уже в середине девятнадцатого века появились первые фотоаппараты, огромные и несовершенные. Тем не менее фотографии того времени каким-то образом очень выразительны, и производят порой комическое, но чаще всего умилительное впечатление. И уже тогда люди старались остановить мгновение.
Но тогда, особенно в начале прошлого века, это была целая операция, надо было договориться, собраться, одеться и пойти в специальное заведение, где фотограф долго строил мизансцены и, наконец, делал одну или две красивые фотографии, которые позже десятилетиями висели в рамочках на стенах наших квартир или домов.
Как это не похоже на современного «фотографа», который приходит на вечеринку со своим айфоном, делает пару сотен фотографий и тут же выставляет их на Фейсбук, в Инстаграм, или тут же рассылает их всем знакомым по Вотсапу или Вайберу.
«Смотрите, завидуйте, я был сегодня… Видите, с кем я стою? Вот так-то!»
* * *
Вообще фотография (согласно Википедии) это «технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или полупроводникового преобразователя».
Уверен, современный специалист-программист посмеется над этим определением. Какие там нафик полупроводники и фотоматериалы? Ни того, ни другого, я уверен, нет в наших айфонах и самсунгах. А ведь, поди, снимаем мы все как ошпаренные, едва только что-то попадается на глаза.
Но не собираюсь вдаваться в технологические вопросы или в историю фотографии.
Меня интересует сейчас: почему люди ищут возможности сфотографироваться с известным человеком, поймать свой шанс.
Зачем это?
Ну, понятное дело – чтобы показывать знакомым и говорить, вот видишь, с кем я знаком?
Правда, мало кто поверит, если даже ты на фотографии в обнимку с Софи Лорен или с Брэдом Питтом, что ты действительно с ними знаком, и что знаменитости имеют хотя бы малейшее представление о том, кто ты такой.
Но это сходит с рук.
Даже то, что ты пробрался в толпе, сумел подскочить к звезде и сделал селфи, или попросил кого-то нажать кнопку – уже большое достижение.
Один мой знакомый профессиональный фотограф правильно сформулировал:
«Если я сфотографируюсь с известным человеком, то человек сто, увидев это, скажут: «Смотри-ка, наш Байстрюков с Брэдом Питтом!»
Но 10 миллионов человек во всем мире скажут: что это за мудак с Брэдом Питтом?
Поэтому я никогда не фотографируюсь со знаменитостями. А если и получается такое, то никогда это не публикую в интернете. Зачем мне это нужно?»
* * *
Не знаю, прав ли этот фотограф.
Но я думаю, что свой шанс всё-таки надо ловить. Когда тебе предоставляется возможность постоять рядом с известным человеком, тем, кого ты почитаешь и перед кем преклоняешься, и пообщаться с ним – ну как это не заснять, не зафиксировать?
* * *
Вспоминаю свою жизнь. И свои упущенные шансы.
Ну вот, например, я довольно много общался с великим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Ну, много – это сильно сказано. Но раз десять – точно. Именно один на один, с глазу на глаз, у рояля. И еще много раз на разных встречах, конференция, съездах композиторов. Д.Д. никогда ничего не пропускал, все активно посещал, выступал, сидел в президиумах. И был всегда очень доступен, к нему мог подойти любой, поговорить, взять автограф, просто познакомиться. Охраны у него не было.
Но я, будучи с ним реально знакомым, никогда не осмелился попросить его со мной сфотографироваться. Как-то не принято было это тогда.
Так и нет у меня фотографии с Шостаковичем. Есть одна, но очень плохая, сделанная фотографом Хенкиным, который был тогда официальным фотографом Союза композиторов.
* * *
Или вот еще случай. Ко мне домой в Москве однажды пришла композитор из Мексики, которая, как выяснилось впоследствии, была автором песни «Бесаме Мучо». Я много раз об этом эпизоде писал, поэтому не буду повторяться.
Да, я догадался сделать запись на магнитофон, эта кассета очень плохого качества у меня до сих пор хранится. Но фото нет. А как бы я был горд сегодня, если бы у меня было такое фото!
Но увы, не суждено, и уже этого никогда не будет.
Впрочем, были случаи, когда я всё-таки успел ухватить свой шанс. У меня есть фотографии с моими кумирами – Леонардом Бернстайном, Эндрю Ллойдом Уэббером, Тимом Райсом, Пьером Булезом, Сергеем Юрским.
Буду ли я врать, что я с ними дружу?
Нет, не буду.
Хотя всё-таки я с ними общался, фото не было сделано так, что я подошел, подлез, можно сказать, где-то сбоку, а кто-то незаметно щелкнул.
Нет, мы разговаривали, я представился, потом попросил разрешения сделать фото, и они любезно согласились.
Хотя ни о каких отношениях речи нет.
И всё-таки это было прикосновение к великому человеку, и я не мог отказать себе в удовольствии запечатлеться.
С другой стороны, одна встреча с человеком – это много или мало?
Сколько времени надо, чтобы узнать человека – несколько лет? Несколько часов? Или хватит 10–15 минут?
Ответить однозначно нельзя.
Иногда вы только познакомились с человеком, и сразу, буквально с одного взгляда чувствуете к нему симпатию, даже влечение (все сексуальные коннотации здесь ни при чем). Очень может быть, что этот человек вскоре станет вам близким другом, войдет в ваш круг, будет постоянно с вами «на связи», даже если вы живете в разных городах или странах. Такое у меня бывало в жизни, наверное, бывало у всех.
Это тоже шанс, который надо ловить. Особенно если вам за 50. Найти близких друзей в позднем возрасте непросто, а старые друзья по разным причинам выбывают и ваш круг сужается. Поэтому ловите миг удачи, и старайтесь не потерять этого случайно встреченного человека. Держите наготове визитную карточку (у меня всегда с собой визитная карточка, это очень удобно, вместо того чтобы на ходу спрашивать: есть ручка? Есть бумажка? Какой у вас мейл? А какой spelling? – вместо всего этого достать визитную карточку… и это почти гарантия, что человек не потеряется).
Кстати, визитная карточка гораздо удобнее, чем любые электронные записи, запись в телефон или, скажем, аудио-или видеозаписи, которые сейчас используют некоторые продвинутые метросексуалы.
Визитка, отпечатанная на хорошей бумаге, живет гораздо дольше любой электроники. Даже официально срок хранения компакт-дисков или флешек – 20–25 лет. А бумага хранится вечно. Мы до сих пор можем увидеть древнеегипетские и вавилонские папирусы, а уж рукописи эпохи Возрождения или древнерусские свитки выглядят почти как новые…
И конечно, если вам понравился человек, надо сделать фотографию с ним. Чтобы узнать его при встрече. Чтобы просто его запомнить…
А если судьба дает возможность встретиться с человеком, с которым вы мечтали познакомиться, и вы знаете, что это единственный шанс, надо обязательно с ним сфотографироваться, больше шансов не будет?
Когда в юности я жил в Ташкенте, у меня была мечта – пообщаться с четырьмя людьми. Это Игорь Стравинский, Пабло Казальс, Пабло Пикассо и Леонард Бернстайн.
Мечта сбылась только на четверть: я встретился в 1989 году с Леонардом Бернстайном.
Как потом избежать насмешек друзей, которые будут говорить: вот, «сфоткался» с человеком, а видел его всего один раз. И еще хвастается – мол, смотрите, с кем я на фото.
Попробую объяснить эту ситуацию на примере поэта Андрея Вознесенского.
Нет, речь не о фото с Вознесенским, их у меня много, я с ним дружил, есть и надписанные книжки, и другие автографы, а теперь продолжаю дружить с его вдовой Зоей Богуславской.
Нет, я просто хочу сослаться на один эпизод из жизни Андрея Андреевича, а именно, на его встречу с великим немецким философом Мартином Хайдеггером.
Судьба подарила Андрею массу фантастических встреч по всему земному шару. Не буду их перечислять, это очень долго. Возьмите том его мемуаров, там вы найдете описание этих встреч с невероятными людьми. Напомню только одну из них – его встречу с главой Временного правительства Александром Федоровичем Керенским!
Но вот с Мартином Хайдеггером ему встретиться никак не удавалось.
И вдруг судьба посылает ему шанс. Конечно, он за этот шанс хватается и проводит с философом несколько часов.
Это была только одна встреча. Но как бережно, как восторженно и как почтительно пишет поэт об этой встрече (его новеллу «Зуб разума» нетрудно найти в интернете). Несмотря на то, что поэт не все понимал из того, что говорит Хайдеггер (и честно в этом признается), несмотря на то, что Хайдеггер и Вознесенский не стали после этой встречи друзьями и больше практически не общались, Вознесенский тщательно вобрал в себя эту беседу, а потом написал блестящее эссе.
И, конечно, не забыл сделать фотографию.
Это я к тому, что иногда разовая встреча, почти случайная, где-то на приеме, или в дороге, или в самолете, или даже просто на улице может внести в вашу жизнь совершенно новый поворот. И даже изменить вашу судьбу.
Поэтому не бойтесь таких встреч, смело идите им навстречу.
ЛОВИТЕ СВОЙ ШАНС!
* * *
А как относиться к тем, кто хочет с вами сфотографироваться? (Учитывая некоторый уровень вашей медийности).
Должны ли мы помочь человеку, который мечтал с вами познакомиться и даже приехал специально из Сызрани, чтобы побывать на вашем выступлении? Надо ли помочь этому человеку «поймать свой шанс»?
Вопрос не такой простой.
Не хочу преувеличивать уровень моей медийности, среди авторов «Русского Пионера» есть люди гораздо более медийные.
Однако и у меня есть группа поклонников, верных «фанатов», причем не только в Москве, но и в других городах России, и в других странах. Это, конечно, уже не молодежь, но и не старики, это нормальные, вполне интеллигентные люди 40+, и среди них немало очень приятных и милых людей.
Так вот, вопрос: должен ли я всегда быть готовым, чтобы они «поймали свой шанс», то есть пообщались со мной и сделали со мной фото?
Пожалуй, нет.
Но все зависит от конкретной ситуации.
Если, скажем, я иду по красной дорожке на каком-нибудь фестивале, толпа рукоплещет, подбегают люди и просят автограф или фото – могу ли я им отказать?
Или после выступления подходят люди и у одного из них я вижу уже десяток моих фотографий, или альбомов с моей музыкой, или моих книг – могу ли я отказать в еще одном автографе или фотографии?
Конечно нет.
А вот другая ситуация. Я рано встал, набросил на себя что попало и выскочил в ближайший магазин за свежим кефиром. И тут на меня нападает поклонник.
– Ой, Александр, вы мне так нравитесь! А вот я видел вас по телевизору… А вот ваша последняя песня… А можно с вами «сфоткаться»? И автограф, пожалуйста?
Пожалуй, я ему откажу. Нет, вежливо, конечно, хамить не буду, это вообще мне не свойственно. Но мягко скажу: «Давайте в другой раз. Сейчас не могу.»
И постараюсь незаметно раствориться в толпе.
Да, я понимаю, наверное, человеку будет неприятно.
Но я не отвечаю за шансы других людей.
Мои чувства тоже надо брать в расчет.
Одно дело – поклонники, пришедшие на встречу со мной на концерт, на премьеру в театр, и т. д.
Очевидно – это люди, которые ко мне хорошо относятся, они знают, кто я такой, что я делаю в этой жизни, и они, безусловно, заслуживают уважения.
Если же человек случайно встретил и узнал вас на улице, или в транспорте, или в супермаркете и пытается с вами как-то заговорить – лучше всего постарайтесь исчезнуть. Было много плохо закончившихся историй, не будем о них вспоминать.
И, наконец, последнее.
Письма.
Надо ли на них отвечать?
Письма, как известно, бывают двух видов: бумажные и электронные.
Бумажные письма практически отмирают, они сегодня нечто рудиментарное, оставшееся от прошлой эпохи. Если вы получаете некое письмо в почтовый ящик, то, скорее всего, это извещение о штрафе, или о налогах, или какой-нибудь счет. Лишь один процент среди них может случайно оказаться действительно письмом или открыткой (у меня есть знакомая, которая на все советские праздники до сих пор шлет мне с женой открытки: Новый год, День советской армии, 8 марта, 1 мая. На 7 ноября не шлет. Впрочем, на 4-е тоже).
Но она такая – единственная.
А вот электронные послания всё прибывают. По всем каналам. И СМС, и всякие мессенджеры, и, конечно, электронная почта.
Отсеку письма, которые действительно адресованы мне, от тех людей, с кем я переписываюсь, отсеку и бесконечные рекламные послания, и бесконечные «остроумные видео», которыми считают своим долгом делиться разные малознакомые, и, как правило, малообразованные люди.
Оставим их в покое.
Но есть еще группа писем.
Это те, кто просит помощи.
Этих тоже можно разделить на несколько групп.
Есть графоманы – они просят написать музыку на их стихи. Они утверждают, что я их любимый композитор, и что только я смогу оценить их великие стихи. (Наверняка это же самое они пишут и всем моим коллегам).
Я им никогда не отвечаю.
Есть и такие, которые присылают либретто мюзиклов или опер. Этим я иногда отвечаю. Но пока за всю мою жизнь никто ни одного стоящего материала не прислал.
Есть те, кто просит помочь – со здоровьем, с квартирой, с машиной, с дачей, с адвокатом, с прокурором, с тюрьмой, со школой или институтом.
Этим я всегда вежливо и очень кратко отвечаю, что они обратились не по адресу и что им надо обратиться в… и дальше называю какую-нибудь общественную организацию.
И, наконец, те, кто просит денег. Этих больше всего. Просят от 1000 рублей до 10 000 долларов.
Конечно, я никому ничего не даю. Просто вежливо сообщаю, что те деньги из моего бюджета, которые выделяю на благотворительность, посылаю. и далее называю близкий мне благотворительный фонд.
Вот так люди пытаются поймать свой шанс рядом со мной, или оторвать что-то у меня. Но я этого не позволяю.
Всё в мире должно быть справедливо. У всех должны быть равные шансы. Если кому-то не повезло – сожалею. Но помогать всем невозможно.
* * *
И на прощание.
Совет.
Вся суть шанса в вашей жизни – это продержаться и выстоять до того священного мига, когда бог даст вам знак: «ваше испытание закончилось». В этот миг надо будет сделать последний рывок, и можно перевернуть всю свою судьбу, и правильно использовать неожиданный Дар Судьбы. Грех упустить свой Шанс после стольких усилий.
А когда всё получится – не забудьте сфотографироваться! Со счастливой улыбкой на лице! И всё будет хорошо!
Дар – как поручение
Дар – слово, имеющее в русском языке два смысла. «Дар» – как предмет дарения и «дар» – как одаренность.
К примеру, в английском это два разных слова: present (дар, подарок) и talent – способность, одаренность.
Впрочем, есть слово «gift», означающее и то и другое.
Попробуем разобраться, в чем отличие этих двух значений и в чем их сходство.
* * *
«Бойся данайцев, приносящих яйцев» – это строчка из записных книжек Ильфа.
Не имеющая ни предыстории, ни продолжения.
Просто сказано и записано писателем, так сказать, на будущее. Не вошедшая никуда, ни в один из законченных Ильфом и Петровым текстов, но оставшаяся в памяти маленьким словесным брильянтом. В России эти слова знает каждый интеллигентный человек.
Возможно, это как-то связано с известным выражением «не путайте божий дар с яичницей». Кстати, это выражение имеет то ли арабские, то ли французские корни. Хотя, на мой взгляд, это выражение чисто российское, и искать здесь этимологические корни ни к чему.
Так же как и в «данайцах, приносящих яйцев».
На Западе это выражение не знает никто, перевести это ни на один язык невозможно.
Зато на Западе каждый человек знает: Timeo danaos et dona ferentes.
То есть: «Бойся данайцев, дары приносящих».
Это все знают и в России.
Данайцы – это греки, они же ахейцы. По совету Одиссея они соорудили здоровенного коня и подарили его троянцам. Наивные троянцы приняли подарок, ну а ночью, ясное дело, из Троянского коня посыпались вооруженные люди (по некоторым легендам – 3000 человек), они перебили стражу, открыли ворота, и Троянская война была проиграна.
Конечно, это легенда, миф, вымысел. Представить себе деревянного коня, в котором поместились бы 3000 вооруженных воинов, весьма затруднительно.
Но дело здесь не в правдоподобии, а в моральной дилемме: принимать ли подарок? Всякий ли подарок благо? От кого подарок – хорошо, а от кого – плохо?
Мы не будем тут рассуждать о недавних законах про ограничения на подарки для российских чиновников. Это очень смешные законы – но это не наша тема.
А вот о приметах в этой области стоит сказать.
Существуют целые списки предметов, которые, по народным приметам, нельзя дарить. а, стало быть, нельзя и принимать. Причем у разных народов, и даже в разных семьях эти списки совершенно разные.
Назову только то, что в ходу в нашей семье.
Нельзя дарить ничего острого и колющего. Считается, что это разрушает некую ауру, некую волшебную пленку между людьми. У нас в семье даже нельзя передавать друг другу нож или вилку, не важно какой стороной. Надо, чтобы один человек положил предмет на стол, а другой его взял.
(Замечу, что на Кавказе все время дарят ножи, кинжалы и прочее холодное оружие, и никого это не смущает).
Ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек или пустую сумку. Туда надо обязательно что-то вложить. Лучше всего деньги. Иначе поссоритесь.
Нельзя дарить носовые платки. Это к слезам – непонятно почему. У нас это запрещено.
Нельзя дарить жемчуг, это тоже к слезам. Мы в нашей семье боимся жемчуга, тоже по непонятным причинам. Однажды я подарил жене жемчужное ожерелье. Жена его порвала и бросила в мусорное ведро.
Ну и зеркала. В зеркалах есть что-то мистическое, с ними лучше не связываться.
* * *
Бабушкины суеверия, скажете вы. Ну да, конечно, суеверия.
Однако мы им следуем, и дети наши следуют, и будут следовать внуки.
Сам акт дарения, начиная с подарка авторучки или бутылки дорогого коньяка и кончая дарением острова, самолета или яхты – всегда некий таинственный акт перехода из рук в руки чего-то, что уже никогда не вернется назад…
* * *
Но я хотел поговорить о другом. О другом значении слова «дар».
«Дар» как дарование, как способность, как талант. Дар как милость божья.
Это всё понятные синонимы; наверное, есть и еще какие-то слова в этом синонимическом ряду, и все они означают одно и то же.
Если нужно короткое определение, то примерно так: дар – это данная богом (судьбой, творцом) некоему человеку способность что-то делать.
Совсем необязательно это дар творить или заниматься какой-то художественной, артистической деятельностью.
Тут миллион вариантов.
И дар командовать, и дар тачать сапоги. И дар играть в шахматы, и дар любить. И дар слова, и голос – как божий дар. И множество других «даров», которые могут быть у человека.
Если же нужно длинное определение дара, то вам придется перечитать гениальное сочинение Владимира Набокова – роман «Дар». Это его последнее сочинение на русском языке, и, безусловно, абсолютная вершина Набоковского творчества и всей русской литературы двадцатого века.
Не буду здесь заниматься пересказом этого романа, это, кстати, и невозможно сделать. Его, чтобы понять, надо прочитать от начала до конца и, возможно, не один раз.
Конечно, этот роман – не исчерпывающий ответ на вопрос «Что такое дар?» В романе идет речь только о литературе и литературном творчестве.
Если бы героем романа был художник или композитор, то всё было бы немного по-другому.
Но суть бы осталась прежней.
Набокову, кажется, как никому удалось здесь проникнуть в суть работы Творца, заглянуть туда, куда еще никому не доводилось докопаться. Его анализ глубок и беспощаден, его слова, несмотря на кажущуюся сложность и многозначность, необыкновенно просты, логичны и точны.
* * *
А вот еще одно определение того, что такое дар.
Короткая история.
Вскоре после смерти моего тестя, знаменитого переводчика и публициста Льва Владимировича Гинзбурга, был вечер его памяти в Большом зале ЦДЛ.
Это был 1980 год.
Собрались многие известные люди той поры, писатели, поэты, переводчики.
Среди собравшихся был замечательный писатель Юрий Давыдов. Увы, наверное, сегодняшним молодым людям это имя мало что скажет. А в свое время его книгами («Глухая пора листопада», «Герман Лопатин», «Соломенная сторожка», «Бестселлер») зачитывалась вся интеллигентная публика 70-х – 80-х годов.
Так вот Юрий Владимирович Давыдов пришел на этот вечер и сказал с трибуны короткую речь. И мне врезалась в память одна его мысль.
Дар – это поручение. Поручение, которое бог дает людям.
У каждого человека – разные поручения.
Есть люди с простыми поручениями – честно жить, заботиться о родителях, воспитывать детей.
У кого-то поручения посложнее – руководить компанией или организацией, или войском, не поддаваться коррупции, соблюдать все законы – и божьи, и человечьи, заботиться о своем добром имени.
Самые сложные поручения – у творческих людей, у тех, кто создает что-то словами, красками, звуками. У них самая трудная ситуация, самое невыполнимое поручение: творить не переставая, не обращая внимания на обстоятельства, не предавая своей профессии, не поддаваясь соблазнам деньгами, не отклоняться в сторону под ветрами политики и бизнеса, не опускать свою артистическую планку, оставаться самим собой.
Понятно, что при этом надо быть достойным человеком, то есть выполнять все пункты из более простых поручений…
* * *
Возможно, излагаю неточно, и, конечно, не дословно. Но смысл был именно такой.
Еще раз повторю, меня это проняло. Я пытался потом найти какие-то отголоски этих мыслей в текстах Юрия Владимировича, но, увы, ничего не нашел. Но я это слышал своими ушами, это было сказано при мне. Впоследствии я не раз цитировал эту мысль и интерпретировал её каждый раз по-новому.
И сейчас подтверждаю: в этом есть глубокий смысл.
Дар – да, конечно, это подарок бога. Но подарок особый.
Подарок «под расписку».
Пожалуйста, распишитесь, что вы получили «дар сочинителя» (или спортсмена, или математика).
А теперь каждый год приходите и отчитывайтесь – как используете Дар. Не испортили ли что-то в нем? Не использовали ли его в ущерб кому-то? Или самому себе? Какую пользу вы принесли своим Даром – себе, своим ближним, всему человечеству?
И одаренный человек регулярно должен отвечать на эти вопросы.
Нет, никуда ходить не надо. И писать отчеты не надо. Ведь бог (Демиург, Творец, Судьба, любое имя, которое вам нравится) – он всегда рядом, он внутри вас. И отвечать на вопросы надо только честно. Здесь всё сразу видно, не надо никакого детектора лжи.
* * *
Если всё в порядке, если не врете и не пытаетесь соврать, то Великий Даритель (Бог, Демиург и т. д.) может дать вам бонус. Дар-Премиум. Может создать условия, при которых вашу книгу издадут, устроят выставку ваших работ, сыграют вашу симфонию. Всё в ваших (в его!) руках.
* * *
Ну а если вы используете свой Дар нечестно, в своих книгах воспеваете подонков и мерзавцев, ваши картины – это в основном портреты «великих кормчих», а ваша музыка доставляет удовольствие гопникам и шпане – то дела плохи.
Нет, они как раз могут быть очень хороши в данный момент вашей жизни, у вас куча денег, толпы поклонников, роскошная жизнь.
Но знайте – это всё ненадолго. Ну, может быть, до вашей физической смерти. А потом внезапно всё выяснится, и станет ясно, что вы использовали Дар нечестно, не выполняя тех условий, которые вас просил соблюдать Великий Даритель.
И ваше имя будет исключено из списков Достойных. И ваши дети будут стесняться носить ваше имя. И постепенно вы исчезнете в реке Лете, или «в Летейской библиотеке», как любил говорить Набоков.
* * *
Кстати, вернусь ненадолго к Набокову, к его эмблематическому роману «Дар». Вот фрагмент, где удивительно точно описано как работает «Дар», в данном случае дар поэта Федора Константиновича Годунова-Чердынцева, но на самом деле его alter ego, писателя Владимира Набокова, и – сквозь него – всех пишущих и сочиняющих:
«Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня – я признан.
Признан!
Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие… Звук «признан» мне собственно теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и. второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, всё улетело, я не успел удержать.
Оставлю это без комментариев. Понимающий – поймет.
* * *
Как человек, всю жизнь пытающийся заниматься творчеством (по отношению к себе это слово всегда выглядит высокопарно и нелепо), я всегда пытаюсь не только что-то сочинять, но и анализировать то, что делаю. И это – самое трудное. Сочинительский рефлекс включается нерегулярно, спорадически, иногда очень вяло, невнятно, и вдруг набирает обороты, разгоняется, и «глупая вобла воображения» вдруг превращается в несущегося льва, нежную лань или даже в сверхзвуковой самолет. Отчего это происходит – никто не знает. Некоторым творцам для этого нужны алкоголь или наркотики, некоторым – красивые пейзажи (горы, море, цветы), некоторым, я думаю, нужны красивые женские (или мужские) тела.
Но я принадлежу к категории сочинителей, которым не нужно ничего. Ну никаких дополнительных стимулов. Нужна бумага, перо, чернила, или компьютер.
Нет, одна вещь всё-таки нужна.
Это тишина.
Чтобы за окном не играла музыка, никто не разговаривал, не пел, чтобы не было радио или телевидения, или какого-то другого источника звука.
Пение птиц, пожалуй, допускается.
И всё!
И мой дар (который убог, и голос мой негромок, но я живу, и на Земле моё. и так далее, по Боратынскому) заводится, и работает, и иногда даже воспаряет.
Но мне никогда не описать так точно, как это сделал Набоков.
* * *
И в конце – маленький эпизод из моей личной жизни. Эпизод, связанный с Даром в обоих смыслах этого слова. Эпизод, пожалуй, с мистическим оттенком.
Итак, в 1974 году (я жил тогда в Ленинграде), мне довелось быть знакомым с одним человеком. Не буду его называть, это был старый художник. У нас сложились хорошие отношения, иногда встречались, о чем-то беседовали.
И однажды он решил сделать мне подарок – ручку. Довольно дорогую ручку, перьевую, которую надо было заправлять чернилами. Чернила продавались в таких небольших стеклянных бутылочках. В то время перьевые ручки уже вышли из моды, уже появились в большом количестве шариковые, и всем стало неохота пользоваться чернилами, которые к тому же часто проливались и пачкались.
Но мне художник подарил хорошую непротекающую ручку с золотым пером. Или типа золотым.
Уж не помню, какой она была фирмы, тогда я ничего в этом не понимал, но вполне возможно, что это был какой-нибудь «Монблан», «Паркер» или «Давидофф».
И я решил её приспособить для письма нот. Первое сочинение, которое я написал этой ручкой, был клавир моей оперы «Орфей и Эвридика»…
Эта опера изменила мою жизнь.
Я хотел пригласить художника на премьеру моей оперы в 1975 году.
Но он внезапно умер. Впрочем, ему было сильно за 80.
Ручка была со мной несколько лет. Я берег её как зеницу ока и только ею писал свои сочинения.
А потом она исчезла. Бесследно. Я очень переживал. Но она не нашлась.
Впрочем, вполне возможно, ещё найдется. Может, лежит где-то в ящике моего огромного архива.
Вот такая история одного Дара.
Дар напрасный, дар случайный…
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам.
Соблазненные и покинутые
(или Трудная мужская жизнь в период тотального харрасмента)
Начиная с раннего детства мы всё время чем-то соблазняемся.
Собственно, весь наш жизненный путь – это коллекция или набор соблазнов. Нас всё время куда-нибудь тянет, что-то прельщает, затягивает, ведет, кружит, вовлекает, втягивает, всасывает… а потом мы оглядываемся, и понимаем, что это и была наша жизнь. Если задуматься, многие выборы в нашей жизни, многие дороги, которые выбираем, объясняются именно тем, что идем туда, где соблазнительней.
Соблазны ведут нас по жизни, иногда мы и сами об этом не подозреваем, но интуитивно идем туда, куда ведет наше чувство, одно из наших чувств.
Чувств у человека, как известно, пять: обоняние, вкус, осязание, слух, зрение.
Хотя есть теория, что на самом деле их девять, включая труднопроизносимые эквибриоцепции или проприоцепции.
Но примем традиционную версию – пять чувств.
Что важнее? Что главное?
Что ведет к соблазну?
У кого как.
У всех по-разному.
* * *
Это может быть обоняние.
Да-да, поговорим именно об обонянии. О запахе, как основном источнике соблазна.
Конечно, запах может потянуть в разные стороны. Например, запах еды бывает очень соблазнителен. Он часто меняет жизнь человека. Чтобы насладиться запахом анчоусов или сыра рокфор, люди эмигрировали из Советского Союза.
А есть ещё влекущий запах моря, запах цветов, запах новой книги, запах нового автомобиля. На этот счет есть целая библиотека.
Есть и грустные запахи. Например, запах пожара. Или запах лекарств.
А запах денег? Он играет в жизни важнейшую роль. Ведь каждый проект, каждая сделка пахнет деньгами, которые, как известно, не пахнут.
Но мы сосредоточимся лишь на одной грани этой темы, которая именуется «Запах Женщины».
Как можно соблазнить мужчину, используя его обоняние?
Тут целая наука. От Аристотеля до Шекспира, от Марселя Пруста до Патрика Зюскинда. Цитировать можно без конца. Мировая литература переполнена рассуждениями о таинственной природе обоняния.
Интересно, что у некоторых великих были странные отношения с запахами. Так, Фридрих Шиллер не мог писать стихи, если у него в ящике стола не лежало несколько гнилых яблок.
Обоняние дает нам возможность получать удовольствие от приятных запахов, а иногда способно спасти нам жизнь – не дать выпить уксус вместо водки, подсказать, что не стоит есть пирожок с тухлятиной, или напомнить, что при запахе газа нельзя щелкать выключателем. Однако работает этот механизм очень сложно, ароматы зачастую обманчивы, и часто – очень соблазнительны.
Заметили ли вы, что женщина нравится вам прежде всего по выбранными ею духами, этот запах достигает вас раньше, чем вы приблизились к женщине, и именно он на какое-то время запоминается и становится для вас своего рода обонятельным аватаром этой женщины, её символом, её имиджем для вашего носа. И этот запах вы можете пронести сквозь многие годы, иногда сквозь всю жизнь.
Запах – старейший партнер соблазна, известный с древнейших времен. Все эти духи, притирания, мази, дезодоранты, капли, лосьоны и прочие пахнущие аксессуары делают женщину привлекательной, особенно в сочетаниях с естественным запахом пота и различных феромонов.
А что такое феромоны? Это важнейшая часть соблазна.
«Я не знал, что феромоны в духи добавляют совершенно легально. С одной стороны, я был обычный клерк, перекладывающий бумаги, но другая половина моего мозга была уверена, что я потрясаю своим метафорическим копьем, а вокруг бесстыдно пляшет сотня готовых к спариванию самок, опрыскивающих меня выделениями своих желез…»
Это из романа Пелевина АЙФАК 10.
Искусство соблазна – это умение соблазнительно пахнуть. И опытные женщины знают, как этого достичь.
Каждая жена знает как пахнет её муж, каждый муж тонко чувствует изменения в запахе своей жены. На эту тему масса романов и кинофильмов. Изменение запаха – изменение человека, и возможная перемена участи (возможны скандал, драка, развод).
Даже каждый сайт, утверждает Пелевин, имеет свой запах, правда, в особом, электронном смысле. и есть сайты мужские и женские, и они часто «обнюхиваются..»
WARNING: при помощи запаха женщина может вас соблазнить. И затащить в постель. А после обвинить вас в харрасменте.
Аналогично – хотя и по-разному – используются для соблазна остальные четыре чувства.
Вкус – ну конечно, мы все любим вкусно поесть. Если встреча с женщиной обещает ещё и вкусный обед, это плюс. Это соблазн.
WARNING: при помощи вашей любви к вкусной еде женщина может вас соблазнить. И затащить в постель. А после обвинить вас в харрасменте.
Зрение – о, да! смотрите глянцевые журналы. Не обязательно «Плейбой» или «Пентхауз», не обязательно какое-то порно. Просто фото с красивыми девушками, на фоне автомобилей или апартаментов – всегда тревожит. И соблазняет. Женщины (и пиарщики) тысячелетиями владеют искусством показывать что-то, немного, чуть-чуть, но так, что сердце мужчины заходится и волнуется. Показывать все – женщины это знают – не надо. Это неинтересно, сразу наводит на мысли то ли о женской бане, то ли о врачебном кабинете. Наличие в Германии совместных мужско-женских бань практически лишило нынешних немцев основного инстинкта, они занимаются сексом исключительно ради размножения…
И будьте осторожны! Ваши взгляды на полуобнаженную женщину могут вас сбить с толку, снять вас с предохранителя. И эта женщина может вас соблазнить. А после обвинить вас в харрасменте.
Слух – ну тут, конечно, музыка вступает в свои права. Сколько её, этой соблазняющей музыки, передают наши радиоприемники, сколько чарующих песен исполняют хрипловатые блондинки в наушниках наших плейеров и айподов? Сколько подобной искусительной и пленительной музыки я сам сочинил?
Да и без музыки. Просто слова. Стихи. Любовные монологи. Разве вы не замечали, как строки какого-нибудь Блока или Мандельштама, читаемые умелым актером, вдруг повергают вас в прострацию и заставляют иногда съехать на обочину и дослушать до конца?
Не знаю, кто выдумал, что девушки любят ушами, но кажется, это правда. Я в этом много раз убеждался. А мой коллега композитор Дмитрий Покрасс говорил, что стоило ему довести девушку до рояля и спеть ей: «Мы красные кавалеристы» – и девушка принадлежала ему уже через десять минут.
Но это было раньше.
А ныне, если ваши божественные звуки увлекут девушку, она легко может вас соблазнить. И затащить в койку. А после обвинить вас в харрасменте.
Ну и напоследок самое простое.
Осязание.
Прикосновение.
Притрагивание.
Поглаживание.
Похлопывание.
Пощипывание.
Да больше ничего и не надо.
Тут и в койку затаскивать не надо. Девушка тут же звонит в полицию, и всё – случай харрасмента обеспечен.
* * *
Кажется, ясно: любое наше чувство ведет к соблазну. А соблазн к харрасменту. А далее уже к штрафу, к аресту, к лишению работы, к разрушенной карьере, далее без конца.
У всех по-разному… У каждого свой соблазн. Свое ведущее чувство, одно из пяти. Оно неизбежно ведет к соблазну.
То есть к греху.
Как всегда мастерски сформулировал Вознесенский:
Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась
соболезнуй несоблазненным.
Человека создал соблазн.
* * *
А всегда ли соблазн – грех?
А если я соблазнен своей работой?
Или, скажем, прекрасной сигарой?
Ведь если это не грех – значит, не соблазн? Просто так, желание, влечение, просто природная потребность. Является ли соблазном желание поесть? Или сходить в туалет?
Вряд ли. В этом нет никакого греха.
А желание иметь секс с какой-нибудь знакомой женщиной? Или с незнакомой? Которую ты видел в кино? Или видел фото в журнале?
Тут сразу ясно – грех. Это четко сформулировано еще в Библии, и названо словом «прелюбодеяние». Секс с любой женщиной (кроме жены) – это грех. Да и с женой, наверное, грех, если после этого не появляются дети.
Сказал евангелист Матфей: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
А следующий стих у Матфея еще круче: Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
Вот так вот.
Жёстко.
А если не правый глаз, а левый? А если вообще не глаз, а совсем другой орган вожделеет. Вот так прямо его и оторвать? И выбросить нафик? Что он тут вожделеет, понимаешь. Не надо отвлекаться. Надо делом заниматься, строить счастливое будущее, заботиться о здоровье, о детях…
Стоп, стоп!
Какие дети? Какое здоровье? Какое будущее?
Ведь ничего этого на свете не будет, если в нас не будет этого чертова желания, соблазна, вожделения? Ведь бог в нас заложил всё это не случайно, и хоть назвал это грехом, и наказывает за это всех двуногих (начиная с выгнанного из Эдема бедняги Адама,) но очень хитроумно это греховное пламя всё время разжигает.
Потому что богу нужно, чтобы мы размножались. Это главное, что его интересует.
Как только человек – и мужчина и женщина – в связи с возрастом утрачивает свою детородную функцию, бог теряет к нему интерес. И человек начинает вянуть. И внешне и внутренне. И тихо помирает, уже интересуя только ближайших родственников.
Что нам делать, несчастным двуногим, в которых бог вложил грешные чувства, и сам же запретил их использовать по назначению?
Мужчины, протестуйте!
Женщины, объявите публично, что вам нравится, когда за вами ухаживают.
Да, насилие – ужасно!
А флиртовать, ухаживать, бегать, приударять, ухлестывать, волочиться, заботиться, лелеять, нежить, холить, прислуживать, услуживать, угождать, увиваться, вертеться, ласкаться, любезничать, – разве это плохо?
Подскажите, как быть нам? Соблазненным и покинутым?
Грустно жить на свете, господа!
Закулисные тайны
Когда наш главный редактор «Русского Пионера» предлагает тему для колонки, я прежде всего интересуюсь – что это за слово? Откуда оно взялось, какие у него корни? Смотрю разные этимологические словари, читаю филологические исследования – может, «забарахтается в тине сердца глупая вобла воображения»?
В случае с «кулисами» эти исследования почти ничего не дали. Словарь Фасмера, самый авторитетный этимологический словарь русского языка, сообщает, что это слово немецкого происхождения (Kulisse), также есть связь с французским словом coule «скользить» и с латинским colare «цедить».
Оба этих ответвления никак нас не наводят на смысл нынешнего слова «кулисы».
Покопавшись немного, обнаруживаем, что это слово – «кулисы» – имеет много значений в самых разных областях человеческой деятельности. Оказывается, кулисы есть и в геологии, и в геоморфологии, и в медицине, и в этнологии, (индейцы КУЛИ), и вот эта самая штука, которую мы дергаем в автомобиле, когда переключаем скорость – это тоже называется «кулиса».
А есть еще и музыкальное слово «кулиса» – и относится это слово к одному из тяжелых медных инструментов – тромбону. Поясню для тех, кто не знает, что вот эта самая металлическая штука, которую тромбонисты активно двигают, а потом снимают её, чтобы слить слюну – вот она и называется кулиса.
И, конечно, кулиса есть прежде всего в театральной жизни. «Часть декорации, которая вместе с пагодами образует одежду сцены», пишет скучная Большая Советская Энциклопедия. Словарь Ожегова упоминает (помимо традиционного театрального объяснения), что есть понятие «за кулисами», которое означает нечто тайное, скрытое.
Наконец, Словарь языка Пушкина свидетельствует, что Александр Сергеевич употреблял это слово в своем творчестве 5 раз, самое знаменитое, конечно, вот это: «почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру» и еще раз задумаешься – боже мой, Онегину было в этот момент года 24, и он уже «почетный гражданин кулис», то есть не просто завсегдатай театра, но и постоянный посетитель таинственных кулис, который знаком с балеринами и уезжает с ними на лихаче к цыганам.
О времена, о нравы!
В наше время 20-летние продвинутые молодые люди не ходят в театры и не интересуются балеринами, они, скорее, пытаются соорудить какой-нибудь стартап, и как-нибудь заработать бабла, чтобы купить модный прикид, последнюю модель айфона или классную тачку…
* * *
А я помню времена, когда кулисы, вернее, «закулисье» театра было манящим и тревожащим воображение.
И конечно, всё-таки основное использование слова «кулисы» именно во множественном числе (хотя в театре вполне в ходу и «левая кулиса», и «правая кулиса), но в метафорическом смысле – конечно, кулисы.
И даже чаще – за кулисами.
Вот здесь и начинается тайна.
* * *
Я не был театральным ребёнком, о которых говорят «он вырос за кулисами». Нет, я вырос в семье инженеров, которые ходили на обычную работу, учился в обычной школе в городе Ташкенте.
Правда, только до 8 лет. Потом меня приняли в престижную музыкальную школу при Ташкентской консерватории, и с тех пор моя жизнь неразрывно связана с музыкой.
Но никаких кулис там не было, театром и не пахло. Было довольно трудное и неромантичное исполнение гамм и этюдов, и занудное пиление своего инструмента (учился я на виолончели).
Однако попал за кулисы я довольно рано. Это было случайно, но, как известно, случай – это орудие бога.
В Ташкенте, в центре города находился огромный оперный театр имени Навои (он и сейчас там находится, я думаю. Хотя, наверное, таким уж огромным он мне не покажется…).
Оперный театр был частью культурной политики Коммунистической партии и лично товарища Сталина. Вождь, как известно, оперу любил, ходил в Большой театр довольно часто, и в 30-е годы все столицы союзных республик обзавелись оперными театрами.
Кто туда ходил и ходил ли вообще – мало кого волновало. Главное – театр был, штат был укомплектован, был балет, оркестр, хор, всякие цеха, на всё это тратились огромные деньги.
* * *
В Ташкентском театре, рассказывали мне старожилы, было «Правило Восьми». Это означало, что спектакль начинается только в случае, если в зале есть 8 человек. Если 7 – спектакль отменялся. Надо заметить, что в спектакле участвовало человек 100, а то и больше, ведь это же опера, хор, оркестр, балет и т. д.
Так вот артисты смотрели в щелочку занавеса и считали зрителей в зале. – Так, пока 6 – есть шанс. – Уже 7. – Ах, черт, пришел Восьмой. м-да, придется играть.
Все расходились по местам.
* * *
Особенно Коммунистическая партия настаивала, чтобы ставились оперы на местные темы, и написанные местными композиторами. В связи с отсутствием таковых приглашались специально обученные люди из центра, которые и писали эти национальные оперы, иногда анонимно, иногда в соавторстве. Это была широко развитая индустрия, и сейчас даже трудно себе представить, как работал этот отлаженный механизм советской многонациональной культуры.
Выбирался поэт-писатель, так сказать, национальный классик, в каждой республике был такой, а то и два или три. Ему заказывалось либретто – конечно, по национальному эпосу или по каким-нибудь историческим событиям, связанным с установлением советской власти.
Потом выбирался местный композитор, тоже из корифеев, и он писал собственно оперу. По большей части он писал, скажем мягко, мелодии, а реальный клавир и партитуру делали совсем другие люди.
Далее была премьера, которая имела большую всесоюзную прессу, затем декада этой республики в Москве, спектакль в Большом театре или во Дворце Съездов, и целая горсть наград, премий, званий, дач, автомобилей, и многого другого… Это происходило из года в год, и механизм работал безотказно.
Но это всё я узнал потом.
А пока меня ребенком водили на спектакли театра Навои, и я посмотрел тогда какие-то детские оперы типа «Морозко», а также балет «Щелкунчик».
Но однажды. У моих родителей были знакомые, семейная пара, у них был сын моего возраста, с которым мы приятельствовали. А его отец, дядя Сеня, работал в театре Навои завпостом.
О, теперь-то я знаю, как важен в театре завпост, то есть заведующий постановочной частью, а тогда понятия не имел, что это такое, и думал, что он заведует каким-то постом, то есть стоит на посту, что-то вроде сторожа.
Так вот, однажды дядя Сеня позвонил, поговорил с моей мамой, назавтра я был приведен в театр и в первый раз в жизни зашел туда не с главного, а со служебного входа.
И впервые попал за кулисы.
В Театре ставилась опера Петра Ильича Чайковского «Черевички».
Честно сказать, я помню всё это очень смутно, а опера впоследствии оказалась довольно слабой, на мой вкус. Но это говорит сегодняшний взрослый человек, а тогда мальчик лет одиннадцати был в полном восторге. Мы, несколько мальчишек, играли свиту Беса, бегали за ним, держали за хвост, он прятал какой-то мешок в печку…
Конечно, символично, что это был Бес. В каком-то смысле был в этом некий бесовский соблазн. Этот «бес музыкального театра» засел во мне глубоко, я даже и не подозревал, что в тот момент прошел инициацию, был инфицирован «геномом» музыкального театра, и пронес его через всю жизнь.
Неудивительно, что в Москве уже несколько сезонов идет моя опера «Мелкий Бес» на Камерной сцене Большого театра. Этот Бес – явный потомок того Беса, которого я держал за хвост в ташкентском театре.
* * *
Ну а следующим этапом моего приближения к миру закулисья был Москонцерт.
Конец 60-х – начало 70-х, я студент Института им. Гнесиных и играю на рояле где придется, чтобы заработать деньги.
И по линии Москонцерта гастролирую по СССР.
О, это было жестко.
Мне, юному композитору (о том, что я композитор, на тот момент знал только я и мои ближайшие родственники), приходилось играть что попало, часто аккомпанировать с листа каким-то немыслимым певицам и певцам, практически как в той миниатюре Лёвы Оганезова, когда «тут вы играйте, а тут не играйте, а здесь на полтона выше, а тут пятно, это мы селедку ели». На сцене это всё очень смешно, а в жизни, когда впервые видишь человека и должен ему тут же аккомпанировать, бывало совсем не смешно.
И мы колесили по Московской области. А потом чёс по Дальнему Востоку, а потом по гарнизонам Урала и Сибири.
И чего только я не насмотрелся в этих поездках!
Вот уж, поистине, закулисная жизнь!
Например, пришлось мне аккомпанировать знаменитому в то время певцу Кола Бельды. Небось, молодежь и не слыхала о таком, а тогда он был довольно популярен, концертов у него было много. Пел он всегда одно и то же. Сначала песню о Нарьян-Маре, потом исполнял нечто вроде ненецкого фольклора с какими-то диковинными звуками. А в конце, конечно, песню «А олени лучше». Все это проходило на ура, и на праздники у него было 6–7 концертов в день (это далеко не рекорд, Кобзон давал в эти же дни по 18 концертов). Где мы только с Колей не мотались, от Дворца Съездов и Колонного зала до колхозных клубов.
И вот однажды приезжаем мы в какой-то такой клуб, и я первым делом интересуюсь: А пианино у вас где? Дело в том, что никаких фонограмм в то время не было, да и микрофоны были большой редкостью, всё пелось живьем, под живой аккомпанемент. И пианист очень зависел от качества инструмента. Иногда вдруг попадались роскошные рояли «Беккер» или «Дидерихс», оставшиеся от старых времен, но чаще всего это были вдребезги разбитые, с отсутствующими клавишами и педалями «Лиры» и «Красные октябри».
…Зав. клубом махнула рукой: Вон он, ваш рояль, на сцене стоит.
Я подошел. Да, на вид был какой-то рояль, непонятной фирмы, странного цвета. Я сел на стул, открыл крышку и.
Клавиш там не было. Рояль был бутафорский. То есть всё выглядело как настоящее, только внутренности, струны, молоточки отсутствовали. Очевидно, это был рояль из какой-то театральной постановки, где кто-то из актеров наяривал на нем нечто под записанную музыку.
Но у нас концерт через десять минут. Пришла публика, человек 40, все пожилые люди.
– Что будем делать, Коля? – говорю я.
– А ничего, как-нибудь споем. Ты мне, главное, ноту дай.
Это был уникальный концерт.
Я сидел за пианино, но играл буквально, «на губе». То есть я давал ему ноту, с которой начинать, он пел, а я буквально «белендрясил», то есть изображал аккомпанемент голосом, постукивал по молчаливым клавишам, подтоптывал ногами.
Получилось довольно лихо.
Никто ничего особенного не заметил.
* * *
Конечно, наиболее интересной частью была, скажем так, закулисная любовно-эротическая жизнь.
Тут у меня наберется много историй, на целую книгу.
Но пока только одну расскажу.
Одно время я играл в коллективе, в котором было человек 20. Это был сборный эстрадный концерт с неким сквозным сюжетом и каждый артист имел свою роль и свое место в программе. Там были и юмористы-ведущие, певцы и певицы, музыкальный ансамбль, и даже силачи-циркачи. Подобные бригады в те годы пользовались большим успехом, особенно если был хотя бы один «раскрученный артист».
У нас такой был, не буду его называть (он давно в могиле), и мы благополучно мотались по необъятным просторам нашей родины, зарабатывая свои полторы ставки за концерт. (Ставка у меня как артиста высшей категории была 10 рублей).
В программе у нас работала жена этого главного артиста. Она была сравнительно молода, лет 35, а ему под 60. Она выходила в первом отделении и пела две песни, чтобы заполнить паузу. Женщина она, впрочем, была знойная, с роскошной фигурой и вызывающей грудью, и как говорят в таких случаях, могла просто «ходить-ходить» по сцене.
И надо же, чтобы в нее влюбился один из наших цирковых артистов, молодой неженатый парень, лет на двадцать моложе своей дамы. Но времени для свиданий у них не было. Они только переглядывались, обменивались прикосновениями, улыбками – и всё. После концерта Солист забирал Мадам к себе, они шли в гостиницу, в общих пьянках-посиделках не участвовали.
Все вокруг всё понимали, и молча следили за развитием событий.
Решение было найдено. Поскольку у них не было возможности встречаться ни до концерта, ни после, они стали встречаться «во время». Они оба были заняты в первом отделении, а Солист завершал второе, был на сцене минут двадцать, и наши влюбленные решили ловить этот шанс. Как-то договорившись, как только Солист шел на сцену, она вбегала в его гримерку, и что они там делали – можно себе представить. Главное – не опоздать к общим поклонам в конце, но это было просто, в каждом зале была внутренняя трансляция, и все знали, какую песню наш солист поет последней. К этому моменту все собирались, охорашивались, – и дружно, с ослепительными улыбками выходили на финальный поклон. Поездка была долгая, полтора месяца, и эта мизансцена повторялась каждый день.
Коллектив замер в ожидании. Все понимали, что к добру это не приведет. Наш Солист был человек крутой, заслуженный артист, лауреат со связями, он ничего не боялся, и мог спокойно стереть нашего циркача с лица земли.
И вот однажды…
Ах, как я понимаю читателя! Как хочется кровавой развязки! Так и представляешь, что Солист вдруг сократил свое выступление, и вместо последней песни ворвался в гнездышко наших голубков, кого-нибудь застрелил или изувечил.
Или трансляция вдруг где-нибудь в Самаре вдруг перестала работать, а наши не услышали.
Или кто-то из артистов заложил любовников, Солист рассвирепел и выгнал ее из дому, или хотя бы из гостиницы.
Здесь масса вариантов для драматурга, можно выбрать любой ход, и всё будет вполне правдоподобно.
Но я не драматург. Я всего лишь летописец, только фиксирующий происходящее так, как это было.
Так вот, ничего этого не было. Поездка шла к концу, ежедневные сексуальные минутки стали рутиной, никто уже особенно не переживал. А потом поездка закончилась и все разъехались по домам. Циркач уехал выступать в каком-то провинциальном цирке, Солист и Мадам поехали отдыхать в Сочи.
Насколько я знаю, никакого продолжения эта история не имела.
Вот такая довольно обычная закулисная жизнь.
* * *
Но самая моя любимая закулисная жизнь – это когда я автор. А театр ставит мое произведение.
Вот тогда закулисы театра становятся для меня раем, сказкой, волшебством.
Потому что я превращаюсь в Бога, в Творца, в Демиурга. Потому что всё зависит от меня. Быстрее, громче, теплее, светлее, острее и все остальные эмоциональные слова – это я! Я автор, я это придумал! Захочу – сменю эту артистку. Или этого артиста. Захочу – сменю художника. Или дирижера!
На самом деле всё не так. Так думают обыватели, представляющие себе композитора, едущего на Роллс-Ройсе, летящего в собственном бизнес-джете на премьеру в Лос-Анжелес, и дающего по скайпу свои указания режиссеру в Берлине.
В реальной жизни таких людей нет. Ну, или их крайне мало. Эндрю Ллойд Уэббер, Лин Мануэль Миранда, Элтон Джон.
А все остальные – это скромные работники закулисного мира. Композитор – профессия одинокая, в театр, где его ставят, он приходит за несколько дней до премьеры, а то и прямо на премьеру. И никаких особых решений композитор в театре не принимает. Его дело написать музыку и сдать ее руководству театра. Далее всё решают продюсеры, режиссеры и дирижеры.
Но всё равно – я люблю свою профессию.
И я люблю таинственный мир кулис. Здесь удивительные люди, красивые парни, волшебные девушки. Я люблю наблюдать за ними, слушать их, участвовать в их вечеринках.
Главное – не переступать черту. Не пытаться стать одним из них, не сближаться, не сливаться.
Это другой мир. Другая сторона Луны. Этот мир затягивает и манит.
Но будь осторожен, путник! Не задерживайся, иди мимо! Садись на свое место в зале! И наслаждайся тем, что тебе покажут люди из закулисья.
Но не пытайся стать как они.
И всё будет хорошо.
Но самое сладкое это быть автором… то есть приходить за кулисы в качестве автора, когда всё это придумал ты, и все от тебя зависят… а ты такой важный, именно ты демиург, творец, диктатор… именно этого я хотел в жизни.
Мне доводилось быть за кулисами и оперы и балета… и оперетты и мюзикла. И быть именно этим демиургом. И это свое место я ни на что не променяю…
Такие разные компромиссы
Может быть, мы сами не отдаем себе в этом отчет, но компромиссы – неизбежная часть нашей жизни.
Мы прибегаем к ним практически ежедневно.
Торговые компромиссы
Самые простые компромиссы в жизни происходят при покупке или продаже. Здесь чаще употребляется простой глагол «торговаться» и высокопарное «идти на компромисс», казалось бы, ни при чем.
Тем не менее в подобных случаях это – синонимы.
Когда вы покупаете редиску на рынке, или автомобиль у дилера, или квартиру через агентство, вы всегда торгуетесь и примерно знаете, на сколько процентов можно опустить цену.
Если вам предлагают купить нечто за 1000 (неважно чего), а вы купили за 900 – это хорошо. Если за 800 – это очень хорошо. За 750 – вы суперстар!
Но если вам предлагают товар за 1000, а вы говорите – давай за… 23, продавец может разнервничаться.
То есть: в таких сделках все понимают, что есть «границы дозволенного компромисса».
В цивилизованном обществе существуют правила, неписанные, но твердые и незыблемые.
В цене, которую вам предлагают (или вы предлагаете), всегда заложена возможность для разумного компромисса. Как правило, это до 20 процентов.
Так обстоит дело в цивилизованном обществе.
Правда, границы между цивилизованным обществом и варварами очень зыбки, размыты. В любой момент нашей российской действительности (да не только российской. А арабы? А индусы? А китайцы?) вы можете столкнуться с продавцом, который возьмет ваш товар и исчезнет, не заплатив ничего. Или наоборот, возьмет ваши деньги, но ничего взамен не отдаст и пропадет вместе с вашей «покупкой».
Тогда все разговоры о «разумном компромиссе» становятся неуместными, вместо этого надо кричать «Караул!» или вызывать полицию…
Однажды у пирамиды Хеопса в Египте я соблазнился и купил скульптуру, изображающую сфинкса. Араб просил 100 долларов. Скульптура была большая и красивая, из черного дерева. Мы сошлись на сумме 40. Очень довольный, я забрал свою покупку. Она сломалась уже в номере гостиницы. Выяснилось, что она не из дерева, а из папье-маше. Вот так: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.
* * *
Конечно, я собираюсь здесь говорить не о торговых компромиссах.
Просто для начала я решил показать, что уступки в нашей жизни – вещь достаточно обычная.
Мы уступаем – нам уступают.
Мы проигрываем – но иногда вдруг неожиданно выигрываем.
Мы хотим получить выгоду, но внезапно ее упускаем. А потом вдруг получаем компенсацию «за упущенную выгоду». И тогда понимаем, что всё заранее предрешено, и бог все распределяет по справедливости.
Не надо торопиться и суетиться. Идти на компромисс только в крайнем случае.
Компромисс в политике
Безусловно, политика без компромисса не может существовать.
С древнейших времен политики, вожди, цари и прочие властители договаривались между собой. Речь шла о территориях и о драгоценностях (о золоте, например), о полезных ископаемых и о правилах проезда и провоза багажа.
Вокруг всех этих понятий всегда шел торг, и сегодняшний мир, его границы, его ландшафты, его недра, воды и небеса – всё это было разделено нашими далекими предками столетия назад.
Дележ происходит и сейчас, и, очевидно, будет продолжаться всегда, столько лет, сколько на Земле будет жить homo sapiens.
Компромиссы всегда – лишь временные решения. Они устраивают нынешние поколения властителей, но приходят следующие поколения и требуют всё переделать… И опять всё сначала – конфликты, отзывы дипломатов, войны, взрывы, убийства многих тысяч (иногда миллионов) людей.
Пока не найдется новый компромисс, который будет принят нынешним поколением властителей и тех людей, которые им подчиняются.
История человечества – история войн. Причиной войны может быть что угодно: красивая девушка (Троянская война), религиозная рознь (крестовые походы), расовая ненависть (Вторая мировая). В некоторых случаях война заканчивается чьей-то победой и созданием нового государства (американская война между Севером и Югом), в некоторых случаях проигрывают все, но карта мира перекраивается (Первая мировая).
В некоторых войнах компромисс возможен, война заканчивается мирным Договором (так заканчивались бесконечные войны между Киевским княжеством и Ордой) или воцарением новой королевской династии (так закончилась война Алой и Белой Розы, когда на английский трон сел малоизвестный дворянин Генрих Тюдор).
Но бывали случаи, когда компромисс был невозможен, один из противников уничтожался окончательно и навсегда – пример: нацистская Германия.
Хотя навсегда ли? Кто знает…
Компромисс в творчестве
Думаю, самая интересная область существования компромисса – это художественное творчество.
Здесь огромное поле для рассуждений, во всех странах, во всех культурах, во всех искусствах. Каждый человек, занимающийся Художеством (в любой области) знает, где находится граница, которую можно переступать, и знает, как бы так уклониться, чтобы к этой границе вообще не приближаться.
Кажется, что сказанное относится к странам с авторитарным режимом.
Кажется, что подобное отсутствует в свободных Западных странах.
Но это не совсем так.
Художник там, на Западе, действительно свободен и может делать что хочет.
Единственное, с чем он должен считаться – с рынком, с конъюнктурой на том рынке, куда он собирается выставлять свои произведения.
Будь то картины или скульптуры, музыка или стихи, книги, спектакли или фильмы – всюду есть жесткая иерархия, жестокая конкуренция, мафиозная клановость, стена коррумпированных критиков и псевдознатоков, которые не пустят никого со стороны.
Помните старый советский фильм «Чужие здесь не ходят»? Это точная формула того, как обстоит дело на Западе.
Так что художник свободен – но весьма условно.
Всегда есть что-то, что эту свободу ограничивает и заставляет идти на компромисс. Везде. Особенно в России.
* * *
С кем или с чем бывают компромиссы?
Серьезные компромиссы могут быть только с одной субстанцией.
С собственной совестью.
А всё остальное – ерунда.
Весь вопрос в том, позорный компромисс или нет? Стоило ли идти на компромисс или надо было держаться до конца?
Пастернак пошел на компромисс, а Мандельштам – нет. Пастернак понимал, что лучше залечь на дно, уйти в переводы, писать какие угодно лирические стихи, но не лезть в политику, а Мандельштам дерзко и бесшабашно написал стихи про Кремлевского горца. Кто был прав?
Здесь трудно сказать однозначно. На эту тему написано тысячи страниц, тома исследований.
И всё-таки сейчас, по прошествии времени, можно сказать, что жизнь Пастернака представляется построенной на более верном дискурсе: он прожил 70 лет (по тем временам вполне прилично), не узнал ужасов ГУЛАГа, «умер в своей постели», как сказал Галич, успел закончить свой огромный роман, и ничем себя не запятнал. Ну да, написал несколько строчек о Сталине, типа:
- И смех у завалин,
- И мысль от сохи,
- И Ленин, и Сталин,
- И эти стихи.
А кто не написал? В этом списке и Мандельштам, и Ахматова, и Твардовский, и Вертинский, и Тарковский – нет им числа.
Да, они все пошли на компромисс, это дало возможность выжить и творить, а после смерти Сталина – забить гвозди в его гроб…
Будем ли мы их осуждать?
Нет, не будем…Такое было время. И те, кто лезли на рожон, как Мандельштам (возможно, не осознавая опасности), подвергли себя тяжелейшим испытаниям, чудовищной смерти, и, конечно, ощущением у нас, потомков, незавершенной жизни, недописанных стихов.
* * *
Еще одна «поэма о сломанной жизни», еще одна «Повесть о Компромиссе» – жизнь Сергея Прокофьева. Великий композитор, один из моих любимейших.
Но эпоха сыграла с ним злую шутку и переломала ему хребет.
Расскажу кратко, желающие узнать подробности – поройтесь в интернете или в библиотеке.
Прокофьев после революции оказался за границей и имел там большой успех. Однако у него было два очень крупных соперника-соотечественника – Рахманинов и Стравинский.
В середине 30-х, под давлением НКВД, он решает переехать в сСср.
Ему было многое обещано и поначалу все обещания выполнялись.
Но он приехал не один, а со своей любимой женой, певицей, испанкой Каролиной Кодина (Линой) и двумя детьми.
Вот жена Прокофьева как раз очень не нравилась начальству и они женили его на другой, на Мире Мендельсон, а Лину посадили в лагерь.
То есть он официально был двоеженцем. Это обстоятельство даже имеет специальное название: казус Прокофьева.
Тут еще много всяких сочных подробностей, поройтесь, почитайте.
Но лишь одно обстоятельство не дает мне покоя.
С 1948 года, когда Лину посадили в лагерь, и до самой своей смерти в 1953 году Прокофьев палец о палец не ударил для ее освобождения, не послал ей посылки, даже не написал письма. Хотя мог бы. Ведь он общался с высшим начальством СССР, получал заказы и разные премии (в частности, Сталинскую премию в 1951 году). Неужели он не мог кому-нибудь шепнуть, спросить, как там моя Лина, передать посылочку, денег, в конце концов.
Но нет, история ничего такого не зафиксировала.
Впрочем, бог его наказал. Все его произведения после 1948 года шедеврами не назовешь. Хотя он был еще совсем молод – 57 лет.
* * *
Вообще, всем моим коллегам приходилось в те времена идти на компромисс и я не исключение.
Если кто без греха – пусть кинет в меня камень.
Да, в комсомольские годы (начало 70-х) я часто сотрудничал с ЦК ВЛКСМ. Они приглашали меня на свои мероприятия, а иногда просили написать что-нибудь и я не отказывался.
Так я стал автором песен о советско-чехословацкой дружбе, о советско-польской дружбе и o советско-корейской дружбе (естественно, речь идет о Северной Корее). Эти песни были разучены и дружно распевались участниками соответствующих фестивалей.
Еще я был Президентом клуба советско-болгарской творческой молодежи. Написал когда-то известную песню «Вот это и есть Комсомол!»
Покаялся – и стало легче.
Стыдно ли мне сейчас за это?
Пожалуй, нет. Я никого не сдавал, никого не предавал. Песни были среднего качества, их сейчас никто не помнит. А комсомольцы расплачивались за это самой твердой валютой на то время – поездками в капстраны. В те времена благодаря им я побывал в ФРГ, во Франции, на Кипре, в Греции, кажется, еще где-то. Многое увидел, многое понял.
Сами комсомольцы в то время были продвинутые ребята, именно из них потом вышли крупные предприниматели и олигархи…
Пожалуй, мне не в чем себя упрекнуть. Я никогда не любил советскую власть, но мой компромисс с ней не был позорным, он был поверхностным и легкомысленным.
И тут мы переходим к главной теме моих заметок.
Моральный компромисс
Тут всё не так однозначно и не так просто.
Если идя на компромисс в торговых сделках вы проигрываете деньги – это не страшно. В дальнейшем проигранные деньги можно вернуть.
Если вы идете на творческий компромисс и стараетесь сберечь себя для дальнейшей работы – последующие поколения вас поймут.
И, возможно, простят.
Но идти на моральный компромисс – это огромная опасность.
Если все вокруг узнают, что ты сделал ЭТО – солгал, донес, предал, изменил своим принципам, нарушил то, чему тебя учили родители, – ради карьеры, ради денег, ради получения каких-то материальных благ, наград, даже ради собственной жизни, – то репутация будет навеки испорчена и твое имя вычеркнуто из списков порядочных людей.
Если все узнают, что ты подписывал коллективные письма, что ты откликался на любую просьбу начальства и с радостью лизал задницу каким-то мелким чиновникам – будь уверен, твое имя будет вычеркнуто из списков Достойных.
Если станет ясно, что ты сотрудничал с тайной полицией, что ты предавал, посылал кляузы и наветы, доносил на своих соперников и пытался их уничтожить – тебе не уйти от позора, это рано или поздно выяснится, и возмездие придет неизбежно.
Начав с маленького компромисса, ты неизбежно приходишь к большому предательству.
Наше советское прошлое дает этому множество примеров.
Мы знаем сегодня имена тех, кто запятнал свое имя в сталинское время, об этом знают их дети и внуки.
И, уверен, они жалеют об этом.
Да, они получили (и получают!) много денег, званий и наград, они жадно наслаждались (и наслаждаются) жизнью.
Но настает момент, когда все эти особняки, суперавтомобили, яхты и огромное количество денег теряют всякий смысл.
То же относится и к нашему времени.
Мы знаем их имена. И знаем их поступки.
И знаем, что время придет, и будет возмездие. Так устроена жизнь.
Короче: будьте осторожны! Не идите на позорный компромисс! Живите по совести!
На самом деле это совсем не сложно.
И вашим детям и внукам будет проще смотреть людям в глаза…
Исповедь неудачливого валютчика
(Подлинная история, почти детектив)
Это было очень давно. В те времена, когда общение с «твердой» валютой было уголовным преступлением. За это людей сажали в тюрьму и даже иногда расстреливали.
И я однажды был близок к этому.
* * *
Год примерно 1969.
Я студент института имени Гнесиных (ныне Академия им. Гнесиных). Учусь на композиторском факультете, мои профессора Пейко, Литинский и Хачатурян.
Живу в общежитии на улице Космонавтов, около ВДНХ. Живу бедно, стипендия что-то около 28 рублей. Родители иногда что-то подкидывают, но мало. Живу фактически впроголодь.
Музыка, которую уже активно пишу, абсолютно никому не нужна. Уже написана куча разных пьес, камерной музыки, вокальные циклы. Уже почти готова Первая симфония, задумана и почти написана кантата «Крысолов» на стихи Цветаевой.
Но денег никто не платит. А кушать хотелось. И пить.
И пойти в театр. Или в оперу. Или на концерт в Большой зал консерватории.
Ну, последнее было проще. Как студентов нас пускали почти всюду бесплатно, по студенческому билету. Правда, на галерку, на самый верх, без всякого, конечно, места. Но нас устраивало. Постоять и посмотреть на премьеру во МХАТе или театре Вахтангова, или на Таганке тех лет было величайшим счастьем.
Или послушать Ойстраха, Когана, Ростроповича – что может быть лучше?
Правда, иногда студентов не пускали. Были такие дефицитные спектакли (или концерты), когда не было никаких студенческих пропусков.
Вспомню, для примера, концерты «Берлинских Филармо-ников» (Berliner Philarmonic) в 1969 году под управлением Герберта фон Караяна. В то время приезд «главного дирижера Европы» был для советских людей чем-то вроде прилета инопланетян, посмотреть на него хотели все, даже те, кто отродясь не ходил в Большой зал консерватории.
И что вы думаете? Конечно, все студенты Московской консерватории, и не только Московской, но и специально приехавшие студенты Свердловской, и Саратовской, и Киевской консерватории – все были в зале.
Каким образом?
Прорывались.
Да, это был именно «прорыв», в самом военном смысле слова. Студенты собирались кучками, потом эти кучки объединялись в одного мощного «дракона», напоминая строй древнегреческих «гоплитов», без труда вонзались в ветхих бабушек, державших оборону, и через минуту все уже тихо сидели на галерке и выгнать их оттуда не было никакой возможности.
* * *
Но, кажется, я отвлекся. Пора рассказать о своих валютных похождениях.
Надо сказать, что в те времена валюту (речь идет, конечно, о «твердой валюте» – доллары, франки, марки, фунты) никто из нас в глаза не видел. И, конечно, не держал в руках.
Не скажу за всех, но среди моих знакомых – никто. Мы были скромные мальчики, из советских семей, наши родители были людьми среднего класса по советским понятиям – инженеры, учителя, врачи. «Средними» они были по советским понятиям, а по Западным их смело можно было назвать «бедными». Хорошая квартира была у одного из 10, машина у одного из 50, дача – у одного из ста, за границу ездил один из 200.
Впрочем, надо сказать, что все были счастливы, всем всего хватало и никто ничего особо не добивался (не говорю про диссидентов, это отдельная тема).
Так вот, валюты не было ни у кого.
Да в общем-то валюта была и не нужна. На нее ничего нельзя было купить, ее нигде не принимали, обменять рубли на доллары или наоборот было невозможно.
Конечно, мы знали, что существуют гостиницы типа «Метрополь» или «Националь», где живут иностранцы, и где принимают любые деньги. Конечно, мы все знали о валютных «Березках» и даже знали, где они находятся. Однако окна там были занавешены от пола до потолка, разглядеть с улицы что там внутри было невозможно. Поэтому об ассортименте товаров мы могли лишь догадываться.
Но мы знали, что там есть всё.
И всё – настоящее. Все оригинальное, не быстро снашивающиеся китайские подделки, а настоящая фирмА: Америка, Италия, Франция.
Мы знали названия всех фирм, правда, искажали все на свой лад. «Рэнглер» назывался ВРАНГЛЕР, Ральф Лорен назывался Ральф ЛАУРЕН, ну а «Лакост» произносился как «ЛакOстA».
И конечно, всё это продавалось у спекулянтов. Причем понять, что нам впаривали – настоящее или фальшак – было трудно. Никто не отличал тогда правильный шов, стежок или запах (если речь шла о парфюме), но переплатив втридорога, можно было купить фирменные джинсы, или «баттн-даун», или духи «Пойзон» (конечно, «Пуазон»). Надев это, ты становился как бы на голову выше своих сверстников, своей компании.
Но надо объяснить: даже в голову не приходило зайти в этот «валютный» магазин. Мы знали – там стоят люди из специального отдела КГБ, следящие за валютчиками. Даже не знаю, был ли на самом деле такой отдел в КГБ. И спросить не у кого, а рыться в интернете неохота.
* * *
Собственно, тут и начинается моя новелла.
Описываю всё как было. Без прикрас и без утаек.
Итак, как уже было сказано, я был очень беден, жил в общежитии, денег хватало на метро и на весьма скудную пищу.
И вот однажды «птица счастья» задела меня крылом.
Как-то я шел по коридору своего института им. Гнесиных и меня окликнул некий господин, одетый излишне ярко.
– Молодой человек, – сказал господин, – вы не пианист? (тут надо пояснить, что пианистом я никогда не был и даже не учился на фортепиано, курс «общего фортепиано» не в счет: однако играл на рояле вполне прилично и здорово читал с листа).
– А что? – ответствовал я.
– Да вот, я работаю в Москонцерте, и нам в группу срочно нужен пианист.
– А что случилось?
– У нас был прекрасный пианист, но его взяли в оркестр Горбатых, а у нас гастроли.
Тут опять надо пояснить, что в Москонцерте был такой «Оркестр Горбатых», это была фамилия руководителя, его звали Александр Ефремович Горбатых.
– А сколько вы платите? – спросил я. (Это был для меня главный вопрос.) Господин преобразился, почувствовал, что «рыбка клюет».
– Сколько надо, столько и платим, – сказал он, широко улыбнувшись, и показав пару золотых зубов. – А сколько бы ты хотел?
– Ну, рублей 150. В месяц (сказал я и сразу испугался, что попросил слишком много). Господин улыбнулся еще шире.
– Для начала дам тебе 200 в месяц. А если справишься, то будет 300 или больше.
– Чо, правда штоль? – выдохнул я. – Так это. я согласен.
– Да ты обожди, чувак. Он согласен. Надо, чтобы и я был согласен. Пойдем, зайдем в класс. Мы зашли в соседний класс, где был рояль, и я продемонстрировал ему все свои умения – почитал с листа какие-то рукописные каракули, которые он принес с собой, поимпровизировал на какие-то известные джазовые темы, сыграл несколько популярных в то время песен советских композиторов.
– Беру, – сказал господин (его звали Яша), – завтра приходи на Каланчевскую, 15 оформляться. Паспорт у тебя есть? Приноси. Прописка? А, в общаге? Это нормально! Мы через 2 дня летим в Сибирь на гастроли. Будешь аккомпанировать певице NN…
* * *
Надо сказать честно, что я не был готов к такой скорой перемене участи. Это была зима, начинался второй семестр. У меня были большие творческие планы. Да и надо было ходить на лекции и уроки, выполнять, так сказать, учебный план.
Всё это я сказал Яше, моему новому знакомому. Но он совершенно спокойно ответил, что это ерунда, никто даже не заметит моего отсутствия, с учителями по специальности всегда можно договориться, а на «потоке» лекции все прогуливают. а потом нагоняют.
Короче, он меня быстро уговорил. Перспектива получить 300 рублей очень горячила мое воображение.
– Только купи теплые ботинки, – сказал Яша. – Там куда мы едем, будет очень холодно. Особенно ногам. Пальтишко-то у тебя есть?
Пальтишко у меня было, старенькое, но теплое, на меху. А ботинок не было, были лишь туфли, в которых я и в Москве замерзал.
Придя домой, я сразу понял, что надо обратиться к Шоте, моему другу и однокурснику, приличному трубачу, веселому грузинскому парню, который в открытую фарцевал разными вещами и хвастался, что может достать всё.
– Шотик, – сказал я ему, – мне срочно нужны зимние ботинки. На меху.
– Какой размер? – без лишних слов спросил Шотик.
– 43.
– Черт побери, есть только 41. Но зато Штаты… Хочешь попробовать?
Конечно, попытки натянуть на мою ногу замечательный американский ботинок не увенчались успехом.
Слушай, – сказал умный Шотик, – я тебе помогу… Значит, тебе это надо завтра. Завтра у меня товара не будет. Но, – Шотик поднял вверх указательный палец, – я тебе продам немного долларов. Ты пойдешь на Дорогомиловскую, там сейчас есть прекрасные зимние ботинки. Вот такие же, чумовые. Америка! Значит, просто зайдешь, выберешь, заплатишь доллары и сразу выметайся. Не вздумай мерить. И имей в виду – пока ты не достал доллары, ты ни в чем не виноват. Как только достал – ты уже валютчик. Поэтому взял ботинки и сразу уходи. Понял?
– Понял, понял.
– А если всё-таки возьмут тебя, молчи как рыба.
– А если будут спрашивать, где взял?
– Где взял, где взял? Нашел! Понял? И никаких имен.
– Ладно, давай.
Шотик залез в чемодан под кроватью и достал мне 40 долларов, две двадцатки, судя по всему новенькие, только из банка.
Я отдал ему свою заначку, 160 рублей (официальная цена доллара тогда была 60 коп за доллар, спекулянты продавали по 5 рублей, а Шотик сделал мне скидку и продал по 4).
Конечно, для меня это была огромная сумма, но ноги надо было утеплить, а предстоящие 300 рублей были совсем близко.
На следующий день с утра была репетиция песен из репертуара NN, я всё быстро схватил и ансамбль был мною очень доволен, а днем я уже входил в магазин на Дорогомиловской.
Теперь я понимаю, за версту было видно, что этот плохо одетый юноша здесь первый раз и к твердой валюте не имеет отношения.
В магазине было практически пусто, покупателей не было и два одинаково одетых человека в черных пиджаках и галстуках уставились в упор на меня.
Я сделал вид, что этого не замечаю, и стал с видом бывалого лондонца или парижанина (так мне казалось) гулять по магазину и осматривать разные предметы.
Магазин был большой и красивый, с одной стороны были продукты, а с другой – обувь, одежда и косметика.
Я прошелся и там и тут, и все думал, как бы сделать так, чтобы два амбала куда-нибудь исчезли на несколько минут.
Прошло минут 10 и два амбала неожиданно исчезли где-то за кулисами магазина. Остались миловидные девушки, которые мною особо не интересовались.
Конечно, я давно заметил, где стоит то, что мне нужно. Зимние ботинки, производство США, на меху, практически такие же, как показывал мне Шотик, но моего, 43 размера. Цена 39 долларов (Шотик знал, что говорил).
Я понял, что медлить нельзя. Я подошел к девушке в обувном отделе и сказал: Одну пару вот этих. 43 размер.
Девушка равнодушно достала коробку, открыла, показала мне.
– Подходит? Мерить будете?
– Да нет, зачем мерить? Я знаю свой размер. Беру.
– Пройдите на кассу…
Я подошел к кассе, где меня ждала другая девушка и моя коробка.
– 39 долларов, – сказала девушка.
Торжествующим жестом достал 2 своих купюры и вручил их ей. Она их внимательно рассмотрела, пощупала, положила себе в кассу, а мне дала один доллар. После чего положила мою коробку в красивый пластиковый пакет и вручила его мне.
Я резко развернулся с намерением быстро выйти в дверь…
Прямо передо мной стояли два амбала.
– У вас документы есть, молодой человек? – хмуро спросил один.
– Есть, – промямлил я. Паспорт был у меня с собой.
– Пройдёмте вот сюда.
Меня завели в комнату, где стоял стол и несколько стульев.
– Итак, Александр Борисович, – сказал хмурый, – вы давно занимаетесь валютными операциями?
– Я не занимаюсь, – прошептал я, пытаясь обаятельно улыбнуться, хотя у меня всё дрожало, и руки, и ноги и губы.
– Сейчас мы составим протокольчик и вы нам быстро всё расскажете.
И я им быстро всё рассказал. И почти ничего не наврал. Сказал, что валюту нашел «в ГУМе, у фонтана», что я студент института им. Гнесиных, и что мне очень-очень нужна теплая обувь, поскольку еду на гастроли в Сибирь с певицей NN.
Тут вдруг оживился второй.
– С NN? – сказал он своему коллеге. Знаешь, эта блондинка, которая поет песню про «Поезд». Недавно по телеку пела. Она еще молодая, но поет классно. И выглядит неслабо. Законная баба. Так ты ее знаешь, что ли?
Это он мне.
– Знаю, – сказал я важно (хотя вообще-то с NN мы планировали первый раз увидеться завтра в аэропорту.).
– Значит так, пацан, – сказал второй (который, как я понял, поглавней). – Вообще-то мы тебя должны сейчас отвести в участок и там до завтра подержать. Ну а потом обыскать, где ты там живешь, и допросить твоих друзей, и всех, с кем ты общаешься. Ты что, думаешь, мы поверили насчет «ГУМа у фонтана.». Видали мы таких умников.
Он сделал длинную паузу.
– Но думаю, мы этого делать не будем. Вижу, ты парень хороший, и вижу, тебе действительно нужны теплые ботинки. – Он ухмыльнулся. Короче, пойдешь сейчас домой, и ботинки заберешь с собой. А после приезда придешь сюда, и познакомишь меня с NN. Меня зовут Сергей Петрович. Сможешь?
– Смогу, – сказал я.
– Ну, давай, чеши. И не вздумай исчезнуть, мы тебя всё равно найдем.
При этих словах он открыл дверь и выпустил меня на улицу.
Вернувшись через месяц, я зашел в этот магазин. Сергея Петровича не было, был только хмурый. Я передал ему, что певица готова с ними познакомиться, но она замужем (ее мужем оказался тот самый Яша, который принял меня в свой ансамбль).
Хмурый, кажется, всё забыл, но сказал, что передаст.
Сергей Петрович больше не появился.
С тех пор я больше не покупал нелегально валюту и не ходил в валютный магазин.
Пока времена не переменились и я не стал жить в стране, где американский доллар – единственная употребимая валюта.
Но это уже другая история.
А снег идет, или Зимний путь
Про снег хочется напевать.
Песен про снег – много.
«Снег идет, снег идет» на мотив Сергея Никитина, стихи Пастернака.
Или «А снег идет, а снег идет…» на мотив Андрея Эшпая, стихи Евтушенко.
Есть еще песня «А снег идет», слова и музыку сочинил Макс Фадеев, а поет Глюкоза. Или песня «Снег» Филиппа Киркорова, сочиненная Ириной Билык.
Или вот, скажем, «Ах, снег-снежок, белая метелица». Это композитор Пономаренко, стихи Виктора Бокова.
Или вот это:
«Снег кружится, летает, летает,
И позёмкою клубя,
Заметает зима, заметает
Всё, что было до тебя»
Помните, конечно, группа «Пламя», стихи Лидии Козловой, музыка Сергея Березина.
Или «Tombe la neige», поет Адамо, сам и сочинил.
Уверен, такие песни есть и у поляков, и у немцев, и уж конечно, у финнов и норвежцев, у канадцев, и аргентинцев. Короче, у всех, у кого есть снежная зима.
Также уверен, что подобных песен нет в Египте и Эфиопии, нет в Индии и во Вьетнаме.
Просто там нет зимы. И нет снега.
А там, где есть снег, то обязательно есть и снежные песни.
Уж больно это поэтическая, мистическая материя, – снег, падающий с неба белый пушок.
Я легко вспомнил десяток русских песен о зиме и снеге.
Каждый легко вспомнит еще десяток.
Ну, не обязательно про снег. Просто про зиму-зимушку. Или про синий лед. Или «Идут белые снЕги» или, наконец, «Ой мороз, мороз».
Всё это сидит в нас с детских лет.
* * *
А вот история одной великой зимней песни. В России она малоизвестна, хотя это одна из самых популярных в мире мелодий.
Называется она «White Christmas» («Белое Рождество»). Написал ее гениальный американец русско-еврейского происхождения Ирвинг Берлин.
Родился он в России, в Тюмени, приехал в Америку в возрасте 7 лет. Первым его языком был русский напополам с идиш. Его папу звали Мозес (по-нашему Моисей), он служил кантором в синагоге. Хотя, казалось бы, откуда в Тюмени, в Сибири, в 1889 году синагога? Откуда там мог взяться кантор? Там и сейчас всего живет 17 евреев, а уж в те далекие времена?
Но так говорит легенда.
Короче, мальчик приехал в Америку не зная ни слова по-английски, а уже через несколько лет он написал первую песню, слова и музыку, даже умудрился ее продать и получить 33 цента в качестве роялти.
Кстати, именно он изобрел понятие «роялти», то есть «авторские отчисления», и многие композиторы именно ему обязаны своим несметным состоянием.
Вообще, он был очень удачливым человеком, прожил полноценную и очень длинную жизнь – умер он в 101 год. Не знал нот и не умел играть ни на одном музыкальном инструменте. Наверное, если бы умел, так бы и остался тапером в ресторане. А стал великим композитором, одним из основателей американской музыки.
Так что, родители, не мучайте детей музыкальными уроками. Они сами найдут, что им надо…
* * *
Но давайте вернемся к снегу. Вернее, к снегу в песнях.
Напомню, среди десятков популярных песен Ирвинга Берлина есть одна, что возвышается над всеми.
Она, как я уже сказал, называется «White Christmas», и вряд ли что-то может с ней сравниться по популярности.
Конечно, это песня сезонная, рождественская, но в Америке рождество длинное, больше месяца, и каждый день из любого окна, в магазине, в лифте, по радио, и вообще в воздухе вы слышите: «I’m dreaming of the White Christmas…» Очень часто. Даже чаще, чем знаменитые «Jingle Bells».
Однако тут есть одна деталь, которую мало кто знает.
Это мое личное открытие.
История гласит, что эту песню Берлин написал в Калифорнии. Это не вымысел, это правда, известен даже отель La Quinta, где, собственно, он это написал. После этого композитор, уподобляясь нашему Александру Сергеевичу, бегал по номеру, и кричал:
«Ай да Ирвин! Ай да сукин сын! Это лучшая песня, которую написало человечество».
Но в Калифорнии, в районе Беверли-Хиллс, снега не бывает. Какое там Белое Рождество? Там минимальная температура плюс 15, а вообще-то обычно 22–25 градусов.
И это есть в тексте песни, сейчас я вам зачту.
- The sun is shining, the grass is green,
- The orange and palm trees sway.
- There’s never been such a day
- in Beverly Hills, L.A.
- But it’s December the twenty-fourth,—
- And I am longing to be up North!
(Солнце сверкает, трава зелена,
Покачиваются апельсины и пальмы, сегодня прекрасный день, в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес.
Но ведь сегодня 24 декабря, Рождество, и я хотел бы быть на Севере.)
И, конечно, американцы понимают, что это всё относится к ИХ американскому северу. То есть к Нью-Йорку.
Какой еще есть город в США «посевернее», куда может стремиться композитор и поэт? Конечно, Нью-Йорк.
Так все американцы это и понимают.
* * *
И вот тут-то я ловлю Ирвинга Берлина за язык.
Дело в том, что в Нью-Йорке тоже нет снежных равнин, и снежных завалов, и верхушки деревьев там не припорошены снегом.
Там, в Нью-Йорке, снег – большая редкость, а если он и выпадает, то не задерживается долее чем на день. Нью-Йорк – город на широте Сочи или Одессы, и никаких сугробов вы там не увидите.
А ведь в песне поется:
- Я мечтаю о Белом Рождестве,
- Как те, которые я когда-то знал,
- Где верхушки деревьев заснежены,
- а дети прислушиваются, чтобы услышать
- звон санных колокольцев.
Что это? Нью-Йорк?
Фига с два!!
Это, конечно, Россия. Семилетний мальчик запомнил русскую зиму, помнил тройки и бубенцы, сугробы и снежки.
Что означают слова «те, которые я когда-то знал»? Да, конечно, это оговорка по Фрейду, а точнее, просто выплеснувшиеся детские воспоминания.
Поэтому так всё классно и получилось! Поэтому это одна из популярнейших песен в мире. Кстати, она уже много лет находится в книге рекордов Гиннеса, и количество проданных экземпляров – на разных носителях – насчитывает сегодня более 200 000 000.
«Битлз» и Фрэнк Синатра отдыхают.
Впрочем, и Фрэнк Синатра, и Бинг Кросби, и Элвис Пресли, конечно, пели эту песню. И все-все-все остальные.
Только они не знали, что это песня о России.
А мы знаем.
Но им не скажем. Пусть думают, что это про Нью-Йорк.
* * *
Кстати, это слово – СНЕГ – пришло к нам, как утверждают словари, из санскрита (на санскрите это snihyati) и практически на всех европейских языках это звучит похоже (англ. snow, немецкое schnee, литовское sniegas), а если по-итальянски это neve, по-французски neige, то просто прибавьте спереди утраченную в веках буквочку «с», и всё станет понятно.
Но мне гораздо интереснее другая фонетическая близость, наверняка всеми давно замеченная.
Это почти идентичность слов «снежность» и «нежность».
Или скажем «снЕга» и «нЕга».
Возможно, это случайное совпадение.
Но в языке редко бывают случайности.
Конечно, это давно заметили поэты.
Вот как это сформулировал Дмитрий Мережковский.
- Ослепительная снежность,
- Усыпительная нежность,
- Безнадежность, безмятежность —
- И бело, бело, бело.
- Сердце бедное забыло
- Всё, что будет, всё, что было,
- Чем страдало, что любило —
- Всё прошло, прошло, прошло.
И еще можно тысячи примеров на эту тему. Потому ничего нет нежнее, чем ранний снег. Когда он летит, падает на голову и плечи и тут же превращается в тонкие, нежные струйки и капельки, которые медленно стекают вниз… и это так точно сливается с нежной лаской, именно с нежной, а не страстной лаской, которая всего дороже женщинам. да и мужчинам тоже.
Как прекрасно пройтись по первому снежку на даче, в поселке или по лесу, или по пляжу где-нибудь в Юрмале.
Господи, вот из таких мгновений и состоит жизнь, это есть те самые зарницы, которые надо ловить, как говорил Лев Николаевич Толстой.
Сейчас расскажу про одно из таких мгновений-зарниц из моей жизни.
* * *
Когда-то студентом, бродя по заснеженной Москве, я набрел на странное явление, когда вся дорога под моими ногами серебрилась и сверкала, переливалась, как в трубочке калейдоскопа. Никогда ни раньше, ни позже я такого не видел, очевидно это была причудливая игра уличных фонарей, сочетание легкой метели и загадочного освещения.
Я шел не один. Со мною была девушка, в которую я был тогда влюблен.
Придя домой, я открыл томик Цветаевой. Цветаева была тогда моим любимым поэтом, я обожал ее стихи и пытался положить их на музыку.
Но как-то не получалось. Великие стихи вообще-то не нуждаются ни в какой музыке. Я не могу, например, слышать бесконечные музыкальные вариации на тему «Свеча горела, свеча горела»… Эти строки хороши и без всякой музыки, любая музыка их только портит.
Но в ту ночь книжка открылась на стихах, которые начинаются словами: «А сугробы подаются, скоро расставаться». Я ничего не знал об этих стихах, да и сейчас не знаю. Знаю, что они посвящены Илье Эренбургу, наверное, не случайно. Да какая разница? Разве это важно, для кого писал поэт, о ком он (она) думал (думала), рождая эти строки. Важно, как это действует на нас, на читателей, на слушателей, какие струны нашей души задевают эти строки.
Был февраль, я влюблен в прелестную девушку, с которой гулял в ту ночь.
Через месяц она выходила замуж, и мы расставались навсегда. Ее жених был намного старше, и она из бедной студентки-Золушки вдруг превращалась в чью-то мачеху (у «жениха» было трое детей).
И вдруг из меня полилась мелодия. Романс родился мгновенно. Это – одна из лучших моих мелодий того времени.
Этот романс вошел в вокальный цикл «ПОЭТ». Он сейчас издан и довольно часто исполняется.
Но ту ночь со сверкающим снегом я не забуду никогда. И стихи:
- Не гляди, что слезы льются:
- Вода – может статься!
- Раз сугробы подаются —
- Пора расставаться!
- А снег – и жизнь – и любовь – идет.
- И проходит.
Берегите их, поэтов!
- Ох, надоели эти стихи!
- Все пишут и пишут,
- всё пишут и пишут,
- на многих страницах,
- в печатных книгах,
- в тоненьких сборниках.
- и на миллионах сайтов,
- на Фейсбуке, в Инстаграме,
- В Телеграме,
- В Вайбере, на Вотсапе,
- И даже простое СМС
- Заражено рифмованными строчками.
- Нам шлют стихи.
- Особенно в праздники
- Например, на День Дурака,
- Или, скажем, в День Защитника Отечества.
- Уже не говоря
- Про 8-е марта и Новый Год.
- Но эти праздники
- мы помним с детства,
- И празднуем их по-прежнему,
- Широко и радостно,
- И стихи идут живые и искренние,
- а вот, скажем, на день Матери,
- на день народного единства,
- и на день работника Культуры,
- на день Музыки, или на день рождения Рунета
- никто не шлет стихи
- Никто не радуется этим праздникам,
- никто их и не празднует
- и не помнит о них…
- Но эти сумасшедшие поэты
- стихи пишут не только в праздники
- они пишут
- денно и нощно,
- в выходные и в будни
- от этих поэтов
- просто некуда деваться,
- от этих стихотворных потоков
- невозможно скрыться,
- они словно снежная лавина,
- словно торнадо или цунами
- тебя закручивают штопором,
- И некуда убежать,
- выхода нет….
- То один, то другой пиит
- Зарифмует строчек 8 или 10,
- и сразу с ними – на Фейсбук,
- И спрашивает; а ты читал?
- А ты заметил, как гениально
- Я написал о времени и о себе?
- Ну, скорее всего о себе,
- а после уж и о времени,
- и о наших миазмах,
- и о наших маразмах,
- о наших трюизмах и плеоназмах,
- в духе дадаизма или акмеизма
- Да, поэт знает эти слова,
- Но понимает их неточно.
- А вернее ничего он в этом не понимает,
- Он не отличает метонимию от метафоры.
- Он не знает слов «гипербола» и «парабола».
- И никогда не слышал слова «центон».
- потому что у поэта нет времени
- заниматься ерундой…
- Он пишет и пишет,
- и все стихи, стихи, стихи
- и чаще всего с рифмой —
- сейчас это просто,
- полно в магазинах рифмовников,
- словарей рифм,
- ну а в Интернете
- их сотни, их тысячи,
- миллионы, миллиарды
- только выбирай
- нужное слово и рифмуй, рифмуй,
- и будут тогда стихи с рифмами.
- А в России иначе нельзя,
- потому что в России только с рифмами
- стихи считаются стихами,
- а без рифм тебя засмеют
- и скажут – ну какой же ты поэт,
- если не можешь подобрать
- рифму, например, к слову «дирижабль»?
- И тогда наш поэт исхищряется,
- И сочиняет:
* * *
- Дирижабль —
- это дирижер
- Дирижабль
- Он плывет без жабр
- Дирижабль —
- Он ведь тоже корабль.
- Он летит
- Как большой сталактит
- В небе он один—
- господин
- Красно-белый дирижабль,
- Ночь на небе пролежабль,
- проплывает он по небу
- И на север путь держабль.
* * *
- Итак, поэт, найдя свой стержень,
- Рифмовать стал без удержу
- И у него пошли стихи
- И словно парни от сохи
- Они глухи, они тихи,
- Хотя по сути неплохи.
- Как без невесты женихи.
- Они бросаются в грехи
- И будто в поле лопухи
- Рождают кучи чепухи
- Словно французские духи
- Они имеют запах, и…
- Внесёт последние штрихи.
- только прощальное хи-хи
* * *
- Всё хорошо, но только – фи!
- Это фигня, а не стихи!
* * *
- А без стихов нам жить нельзя.
- Ведь настоящие стихи
- Они как новое вино
- Залито в старые мехи
- Они как старое кино,
- Которое смотреть смешно,
- и может даже чуть грешно
- чуть-чуть темно
- чуть-чуть черно
- немного перемудрено…
- Жить без стихов кому-то просто,
- но не прожить нам без стихов
- И ничего важнее нет
- Чем этот редкий дар: ПОЭТ
Английский писатель Ивлин Во сказал:
«Существуют некоторые стихотворные строки, которые из всего множества ассоциаций с неизбежностью рождают в нас именно те ощущения, которых мы жаждем; это патентованное средство, надежное снадобье, великое колдовство».
Вот так и мы все. У каждого в глубине сознания, скорее даже в подсознании, лежат заветные строки.
Пороюсь там.
ЦЕНТОН
- В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
- Светила нам только зловещая тьма,
- Свое бормотали арыки,
- И Азией пахли гвоздики.
- Передо мной встает Флоренция
- Фосфоресцируя домами
- и отмыкает, как дворецкий
- свои палаццо и туманы
- Любить иных тяжелый крест
- А ты прекрасна без извилин
- Как стыдно одному
- ходить в кинотеатры
- Быть нежной, бешеной и шумной,
- – Так жаждать жить! —
- Очаровательной и умной, —
- Прелестной быть!
- В крови горит огонь желанья,
- Душа тобой уязвлена,
- Нежнее нежного лицо твое,
- Белее белого твоя рука,
- От мира целого ты далека,
- И всё твое – от неизбежного.
- Если только она подойдет —
- Буду ждать я тебя, буду ждать…
- Голубой, голубой небосвод…
- Голубая спокойная гладь.
- Огонь любви, огонь живительный, —
- Все говорят, – но что мы зрим?
- Опустошает, разрушительный,
- Он душу, объятую им!
- Любовь твоя жаждет так много,
- Рыдая, прося, упрекая…
- Люби его молча и строго,
- Люби его, медленно тая.
- Ангел, девочка, Психея,
- Легкость, радость бытия, —
- Сердце стонет, холодея:
- Как я буду без тебя?
- Святая ль ты, иль нет тебя грешнее,
- Вступаешь в жизнь, иль путь твой позади, —
- О, лишь люби, люби его нежнее!
- Как мальчика, баюкай на груди,
- Не забывай, что ласке сон нужнее,
- И вдруг от сна объятьем не буди.
….
- Именно так.
- Стихи не пишутся – случаются,
- как чувства или же закат.
- Душа – слепая соучастница.
- Не написал – случилось так.
* * *
Какой же вывод? Стихи, поэзия – главный признак человеческого. Это то, что отличает нас от всего прочего мира, от животных, от растений, от дикарей.
Поэтому:
- Берегите их, поэтов. Берегите их.
- Остаются две недели на последний стих,
- Три минуты, две минуты, вовсе ничего…
- Берегите их. И чтобы все – за одного.
- Только так не берегите, как борзых – псари!
- Только так не берегите, как псарей – цари!
- Будут вам стихи и песни, пока воздух тих…
- Только вы их берегите. Берегите их.
Разруха в голова
«Не дай мне бог сойти с ума» – знаменитая пушкинская строка, одна из самых пронзительных в его творчестве. Как известно, Пушкин написал это стихотворение после посещения своего друга, поэта Константина Батюшкова, который реально сошел с ума (это посещение произошло в 1930 году, а Батюшков в состоянии тихого помешательства прожил еще 25 лет, и тихо умер в 1855 году, дожив до 68 лет). Вид умалишенного друга явно тронул Пушкина. Он понял: что угодно, но только не это. И сделал всё, чтобы до этого не дожить…
* * *
Рассуждая о безумии, нельзя пройти мимо знаменитой формулы: между гениальностью и помешательством – тонкая линия, незаметная грань. И человечество за время своего развития не раз продемонстрировало, как безумцы оказывались гениями, а гении к концу жизни сходили с ума. В книге Ломброзо «Гениальность и помешательство» приведены сотни и тысячи примеров, как гении к концу жизни «трогались». Кто не читал эту книгу – прочтите. В общем-то Ломброзо был плохой писатель и сомнительный ученый, а его теория, что по внешности человека можно понять, преступник он или нет, сегодня разбита в пух и прах. Но факты, которые он собрал в книге про помешательство, достойны удивления.
* * *
Я сосредоточусь сегодня на близкой мне теме: сумасшедшие музыканты, особенно композиторы.
* * *
Но сначала о музыкантах-исполнителях. Конкретно – о пианистах.
Среди музыкантов-исполнителей много людей с нарушениями психики.
Наверное, это связано с тем, что занятия музыкой – огромная нагрузка для психики. Сидеть и часами играть гаммы, этюды, разные упражнения – не всякий выдержит. Поэтому так много детей бросает музыку через два-три года занятий.
Тех же, кто проходят без особых травм эти начальные годы и по-прежнему хотят стать музыкантами, подстерегают другие опасности.
Если вы все преодолели, подошли близко к Олимпу, но так на него и не попали, то испытаете страшное разочарование: и на что я потратил свои золотые годы? Быть просто музыкантом в наши дни, не звездой – тяжелая, утомительная и малооплачиваемая работа.
Ну а те, кто всё-таки взошел на Олимп пианизма, делятся на две категории: супермены, люди с нормальной психикой, и эксцентрики, люди на грани срыва.
* * *
Давайте сравним Евгения Кисина и Глена Гульда, два имени, не нуждающихся в дополнительных комментариях, и во многом являющихся антиподами.
Евгений Кисин – образец нормального, даже сверхнормального гения. Все разговоры о его аутизме, отрешенности от реального мира, неумении ходить по улице и пользоваться транспортом, что он вообще «не от мира сего» – ерунда. Он абсолютно нормальный человек, он легок в общении, он всё понимает и знает всему цену.
Просто он так устроил свой мир, что туда допущено очень мало людей, он не общается с поклонниками, редко дает интервью и держится подальше от толпы. Посмотрите его интервью «Мой единственный критерий – это любовь», многое станет ясно, и вы поймете, что Женя Кисин – реальный гений, который абсолютно лишен позерства, снобизма, пустозвонства. Он выходит к роялю и гениально играет великую музыку. Он никогда не ломает исполнительские каноны, не ломает рояли и не играет медленную музыку быстро, а быструю – медленно. В основном он играет так, как принято, сохраняя классические традиции. Просто у него это получается лучше, чем у всех остальных. А в остальное время – он нормальный человек, как все мы.
Имею счастье быть с ним лично знакомым. Впервые увидел Женю на его первом сольном концерте в Московском доме композиторов, Жене тогда было, кажется, 11 лет. С тех пор мы много раз общались, жили рядом в Рузе и в Нью-Йорке, я брал у него интервью для Русско-американского телевидения.
Я давно понял, что он гений, один из немногих гениев, с которыми мне довелось быть лично знакомым (два других – это Шостакович и Бернстайн, возможно, Бродский).
И это отличный пример, когда гениальный музыкальный талант помещен во всех смыслах в здоровую оболочку, где здоровое тело и здоровый дух. Гений в его случае – это высшая, запредельная степень нормальности.
* * *
Глен Гульд – совсем другая история.
Он по всем признакам – безумец. По своему экстравагантному поведению, внешнему виду (Кисин всегда одет «с иголочки», красиво, элегантно, но абсолютно традиционно, я не могу его себе представить в фуфайке и шароварах или в каком-нибудь рокерском прикиде: он в лучшем смысле слова старомоден) Гульд, который никогда не надевал фрака, а играл просто в рубашке, а в обычной жизни носил теплый свитер, даже когда была 40-градусная жара, возил с собой табурет (а не рояль, как Горовиц), никому не пожимал руки, а когда играл, громко пел себе под нос…
Существует множество мнений по поводу нечетких граней между гением и безумием, и Глен Гульд – наглядный тому пример. В первые годы его жизни у него обнаружились некоторые признаки аутизма, синдром Аспергера: он никогда не плакал, у него бесконечно шевелились ручки, имелось море различных фобий. Он пугался, если в него бросали мяч, он боялся красного цвета. Он рано стал проявлять стремление к уединению. Такое поведение было отмечено также у философа Людвига Виттгенштейна и композитора Белы Бартока (это часто сопровождается необычными достоинствами, как, например, феноменальная память и необыкновенная музыкальность).
Известно, что Гульд в 32 года перестал концертировать и стал записывать музыку в своей студии. Он предсказал, что концертное исполнительство скоро закончится и люди будут слушать музыку только на дисках.
Боже, как он ошибся! Всё оказалось совсем не так. Во-первых, концертное исполнительство через 60 лет после его пророчества не только не исчезло, а, напротив, пышно расцвело.
Исчезли как раз таки диски (CD)! Конечно, еще есть коллекционеры, которые собирают диски, но это уже антиквариат. Сейчас главным носителем информации является flash drive, или флешка по-нашему, но и она постепенно отходит. Всё будет храниться в облаках, на разного рода Google disk и Dropbox.
Так что Глен Гульд тут промахнулся.
Вот он – типичный гений, граничащий с безумством, настоящий персонаж Ломброзо.
Вопрос, который для меня остается открытым: насколько Глен Гульд был искренним в своих безумствах? Был ли его эксцентризм – нелетание на самолетах, не-посещение никаких собраний, конференций, светских раутов, вообще любых скоплений людей, полное отсутствие любовных связей (любой ориентации) и друзей, тщательное вычищение своих музыкальных записей до стерильного состояния (а кого этим сейчас удивишь? Компьютер запишет и быстрее, и чище), так вот: было ли всё это наигрышем и рекламным трюком или его подлинным лицом.
Я склоняюсь к первому. Особенно когда узнал, что вообще-то он был очень удачливым и опытным игроком на бирже и зарабатывал там неплохие деньги. А каждый, кто имеет отношение к бирже, знает, что там ничего не бывает случайно, и чтобы там зарабатывать, надо ежедневно просматривать десятки газет (интернета тогда не было)… И уж на бирже никакой эксцентризм не пройдет, иначе ты очень скоро разоришься…
* * *
Но оставим в покое пианистов.
Поговорим немного о более близких и понятных мне музыкантах – о композиторах. И о безумии в их нестройных рядах. Вот три примера.
1. ДЖЕЗУАЛЬДО
Пожалуй, первый по хронологии композитор, официально сошедший с ума, был Дон Карло Джезуальдо ди Веноза, удивительная фигура, до сих пор привлекающая внимание людей двадцать первого века, хотя жил он в шестнадцатом веке, во времена Шeкспира.
Поскольку Джезуальдо принадлежал к знатному роду, про него нам известно гораздо больше, чем про малоизвестного Уильяма, сына перчаточника.
Миную все детали его биографии и сообщу лишь главное: он в общем и целом провел жизнь в соответствии с обычаями своего круга, высшей итальянской знати тех времен. Однако когда его первая жена завела себе любовника (Джезуальдо застал их в постели), он убил (зарезал!) обоих. Самое смешное, что ему ничего за это не было, по законам того общества он поступил абсолютно правильно.
Говорят, что чуть позже он убил и отца жены и своего малолетнего сына (по подозрению, что этот сын – не его).
Потом он женился во второй раз, но психика не выдержала и он сошел с ума. Свои знаменитые мадригалы и мотеты он сочинял в состоянии помешательства, и в те времена их сочли бредом – действительно, его музыка совсем другая, нежели музыка его современников.
Однако в двадцатом веке его манускрипты были открыты и неожиданно стали исполняться, и уже никто не говорил, что они безумны, наоборот, говорили, что он – гениальный пророк, предвидевший, как будет развиваться музыка.
Прочитайте дивный рассказ Хулио Кортасара «Клон». Там, возможно, слишком много музыкальных деталей (Кортасар разбирался в музыке на вполне профессиональном уровне), но рассказ в основном именно про Джезуальдо, и о том, как его история повторяется через много столетий.
Еще есть загадочная опера Альфреда Шнитке «Джезуальдо», которая так и не дождалась своей сценической премьеры в России. Может, еще и будет…
В общем, Джезуальдо вошел в историю музыки своим безумным поведением – и безумными мадригалами.
2. РОБЕРТ ШУМАН
Роберт Шуман, один из величайших композиторов эпохи романтизма, носил в себе зачатки безумия с ранней молодости. Например, он рьяно взялся за карьеру пианиста, желая стать крупнейшим виртуозом. Но, играя с безумным энтузиазмом, он переиграл руку, и лишился не только карьеры пианиста, но и вообще не мог публично выступать. После он полностью посвятил себя сочинению музыки и создал десятки великих сочинений, вошедших в золотой фонд классической музыки. Однако безумие всегда стояло рядом с ним, он заговаривался, терял мысль, несколько раз бросался в воду, желая утопиться.
Любящая его жена Клара Вик, тоже великая женщина, пианистка и композитор, несколько раз спасала своего мужа. А когда стало ясно, что оставаться на воле ему просто опасно, она положила его в психиатрическую лечебницу, где провела с ним около четырех лет, до самой его смерти.
Несмотря ни на что, у них родилось 8 детей (все разговоры о сифилисе Шумана я с негодованием отвергаю, никаких доказательств нет). Клара пережила Шумана на десять лет, не выходила больше замуж и не имела дела с мужчинами, хотя поблизости крутился безнадежно влюбленный в нее гениальный и вполне психически нормальный композитор Иоганнес Брамс.
3. АРНОЛЬД ШЁНБЕРГ
Арнольд Шенберг, создатель додекафонии, страдал ужасной болезнью, называемой трискадекафобия. То есть он панически боялся числа 13. Кто-то ему предсказал, что он умрет 13 числа. И он каждый раз, когда приближалось 13-е, страшно переживал, что близится его последний день. Когда 13-е проходило, он возвращался к нормальному ритму жизни. И вот, 13 июля 1951 года (Шенберг родился 13 сентября 1874 года, стало быть, ему оставалось до 77-летия два месяца) композитор дико дрожал, забившись под одеяло.
Его жена посмотрела на часы и сказала: Арнольд, без пятнадцати полночь… Всё, считай, что ты этот месяц проскочил. В этот момент Шенберг поднял голову, что-то невнятно пробормотал и затих. Часы показывали 11.47 – без 13 минут 12.
Шенберг скончался именно в это время.
* * *
Выходит, пословица: «Кого Юпитер хочет погубить – лишает разума» не всегда права. Многие упомянутые мною люди – Гульд, Батюшков, Джезуальдо, Шуман, Шенберг – не только прожили достойную жизнь, но и оставили нам много прекрасных произведений, которые веками будут украшать жизнь человечества.
Спасибо им! Да здравствуют прекрасные безумцы!
Мир полон безумия… Я хотел написать мирную колонку о сумасшедших музыкантах.
Но тут, совсем рядом, у метро «Октябрьское поле» появилось настоящее безумие по имени Гульчехра Бобокулова.
Мир перемешался, смешался и помешался.
Здесь будет кровь
Нефть…
Загадочное слово. Явно не русское, и непонятно какое. Обычно мы чувствуем, откуда пришло слово. «Фортепиано» или «вермишель» – итальянские гости, «абажур» или «бульон» – французы, «бизнес» и «офис» – англо-американцы. Чувствуем, что «сомбреро» и «фиеста» – слова испанские, «балык» и «башмак» – тюркские, турецкие.
Догадываемся, что «ландшафт» и «маршрут» – немецкие гости, и даже не догадываемся, что «орангутанг» – слово пришедшее из Индонезии («лесной человек»). А блатные словечки типа «ксива» и «шмон» – прибыли из языка «идиш».
Но откуда пришло слово «нефть» – догадаться невозможно. Связь с каким-нибудь известным нам языком не просматривается. Произносить это слово нашему рту трудно. Скажите десять раз подряд нефть, нефть, нефть. и на пятом разе ваш язык взбунтуется, и откажется поворачиваться.
Это не может быть случайно. Процитирую здесь великого английского писателя и поэта Одена, который как-то заметил: «…язык больше или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства». То есть язык человеческий – важнее времени и пространства, он никогда не ошибается и в нём ответы на все вопросы.»
В каждом слове, в каждом названии есть тайный смысл, и в написании, и в звучании.
Словом, не зря эта странная черная жидкость с особым запахом именуется таким особым мистическим способом: «нефть».
Именно в России.
Ведь по-английски нефть это «oil», по-французски huile, по-немецки ol, и всё это, на разные лады, слово «масло». Есть слово «петролеум», что, собственно, то же масло «01» но только из камня («Петр»).
Но в России было выбрано слово с турецким, с тюркским оттенком. Может быть потому, что ближайшей к России нефтяной страной раньше всегда был Азербайджан?
По-турецки нефть – это neft.
* * *
Как бы там ни было, нерусское слово «нефть» является одним из самых часто употребляемых слов сегодняшнего русского языка. «Нефть» слышим мы по радио и ТВ с утра до вечера.
Нефть пошла вниз – и сердце сжимается, значит, рубль поползет вниз и наши рублевые доходы обесценятся.
Нефть идет вверх – и мы расправляем плечи. Глядите-ка, а рублик-то пошел вверх. Смотришь, и догоним «зеленого гада», и те, кто получают 100 тысяч рублей, вдруг окажутся долларовыми миллионерами, по сто тысяч американских рублей в месяц – это ведь совсем неплохо, а? Вот заживем! – говорит наш офисный работник, и с надеждой смотрит на курс.
А курс – бац! И опять вниз. Так и летаем – туда-сюда.
* * *
Но еще чаще мы слышим таинственное слово – ЗАБАРРЕЛЬ. Слово ЗАБАРРЕЛЬ настолько впечаталось в наше сознание, что мы и не думаем его разделять. ЗАБАРРЕЛЬ и всё тут. (Это слово заметил первым Володя Вишневский, спасибо ему).
Про баррель как таковой мало кто знает.
Вообще-то это такая бочечка, сравнительно небольшая, примерно 150 литров. Причем есть тонкие различия, пивной баррель – это одно, нефтяной – другое, французский баррель или баррик – нечто третье.
Мне лично абсолютно безразлично, сколько галлонов в одном барреле. Так же безразличны и все сорта нефти.
Бренд, WTI, Юралс, легкая нефть, тяжелая нефть, и прочее… ничего этого я не понимаю и вряд ли уже пойму. Да и зачем? Главное – это ЗАБАРРЕЛЬ. от которого зависит, сколько у меня в кармане денег.
А вообще-то сама нефть как продукт, как вещество, как субстанция, никогда особо не занимала наши интеллигентские умы. Никто из нас в юности не мечтал стать нефтяником, в мои времена это не было престижно.
Были те, кто хотел стать летчиком или космонавтом, были те, кто хотели стать футболистами или эстрадными певцами, были даже такие, кто рвались стать крутыми гангстерами, бандитами, «ворами в законе» – но в нефтяники? Проводить время на каких-то там вышках? Искать нефть? Строить НПЗ? Нет уж, увольте!
Это было в моей молодости совсем не престижно. И девушки нефтяниками не интересовались.
Только один из моих сверстников, не попав в МГУ, попал в институт им. Губкина (или среди своих «Керосинка»).
Мы над ним посмеивались, но он пошел в гору и долгое время занимал высокий пост в Министерстве нефти и газа, и в Газпроме. Сегодня он уже на пенсии и теперь над нами посмеивается, наблюдая за нашей вечной борьбой за хлеб насущный. У него все финансовые вопросы закрыты на 150 лет вперед.
* * *
Про нефть написано много книг, снято много фильмов и поставлено много спектаклей.
Ничего удивительного. Нефть – таинственный продукт, в ней масса мистического, загадочного, трансцендентного. Так же как золото или алмазы, нефть находится в земле, внутри нашей удивительной планеты. И несмотря на то, что человечество грабит эти богатства многие тысячи лет, щедрая земля продолжает нас подкармливать, продолжает вырабатывать всё новые унции и баррели, удовлетворяя жадность и похоть населения. Конечно, конец этого процесса уже близок, но кто же об этом задумывается? На нас и наших детей хватит, а дальше – будь что будет.
Но распределены эти богатства неравномерно. Кому-то много, а кому-то ничего.
И это сегодня – важнейшая часть геополитики.
Подумайте сами – если в государстве, где вы живете, есть нефть – это одно, а если нет – это совершенно другое. Вспомним, что Саудовская Аравия до 1938 года была заштатным государством третьего мира, нищим и несчастным, всегда с протянутой рукой, а арабские шейхи в своих белых бурнусах были комическими фигурами. Единственный вопрос, который всех занимал тогда: носят ли они под своими одеждами нижнее белье (как выяснилось – нет).
Но после того как на их территории была найдена нефть, да не просто нефть, а нефть высшего качества, в огромных количествах, причем легко добываемая, с низкой себестоимостью, и на саудитов потекли потоки золота, то уже никто не иронизировал по поводу их нижнего белья. Девушки выходили замуж за них в массовом порядке – по восемь на каждого шейха.
Уровень жизни в Саудовской Аравии сегодня – один из высочайших в мире. Для своих граждан нет налогов, бесплатная медицина и образование, каждый родившийся саудовский гражданин получает от государства весьма серьезную финансовую помощь.
А вот Израилю, который если смотреть на карту, совсем рядом с Саудовской Аравией, бог не дал нефти. Не зря же говорят, что Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, причем в отличие от Ивана Сусанина, он действительно заблудился, забрел туда, где нефти нет. Но вроде израильтянам это не помешало построить прекрасную страну, дай им бог здоровья!
Что касается России, которая находится на втором месте в мире по нефтедобыче, то здесь ситуация весьма странная. Высокие цены на нефть или низкие – а государство живет одинаково плохо, инфляция, цены растут, образование и медицина дорожают, дорожает и бензин, дороги всегда отвратительны, дураков всё больше. А нефть качают.
* * *
Но вернемся к искусству.
Так вот, среди многих произведений искусства на темы «нефтянки», хочу поговорить только об одном: это замечательный фильм великого режиссера Пола Томаса Андерсона, который по-русски называется «Нефть». В оригинале этот фильм называется «There will be blood», то есть «И будет кровь». Это цитата из Библии, из книги Исхода, полностью звучит так: «и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах».
Возможно, русским читателям знаком роман американского писателя Эптона Синклера «Нефть»… я когда-то читал его, и он не произвел на меня большого впечатления. Синклер – писатель-социалист, а пожалуй, даже и коммунист, написавший около 90 книг, которые полны обличений американского империализма…
Но фильм – совсем другое дело. Не о политике, о человеке. Фильм рассказывает о великом и ужасном человеке по имени Плэйнвью (в книге главного героя зовут Джеймс Арнольд Росс). Его играет один из великих голливудских артистов Дэниэл Дэй-Льюис.
* * *
Короткое отступление об этом актере. Он малоизвестен в России, здесь нет фан-клубов, нет истеричных поклонниц. За 45 лет (с 1971 г.) он снялся всего примерно в 20 фильмах. И получил 3 «Оскара» – за фильмы «Моя левая нога» «Нефть» и «Линкольн». Он – единственный актер за всю историю, получивший 3 «Оскара» за главную роль (у Джека Николсона тоже 3 Оскара, но 2 за главную роль, и третий – за роль второго плана).
Дэй-Льюис по отцу ирландский протестант, а по матери еврей, его мать – эмигрантка из Риги.
Живет он на два дома, в Лондоне, и в Ирландии.
Один из самых странных и загадочных персонажей среди великих актеров, он не участвует в «тусовках», не бывает на приемах и банкетах, крайне редко дает интервью. Более того, иногда он вообще отходит от киномира, проводит время в Италии, где занимается деревообработкой, а также подрабатывает ремонтом обуви.
В общем, крайне нестандартный актер и человек.
Но я его обожаю. Фильм с его участием нельзя пропустить. А больше всего я люблю один из последних его фильмов – Девять (2009). Это экранизация мюзикла замечательного композитора и моего приятеля Мори Йестона, по мотивам Феллиниевского фильма «8 с половиной». Если не видели – посмотрите.
Дэниел там поет и танцует… Но как!
* * *
Так вот, в фильме «Нефть» Дэй-Льюис играет отвратительного типа, нефтепромышленика начала двадцатого века, ищущего нефть по всей Америке. Он устанавливает бурильные машины, зарабатывает огромные деньги и не смущаясь давит всё на своем пути, разрушает жизнь партнеров, компаньонов и даже приемного сына. В фильме нет любви, практически нет женщин, это суровый, мрачный, очень американский фильм, настоящий американский эпос.
Очень хороша музыка, которая не останавливается ни на миг, это сейчас такой тренд, музыка в хороших фильмах играет непрестанно.
Написал эту музыку Джонни Гринвуд, известный нам по группе «Radiohead». Но музыка совсем не рОковая, наоборот, это музыка близка к европейскому авангарду 60-х годов, она тонкая, сложная, изысканная.
Но главная здесь музыка – это финал Скрипичного Концерта Иоганнеса Брамса. Она несколько раз звучит в начале, она звучит в финале фильма. Она – как луч надежды: всё будет хорошо, человечество победит, все дьяволы, заключенные в черной, блестящей подземной жидкости, будут повержены. Да, будет кровь, человеческая кровь сливается здесь с кровью земли и с кровью войны – с нефтью.
Но жизнь продолжается и всё будет хорошо. Это вывод из фильма «Нефть».
* * *
А вот вывод из моего эссе.
Человечество будет жить. Нефть кончится, а мы нет.
Появится что-то другое. Мы придумаем…
До конца света еще далеко.
Пенсия или Copyright: что лучше?
Словарь Фасмера выводит слово «пенсия» от латинского слова «pension», то есть платёж, но тут же приводит и другое слово, из которого слово «пенсия», возможно, исходит – «pendere» – ценить, оценивать…
Здесь скрыт главный, сакральный смысл пенсии: эта цена твоей жизни, оценка всех твоих прожитых лет.
Жил хорошо, старался, трудился, работал не покладая рук – и вот вышел на пенсию и можешь покайфовать.
Или тщательно откладывал деньги – на свои банковские счета, в различные пенсионные и инвестиционные фонды, бонды, облигации, акции и прочие финансовые инструменты – глядишь, к 65 годам у тебя всё есть, работать больше не надо, и оставшиеся годы (а сколько их там осталось – кто знает?) можешь спокойно наслаждаться жизнью.
Я плохо понимаю, как работает пенсионный механизм, как в России, так и в других странах.
И даже не собираюсь это изучать. Ясно только одно: все эти пенсионные фонды, что частные, что государственные – это колоссальная возможность для воровства, обмана, коррупции. Во всём мире, но особенно в России.
Посмотрите на эти гигантские здания Пенсионных фондов в российских городах, которые всюду выглядят куда шикарней, чем заведомо коррупционные здания Прокуратуры, Судов, Полиции, Следственного комитета и других правоохранительных организаций.
Может, денег там, в этих силовых зданиях, и больше, чем в Пенсионных фондах, но они, наверное, предусмотрительно выведены куда-то в офшор, и даже не в какой-то заграничный офшор, на остров Джерси или Виргинские острова, а просто-напросто «на берег» (буквальный перевод английского слова off-shore – вне берега), то есть на берег какого-то озера или речки вблизи этого города, где обычно за высокими заборами укрываются роскошные поместья наших «слуг народа».
Я не говорю про Рублевку или Новую Ригу, где уже многие годы стоят дворцы наших министров, сенаторов, думцев, руководителей госкорпораций, там же живут олигархи, руководители полиции, ГАИ, прокуратуры, СК и прочие охранители. За границу им сейчас нельзя, и поэтому они прячут свои сокровища, нажитые непосильным трудом, прямо здесь, на дачах. И когда вдруг на какую-то из дач приходят с обыском, то находят такое, что весь мир только ахает и охает. Такие загородные поместья есть в каждом российском городе, местные жители знают эти места, но стараются туда не заезжать: там особая охрана, спец. посты, спец. дороги и все спец.
И во всех этих домах, дачах, дворцах кроются огромные богатства. Конечно, пропорционально городу или области, где эти дома находятся. Маленький начальник – маленькое богатство. Большой начальник – большое богатство.
Все начальники вместе – гораздо больше, чем ВВП Российской Федерации.
Иногда какие-то двери открываются и публике вдруг предъявляют фантастические «острова сокровищ». Но ненадолго. Вскоре «осторожно! двери закрываются», и всё погружается во мрак.
Вспомним хотя бы недавний арест главного таможенника России господина Бельянинова, у которого дома нашли миллиарды рублей, долларов и евро наличными, а кроме того картины, брильянты, золото и пр. Притом что официальная зарплата у него была относительно невелика.
Правда, уже вскоре после ареста выяснилось, что ничего страшного, дело было замято и через пару месяцев г. Бельянинов был назначен президентом крупного банка и все деньги ему вернули.
Я не боюсь его упоминать. Никаких дел у меня с ним нет, а на дуэль, надеюсь, он меня не вызовет.
А начальник Пенсионного фонда России господин Дроздов неожиданно тоже оказался миллиардером. Хотя кто он такой? Просто чиновник не очень крупного масштаба… И никто даже не удивился.
Не хочу рассуждать на эту тему. Есть в России специальные люди, которые борются с коррупцией и воровством, и, надеюсь, когда-нибудь победят.
А что касается пенсионного возраста, о котором сейчас идут такие пылкие дискуссии, то мое мнение однозначно: при всех проблемах и заковыках, его надо повышать. Нигде в мире, насколько я знаю, люди в 55 лет не уходят на пенсию… а тем более в 45, как у нас военнослужащие и работники правоохранительных органов. Даже и в 35 лет военный может уйти на пенсию, если у него есть выслуга 20 лет.
В США, например, возраст ухода на пенсию повысился прямо на моих глазах. В 90-х это было 63, потом стало 65, а сейчас 66. Говорят, что скоро будет 70. Но все это хитро завязано с тем, как вы работали, где вы работали, сколько вы получали.
Если вы работали в хорошей, большой компании, где работодатель исправно платил все пенсионные взносы и налоги, то у вас скапливается неплохой пенсионный фонд, и вы можете после retirement наслаждаться прекрасной жизнью, путешествовать, посещать классные рестораны, курорты и т. д.
А если вы работали в какой-то конторе «Рога и Копыта», где хозяин ничего за вас не вносил, то вы получите 350 долларов в месяц и ни о каких круизах даже не мечтайте.
На этом я закончу свои изыскания, перейду к совсем другой области, которая касается лично меня. А именно: есть ли понятие «пенсия» у творческих работников в России? Скажем, у композиторов?
* * *
Как ни странно, ответ будет: нет.
Во всяком случае, и мне и моим коллегам пришлось столкнуться с разными трудностями.
Когда, достигнув положенного возраста, я пришел в Пенсионный фонд и предъявил свои документы, то тетя за окошком, такая абсолютно пародийная бухгалтерша из недавнего совка, в роговых очках и нарукавниках, меня сразу спросила:
– А где ваша трудовая книжка?
– А у меня нету, – робко сказал я.
Тетя посмотрела на меня удивленно.
– Как нет? У всех есть, а у вас нет?
– Понимаете, я являюсь членом нескольких творческих союзов. И это означает, что я являюсь «свободным художником». По-английски Free lance.
– Не знаю я вашего английского. Но по-нашему должна быть трудовая книжка. А какой у вас трудовой стаж?
– М-м-м, – стал я запинаться, – по нашим правилам, стаж отсчитывается с первой публикации. Первая песня у меня была напечатана, когда мне было 10 лет. Ну вот, стало быть, стаж у меня 50 лет.
Тетка воззрилась на меня удивленно.
– А как вы это докажете? И потом, какой у вас средний заработок? Чтобы начислять пенсию, надо знать, сколько вы зарабатывали.
– О, это просто, – тут я радостно улыбнулся. – Всю жизнь деньги я получал через ВААП, а потом через РАО. Все документы там.
– Это еще что? Тетка явно пыталась это мысленно расшифровать, но у нее не получалось. В те аббревиатуры, которые она знала, типа ВЛКСМ или ОБХСС, эти названия никак не подходили
– ВААП, – сказал я, – расшифровывается как Всесоюзное Агентство Авторских прав, а РАО – это Российское Авторское Общество. Первое название было при Советской власти, а второе – после. Это одно и то же. Работали одни те же люди, и они нас грабили и при советской власти, и после.
– То есть? – не поняла тетка.
– Они говорили, что за свои услуги брали 10 процентов. Потом 15 процентов. Потом 20 процентов. А потом туда пришли следователи и обнаружили, что руководители этой организации имели миллионные долларовые счета, замки в Шотландии и во Франции, тут стало ясно, что они забирали себе не менее половины, а в каких-то случаях – все 100 процентов.
– Ни фига себе, – присвистнула тетка.
Было ясно, что она никогда не слышала ни про «фри лэнсов», ни про «роялти», ни про «Бернскую конвенцию».
Наступила пауза.
– Ну хорошо, давайте вернемся к нашему вопросу, – сказала она сухо. Сколько в среднем вы зарабатывали? Возьмите какой-нибудь период вашей жизни, года три, который вам наиболее выгоден. И чтобы вы могли это подтвердить документами.
– О, это просто, – опять заулыбался я. Все документы хранятся в РАО, которое находится на Большой Бронной. И давайте возьмем период – ну скажем с 1975 по 1977 год.
– Хорошо, – миролюбиво сказала тетка, – мне всё равно. И сколько ж вы тогда получали?
– Тогда я получал 10–12 тысяч рублей в месяц.
Тетка удивленно посмотрела на меня.
– Это вы что, на сегодняшние деньги считаете? 10 000 рублей – это ведь не много?
– Да нет, – сказал я. – Это на те, советские деньги.
Тут тетка задумалась. Мне даже показалось, что я слышу скрип ее мозгов.
Напомню, что в те годы зарплата обычного гражданина СССР была 120–140 рублей в месяц. У людей более высокого уровня это было 250–300 рублей. Самое высокое начальство – генералы, академики, министры, народные артисты, лауреаты Госпремий получали примерно 400 рублей. 500 рублей было высочайшей планкой, за которой находились уже только члены Политбюро, маршалы, руководители госбанков.
Пишу по памяти, может, где-то и ошибусь.
Кстати, пенсия тогда же была практически у всех около 100 рублей. Сужу по своим дедушке и бабушке.
Но вернусь к тетке. Ее мозги, наконец, успокоились, и она сказала, что такого быть не может.
12 000 рублей в месяц тогда никто не получал.
Я сказал, что принесу документы.
Через несколько дней я их принес.
Наступило многодневное молчание.
После чего я получил письмо из Пенсионного фонда, гласящее, что эти деньги не могут быть засчитаны для начисления пенсии, поскольку ВААП в те времена не платил отчислений в Пенсионный фонд. Мои попытки доказать, что в то время Пенсионного фонда как такового не существовало, ни к чему не привели.
Короче, пенсию мне назначили весьма скромную.
* * *
Но зато у нас, авторов (писателей, композиторов, художников, балетмейстеров и многих других), которые создают некие произведения, находящиеся под знаком «copyright», (то есть охраняются авторским правом), существует нечто гораздо более существенное, чем пенсия.
Это так называемые «роялти», которые выплачиваются семье автора в течение 70 лет после его физической смерти.
Довольно странная ситуация – при жизни никаких особых льгот, зато после смерти – прекрасная жизнь. Правда, не для самого автора, а для его наследников.
Что, впрочем, тоже неплохо.
Не буду здесь вдаваться в подробности и копать слишком глубоко. Об этом существуют тысячи книг и научных трудов на всех языках мира.
Скажу только, что «авторское право» появилось сравнительно недавно, в начале восемнадцатого века, и пережило несколько стадий своего развития. В древние времена и в Средневековье никакого авторского права не существовало, и всё, что было создано одним человеком, немедленно становилось достоянием всех. Это касалось и картин, и скульптур, и музыки, и литературы.
Великий Иоганн Себастьян Бах использовал в своем творчестве массу огромных кусков чужой музыки и даже не удосуживался упомянуть об этом
Каждый мог скопировать и воспроизводить что угодно, в лучшем случае его могли упрекнуть в плагиате, в копировании, но никаких судебных механизмов для защиты авторства не было.
Только в 1783 году в США был принят закон об охране авторских прав. Он действовал всего 14 лет. Если автор был жив на тот момент, он мог продлить это еще на 14 лет. Никакие наследники не упоминались.
Далее в течение последних 235 лет этот закон бесконечно изменялся и совершенствовался. Были приняты Женевская и Бернская конвенция по авторским правам, существуют тысячи всяких дополнений и подзаконных актов
На сегодняшний день «Авторские права» – это сложная и разветвленная система, которой профессионально занимаются сотни тысяч людей во всех странах мира. Здесь крутятся огромные деньги, миллиарды долларов кочуют через страны и континенты, находя своего конечного получателя.
Существует масса казусов и странных событий, которые случались на пути выполнения этих непростых законов.
Приведу несколько примеров.
Понятно, что 75 лет рано или поздно кончаются и произведения того или другого автора переходят в так называемый «public domain», то есть в публичную сферу, становятся доступными для всех, совершенно бесплатно. Это, безусловно, относится к классике, писателям и композиторам, которые давно ушли в мир иной. Также это относится к так называемому народному творчеству, фольклору, т. е. песням и стихам, у которых нет автора.
Но тут могут подстерегать ловушки.
Известно, что знаменитая «Хабанера» Бизе, одна из самых знаменитых мелодий на свете, была найдена Бизе в сборнике кубинских народных песен, Бизе счел её народной мелодией и включил в свою оперу.
Позже выяснилось, что у этой мелодии был автор, на тот момент уже покойный Себастьян Ирадьеро. Бизе написал где то в примечаниях, что эта мелодия им заимствована. Но платить не пришлось – в те времена copyright был еще не таким строгим.
Игорь Федорович Стравинский попал в более жестокую историю.
Работая над балетом «Петрушка» (это был 1910 год), композитор жил в Париже и под его окном шарманщик играл одну и ту же мелодию. Стравинскому мелодия понравилась и он включил её в свой балет.
Балет имел большой успех, но внезапно обнаружилось, что у этой мелодии есть автор, некто месье Спенсер, и этот автор еще жив.
На Стравинского подали в суд и долгие годы он платил наследникам господина Спенсера положенную им долю его «роялти».
И еще одна история.
Скорее комическая, хотя и с драматическими обертонами. Великий немецкий композитор Рихард Штраус написал в конце жизни в 1948 году произведение, которое назвал «четыре последние песни». В 1949 году Штраус умер и все его дела перешли к сыну Францу. Где-то в 80-е годы один английский балетмейстер решил поставить балет на музыку «Последних 4 песен». Он, как и положено, послал запрос в агентство Рихарда Штрауса, чтобы получить разрешение. Но ответ всё не приходил. Балетмейстер уже подготовил премьеру, уже идет генеральная репетиция, и вдруг приходит письмо от Штрауса-младшего, что постановка категорически запрещается, поскольку «отец не предполагал использовать эту музыку для танцев».
Что было делать? Отменять премьеру нельзя – билеты проданы. Подыскать новую музыку невозможно, слишком мало времени.
И балетмейстер принял единственное разумное решение.
Они танцевали в полной тишине.
* * *
Завершая свой рассказ, хочу сказать: пока есть правило copyright, авторы будут жить нормально.
Правда, сейчас всё чаще раздаются голоса интернетного Соляриса, что пора это отменить, что всё принадлежит всем, и что всё, что циркулирует в мировой сети, является достоянием человечества абсолютно бесплатно.
Однако пока они не победили. Очень надеюсь, пока существует цивилизованное общество, будет существовать авторское право.
Наверное, и пенсии будут существовать. Но вот в каком виде – бог его знает. Ведь срок человеческой жизни увеличивается, это неизбежный процесс.
И хватит ли у работающей части человечества денег, чтобы кормить всё увеличивающуюся неработающую часть – большой вопрос.
Но до этого еще далеко. Наше поколение как-нибудь докряхтит до своего довольно скорого и предопределенного конца.
А что будет дальше – кто знает?
Чужие в моей жизни
Нам целый мир – чужбина…
А.С. Пушкин
Чужие все.
В том числе и родные. И близкие. И родственники. И друзья. Есть только разная степень отчуждения. Степень понимания. И узнавания. И взаимопроникновения.
Но никогда – до конца.
Все на свете – другие. А значит, чужие.
* * *
Начнем с Освальда Шпенглера.
Именно Шпенглер в «Закате Европы» сформулировал непреодолимый барьер между цивилизациями. Сначала все на него набросились – да как он смел.
А потом обнаружилось, что он был прав. 8 цивилизаций, которые он зафиксировал, действительно разделены довольно серьезными барьерами. Барьерами непонимания, разных этик, эстетик, разными кодексами семьи, войны, чести, разными представлениями о любви, красоте, жизни и смерти.
На эту тему тысячи книг уже написаны, есть фильмы и телепрограммы, есть кандидатские и докторские диссертации, словом, уже всё исписано и исследовано. Русский не понимает китайца, вавилонянин не поймет египтянина, европеец не поймет представителя племени майя…
А те, кто не понимают друга, они – чужие.
Я попробую разобраться в этом при помощи собственного опыта: как лично мне приходилось встречаться с чужими, иногда бороться с ними, иногда стараться находить взаимопонимание, иногда и дружить.
* * *
Начну с того, что я родился в чужом мне городе Ташкенте.
Это получилось более-менее случайно. Я должен был родиться в Москве, где жили мои родители, или в крайнем случае в Одессе, где они поженились.
Но шла война, всё переместилось и смешалось, мама была беременна и рожать в холодной, голодной Москве было небезопасно. А в Ташкенте жили мои бабушка и дедушка, папины папа и мама, и там было тепло и сытно (не буду повторять банальности о «Ташкенте – городе хлебном»). Короче, папа отправил маму в Ташкент, там я и родился.
Миную все подробности, сообщу только, что детство я провел в городах Фергана, Бухара, Андижан, Чирчик, возможно, еще где-то, я забыл. Потом мы поселились в Ташкенте надолго, уже до моего отъезда в Москву.
И всюду я был чужим. И все мне были чужды.
Любимые родители, папа и мама, я им страшно благодарен за всё. Но и они уже с моих лет двенадцати понимали меня плохо. Я увлеченно пилил виолончель, бренчал на пианино, слушал часами пластинки с музыкой Рахманинова и Малера – им это казалось странным, не нашим, чужим… Родители были советские инженеры, любили Утесова и Шульженко, в оперу и в филармонию ходили редко. Делать из меня профессионального музыканта они не собирались, и с удивлением смотрели на мое непонятное развитие.
Сначала я учился в нормальной средней школе, а класса с четвертого меня взяли в музыкальную школу при консерватории, где мы проходили и общеобразовательные предметы.
Но и там я ощущал себя чужим. Все девочки с утра до вечера занимались на рояле или на скрипке, быстро и громко играли гаммы и этюды, и уже лет в 12 вполне бегло исполняли Шопена (пианисты) и Венявского (скрипачи). Я тоже занимался на своей виолончели, играл Поппера и Боккерини, но почему-то больше времени проводил у пианино, рассматривая оперные клавиры и симфонические партитуры, а еще больше проводил времени в школьной библиотеке, где без разбору читал всё подряд, книги по философии, по истории искусств, и книги о музыке и композиторах.
И, конечно, я чувствовал себя чужим среди своих.
* * *
А во дворе. Да, конечно, был двор, мы жили в многоквартирном доме, вокруг стояли такие же дома, и там складывались компании. Поскольку я к тому времени уже прилично научился играть на рояле и аккордеоне разные песенки, меня с удовольствием приглашали в «элитные» молодежные компании, которые зачастую были дворовыми бандами, занимающимися легким грабежом – в основном грабили пьяных, бродящих в избытке по городу, а иногда и тащили что-то из магазинов или аптек. Я не участвовал, но часто присутствовал при этом, иногда даже испытывая чувство гордости. Однажды мы особенно загордились, когда в местной газете журналист, перечисляя местные молодежные группировки, упомянул и нас – мы назывались «Новомосковские» по имени улицы Новомосковской, вокруг которой жили. У всех были клички – Боб, Чика, Алайский. У меня была кличка Композитор. Странно – на тот момент я композитором не был, мои скромные опусы на тот момент еще никто не слышал и не исполнял.
Наша компания состояла в основном из русских ребят (евреи, украинцы, белорусы считались русскими). Однако рядом были такие же группировки узбеков (туда входили все люди из азиатских семей, казахи, киргизы, туркмены). Они были по-настоящему чужими, мы с ними дрались.
Особняком держались таджики, я уже с детства знал, что таджики – совсем других кровей, они персы, у них другой язык, они гораздо древнее, чем все остальные наши соседи. Кстати, и вели они себя по-другому, никогда не ввязывались в драки, не были агрессивными.
Дрались мы не сильно, до оружия никогда не доходило, в ход шли иногда палки или камни, но ни ножей, ни огнестрельного не было.
Самыми агрессивными были армяне, «тельманские армяне» (они собирались в парке Тельмана). Ходили легенды об их кровожадности, об их разборках и гигантских побоищах с реальными взрослыми, даже с курсантами из находящегося рядом военного училища, где оружие порой шло в ход совсем не игрушечное.
В дальнейшей жизни я очень часто пересекался с армянами, мои близкие друзья и партнеры были армяне, но легенды об их кровожадности не подтвердились…
Меня, кстати, ребята из «новомосковских» всегда держали в сторонке, чтобы не дай бог никто меня не повредил, не сломал палец или руку. К тому же я уже в то время был в очках, а когда я терял очки, толку от меня было мало.
Но все равно – все были чужие. Да и среди своих я был чужим.
* * *
Я стал постарше и в моей жизни появились новые чужие – женщины.
Они всегда были рядом – одноклассницы, пионервожатые, молоденькие учительницы. Я в них влюблялся, ими очаровывался, мечтал о них днем и ночью. Но это были мечты, грезы, фантазии. Еще был слишком мал, чтобы понимать, чего именно мне хочется и в чем привлекательность их чужеродности, в чем суть таинственного притяжения этих удивительных «других» существ.
Конечно, я знал от других мальчишек, которые якобы «всё прошли», всё видели, всё знали, я уже вовсю пользовался непечатными словами и видел несколько непечатных фотографий и картинок, и более-менее себе представлял. Но до практики дело пока не доходило. Мои попытки сблизиться с женщинами, как правило, старше меня, вызывали у них насмешки и подшучивания, типа «рано тебе, сынок, пойди пока наберись сил.»
Однако настал момент, когда и я стал представлять интерес для женщин, когда и они стали замечать меня как возможного партнера.
Первый раз это случилось в 16 лет. Совсем чужая, малознакомая женщина, намного старше, соблазнила меня. В самом буквальном смысле – зазвала к себе домой и стала учить меня делать то, что я не умел. Я оказался способным учеником и кое-как справился с задачей.
А потом – о, боже! Наступил перерыв почти 4 года. Как я их, чужих странных существ, ненавидел в этот период!
Та первая женщина куда-то исчезла, а новой не появлялось, и я ужасно мучился. Следующий раз это произошло, когда мне было 19, появилась, наконец, девушка, с которой я «встречался». Даже приводил её к себе домой, сначала украдкой, когда родителей не было дома, а потом и родители не возражали, чтобы она приходила при них.
Потом исчезла и она. Появились другие, они учили меня сложной науке «быть с женщиной», сложному комплексу не-писанных правил, кодексу чести, уставу любви.
Собственно, этому мужчина учится всю жизнь. Я уже около 43 лет живу со своей любимой женой Ирэной Гинзбург-Журбиной, и она до сих пор меня учит науке уступать, умению дарить, задумывать желания и, если надо, стоять на своем. В конечном счете, мужчина и женщина, живущие много лет вместе, становятся как бы одним существом. Нет, чужеродность не исчезает, не устраняется, разница остается, но возможность примириться, найти общее решение, найти компромисс становится реальностью. Мужчина и женщина становятся своими, хотя где-то в глубине они не забывают: мы – чужие. Мы другие. Именно поэтому мы вместе. Плюс и минус, Северный полюс и Южный, красное и черное.
* * *
А потом в нашей жизни появилась Америка. Сначала это были лишь сигналы, отголоски, зарницы…
Вообще-то Америка была со мной сколько я себя помню. Джаз, кино, мюзиклы, «Голос Америки», журнал «Америка» первая пепси-кола, жвачка, джинсы. В нашей среде (юных музыкантов) было три градации обозначения чего-то хорошего: Лом, Чума, Америка.
Лом – хорошо.
Чума – очень хорошо.
Америка – супер, прекрасно, отлично.
Америка казалась другой планетой, мы ее в глаза не видели, да и не мечтали увидеть, но всё, что было оттуда, было заведомо прекрасно.
В конце 80-х стали приезжать американцы, и мы с ними часто встречались. Они приходили к нам в гости, мы ходили на разные вечеринки. Американцы казались нам очень своими, мы не чувствовали никакой разницы между нами, они были веселы, улыбчивы, всегда готовы прийти на помощь.
В 1986 году мы поехали впервые в Америку и до 1990 года были там пять раз.
А в 1990 году мы всей семьей – я, Ирина и наш сын Лева, тогда ему было 11 лет, переехали в США, я получил контракт, и мы прожили в Америке 12 лет.
Мы поселились среди чужих. Всё оказалось не так просто. Они остались весёлыми и улыбчивыми.
Но гораздо реже.
Они были готовы прийти на помощь.
Но в гораздо меньшей степени.
Те, кто в наши первые приезды охотно покупали нам билеты из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, возили на лимузинах, и приглашали на гурмединнер, где билет стоил 1500 долларов, вдруг немного охладели. Те, кто говорили, что я должен завоевать Америку своей музыкой и они для этого всё сделают, вдруг уменьшили свой энтузиазм и уже ничего не обещали.
Мы вдруг оказались одни на необитаемом острове. Среди чужих.
Ничего. Мы не пропали.
Мы овладели чужим языком.
У меня был свой контракт, Ира получила работу на Русско-Американском телевидении. Я стал преподавать в колледже, наш сын закончил лучшую в мире консерваторию Julliard School. Всё сложилось правильно, так, как было записано в Книге Судеб.
Главное, что мы поняли – американцы действительно очень хороший народ. Они искренне любят иммигрантов, и с удовольствием оказывают им посильную помощь.
Но они вовсе не хотят, чтобы недавно приехавший иммигрант жил так же, как и они, приехавшие два-три поколения назад.
Распространенная формула – съешьте свою порцию дерьма, как это сделали наши родители – действует до сих пор. Вы только приехали – вот вам одежда (ношеная), еда (дешевая). жилье (очень маленькое и подгнившее).
А дальше – давайте сами. Сможете – пробьетесь. Нет – так и останетесь на самом низу. Вы пока не наши. Вы чужие. Попробуйте стать своими.
Через 12 лет я вернулся в Москву. Вернулась моя работа, я опять стал писать для кино и театра, меня стали приглашать на модные вечеринки и на телепрограммы.
Но я опять попал в общество чужих. Поисчезали друзья, некоторые уехали, некоторые умерли, некоторые перестали быть друзьями.
И практически все мне говорили: «Старик, ты зря вернулся. Твой поезд ушел. Тебя никто не помнит. Тебе никогда уже не подняться на ту высоту, на которой ты был до отъезда.»
А я им говорил: «Может, вы и правы. Но дайте попробовать.»
И я пробовал. Я не ленился. Наоборот, с удвоенной силой принялся за работу. За последние 15 лет написал огромное количество музыки. Не мне судить, какого она качества, но то, что её очень много – это неоспоримый факт.
И до сих пор я много работаю и у меня еще масса планов.
* * *
Поэтому:
Не верьте чужим.
Отгоняйте чужих от себя.
Знайте, что все люди вокруг на самом деле относятся к вам плохо.
За вашей спиной они говорят о вас гадости. Но при встрече улыбаются и говорят комплименты.
Любой ваш провал или неудачу они воспримут с радостью, и будут втихаря судачить, хотя в вашем присутствии будут вам сочувствовать и утешать вас.
Радуйтесь, если у вас есть хотя бы несколько близких людей – жена (муж), родители, дети, 1–2 близких друга. Больше не бывает, да и не надо.
Однако ведите себя прилично. Толерантно. Улыбайтесь, делайте вид, что вы не замечаете мелких укусов, знайте, что всё пройдет, следы от укусов пройдут, шрамы исчезнут, а вы зато не нажили новых врагов.
Но ничего не забывайте. Когда-нибудь ваша память пригодится. Знайте каждому цену, помните его истинное лицо.
И всегда имейте в виду: все вокруг вас – ЧУЖИЕ.
Я не верю в чудеса
Уже когда я написал этот текст и дал ему название, кто-то сказал, что есть пошлая эстрадная песня с таким «тайтлом». Надо менять название, подумал я. А потом понял, что практически любая фраза, возможно, является названием песни или каким-то слоганом, девизом или хэштегом. И решил – пусть остается.
Итак…
Я не верю в чудеса…
Не верю в магию, черную и белую, не верю в колдунов, волхвов, чародеев, волшебников, как добрых, так и злых, не верю в ведунов, гипнотизеров, не верю в месмеризм, флюидизм и животный магнетизм.
Не верю астрологам, звездословам, гадалкам, эзотерикам, оккультистам, предсказателям будущего и толкователям прошлого, не верю в пророческие календари китайцев, майя, ацтеков и друидов.
Не верю также в гностицизм, каббалу, теософию, суфизм, йогу и ваджраяну. Не верю Блаватской, Гурджиеву и миллионам вокруг них.
Не верю целителям. Никаким. Даже бесконтактным, которые делают загадочные пассы перед организмом.
Не верил Джуне, Кашпировскому и Чумаку. Со всеми тремя был лично знаком. Они на меня никак не действовали.
Не верю в сказки, легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима.
Совсем не верю в евангельские чудеса, сколько бы мне ни твердили, как пятью хлебами и двумя рыбами можно накормить толпу, как ходить по воде «аки посуху», как делать из воды вино, и как можно «восстать из мертвых, смертью смерть поправ».
Я не верю в чудо «схождения огня», которое происходит каждый год в период Пасхи. Не может такого быть и всё. И то, что нам ежегодно показывали на Пасху, а потом кудесник Якунин привозил это в Россию – просто цирковой фокус, причем довольно низкого уровня. (Off-topic: любопытно – кто займет место кудесника и привезет нам огонь в 2020 году? Впрочем, скоро узнаем).
Не верю в домовых, леших, не верю в барабашек, полтергейст и вампиров, не верю в нечистую силу в любых ее проявлениях, не верю в черта, а заодно и в бога.
Не верю практически ни во что. Такой я скептик, агностик, атеист, Фома неверующий, вне конфессий и религий, я верю в смерть после жизни, но не верю в жизнь после смерти.
* * *
Не верю в природные чудеса. В природе, на Земле и во Вселенной в принципе не может быть чудес, поскольку всё, что происходит в материальном мире, всегда объяснимо при помощи неких формул и цифр. Просто ученые еще не дошли до некоторых формул, которые бы всё объяснили.
Сами посудите, сначала, условно, был уровень Архимеда и Пифагора, потом Декарта, потом Ньютона, потом Эйнштейна, сейчас уровень некоего условного Нобелевского лауреата, комбинирующего в себе все достижения фундаментальной науки за последние 60 лет (Эйнштейн умер в 1955 году).
Объяснить Исааку Ньютону, что такое Большой андронный коллайдер, скорее всего, невозможно, а сегодня там, на коллайдере, работают около 3000 ученых, средний возраст – тридцать лет.
То, что нам долгое время казалось чудом – туристические полеты в космос, разговоры с собеседником, видя его сквозь огромное расстояние, печатание органов человека на 3D принтере – сегодня это стало реальностью. И никаких чудес. Просто опыты, ученые, лаборатории, огромные бюджеты для фундаментальных исследований.
Старику Хоттабычу переговоры по скайпу показались бы фантастикой, сегодня к этому легко привыкает трехлетний ребенок.
Так что не надо искать чудо в мире реальности. То, что еще сегодня кажется вам непредставимым, невероятным, фантастическим – скажем, телепортация человека… просто подождите немного. И это станет реальностью.
На секунду вернусь к Эйнштейну. Ему принадлежит великая фраза: «Есть два пути прожить свою жизнь. Первый – считать, что никаких чудес не бывает. Второй – считать, что всё в мире чудо».
Я принадлежу к первым.
* * *
Но если вы не верите чудо, в какого-нибудь бога или полубога (что практически одно и то же, как говорил О. Бендер) – делайте вид, что верите. Верить – это хорошо. Это правильно. И это полезно для вашей жизни.
Вера, и все организации, распространяющие веру в современном Западном обществе – это некоторая моральная необходимость, организующая структура, некая нить или скелет, на который нанизываются все остальные институции человечества. Проведя много лет на Западе (в США), я убедился, что наличие религиозных организаций крайне важно – просто для порядка в обществе.
Вы должны принадлежать к какому-то храму, будь это христианство, ислам или иудейство (во всех ответвлениях), но это может быть и зороастризм, и манихейство, индуизм или даже какой-нибудь шаманизм.
Всё равно, вы должны к чему-то принадлежать.
Иначе вам плохо на этой Земле.
В этом смысле такие как я, Фомы неверующие – самые несчастные на Земле.
Впрочем, нас не так мало.
Если я назову пять имен наугад, вы сразу поймете, что это неплохая компания.
Шопенгауэр, Ницше, Спиноза, Фрейд, Камю.
* * *
Еще немного о Боге.
Всегда хочу спросить у тех верующих, которые ходят с большим крестом на груди (грудях), а как выглядит ваш бог? Нет, правда, кого вы себе представляете, когда молитесь?
Я думаю, что уже давно никто не верит, что седобородый Боженька-на-Небушке сидит, оттуда на нас поглядывает, чтобы мы ничего плохого не сотворили.
Вообще, идея, изложенная в самой Первой главе Книги Бытия (Бытие, 1, 27) является большой неудачей авторов, которые писали этот текст. Те, кто верят, что эти тексты вне человечны и боговдохновенны, пусть пропустят это место.
Я абсолютно убежден, что все эти тексты написаны человеком или несколькими людьми, естественно, на много тысячелетий позже, чем происходили описываемые события, и, конечно, такую нелепость, что человек похож на бога, мог написать только не очень образованный и не очень талантливый писатель.
Все попытки описать в Библии, как выглядит бог, смехотворны, на уровне какого-нибудь Диснеевского фильма.
Вот что говорит на эту тему, например, пророк Иезекииль:
«А над очертаниями трона – словно бы фигура человека. И видел я выше очертаний поясницы словно бы янтарь, объятый огнем…»
А вот что сообщает нам пророк Иоанн в своих «Откровениях»:
«Голова Его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег. Глаза Его как пылающий огонь, а ноги – словно сверкающий металл, раскаленный в горне, и голос Его словно грохот водопада. В правой руке у Него семь звезд. И из уст Его исходит обоюдоострый меч. Весь облик Его словно палящее солнце в зените».
Вы в такого бога верите?
Можно это сегодня воспринимать всерьез?
Сегодня мальчик из первого класса представит бога скорее всего как суперкомпьютер. Со множеством – мириадами – разных включенных и помигивающих лампочек.
Да и то правда – мог ли древний человек представить себе бога, как Тарковский в фильме «Солярис»?
* * *
Но так уж и быть, признАю: есть и нечто, что всё-таки можно отнести к чудесам.
- Чему бы жизнь нас ни учила,
- Но сердце верит в чудеса:
- Есть нескудеющая сила,
- Есть и нетленная краса.
– говорит Федор Иванович Тютчев. Да, да, именно краса – это и есть чудеса.
Я верю только в рукотворные чудеса. То есть в чудеса, сотворенные человеком.
В данном случае, конечно, имеются в виду плоды любой человеческой деятельности. Не только «сделанные руками». Когда Пушкин говорит «я памятник себе воздвиг нерукотворный», здесь, конечно, метафора, даже метонимия, перенос значения… потому что памятник, созданный Пушкиным, безусловно, рукотворный, он сотворен человеком, и неважно, чем именно – руками, ногами, головой или таинственной душой.
В нашей системе выражение «нерукотворный памятник» – это, скажем, Млечный путь.
Или Эверест.
Или Ниагарский водопад
Кстати, подумаем: а являются ли названные предметы чудом. Разве мы не восклицаем, увидев тот же Ниагарский водопад живьем – да это чудо!
А на самом деле – ничего подобного. Чем Ниагарский водопад лучше, чем, скажем, пустыня Гоби?
Или Гранд Каньон.
Ничем.
Красиво, скажете вы?
Для кого?
Нет таких критериев, которые могли бы это описать или измерить. Та самая «равнодушная природа», которая будет «красою вечною сиять», по утверждению поэта, после нашей смерти – ей, природе, совершенно начихать и на нас, и на наше восхищение ею. Она (оно?) живет по своим законам.
* * *
Обратите внимание, что все 7 чудес света были «рукотворными», все они были сделаны людьми. Хотя в те времена существовали удивительные горы, плато, гейзеры, водопады и так далее. Но древние не считали их чудесами. По той же причине – природа равнодушна. Древние это понимали.
* * *
«Я помню чудное мгновение» – вот чудо!.. Эта строка – и всё стихотворение.
А было ли это чудо в реальной жизни?
Вряд ли.
Мы все помним, что поэт писал об Анне Петровне своему другу Соболевскому, даже и не буду это цитировать, крайне затасканно.
Но это на полях, это маргинально, это вообще не имеет значения…
Стихотворение же великое, вписано золотыми буквами в анналы русской поэзии, настоящее чудо света.
Данте, Петрарка, Блок, Маяковский, Бродский – их любовная жизнь в реале была скорее всего несчастной. Но именно это дало нам великую поэзию, то самое чудо, которое мы ищем.
А представим себе, что Маяковский женился бы на Веронике Витольдовне Полонской, она бы служила в театре Ермоловой, он бы с ней дожил до Брежнева (Маяковскому было бы всего 70), ему дали бы квартиру на Аэропорте, он писал бы стихи в «Правду», отвоевывал себе дом в Переделкино и ругался с Евтушенко и Вознесенским.
В этом случае он вряд ли бы кого-то сегодня интересовал.
Но все случилось так, как могло случиться только у великого поэта. И мы до сих пор повторяем его строки с замиранием сердца.
Короче – верю только в рукотворные чудеса. В создания людей. В стихи, картины, скульптуры, романы, симфонии, кинофильмы, в хореографию, режиссуру, архитектурные сооружения, актерскую игру… Здесь случаются чудеса… и они остаются навеки (даже актерская игра, танец, игра на музыкальных инструментах сегодня, благодаря всяким новейшим изобретениям, сохраняется).
Да здравствует искусство – единственное чудо на земле! A реальная жизнь всего лишь подражает Искусству, как сказал Оскар Уайльд.
На этом и закончим.
Путевые заметки: Большое авиаморское путешествие
(или Заметки верхогляда)
Внутри бонус:
три бесплатных предсказания от автора
Казалось бы, обидное слово – «верхогляд». Вынести этакое слово в заголовок – значит заранее подставить себя. «Да он и есть верхогляд» – будут говорить досужие критиканы. «Ничего не понял ни в Китае, ни в Японии, ни в Австралии, ни в Индонезии. Так всё поверхностно, поплавал, поездил, посмотрел и написал. Всё по верхам да по верхам… а вглубь и не пытался…»
Ну да. так и есть. Посмотрел – и написал. Описал то, что увидел.
Точно так же Колумб, Марко Поло, капитан Кук и многие другие – у них не было компьютеров и современных карт, они просто плыли и описывали то, что видели. Иногда правильно, а иногда и совершенно неверно.
Вот пример: знаменитый капитан Джеймс Кук побывал на Тасмании в 1777 году. А тот, кто открыл Тасманию, и чьим именем она названа – Абель Тасман, побывал там аж в 1642 году, то есть на 130 лет раньше.
Но ни Тасман, ни Кук не подозревали, что Тасмания это остров. Они думали, что Тасмания – продолжение Австралии.
И только в 1798 году некий Джордж Баас обнаружил, что между Австралией и Тасманией есть пролив (сейчас он называется пролив Бааса) и, стало быть, Тасмания является островом.
Были ли Кук и прочие мореплаватели малограмотными? Неопытными? Укрывателями истины?
Нет.
Они просто описывали то, что им было доступно.
Вот так и я. Описываю то, что вижу, и делаю какие-то умозаключения. А то, что они, возможно, неверные – да я и не претендую на истину в последней инстанции.
Ведь я не разбираюсь ни в политике, ни в экономике… да вообще ни в чем не разбираюсь (ну, немного разбираюсь в музыке).
Просто пишу по верхам, пишу о том, что увиделось, что запомнилось.
* * *
Хотя определение «по верхам», «верхний регистр», «вершина», «верхушка» не всегда имеет негативный оттенок.
Например, верхние ноты, высокие ноты, самые желанные для певцов и самые труднодостижимые. И именно они вызывают наибольший восторг у публики.
* * *
Тут же рядом и слова «высота», «верх» в смысле «вершина».
«Верхи» – это почти всегда главные люди, и тут приходит в голову не только «встреча в верхах» (summit), но и «высокое собрание», «высокий суд», да и просто «высокий уровень».
Много смыслов. Попытка схватить некий верхний смысл, охватить картину целиком, сверху, панорамно. Не залезая в науку, статистику, карты и цифры, а просто – посмотреть со стороны. или с палубы корабля.
Нет, мне нравится наш великий и могучий.
И нравится слово «верхогляд».
Вспомним Астольфа де Кюстина. Он ведь провел в России в 1839 году менее трех месяцев, сначала в светском обществе Санкт-Петербурга, после посетил три русских города (Ярославль, Владимир, Нижний Новгород), затем Москву – и домой, в Париж.
Мог ли он за это короткое время что-то всерьез исследовать, анализировать, измерить?
Конечно, нет.
Но он многое почувствовал, «проинтуичил», как сейчас говорят. И написал одно из самых точных за многие годы описаний России, как бы его не проклинали (до сих пор!) некоторые российские чиновники и историки.
Вот и я надеюсь, что удалось подсмотреть нечто важное и ценное, то, что мне показалось интересным.
И это мне и захотелось описАть.
Шанхай
Итак, одним прекрасным весенним утром, в конце марта, я и моя жена Ирина Гинзбург-Журбина, писательница, переводчик и исполнительница песен, сели в Шереметьево в самолет и примерно через 10 часов вышли в аэропорту Пудонг города Шанхая.
Было тепло, пели птички, цвели цветы. Нас встретили и отвезли в гостиницу.
Мы уже дважды бывали в Шанхае до этого, но каждый раз очень коротко, проездом. На этот раз мы запланировали провести здесь 5 дней.
Было приготовлено 3 варианта сопровождения, 3 группы людей, с которыми мы договорились проводить время, и которые обещали показать Шанхай.
Первая, скажем так, официальная. Это милейший Михаил Дроздов, русский дальневосточник, живущий в Китае много лет, руководитель Общества соотечественников, причем если не ошибаюсь, руководитель Общества соотечественников не только живущих в Китае, но и во всех остальных странах, такой важный функционер.
Но в нем не было никаких следов чиновничества и «бронзовитости», наоборот, человек очень теплый и сердечный, большой любитель поэзии и коллекционер книг. Ему удалось собрать огромное количество изданий, брошюр, журналов, которые выпустили за долгие годы русские эмигранты в Китае. Эта поистине бесценная коллекция еще ждет своей оценки.
Михаил водил нас по своему Шанхаю, связанному с Россией. Показал нам памятник Пушкину, Русскую православную церковь (увы, не действующую, некому ходить!), район, где жила русская эмиграция. Этот район находился во французской части Шанхая.
Гостиницу, где жил Вертинский, и зал, где он выступал. Это было очень интересно.
Действительно, сейчас это многими забыто, но в Шанхае после революции была большая русская колония. После разгрома Приамурской республики многие офицеры с семьями переместились в Харбин, а затем в Шанхай.
Шанхай стал уже в то время огромным городом, где можно было найти себе применение, а режим был легким, не надо ни визы, ни вида на жительство. В 1937 году в Шанхае проживало 25000 русских, самая большая иностранная диаспора в городе.
Некоторые имена нам хорошо известны: уже упомянутый Александр Вертинский, основатель джаз-оркестра Олег Лундстрем, который начинал свою карьеру именно в Шанхае. Там много раз бывал Федор Шаляпин.
Увы, ничего этого больше нет. Не осталось даже следов. Если в Париже или в Нью-Йорке до сих пор живут отпрыски старых фамилий, дворяне и их потомки, которые сохраняют русский язык и русские традиции, то в Шанхае этого нет совсем. Так нам сказал Михаил Дроздов, человек, который занимается этим профессионально.
* * *
Вторым нашим сопровождающим был Бэй Веньли, профессор Шанхайского университета, преподаватель русского языка и литературы. Он говорит по-русски абсолютно безукоризненно, у него есть и русское имя – Володя (он носит это имя лет 30, поэтому не стоит подозревать его в попытке подлизаться к нашему президенту).
Он организовал нам концерт в Университете (который прошел триумфально), провел с нами много времени, и показал свой Шанхай. Володя – коренной шанхаец, вырос в центре Шанхая, и надо было видеть, с какой тоской он рассказывал о том, как снесли его дом и все дома вокруг. Конечно, сейчас построили более современно, более красиво. но его тоска по прошлому никогда не пройдет.
Бэй Вэньли воспитывает русистов, то есть китайцев, говорящих по-русски. Жаловался, что с работой у русистов вечные проблемы, надобность в них то возрастает до небес, то падает до нуля.
Однако его воспитанники принимали нас как посланцев небес. Крик и писк, который стоял, когда я выходил на сцену, трудно переоценить.
Но стоило мне направиться со сцены к выходу за кулисы, как аплодисменты мгновенны стихали. Такое впечатление, что их просто вынимали из электрической розетки. Странно.
Это китайцы. Они вот такие.
Но профессору Бэй Вэньли я очень благодарен. Надеюсь, будем дружить и дальше.
* * *
Говоря о китайцах надо отметить банальную вещь: их много.
Их очень много.
В первый же день мы вышли из гостиницы на улицу и попали в водоворот. Да, буквально, в водоворот, как в детстве на первомайской демонстрации, или как на Таймс-сквер в Нью-Йорке, когда падает новогодний шар.
Причем это был будний день, послеобеденное время. Казалось бы, куда они идут? Откуда?
И только позже я понял, что так здесь всегда.
Идут люди, живущие в этом городе, а также те, кто живут в других городах и приехали в Шанхай погулять.
Им очень подходит малоупотребительное слово «сонм», вот именно такой сонный сонм. Они идут, и их не остановить.
* * *
На всякий случай я выучил несколько слов по-китайски. Может пригодиться.
Например:
Нихао – здравствуйте (буквально «вам хорошо», «чтобы у вас было все хорошо»)
Хао – хорошо
Сиси – спасибо
Бу яо – не надо
Дыбаси – извините
Бейдин – Северная столица Пекин
Найдин – Южная столица Нанкин
Пару раз мне эти познания пригодились.
* * *
Третьей «партией» тех, кто нас сопровождал в Шанхае, была пара: русский парень Евгений и его подруга Лина, китаянка. Лина – очень хорошая певица, поющая и по-китайски, и по-русски (а также на любом европейском языке).
Евгений превосходно говорит по-китайски, когда он разговаривает с китайцами по телефону, они его принимают за своего.
Мы познакомились с ними в Москве, буквально за несколько дней до отъезда в Шанхай, и это было очень удачное совпадение.
То, что они нам показали, было из раздела «уникальный» и «труднодоступный».
Например, мы были с ними в закрытом клубе, в котором увидели много удивительных вещей. Там росли какие-то редчайшие растения необыкновенной красоты, на стенах висели произведения китайских каллиграфов, и мы впервые сумели оценить тончайшую работу этих мастеров и разные каллиграфические школы.
Для тех, кто не знает, поясню, что написание китайских иероглифов является высочайшим искусством, и опытный взгляд сразу понимает уровень «художника». Не знаю, правильно ли называть такого человека художником, но то, что за этим стоит колоссальная традиция и философия, совершенно очевидно. Произведения великих каллиграфов прошлого стоят сегодня огромные деньги.
Мы удостоились подарка одного из современных каллиграфов, который заодно с нами отобедал в этом клубе.
Самое удивительное в этом клубе – стены. Сделаны они из… чая. Какой-то особый сорт чая, которому не страшны никакие коррозии и деформации. Сегодня этому чаю около 150 лет, и, как сказали нам хозяева, грамм подобного чая стоит столько же, сколько грамм золота. А еще через 100 лет этот грамм будет стоить в пять раз больше.
Евгений и Лина показали нам свой Шанхай, волшебные рестораны, клубы, театры (в Шанхае множество театров), бесконечные торговые улицы.
Интересно, что подделок там стало гораздо меньше. Если раньше все магазины были завешаны «Шанелями», «Эрмесами», «Гуччами», «Луи Виттонами» и пр., то сегодня этого нет. То есть наверное есть, но скрыто где-то, подальше от людских глаз. Очевидно, всё-таки западные производители нашли способ сдержать поток китайских подделок. Впрочем, мир ими наводнен в любом случае, и никуда от этого не денешься.
* * *
Китай – удивительная страна, а Шанхай самый удивительный китайский город. Мы были и в Пекине, и еще в нескольких более мелких городах, но ничего похожего на Шанхай.
Еще мы узнали про город Макао, вернее, это такая маленькая страна, находящаяся внутри Китая.
Рядовой китаец не может поехать просто так в Макао, ему надо пробить визу и заплатить за это немалые деньги. Причем визу дают только раз в 4 года, как я слышал.
Причина простая: Макао – это город азартных игр и разврата, в гораздо большей степени чем Лас-Вегас. А китайцы страшно азартный народ. Я наблюдал их в Лас-Вегасе, они здорово умеют играть, мгновенно считают в уме и иногда блестяще выигрывают и в рулетку и в блэкджек.
Но, в конечном счете всегда, как известно, выигрывает казино…
А у китайцев в организме нет тормозов, они не могут остановиться и проигрывают порой всё до нитки, все деньги, дом, имущество – всё.
Поэтому им ограничен въезд в Макао.
* * *
Стоит отметить еще одно уникальное явление: города-призраки, которые мы видели на многих китайских хайвеях. Представьте, вы едете по шоссе, и вдруг справа и слева вырастают огромные дома, практически небоскребы, и они образуют целые кварталы и даже города. Но когда подъезжаешь ближе, вдруг понимаешь, что это не настоящие дома, а скорее декорации. Нет, дома настоящие, каменные и кирпичные, но к ним не подведена ни вода, ни электричество, в этих квартирах никто не живет, и в ближайшее время не собирается. Рядом нет ни магазинов, ни школ, ни детских садов.
Что это? – спрашивали мы, и нам отвечали, что китайские девелоперы строят эти новые кварталы впрок, на будущее. Ведь китайцев очень много, и будет еще больше (сейчас им разрешили иметь 2-х детей в семье, а до недавнего времени только одного). То есть скоро их будет не «очень много», а «очень-очень много». И мир изменится.
ПОПЫТКА ПРЕДСКАЗАНИЯ 1.
Мне кажется, китайцы постепенно завладеют миром и поднимутся на самый верх политической иерархии, оставив позади чересчур политкорректных американцев и слегка одряхлевших европейцев. У них есть для этого все: молодая энергия, огромные финансовые ресурсы, и главное, очень много людей.
Нет, они не будут ничего завоевывать, они народ особо не воинственный (напомню, что именно китайцы, точнее даосские монахи и алхимики, изобрели порох, но столетиями не использовали его для стрельбы, а только в медицинских целях и для всяких фейерверков).
Пока США, Европа и Россия занимались войнами, гонкой вооружений, бесконечными разборками между собой, китайцы занимались производством своего главного оружия – а именно, производством китайцев. Сегодня их примерно четверть населения нашей планеты. Легко представить, что лет через 15–20 их будет половина, ведь темпы прироста населения по-прежнему гораздо выше, чем у остальных.
А дальше будет следующее. Китайцы уже сегодня составляют довольно существенные этнические группы в США, во многих странах Европы, теперь уже и в России их много… Они скромные, они работящие, никто не возражает против их ресторанов и прачечных.
Но скоро, очень скоро у них появятся локальные политические лидеры. И они начнут выдвигать свои кандидатуры на голосование. Сначала на мелкие должности, в каких-нибудь районах и уездах, но постепенно двигаясь все выше.
Простая вещь: ведь демократия – это верховенство большинства. Довольно тупое правило, оно мне никогда не нравилось. Но менять уже поздно. Демократия – вещь плохая, но все остальные еще хуже (затертая цитата). Побеждают те, кого больше. Стало быть, китайские голоса начнут побеждать. Уже скоро. И власть постепенно, совершенно легально, перейдет к китайцам.
Нет, ничего страшного. Китайцы, живущие в Америке или во Франции, вполне цивилизованные люди, прекрасно говорящие на европейских языках, очень воспитанные, вежливые, приятные господа.
И демократичные американцы, европейцы, а возможно, и русские, будут вынуждены признать победу китайцев. И президентами многих стран станут люди с китайской внешностью, но с некитайскими именами и паспортами в кармане.
И мир будет другим. Все будут вынуждены выучить китайский язык. И китайские обычаи.
Каким именно будет мир – мы пока не знаем. Но он, мир, уже никогда не будет таким, каким он был в двадцатом веке.
Почитайте роман Мишеля Уэльбека «Покорность».
Посмотрите на нового мэра Лондона.
И вы всё поймете.
Круиз начинается
В Шанхае, в первых числах апреля мы с Ириной взошли на борт круизного корабля «INSIGNIA» (можно перевести как «ОРДЕН» или как «УДОСТОЕННЫЙ ОРДЕНА»).
Краткая история круизов
Слово «круиз» известно давно (по-английски cruise, читается как «круз»). Произошло это слово, предположительно, от датского «kruisen», что означает пересекать, перекрещивать, плавать туда и сюда, в конечном счете восходит к латинскому crux (крест). Конечно, слова «крещение» и все прочие коннотации с христианством здесь ни при чем, хотя кто знает: ведь крещение (по-гречески баптизм) это и есть «погружение в воду» и может какая-то дальняя семантически-этимологическая связь здесь есть.
В развлекательном смысле в этом тоже ничего нового. С тех пор как было изобретено мореплавание, всегда, помимо торговых, военных, рыболовецких, нефтеналивных, и прочих функций, люди на кораблях еще как-то и развлекались, пели песни, танцевали, заводили романы.
Однако только в середине двадцатого века началась круизная индустрия, до этого все пассажирские корабли возили людей туда или сюда. И хотя уровень комфорта и развлечения всё время рос, но идея ездить ради удовольствия возникла довольно поздно.
Даже «Титаник», роскошный по тем временам корабль, всего-навсего перевозил пассажиров из Саутгемптона в Нью-Йорк. Если бы трагедии не случилось, пассажиры выгрузились бы в Нью-Йоркском порту, а «Титаник» скорее всего набрал новых пассажиров и пошел с ними куда-нибудь еще.
Хотя конечно, и «Титаник», и появившиеся примерно в то же время «Лузитания» и «Мавритания» были уже очень близки к сегодняшним круизным судам: роскошные каюты, музыка и танцы, потрясающая еда – всё это привлекало богатых и знаменитых. Тогда впервые появилось выражение «floating hotel» – плавающий отель. Тогда же возникла традиция «одеваться для ужина», т. е. мужчины брали с собой фраки и смокинги, а дамы – вечерние туалеты. Уже были три разных класса: каюты повыше – для богатых, пониже – для бедных.
* * *
Во время Первой мировой войны круизные лайнеры перевозили армейские соединения, естественно, индустрия развлечений в этот период остановилась…
Однако уже в 1920 году она возобновилась с невиданной силой, новые корабли бороздили Атлантику, все «сливки общества» 2–3 раза в год плавали из Америки в Европу и обратно. Хотя маршрутов было немного. Америка – Англия, Америка – Франция.
Понятно, что в 1940 году это все прекратилось, и опять палубы роскошных лайнеров заняли военные.
После войны эти корабли возили разного рода беженцев и перемещенных лиц.
И только в 60-е годы стала нарождаться новая круизная индустрия, целью которой было именно развлечение и удовольствие. Впервые появились корабли, которые так и назывались «fun ship», корабли для фана, для кайфа.
Сегодня круизная индустрия – одна из самых быстроразвивающихся в мире бизнес-антреприз, в которую вовлекаются всё новые и новые страны, компании, строятся новые суда и порты.
Если еще 10 лет назад круизные суда перевозили 12–13 миллионов человек в год, то сегодня эта цифра превосходит 20 миллионов.
Резко увеличилось количество круизных лайнеров, сами корабли становятся всё больше и больше.
Совсем недавно на воду был спущен самый большой в мире круизный лайнер «Гармония Морей» («Harmony of the Seas»), где помещается примерно 6000 пассажиров и около 4000 человек обслуживающего персонала. Это пока рекорд.
Но этим дело не ограничится. Человечество идет вперед.
* * *
Не буду называть компанию, на которой мы «ходили» в этот раз… Это будет немного попахивать рекламой. Хорошая американская компания, зарегистрированная на каких-нибудь Маршалловых островах, чтобы избежать чрезмерных налогов.
Компания славится едой. Конечно, на всех круизных кораблях кормят очень вкусно и обильно. Несколько килограммов ты обязательно прибавишь, удержаться невозможно.
Но зачем удерживаться? Круиз – это праздник, который всегда с тобой, это пятизвездочный отель с несколькими ресторанами по 3 мишленовских звезды, и это всё плывет с тобой в самые недоступные и загадочные места планеты, куда ты сам никогда в жизни бы не добрался.
Сейчас набирает силу движение «кругосветка»: то есть выехать из одного места и вернуться туда же, но с другой стороны. Занимает это примерно полгода. На нашем корабле была такая группа, их было 200 человек и они ехали из Майами в Майами – через весь Земной шар. Мы беседовали с ними. Ни один человек не высказал недовольства и желания «скорее бы это всё кончилось». Наоборот, грустно говорили «Боже, уже скоро это кончится. Как жаль. Как я буду жить без всего этого?»
ПОПЫТКА ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.
Мне кажется, что большая часть цивилизованного человечества всё больше и больше будет переходить к жизни на воде, полностью переселится на огромные корабли, ведь водной поверхности на нашей планете примерно в три раза больше, чем земной. На воде жить комфортно и безопасно, все штормы предсказываются примерно за неделю и от них легко уйти. (на земле от шторма не уйти.)
Идеальная экология, идеальный климат, поддерживаемый мощными аппаратами, прекрасная еда, чаще всего морская, воздух, солнце.
Регулярный выход «на землю» не возбраняется. Корабль останавливается или каждый день или через день. Пожалуйста, выходите, гуляйте, купите себе что-нибудь, сходите на экскурсию. Только не опоздайте к отплытию.
А в это время на Земле глобальное потепление, разрушенная экология, землетрясения, наводнения, торнадо, бандиты, войны, ИГИЛ. и много всего другого, угрожающего нашей жизни.
Поэтому люди будут постепенно переселяться на воду.
Собственно, это уже существует: есть корабли, на которых построены настоящие апартаменты, и люди живут в них подолгу, годами. А ведь и правда, если подумать: при современных средствах коммуникации (а сегодня на корабле всегда есть устойчивый спутниковый интернет), вы вполне можете почти любым бизнесом заниматься дистанционно. Ну а если уж надо с кем-то встретиться, то рано или поздно ваш корабль прибудет в Нью-Йорк, Гонконг или Санкт-Петербург. Вот там и назначайте встречу!
Человечеству надо куда-то переселяться. Об этом уже есть целая библиотека и кинотека.
Стивен Хокинг уверенно предсказал, что через 200 лет люди начнут переселяться на другие планеты, поскольку на Земле больше жить будет невозможно. Но пока никаких признаков такого переселения не видно.
А вот переселение на воды уже началось. Сначала для богатых, а потом и для средних и для бедных. Что поделать, люди неравны изначально. Egalite – выдумка французских революционеров.
Но спасаться будут все.
Ноевы ковчеги уже строятся.
Жизнь на корабле
Жизнь на корабле спокойная, размеренная, очень продуманная «плановым отделом» круизной компании. Она рассчитана и на молодого человека, здорового и полного сил, который готов целый день идти в гору или плыть на шлюпке, и на пенсионеров в инвалидных колясках.
Кстати, замечу, что на каждом таком корабле есть несколько человек в инвалидных колясках, и именно эти люди проявляют колоссальную любознательность и неутомимость, едут в самые сложные, многочасовые экскурсии.
Как правило, у такой персоны есть сопровождающийся), и всегда очень трогательно смотреть, как эти люди любят друг друга и помогают друг другу. И если по причине их медленного передвижения задерживается отправка автобуса или шлюпки, никому в голову не придет показать раздражение: наоборот, все готовы помочь, а если надо, и долго ждать.
* * *
Национальный состав кораблей такого типа почти всегда процентов на 80 состоит из пожилых американцев. Пожилые – значит от 50 и до 80, а иногда и больше (с нами плавала очень бодрая старушка, ей было 93). Остальные обычно немцы, канадцы, швейцарцы, австралийцы, гораздо реже англичане, французы, испанцы. Иногда бывают большие группы китайцев, но в этот раз их не было вообще.
Полностью отсутствуют представители стран СНГ и бывших и страны бывших «стран народной демократии». Не знаю, чем это объяснить, но их нет.
Никогда не встречал путешествующего португальца или испанца, итальянца или индуса… Может, они ездят на каких-то других кораблях, бог его знает? А может, эти народы не любят путешествовать?
Национальный состав команды – самый разнообразный. Капитаны очень часто сербы (почему, неясно, но мы уже несколько раз ходили под руководством сербов), среди персонала очень много слaвян (русских, белорусов, украинцев), много филиппинок, тайландцев, малайцев. Была даже такая игра: они ходили с табличкой, на которой было написано: Guess, where I am from? (догадайся, откуда я?)
Язык общения – английский. Если вы не владеете английским, лучше не ехать.
* * *
Каждый вечер на корабле развлечения, entertainment. В большом зале (человек на 500) проходит концерт. Это могут быть певцы, пианисты, цирковые, фокусники, stand up комедианты и т. д. Уровень – средненький. Даже ниже средненького. Большинство пассажиров не ходят на эти концерты.
По правде сказать, никто ничего особенно и не ждет. И не в этом суть круиза. Артисты честно отрабатывают свой хлеб. Именно хлеб, денег им не платят, но неделю они живут на корабле во вполне люксовых условиях. Все они – артисты, чудесные ребята.
Если вечером нечего делать, можно прийти и посмотреть шоу.
Про игры на корабле.
Здесь всё время играют. Поскольку свободного времени много, а делать нечего, то всех занимают играми. Это и настольный теннис, и мини-гольф, и маджонг, и шахматы, и бридж. Проводятся разные чемпионаты, и чемпионы очень гордятся своими победами.
Я принимал участие только в TRIVIA (по-русски скорее всего «Викторина»). Каждый день две «тривии»: одна потрудней, другая полегче. 15 вопросов на каждой, 30 вопросов в день. Вопросы самые разные, от географии до кино, от истории до музыки. Скажу честно: это совсем не просто для человека, не родившегося и не воспитанного в Америке. Очень много вопросов связано с какой-то забытой игрой, или каким-то телешоу, которое относится к школьным временам участников игры. Конечно, они это щелкают как орешки, но для иностранца это черный ящик.
Для меня было важно, что участники игры, как правило, обыкновенные люди, врачи, юристы, финансисты, учителя – но не ученые специалисты или специально обученные знатоки. Они просто очень много знают.
Приведу несколько примеров. Интересно, как быстро ответят наши умники.
1. 3-я в мире по длине река?
2. Сколько лет было Джуди Гарланд, когда она снялась в фильме «Волшебник страны Оз»?
3. Что такое «Star of India»?
4. В каком городе впервые появились заасфальтированные тротуары – Лондон, Рим или Мадрид?
5. Какой аэропорт пропускает через себя наибольшее количество пассажиров в год? (и международных и локальных)
6. В каком возрасте Джордж Харрисон пришел в группу Битлз?
Если вы правильно ответите на эти вопросы, не заглядывая ни в какие гаджеты или книги, вы молодец. Но уверен, это маловероятно. Подобные сведения не циркулируют в нашей среде.
Попробуйте ответьте на эти вопросы никуда не заглядывая. А потом проверьте в Гугле.
Многие вопросы я просто не понимал потому, что смотрел эти фильмы или читал эти книги, о которых был вопрос, по-русски.
Например, вопрос: в каком фильме Роберт де Ниро играл гангстера по кличке Noodles?
Я не догадался. А оказалось, что это один из моих любимых фильмов «Однажды в Америке». Де Ниро там играет гангстера по кличке Лапша. А ведь это и есть Noodles.
Или, скажем, я читал «Animal Farm» по-русски. Вопрос – какое животное Молли и Кловер. Я помнил, что Молли – это лошадка. А Кловер? Забыл. Потому что в русском переводе он назывался просто Жеребец. А ведь он тоже лошадь… Конь, вернее.
Должен с гордостью сказать, что на некоторые вопросы ответил именно я. (В команде 7–8 человек). Конечно, иногда это была случайность, просто почему-то я знал ответ именно на этот вопрос.
Вот такая цитата из Шекспира: «If the music is food of love – play on!» Угадайте, из какой пьесы?
И я знал ответ: «Двенадцатая ночь».
Почему я это знал – сам не знаю. Недавно перечитывал эту пьесу и запомнил. Это, по-моему, первые слова пьесы…
Есть, конечно, вопросы, на которые может ответить только американец – это, прежде всего, вопросы по американскому спорту, например по американскому футболу, в который играют только в США. Этим возмущались канадцы и австралийцы, а их было немало. Впрочем, надо отдать должное – политкорректность присутствовала и здесь. Ведущий всех этих игр, милейший Рэй, всегда приносил извинения неамериканцам. И таких вопросов было очень мало.
Некоторые вопросы были для меня сущим открытием. Например: знаете ли вы, что короли в карточной колоде являются портретами реальных королей или властителей. Один из них Александр Македонский, второй Шарлемань, третий – Царь Давид, вопрос был кто четвертый? Оказалось – Юлий Цезарь. (Или, может, это только в американской колоде?)
Вот действительно, понятия не имел. А америкосы сразу ответили.
Надо сказать, что в русских вопросах они действительно слабые. Скажем, самый главный русский вопрос – куда впадает река Волга, они не знали. Какая-то часть написала, что в Черное море, а кто-то даже написал, что в Аральское, и только пара человек знали, что в Каспийское.
Представляю, какой бы хохот это вызвало в русской аудитории, если бы какой-нибудь америкос не смог перед публикой ответить на такой вопрос. Какие бы язвительные словечки это вызвало: тупые, пиндосы, идиоты, козлы – дерьмо полилось бы как из трубы.
А теперь, умники, ответьте быстро и никуда не заглядывая, на такие 5 вопросов.
Откуда взялось название кофейной компании СТАРБАКС?
Название какой Центральноамериканской страны переводится как «много рыбы»?
Какой человеческий орган был трансплантирован первым и где это произошло?
Какой самый редкий цвет бриллианта?
Как назывался напиток, который мы все знаем сегодня как Bloody Mary?
Практически уверен, что на эти вопросы ответят в России 2–3 процента аудитории. Американцы ответили легко, процентов 90.
Я не хочу сказать, что они умнее. Просто они сильнее в общей ситуации в мире. А мы в своей, русской, российской. И конечно, на все вопросы по России лучше всех отвечал я. Ну типа, кто управлял Россией после Андропова?.. Хотя нашлись и те, кто знал это кроме меня.
Если у наших спросить, кто был президентом Америки после Эйзенхауэра, большинство растеряется.
Конечно, я отвечал быстрее всех на вопросы по музыке, особенно по классической, тут мне равных не было. Но вот по поп-музыке – о нет, там много того, о чем я даже не слышал, хотя всю жизнь общаюсь с американскими песнями, мюзиклами и т. д.
А про кино… Тут вообще лучше помалкивать. Они всё знают про свое кино. Ну так же, как мы про свое. Но еще лучше.
Наверное, все легко вспомнят, кто играл Чапаева – артист Бабочкин. Но кто играл Петьку? Аньку? Фурманова? Нет, это мы не помним. А они каким-то чудом из глубины своего сознания доставали всех второстепенных персонажей из «Унесенных ветром», из «Клеопатры», из «Лоуренса Аравийского» и десятков других фильмов, о которых мы имеем смутное представление.
Для меня участие в этих играх еще означало совершенствование моего английского. Ведь здесь идет настоящий разговорный американский язык. И здесь всегда удобно спросить. Ведь это команда, 8 человек, все очень доброжелательные, готовые прийти на помощь. Если что-то непонятно – я спрашивал. А иначе как узнать?
Вот, например, вам говорят: TGIF, то есть просто буквы Ти Джи Ай Эф.
Если вы не знаете, то как можете догадаться, что это означает Thank God, it’s Friday. Слава Богу, сегодня пятница! Но я спросил. Теперь знаю.
* * *
Стоит рассказать еще об одной игре. Называется она «Name the tune», и это буквально «Угадай мелодию». Пианист наигрывает несколько нот, а команда пишет название мелодии. Потом в конце мелодию играют еще раз, её называют и каждая команда суммирует свои баллы. Тем, кто набрал больше всех, дают по три очка, второе место – 2 очка, третье место – одно.
(Одну из таких игр провел и я. Называлась она «Name the Russian Tune». Всем очень понравилось).
Хочу подчеркнуть непробиваемую честность американцев. Дело в том, что здесь никто не проверяет. Все верят на слово. Вашу команду спрашивают (после того, как ведущая уже объявила все правильные названия мелодий!), – Сколько у вас очков? Поскольку то, что у вас написано на бумаге, никто не видит и никогда не увидит, вы можете сказать: пятнадцать – и выдвинуться на первое место.
Зачем, скажете вы? Игра же не на деньги…
Ну, всё-таки есть маленькое «зачем». В конце игры (и в конце круиза) тем, кто набрал больше очков, выдаются призы: майки, рубашки, кепки, полотенца и т. д., очень хорошего качества и с эмблемой компании.
Конечно, мелочь.
Но я с большим удовольствием получил в конце круиза заслуженные 2 майки и их с удовольствием ношу. А если б мы жульничали, то маек было бы 3.
Но боже упаси! Они не жульничают! Они всегда назовут именно то, что есть в реальности. Даже если в ответе одна неправильная запятая, или одно слово лишнее – они тут же ставят себе «незачет». И проигрывают очередной тур.
Вот так они воспитаны.
Шутка про Василия Ивановича, который играл в очко в Монте-Карло, и ему сказали, «у нас верят на слово», после этого Василий Иванович все время выигрывал – им просто непонятна.
Ну не умеют они врать!
Круиз как целое
Маршрут круиза с точностью до пяти минут формируется года за три.
Мы свой круиз запланировали года за два. Просто выбрали компанию, корабль, маршрут и уровень каюты. А далее уже были многократные обмены письмами и деньгами с компанией и вашим тревел-агентом. Деньги вы платите по частям, что, конечно, облегчает жизнь, удовольствие это недешевое, особенно на самой верхней палубе. Надо купить массу виз, сделать прививки (иногда), подписать массу писем и обязательств.
Но это всё, как говорят американцы «delicious problems».
За время круиза мы посетили 7 стран и около 20 городов и островов (говорю около, потому что это установить точно невозможно: в Японии приплыли в порт Кобе, затем поехали на поезде в Осаку, потом на поезде же в Киото. Сколько всего городов? Вроде три. А реально один город Киото, остальные просто проехали мимо.
Вообще, на круизе большинство мест ты проезжаешь, можно сказать, надкусываешь. И правильно делаешь. Какой смысл пробовать какие-то яблоки и набивать ими до отказа живот? Ведь можно в это же время отведать вкуснейшие экзотические фрукты, продегустировать необыкновенные напитки, поесть лобстера, мясо страуса или крокодила.
Так вот, большинство городов на свете – это вполне ординарные яблоки, будь то Китай, Филиппины или Австралия. Все города похожи друг на друга, в них есть жилая зона и офисная зона, есть (не во всех) промышленная, в некоторых городах есть историческая зона, старый город, где можно увидеть храмы, церкви, соборы, синагоги, дворцы, ратуши, правительственные здания, ну и конечно, почти во всех городах есть зоны отдыха, где вы увидите театры, рестораны, кафе, бары, дискотеки и т. д.
Во всём мире примерно одинаково, и ничего особенно интересного в этом нет. Двух-трех часов вполне достаточно, чтобы осмотреть любой город мира и получить ответ на главный вопрос: Хотел бы я приехать сюда еще раз?
Как правило, ответ звучит: Нет. И это правильный ответ. Конечно, это не относится к великим городам, таким как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим, Москва, Петербург и еще нескольким. Поэтому я не буду описывать все места, где мы были. Только те, которые приглянулись или запомнились чем-нибудь особенным…
Немного о Японии
Несколько слов про впечатления о Стране Восходящего Солнца.
Япония, безусловно, великая страна. Может, она и не достигла того уровня, которого могла бы достичь после своего немыслимого взлета в 60-е годы. Но всё, что сделала Япония в технологии, автомобилестроении, электронике – это невероятная демонстрация великого и гордого национального самосознания.
Но что касается культуры… Черт его знает, как-то она меня никогда не трогала, не тронула и в этот раз…
Ни их живопись – слишком своя, слишком японская… Никогда не любил Хокусая.
Их архитектура – слишком бедная.
Их музыка – если старинная, то совершенно замкнутая в себе, очень эзотерическая, очень герметичная. Если современная музыка – то вторичная и эклектичная.
В литературе у них сегодня самый любимый – Мураками, а про наших любимых – Акутагава Рюноскэ, Ясунари Кавабата, Юкио Мисима – мало кто слышал, не говоря уже о «читал».
Их корпоративная культура, где молодому таланту не протиснуться, где каждый должен пройти все круги ада – это страшное испытание. Недаром там так много психических заболеваний.
Зато «анимэ» сегодня – самое главное культурное «блюдо». И это пугает.
В общем, Япония – непростая штука. И не мне о ней судить, так сказать, глобально. Могу лишь немного порассуждать на какие то частные темы.
Пять мыслей о Хиросиме
Ровно за день до моего рождения на свет, 6 августа 1945 года, страшное несчастье обрушилось на этот маленький и ничем не примечательный городок.
За прошедшие 70 лет миллионы людей посетили Хиросиму, чтобы посмотреть, как же выглядит город.
Выглядит вполне неплохо, могу сказать. Так же как и Нагасаки, где мы были несколько лет назад. Раны зарубцевались, радиация выветрилась. Несколько разрушенных домов сохранили в назидание потомкам. А так – всё выглядит чудесно.
Первая мысль, которая возникает: атомная бомба – это не конец жизни. Всё проходит, и это пройдет. Конечно, это ужас, но не ужас, ужас, ужас! Нам показывали старичков, которые пережили бомбардировку. Тогда им было 15–20, сегодня 85–90… и ничего, вполне еще двигаются.
(В Японии огромное число долгожителей. Не в связи ли с радиацией? Кто знает. Вопрос пока не изучен.)
Вторая мысль.
Как жалко японцев! О да, этой мысли не избежать.
В музее Катастрофы показывают жуткие кадры умирающих детей, разрушенных зданий, самого атомного гриба. Всё сделано, чтобы мы пожалели несчастных японцев.
Третья мысль.
Так им, гадам, и надо… Ведь они, считай, фашисты, они были союзниками гитлеровцев, они хотели уничтожить Америку, они подло напали на Перл-Харбор (мы были в музее Перл-Харбора, на Гавайях, это тоже производит душераздирающее впечатление). Они хотели уничтожить и нас, Советский Союз.
Так что поделом.
Четвертая мысль.
Не буду сейчас вдаваться в подробный анализ необходимости этой жертвы, необходимости сбрасывания урановой и плутониевой бомб на два японских города. На эту тему написаны сотни тысяч страниц, на всех языках, книги, журналы, фильмы… Да, погибло около 100 000 человек… Но если бы война продолжалась, погибло бы еще несколько миллионов.
Прикинем, сколько жизней спасли эти две атомных бомбы? Остановилась бессмысленная бойня, японцы стали мирными, их вздорная самурайская воинственность ушла если не навсегда, то надолго, и они стали главным партнером Запада в этом регионе и одной из самых процветающих стран в мире…
А представим, что война продолжается, бомб никто не бросает, и американцы вынуждены бы были высадиться на японскую территорию. Представьте себе, сколько городов было бы разрушено, сколько бы погибло мирных жителей.
И тут выползает Пятая, «циничная» мысль: сколько же денег они выжали из этой трагедии. Музей в Хиросиме посещают десятки тысяч людей каждый день, без выходных… А билет недешевый, около 20 долларов. Нетрудно посчитать, примерно 50 миллионов долларов в год только плата за билеты. А сколько еще всяких благотворительных фондов, пожертвований, «донэйшнс».
Да, американцы, и весь мир, чувствуют свою вину, и честно расплачиваются с Хиросимой.
Может, уже пора и остановиться.
Загадочный Киото
Гораздо интересней была поездка в Киото. Удивительный город, полный красоты, мудрости, философии. Мало кто помнит сегодня, что Киото стоял в списке городов, которые должны были подвергнуться атомной бомбардировке, на первом месте. Каким-то образом, с точки зрения военной логики, Киото подходил более всего. Но, к счастью, бомбардировка этого города была отменена. Причиной послужил Пакт Рериха (да, именно нашего художника и общественного деятеля Николая Рериха), подписанный двадцать одной страной еще в 1935 году.
Смысл этого пакта – «Охрана культурных ценностей», и военное руководство США того времени сочло необходимым подчиниться требованиям этого пакта.
Город Киото был спасен.
Говоря о Киото, выберу две темы: «Сад камней» и «Гейши».
Сад камней
Это такая штука для размышления. Находится этот сад в буддистском храме Рёандзи, в районе Укё, довольно далеко от центра города. Мы ехали туда минут 40.
Понять, что такое сад, за один получасовой визит невозможно. Японская эстетика и философия совсем другая.
Их принцип – чем меньше, тем лучше, меньше красок, меньше нот, меньше мебели – лучше, чем наоборот.
Вот что пишет наш известный культуролог и знаток японской культуры Александр Генис:
«… в Японии родилась великая культура со знаком минус, культура, которая стремится к голому нулю, как к недостижимому, но притягательному идеалу, культура, которая в совершенстве освоила изощренное искусство вычитания.
Образец такого искусства – дзен-буддистские сады – лучшие образцы которых скрывают монастыри самого, может быть, красивого в мире города – Киото.
Конструктивный принцип такого сада – изъятие из природы всего лишнего, отчего остаток естественным образом сгущается.»
В состоянии ли это понять и «освоить» человек с абсолютно европейским вкусом и воспитанием, такой как я. Вряд ли.
Я мучительно сидел на этой терраске и пытался медитировать…
Для тех, кто не знает, кратко поясню, что перед вами полянка, на ней расположено 15 черных, необработанных камней. Где бы вы ни сидели, вам видно только 14 камней, а 15 будет спрятан.
Вот сидите и думайте. Вот я сидел и думал – и ничего не понимал.
Ну и что, что мне видно только 14 камней? А может, еще где-нибудь есть и 16-й камень, но он виден только «прозревшим» и «воплотившимся»?
В чем тут мудрость? Это скорее небольшая геометрическая хитрость, и в какой-нибудь игре в «Лего», в которую так виртуозно играют наши внуки, подобных хитростей в сотню раз больше? Любой студент Гарварда или Физтеха придумает вам десятки таких трюков: отсюда видно, а отсюда не видно.
Да, кстати, я встал на ступенечку, и увидел все 15 камней разом. При этом никакого чуда не произошло.
В общем, сорри.
Да, миллионы людей со всего света приезжают, садятся и смотрят. И уезжают полные каких-то глубоких (скорее глубокомысленных) идей… Очень хотел, чтобы и меня это торкнуло…
Нет, не торкнуло… Я остался совершенно равнодушным… Пытался настроиться на высокий лад – не вышло.
Конечно, можно как в известной истории сказать: «Джоконда» стольким нравилась, а то, что она вам не нравится, её не волнует.
И это правильно… И моё мнение можно не принимать в расчёт… Но можно потихоньку, чтобы никто не заметил, вспомнить сказку про «Голого короля».
Гейши
А вот про гейш интересно… Нам удалось их увидеть и даже чуть пообщаться… Оказывается, у них статус популярных «народных артисток», ими все восхищаются, их имена известны, за ними гоняются папарацци…
Вот и мы с аппаратами, вернее, с телефонами. Слонялись около их жилищ, как папарацци…
Но нами руководил очень опытный человек, наш русскоязычный гид Алексей, давно живущий в Киото, и хорошо знающий местные обычаи. В какой-то момент, ближе к закату, он сказал нам, где стоять, чтобы наверняка увидеть гейш, и с ними пообщаться.
Так и получилось. В назначенное время гейши появились…
* * *
Гейши – это женщины, которых нанимают мужчины. Это абсолютно понятно.
Сразу в голове– «ну ясно, первая древнейшая профессия», «улыбочки с намеком», «да, мы всё понимаем». и действительно, в любой стране Это существует, никто не удивляется.
И вдруг тебе объясняют, что ничего общего с сексом за деньги, с эротикой это не имеет. Мужчины, которые нанимают гейш, как правило, женаты, занимают высокие посты в своих корпорациях, они могут быть крупными чиновниками, и при этом ни их жены, ни их сослуживцы не имеют ничего против встреч с гейшами. Напротив: это всячески поощряется и в семье, и на службе. Это говорит о высоком статусе мужчины и его богатстве.
Литературы о гейшах целое море, есть и много переводов на русский. Однако я не знаю имени ни одного русского исследователя, который бы всерьез занимался этой темой. Может, не было желающих, а может, и не допустили русских.
Вообще, тема эта очень сложная, специфическая, разобраться тут непросто, к тому же там всё тщательно скрыто от посторонних глаз. Если вы читали «Мемуары Гейши» или смотрели фильм, знайте: всё, что там есть, это неправда, это неточно, это искаженное представление об очень специфической стороне японской жизни. (так говорят и сами гейши, и их окружение).
Цитирую Гениса:
В старой Японии, где мужчин было вдвое больше, чем женщин, последние так высоко ценились, что могли себе позволить разборчивость в отношении первых. Лучшие – и знаменитые, как голливудские звезды, – остались на гравюрах, но мы не можем отличить одну от другой. Миндальный абрис, приоткрытые лепестки губ, высоко нарисованные брови и хищные щелочки глаз. Все они – на одно лицо, а разными их делают умопомрачительные прически со сложными черепаховыми гребнями и живописные кимоно, составляющие картину в картине.
Бесчувственные манекены идеальной красоты, эти дамы так далеки от нас, что толща двух веков, а также толстый слой косметики не пропускает эротические импульсы.
Сегодня всё точно так же. Но к этому прибавились современные СМИ. Гейш сегодня можно видеть на ТВ, их портреты в журналах и газетах. Они звезды в самом настоящем смысле слова, их все знают по именам. Они очень успешны в бизнесе, очень хорошо зарабатывают, когда их карьера заканчивается, вполне могут играть на бирже или открыть собственный бизнес. Многие из них становятся хозяйками Дома гейш, или Чайного Домика.
Личная жизнь гейш – здесь дело темное, разные источники утверждают разное. Одни говорят, что гейша вполне может завести бойфренда на стороне, и заниматься с ним сексом в свободное от работы время…
Другие говорят, что гейша может спать со своим покровителем (данна), и даже иметь от него детей. Но в последние годы этого почти не происходит. Покровитель может помогать своей любимой гейше, давать ей деньги, покупать ей кимоно. Но для секса у него, как правило, есть другие женщины, а гейша – для духовного общения.
* * *
Про гейш можно рассказывать очень долго, о том какие они музыкантши и танцовщицы, как они читают газеты на нескольких языках, чтобы быть в курсе всех событий, и не ударить лицом в грязь, беседуя со своими мужчинами.
Как они долго красятся и одеваются, и как по одежде и прическе можно отличить гейшу от майки, то есть той, которая еще не гейша, но готовится стать ей. Кстати, майки помогают настоящим гейшам одеваться, и это искусство – одевать гейшу – одно из сложнейших… Настоящих специалистов на всю Японию 10 человек.
Да, я стоял рядом с очень известной гейшей, и даже сфоткал ее. Потом на вокзале мне показали огромный рекламный щит, где она рекламировала какую-то парфюмерию. Что и говорить, народная артистка.
Из Японии в Бруней
В Токио мы не поехали, хотя могли… В Японии это всё просто, до Киото, скажем, час езды, а до Токио – два.
(Скоростные поезда – гениальная японская придумка. Американцы всё свели к хайвеям, а ведь скоростные поезда куда удобнее. В поезде ты читаешь, отдыхаешь, работаешь. Можешь даже выпить. Или поспать. Попробуй сделай это, когда ты за рулем).
Но умный человек отсоветовал. В Токио настроили небоскрёбов в 70-х, тогда они выглядели круто, сегодня – старомодно (как наш Новый Арбат).
После Шанхая и Дубая всё кажется вчерашним. То есть город, сохраняющий свой облик 100 или 200 лет, прекрасен – Барселона, Петербург, Венеция… А вот то, что было 30 лет назад, – скучно.
* * *
Я пропускаю Южную Корею.
Я пропускаю японский город Окинава, где не было ничего интересного.
Я пропускаю Филиппины, где была задымленная Манила и пляжный остров Борокай, где пляжи прекрасны, а сам город очень невзрачный и грязный.
Затем малазийские городки Кота Кинабалу и Кучинг, где было мило и красиво. но Малайзию я как-то уже давно не люблю.
Зато мы попали в государство Бруней.
Кто не слышал про султана Брунея? Какое-то время назад он был самым богатым человеком на Земле. Да и сейчас, наверное, не бедный. Хотя Уоррен Баффет и Билл Гейтс далеко его обошли.
Зовут султана Хассанал Болкиах, полное имя содержит примерно 20 разных имен. На портретах он выглядит как вполне европейский джентльмен в цивильном костюме.
Подплывая к городу Муара (это Брунейский порт), ожидали какой-то сказки, что-то вроде «молочные реки, кисельные берега».
Это ожидание было поддержано рассказом брунейского гида, пока мы ехали в главный город (от порта до центрального города Дар-эс-Салама около часа езды).
Гид нам рассказывал какую-то сказку: у нас нет налогов, у нас бесплатные медицина и образование, мы очень любим своего султана, по праздникам он выходит в народ без всякой охраны и раздает всем людям наличные деньги. Он самый добрый и самый лучший султан на свете. У нас много мечетей (около 200 на 400 000 человек) и люди там молятся за здоровье султана. А купола многих мечетей – это не позолота, а чистое золото…
Вот, накачанные так, мы приехали в город.
Город красивый, очень чистый и абсолютно пустой. Был, правда, жаркий день, но и под вечер никого не было.
Да, очень много мечетей, и вокруг мечетей – тоже никого.
Интересно, что там есть «дома на воде» («Water city»), где люди живут в таких домиках на стропилах, окруженные водой. Это, по-моему, крайне неудобно, домики без удобств, чтобы сходить в магазин или в ресторан, надо ехать на лодке. Конечно, они называют себя «Азиатской Венецией», но на Венецию это вряд ли похоже: уродливые маленькие хижины весьма отдаленно напоминают величественные венецианские дворцы.
Но вообще всё, как мы и представляли, очень «бохато», купола, золото, красиво, чисто, сделано специально для туристских фотографий
…А потом видишь этих закутанных женщин, этот страх в глазах, когда спросишь про вино или сигареты, эту «любовь к своему султану», и постепенно открывается правда: они все в тюрьме, богатой и чистой, но тюрьме… Нам поведала местная жительница (при условии, что мы её не назовём), что у них совершенно нечего делать, нет туристов, только приезжающие на круизных кораблях, страна закрыта, они ничего не производят, кроме сувениров, нефть достается легко и кормит их всех.
У них нет политической жизни, один канал телевидения, конечно, принадлежащий султану, и с утра до вечера восхваляющий султана.
Словом, нормальное тоталитарное государство, политика кнута и пряника, никаких выборов, никакой оппозиции.
Да, правда, при этом никакой преступности, в магазинах всё есть, относительно недорого.
Жить можно – говорят брунейцы и брунейки. «А в глазах тоска такая, как у птиц», как говорил Вознесенский. Привет товарищу Лукашенко и арабским шейхам…
Мы решили, что больше в Бруней не поедем.
Бали
К встрече с Бали мы готовились давно. Уже несколько лет собирались навестить этот «таинственный остров». И, наконец, приплыли. На целых два дня.
Среди наших знакомых есть абсолютные фанаты Бали, они нам многократно рассказывали, показывали, убеждали, что на Бали надо провести минимум месяц, неделю у моря на юге в районе Кута, неделю в центре острова в районе города Убуд (я сразу придумал «побывай в Убуде, от тебя не убудет»). Убуд – это Мекка художников – и балийских, и всех других.
Наконец, две недели на севере в районе Сингараджа. У нас было всего два дня, и мы, по своему обыкновению, немножко всего попробовали, «понадкусили».
Нет, романа с Бали не получилось. На вопрос, хотим ли мы сюда еще приехать, мы дружно скажем: нет. Конечно, если вдруг кто-то пригласит, по делу, или на свадьбу, или просто дать концерт – тогда поедем. А без повода, просто так, отдохнуть – однозначно нет.
Тут целый комплекс причин, и я, пожалуй, не буду их подробно разбирать, чтобы не обидеть многих наших друзей – фанатов Бали. Скажу просто – нам не понравилось. Как говорил Салтыков-Щедрин, кому-то нравится арбуз, а кому-то – свиной хрящик. И о вкусах не спорят.
Точно так же нам не понравились Мальдивы, не понравились Сейшелы, не понравились Багамы, и не понравилось государство Белиз. Зато мы были в восторге от городка Таунсвилль (Австралия), от острова Мадейра (Португалия) и от Бермудских островов. Трудно объяснить, но это как любовь. Вы же не можете объяснить, почему вам нравится одна женщина и совсем не нравится другая, которая, по общему мнению, и красавица, и умница?
Но если всё-таки чуть порассуждать о Бали, то мне кажется, это такая выдуманная столица для тех, кто хочет открыть в себе «третий глаз».
Здесь начинаются разговоры о чакре, пересечениях каналов нади, по которым протекает прана, а также объект для сосредоточения в практиках тантры и йоги.
Сразу скажу – разговоров на эту тему избегаю, йогой никогда не занимался и уже не буду, людей, которые этим занимаются, уважаю, но не понимаю.
Поэтому мне вся эта мистическая суета глубоко чужда. Может быть, здесь верх моего «верхоглядства», и меня засмеют все кришнаиты, приверженцы школ Махаяны и Хинаяны, направлений Санрон и Дзёдзицу. (Выписываю специально непонятные слова из имеющейся у меня буддийской книжки, для меня эти слова ничего не значат).
Но пусть смеются. Я проживаю свою жизнь и не верю в чудеса (читайте об этом мою колонку в журнале «Русский Пионер» номер 9 за 2015 год).
Если посмотреть на Бали без «третьего глаза», а обыкновенными двумя человеческими глазами, то выяснится, что там нет хороших пляжей, хорошие отели и рестораны очень дорогие, а в плохие мы уже идти не хотим, что художников там уйма, просто уйма, но все они скорее такие любители, изготовители сувениров, а серьезных мастеров, хотя бы для индонезийских галерей, там нет (про Лондон и Париж вообще молчим), или мы их не заметили.
* * *
Толпа там тоже очень непрезентабельная… Ну да, наверное, где то скрываются гламурные персонажи, миллионеры и олигархи, но их конечно на улицах не встретишь…а средний уровень людей на улицах и в автомобилях на Канарах или на Мартинике гораздо выше. Просто больше интеллигентных лиц, осмысленных глаз.
Мы специально поехали в отель «Four Seasons». да, шикарный отель, один из самых шикарных на Бали.
Но нет, всё равно не то. Они, те кто заплатили большие деньги за свои номера ($700–800 за ночь), ютятся там, на пятачке, не выходя за пределы «резорта». Да, там есть за большие деньги «виллы», но всё равно ощущение гетто.
А если учесть чудовищные «трафики» на улицах, когда вы не уверены насчет времени прибытия, и это может быть на два часа позже, чем вы планировали, невольно задумываешься, зачем я здесь, ведь это (трафик) мы имеем у себя дома, в Москве.
* * *
Мы посетили несколько изумительных буддийских храмов и были в восторге от храма «Гунунг Кави», которому тысяча лет.
Мы узнали про самый полезный и самый опасный в мире фрукт, носящий актуальное имя «Дуриан».
Мы узнали, в чем смысл известного псевдонима Мата Хари: оказывается, по-малайски «Мата» – это глаз, «Хари» – день, а вместе – глаз дня, то есть солнце.
И орангутанг, оказывается, малайское слово: оран – лес, гутан – человек, вместе «лесной человек».
Или вот еще: «сука» по-малайски любовь. А как сказать по-малайски «большая любовь»? Очень просто. Сука-сука.
Так что съездили на Бали не зря. Многому научились…
Мне очень не хочется ссориться с поклонниками Бали во всем мире, и особенно с моими друзьями, Бали-фанатиками.
Но что поделать?
Считайте меня идиотом!
Драконы острова Комодо: комедия
Мы ехали «по морям, по волнам», с севера (Шанхай) на юг (Австралия). Мы прошли Желтое море, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, проливом Каримата мы вышли в Тиморское море, и наконец, через Коралловое море мы влились в Южный Тихий Океан (South Pacific).
* * *
Интересное погодное явление, понятное только тем, кто идет на корабле.
Весна, мы движемся к экватору. Становится всё теплее. На экваторе настоящая жара, все купаются в бассейнах, на пляжах, и всюду, где возможно.
После экватора всё еще май, и кажется, мы едем в лето.
Ан нет, это уже Южное полушарие, и мы, оказывается, находимся в осени, а движемся в зиму. Пока мы добрались до Новой Зеландии, стало реально холодно и пришлось опять доставать теплые вещи.
В это время в Москве начиналась жара.
Переход экватора – забавная вещь. Мы уже пятый раз переходим его, и каждый раз дают документ-сертификат.
При этом надо поцеловать рыбу, вас обливают водой, и царь Нептун объявляет вас Shellback, что примерно означает «Сын Нептуна». В каком-то смысле это вариант крещения, обливание водой здесь присутствует не случайно.
* * *
Забавным стало посещение острова Комодо. Мы все на корабле были предупреждены, что это – одно из самых опасных событий круиза, и что на острове Комодо водятся драконы, которые так официально и называются «Comodo Dragons», и что они иногда нападают на туристов. Сказали, нельзя надевать ничего красного, почему-то драконы реагируют на красное, как быки на корриде.
На корабле начался ажиотаж, все хотели посмотреть на опасных драконов, женщины массово смывали помаду и маникюр. Мест уже не было (туда надо было ехать на шлюпке). Путем интриг, посулов и уговоров нам удалось попасть на шлюпку.
И вот, о счастье! Мы идем по острову, ведомые двумя рейнджерами, которые вооружены двумя такими огромными рогатками, чтобы отгонять злобного зверя.
Мы идем, а наши сопровождающие накачивают нас рассказами о коварстве драконов, которые делают вид, что спят, а потом бросаются на своих несчастных жертв. Мы, запуганные до смерти, спрашиваем, чем они питаются. Ну чем, – отвечают наши специалисты, – ланями, оленями, иногда кабанами, иногда туристами. Как, – говорим мы, – они в состоянии догнать и убить кабана? Да легко, – отвечают наши доблестные рейнджеры.
(Про туристов мы спросить постеснялись).
Напуганные еще больше, мы медленно и осторожно движемся вперед. И вдруг – о ужас! – нам объявляют: впереди, на поляне. драконы!!!
На трясущихся ногах мы подходим ближе. И действительно, видим довольно неприятных, огромных (метра три длиной) ящериц, или скорее ящеров. Вид у них угрожающий, особенно когда они поднимают голову, и виден огромный двухвостый язык.
Мы держимся на почтительном расстоянии, и, конечно, делаем фотки. Драконы тихо лежат, и, по-моему, слегка засыпают. Мы, осмелев, подходим ближе, драконы как-то на нас совсем не реагируют.
В этот момент как по заказу в лесу появляется лань. Ну вот, – думаем мы, – сейчас увидим уникальное зрелище, как дракон «задерёт лань».
Лань абсолютно беспечно подходит к драконам, чуть ли не наступает им на голову, но драконы как лежали в дреме, так и лежат.
Так они и пролежали, пока мы не ушли.
Ничего не произошло. никто никого не укусил.
Что это было? И конечно, все пришли к выводу, что драконы или:
а). очень старые и дряхлые, или
б). их перед этим накормили, или
в). им вкололи какого-нибудь валиума или мелатонина, короче, чего-то седативного, и они просто мирно отдыхали.
А всё пугание было просто туристским трюком.
Когда я спросил, уже уходя, у нашего сопровождающего: а было ли реально нападение дракона на человека, он туманно сказал, да, кажется, было где-то в пятидесятых годах прошлого столетия.
Возвращались мы усталые, но довольные.
Главное, что остались живы. По этому поводу на корабле был дан большой банкет.
Австралия. Сидней, etc
Мы ехали вдоль берега Австралии около недели, заходя в чудесные порты Дарвин, Таунсвилль, Брисбен, еще какие-то мелкие города, пока не доплыли до Сиднея.
В Сиднее вышли, и нас подхватили русские друзья, которые провезли по Сиднею (два дня), по Мельбурну (три дня) и еще два дня по Новой Зеландии.
Мы были в Австралии ровно двадцать лет назад. Нам тогда очень понравилось.
А в этот раз мы просто очень полюбили Австралию. Это дивная страна, с огромным количеством достоинств, и почти без недостатков. Здесь можно жить, делать карьеру, наслаждаться прелестями природы и цивилизации. Все разговоры, что это очень далеко, натыкаются на встречный вопрос: а от чего далеко?
От Таиланда – близко, от Гонконга и Сингапура – близко, Индонезия и Китай – за углом. Да, Париж и Лондон – далеко, да, США – на другой планете… Но сегодня это всё не так важно. Интернет всех сблизил, и то, что сегодня появляется в Нью-Йорке, в этот же момент появляется в Мельбурне.
А насчет карьеры. Посмотрите на эти имена: Николь Кидман, Мел Гибсон, Хью Джекман, Рассел Кроу, Кэйт Бланшет, Джефри Раш, и еще два десятка таких же красавцев, лауреатов разных премий, включая Оскар, все они австралийцы.
А вот список австралийских кинорежиссеров: Бэз Лурман, Джордж Миллер, Брюс Бересфорд, Скотт Хикс, Филипп Нойс. Если вы не знаете их по именам, посмотрите на imdb. com, какие фильмы они сняли.
К ним недавно присоединился Джеймс Камерон («Титаник», «Аватар»). Он живет сегодня в Новой Зеландии и делает свои проекты на сиднейских студиях.
Там, в Австралии, колоссальная оперная культура, сказочной красоты Сиднейская Опера, там замечательные театры и огромное количество прекрасных музыкантов.
Там можно жить.
* * *
В Австралии и в Новой Зеландии мы давали концерты. Для соотечественников.
Тут случилась забавная история.
Один знакомый, назовем его З., узнав, что мы едем в Австралию, сказал: О, отлично, у меня там брат живет. Я говорю, так пусть приходит на концерт.
Я не забыл и оставил билет на входе.
Однако никто не пришел по этому билету, но там было столько знакомых из разных слоев моей жизни, что я об этом совсем забыл.
Приехав в Москву, я однако спросил З., а почему не пришёл брат? А я забыл ему сообщить, – ответил З. Ну и ладно, подумал я, проехали.
Но через несколько дней вдруг брат из Австралии приезжает в Россию, З. мне звонит и хохочет:
Я брату говорю, слушай, совсем забыл тебе сказать, чтобы ты пошел на концерт Журбина. А он, хитро улыбаясь, показывает мне фотку, и на ней он с Журбиным в обнимку.
И когда он назвал имя брата, я завопил: так я же его прекрасно знаю. Он скрипач, когда-то играл мою музыку.
Вот такая история со счастливым концом.
* * *
ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ.
Австралия – это резервный полигон для человечества. Слово «полигон», безусловно, имеет военизированный оттенок, но я имею в виду не это. Я верю в то, что будущее Австралии – это будущее сверхдержавы. Для этого есть всё – мощная экономика, чистейшая экология, огромные незанятые площади, очень мало людей – в Австралии 24 миллиона человек живут на площади большей, чем площадь Китая.
Думаю, Австралия в ближайшие годы станет главным «эскейпом», то есть убежищем человечества. Из всех материков она самая удаленная, самая чистая, самая безопасная.
Этот процесс уже начался. Китайцы в массовых количествах скупают австралийскую недвижимость, дома и квартиры, участки и ранчо. Китайцы знают толк в жизни, и пока австралийцы не запрещают им покупать пентхаузы на побережье.
Хотя австралийские власти очень избирательно относятся к тем, кто к ним приезжает. Они с удовольствием принимают молодых людей с белым цветом кожи, талантливых, с хорошим образованием, без медицинских проблем. Таким они дают огромное количество грантов, пособий, страховок и всяких прочих «парашютов». И совсем неохотно пускают к себе людей с темным цветом кожи, особенно мусульман, шиитов и суннитов.
Непонятно, как они умудряются это делать, но в Австралии на улице вы почти не увидите темнокожих и мечети не бросаются в глаза (как в достославных мусульманских городах Амстердаме или Марселе).
Нет никакой ксенофобии, все люди равны перед законом, но не равны перед австралийскими иммиграционными властями.
Там власти жесткие, попасть туда трудно! Австралия не принимает, в отличие от Европы, тысячи НЛО из Сирии и Ирака. И правильно делают. Жалость жалостью, а сохранность собственной жизни, собственной страны, собственных детей важнее…
Интересно бы посмотреть, что будет с Австралией лет через 20–30.. Увы, нам уже не суждено, человеческая жизнь коротка.
Впрочем, Джеймс Камерон, которому за 60, строит на этот континент большие планы. Он уже запланировал выпустить за ближайшие 10 лет несколько новых фильмов. И, кажется, Голливуд уже частично переезжает на Зеленый континент.
Думаю, этот процесс неостановим. Австралия – последний шанс человечества выжить от ужаса ИГИЛ, от возможных ядерных ударов, и от всей гадости, которая нас окружает в последнее время.
Австралия спасет человечество.
Ну вот и подошло к концу Большое Авиаморское Путешествие. Уже несколько дней мы дома, в Москве, приходим в себя, разгребаем кучи неоплаченных счетов и неотвеченных писем.
Уходит куда-то вдаль корабль «1пз1дша» и его необыкновенная кухня. Пора терять вес и садиться на диету.
Пора вспоминать российские реалии, с грустью смотреть на разрытую Москву и вспоминать чистенький и прелестный Сидней.
Но жизнь идет вперед.
И всё проходит.
И это пройдет.
Вторая часть
* * *
Вторая часть этой книги совсем другая.
Как читатель уже заметил, первая часть состоит из колонок, написанных для журнала «Русский Пионер».
А вторая – это заметки, записки, рассуждения на разные темы, интервью, фрагменты, иногда просто отдельные строчки – в общем, адская смесь.
Решил это опубликовать, потому что больше откладывать нельзя.
Причина простая: голова работает всё хуже и хуже. Я не помню, что было вчера, я не помню, что было с утра, я не в состоянии точно запомнить ни одну фразу или стихотворение.
Недавно приснился страшный сон: я рассказываю смешной анекдот в большой компании, дохожу до финальной строчки, в которой «вся соль»… и вдруг понимаю, что эту строчку забыл. вся компания замирает в ожидании. а я молчу. и молча сажусь на свое место.
* * *
Раньше у меня была потрясающая память. Я помнил всё, и даты, и имена, а особенно отчества.
Например, всегда был готов ответить, как имя-отчество писателя Писемского, или Короленко, или Мамина-Сибиряка (а они совсем непростые, эти имена-отчества!)
А сейчас всё забываю.
* * *
Но я должен был издать эту книгу. Я дал себе слово. И я её издал. Она у вас в руках.
Наверное, она будет отличаться от всех моих предыдущих книг.
Если почти во всех моих уже опубликованных восьми книгах в конце была часть, которая называлась «СМЕСЬ», или «МЕЛОЧИ», или «Miscellanie», то эта часть девятой книги будет состоять из коротких фрагментов, на разные темы, и не связанных между собой.
Эти фрагменты давно меня мучают. Многие из них записаны на каких-то листочках, бумажках, в заброшенных записных книжках и старых блокнотах.
И я решил всё это собрать…
* * *
Это будут импровизации на заданную или не заданную тему. Причем тему эту не обязательно придумал я: могу их взять из разных текстов, книг или сайтов, но выбирать темы всё-таки буду я.
Источник (если это не я) буду указывать.
Кто делает искусство
Литературу и искусство делают волы.
Жюль Ренар
Довольно известная фраза, много раз цитированная. Обнаружил её в томике Ренара небольшого формата, и в суперобложке, который стоит у меня на полке уже много лет. Это дневник Ренара, где он описывает свою жизнь, приправляя это описание густым соусом афоризмов и мудрых мыслей.
В советские годы Ренар был довольно популярным писателем, его часто издавали и переиздавали, сегодня он кажется прочно забыт, молодежь вряд ли имеет о нем хоть какое-то представление.
Но бог с ним, с Ренаром, он не предмет моего разговора.
Попытаемся понять – правда ли, что искусство делают волы? Или всё-таки певчие птички?
То есть – Моцарт или Бетховен? Пушкин или Лев Толстой?
Кажется, ответ очевиден. И то и другое. Одни пишут легко, быстро, сразу чистовик.
Другие проходят через сотни стадий, десятки версий, тысячи страниц черновиков.
Цитата из Томаса Эдисона:
… art is 10 % inspiration and 90 % perspiration? (Искусство – это 10 процентов вдохновения и 90 процентов пота).
А если у кого-то это не так… значит, он не настоящий артист или ученый. (последняя фраза уже моя, не Эдисона).
Нужны ли здесь комментарии? По-моему, это очевидно.
Правда, Эдисон всё-таки технарь, а не гуманитарий. И приход вдохновения к ученому, наверное, имеет другую технологию, другой дискурс, чем у Художника. Но тем не менее согласен с Эдисоном. И частично с Ренаром.
Мое процентное соотношение немного другое. Я даю 20 процентов на творчество, сочинение, вдохновение и другие синонимы этого процесса. И это – самое прекрасное, что есть на свете. С этим процессом не сравнится ни вкусная еда, ни прекрасные напитки, ни секс, ни спорт, ни чтение прекрасных текстов или слушание прекрасной музыки. ну ничего.
Но есть еще 80 процентов, которые любой «творец» должен тратить на жизнь и на организацию своей жизни.
В моем случае это: работа с копиистами, аранжировщиками, исполнителями, дирижерами, певцами, издателями, звукорежиссерами, режиссерами, хормейстерами, художниками. А ведь еще есть целый огромный и очень важный сектор продюсеров, промоутеров, спонсоров, инвесторов, организаторов концертов, директоров театров. а еще медиа, и приходится бесконечно общаться с представителями прессы, радио и телевидения, интернет-порталов… и много других людей. Всем надо заниматься самому, никому это не доверяю. Сами понимаете, сколько сил и времени на это уходит.
И еще надо проводить время с любимой женой, с сыном и внуками, мы любим путешествовать по разным далеким странам.
Так что жизнь непроста.
И действительно, надо быть волом, чтобы все это выдержать. И Моцарт был волом. И Шуберт. И такой легкомысленный (на вид) Александр Сергеевич Пушкин.
Как становиться стариком
Очень немногие умеют
становиться стариками.
Ларошфуко
Да, теперь это понимаешь. Я уже старый по всем понятиям. Когда наступает 75, ты это чувствуешь. И хотя все еще не догадываются, а ты уже знаешь.
Говорят: слушай, ты шикарно выглядишь. И похудел так здорово. И похорошел. как тебе это удается?
Не верьте никому. Слушайте только себя. Мерьте давление, сахар, регулярно делайте общий check-up, или по-русски диспансеризацию. всё равно не угадаете, когда и где тебя найдет судьба, но лучше быть к этому готовым.
Говорят, что в старости много и хорошего.
Согласен.
Я человек, доживший до старости, – спасибо Господу! – могу засвидетельствовать, что да, много хорошего. Правда, всё это хорошее – спокойное, медленное, вялое, связанное скорее с отдыхом, чем с активными действиями. Да, можно почитать пропущенные ранее книги, посмотреть фильмы и оперные спектакли, благо сегодня никуда для этого не надо ходить, интернет тебе все доставит прямо на стол.
Давно замечено: старение – странный процесс. Ты ежедневно видишь себя в зеркале и не замечаешь никаких изменений. Однако глядя на своих сверстников, одноклассников, однокурсников, ты эти изменения видишь, и иногда они выглядят пугающе. Ты встречаешь старого друга после двадцатилетнего перерыва, и с трудом его узнаешь. Говоришь ему лживые комплименты, а про себя думаешь: Боже, что с ним стряслось? Ты видишь свой возраст на своих детях и внуках, на супругах и родителях, но категорически отказываешься видеть эти изменения на себе.
Очень просто сравнить это с временами года. Вот лето, прекрасная погода, всё цветет, ты наслаждаешься жизнью. Наступает осень – но не сразу, не сразу. То маленький дождик, то ветерок, а потом опять тепло и хорошо. Но в какой-то момент осень берет свое, становится холодно, листья опали, и ты видишь истинный скелет времени – шквалистый ветер, холодный дождь, град, снег, и понимаешь – всё, возврата нет, хорошие времена окончились.
Но ты знаешь – придет весна и всё вернется. Как ни странно, эта вера как-то интуитивно, генетически присутствует и в отношении «сезонности» твоей жизни. Во всяком случае, всегда верю: да, сейчас неважно, что-то болит, таблеток всё больше, симптомы всё очевидней. Но это временно, думаю я, хорошие времена еще впереди. Вот закончу этот проект и поеду отдыхать, куда-то на курорт, на воды, там врачи меня подлечат, и опять буду как новенький…
И эта вера не уходит, она всегда со мной.
Вот что говорит Сенека в «Нравственных письмах к Луциллию» (в юности зачитывался этой книгой):
«. самый приятный возраст тот, что идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Да и тот, что стоит у последней черты, не лишен, по-моему, своих наслаждений, – либо же все наслажденья заменяет отсутствие нужды в них. Как сладко утолить все свои вожделения и отбросить их навсегда!»
Это трудно принять.
Но трудно и не согласиться с мудрецом. Радуйся, что бог дал тебе возможность пожить на этом свете.
И уходи с улыбкой на устах.
Охота за продюсером
Почему у продюсеров всегда глаза несчастного кролика? Потому что за ними все охотятся…
Из фильма «Все о Еве» (All about Eve)
Да, я это наблюдал тысячу раз. В любой компании, на любой вечеринке, в России, в Америке, в Европе, если есть человек, который называется «продюсер», то к нему тут же выстраивается небольшая очередь. У каждого, оказывается, есть проект, с которым можно заработать много денег, нужен только толковый продюсер.
Человек, называющий себя «продюсером», заинтересованно слушает, обменивается визитными карточками, дает свои координаты и реквизиты.
Практически никогда из этого ничего не получается. «Продюсер», скорее всего, сам ищет деньги, или проект, куда бы он мог пристроиться и что-то заработать. А то, что ему предлагают – скорее всего мыльные пузыри, уже многократно отвергнутые всеми другими настоящими продюсерами.
Расскажу кратко историю, которая случилась со мною в 1990 году, когда мы только приехали в США.
Нас тогда активно приглашали на разные вечеринки, русские были в моде, перестройка, черт подери, и мы охотно всюду ходили, в надежде встретить кого-то, кто мог бы приоткрыть какие-то двери.
И вот на одной вечеринке ко мне подходит такой вполне симпатичный человек, лет около 40 с небольшим. Приятный, улыбчивый, красиво одетый.
Он: А правда, что вы известный композитор?
Я: (нескромно) Да, это правда.
Он: А вы работали в кино?
Я: Да, кино – одна из любимых моих областей, я написал музыку к 40 примерно фильмам.
Он: О! Вот вы-то мне и нужны. Я – продюсер. У меня сейчас запускается фильм в Лос-Анджелесе (в Голливуде, подумал я!) и нам нужен композитор. Вы бы взялись за такую работу?
Я: (сделав вид, что не обрадовался) Ну что же, это можно рассмотреть. У вас есть сценарий?
Он: Вот, сразу вижу профессионала. Конечно, я вам пришлю сценарий. Но гонорар у нас будет небольшой. 50 000 долларов вас устроит?
Я: Обсудим (сглатываю слюну). Вот мой адрес (даю почтовый адрес, интернета тогда не было).
Через пять минут после нашего разговора ко мне подходит другой американец, более старший по возрасту и явно серьезный человек.
– О чем он с вами говорил? – спросил он, кивая в сторону «продюсера».
– Да вот, предлагает работу в голливудском фильме, – сказал я гордо.
– Значит так, молодой человек, слушайте меня. Этот человек – никакой не продюсер. Он просто мелкий жулик. К тому же нищий. У нет денег на метро, чтобы доехать до дому. Он, конечно, попытается сделать какие-то деньги, или из вас, или из ваших знакомых, но держитесь от него подальше…
– Не может быть, – задохнулся я.
– Может, может, – вздохнул мой собеседник. Вы даже не знаете, сколько в Америке таких жуликов.
Главный герой – не заглавный герой
Всегда ли главный герой – тот, кто вынесен на обложку?
Кто главный герой фильма «Всё о Еве»? Вы думаете, Ева? Ни фига.
Марго Чаннинг – именно её играет Бетт Дэвис.
Аналогичная история в мюзикле «Джипси», где главная героиня не Джипси Роуз Ли, а ее мама Роуз. Нет, Джипси, конечно, там тоже играет большую роль. Но главная героиня – Мама Роза.
На самом деле, это случается крайне редко. И в кино, и театре, и в литературе. Если произведение называется «Евгений Онегин», то Онегин и есть главный герой. И Анна Каренина, Гамлет, Отелло – продолжать можно без конца. И даже у Набокова – Лужин, Пнин, Лолита – о них и речь. Поставить на обложку имя второстепенного героя не придет в голову даже самому заядлому модернисту.
Хотя тут миллион вариантов. Кто главный герой «Каменного гостя» Пушкина? Конечно, Дон Гуан. Но в заглавии «Каменный гость», стало быть, для автора Командор, муж Донны Анны важней.
Киноматографисты устарели как кавалеристы
Сравнить деятелей кино с кавалеристами: раньше без них никуда, какая война без кавалерии.
И вот они все тренируются, скачут. Но прошли годы. А в это время уже изобрели ядерные боеголовки, нейтронную бомбу, лазерное оружие.
А они там где-то на плацу рубят лозу, репетируют парады (фестивали), дискутируют, что лучше – галоп или рысь…
И не понимают, что реальной надобности в них уже нет, что они нужны только для парадов, Каннских или Берлинских… Всё пространство заняли сетевые стриминги и компьютерные игры.
А кино осталось где-то на обочине.
Может, это слишком сурово. Еще делается кино, которое привлекает внимание всего общества, о котором говорят и спорят. но таких фильмов всё меньше. А тех, кто выиграл призы на Больших и Малых Фестивалях в позапрошлом году, никто не помнит. И тех, кто получил «Оскара» в прошлом году, тоже все забыли.
Но что-то ведь будет вместо кино.
Наверное, какие-то разновидности компьютерных игр, какой-то гибрид кинофильма для геймеров.
Уже такие появляются.
Компьютер рулит
Компьютерные подсказки – комедии и драмы. Интересно: вот эти компьютерные подсказки, Т9, и т. д.
Уже все знают, что компьютер во время набора текста всё время бежит впереди тебя и что-то подсказывает, иногда правильно, а иногда чудовищную чушь. И иногда эта чушь, незамеченная автором, идет в печать или в письмо.
И это – только начало… дальше будет хуже.
Есть уже много классических «поправок».
Мне нравится эта.
Жена пишет СМС мужу: Я себя очень плохо чувствую.
Муж: Прими отвар из трав!
Телефон переделывает: Прими отраву, тварь!
Но это, конечно, забавно. А бывают и трагические недоразумения.
Компьютеры будут завоевывать ненавязчиво новые территории… оставляя для нас всё меньше места.
Главный герой исчезает
Когда в романе или в фильме исчезает главный герой, в «Дон Жуане» Моцарта, так же как в на «Волшебной горе» Томаса Манна, в финале исчезает главный герой и становится неинтересно.
То же и в «Анне Карениной». Без Анны всё становится пресным.
Да и в «Войне и мире» финал никакой.
О Филиппе Глассе
Что лучше: творец, сохраняющий верность одному приему всю жизнь, или наоборот – бесконечно меняющий этот приём.
Композитор Филипп Гласс говорит (в интервью): «трудно не найти себя, трудно уйти от себя, найти себя нового и не повторяться. Это очень мало кому удается».
Обычно композиторов укоряют в том, что они повторяются. Что следующее произведение похоже на предыдущее.
И это как раз нормально. У каждого композитора (да и вообще, у каждого Артиста, у каждого Художника, у каждого человека, занимающегося творчеством) есть свои излюбленные приемы, свои коды и гены, которые вовсе не хочется называть автоплагиатом. Напротив – это черты стиля, и их можно найти у каждого композитора, от самых крупных до самых мелких.
Бывает, что автор, открыв в юности какие-то приемы, так всю жизнь их и эксплуатирует. И это тоже нормально.
Крайне мало авторов, которые за свою жизнь меняли свой «художественный генокод», да еще так демонстративно, так ярко, как бы манифестируя: вот я теперь какой!
Один из примеров – Игорь Стравинский. Также – Скрябин. И, наверное, Шёнберг. Но таких очень мало.
Не буду вдаваться в подробности.
А вот Глассу изменить стиль не удалось.
Может, это и хорошо.
Мы узнаем его сразу, по нескольким тактам.
А зачем нам нужен другой Филипп Гласс?
И еще.
Филипп Гласс на вопрос: почему вы иногда халтурите, пишете музыку для «коммершиалс» (для рекламы), отвечает: иногда прекрасному французскому повару хочется изготовить простой, но очень качественный Гамбургер…
Мне совсем недавно на премьере оперы «Эхнатон» удалось довольно долго пообщаться с Филиппом Глассом. Могу сказать – он очаровательный человек. Легкий, мгновенно подхватывающий любую тему, очень добрый и внимательный к собеседнику.
Когда-нибудь напишу подробно.
Меняется ли человек?
Из романа Роберта Музиля «Человек без свойств» (глава 54)
«…разница между опытом специалиста и опытом профана не была раньше так велика, как теперь. По мастерству массажиста или пианиста это видит любой; сегодня и лошадь уже не выпускают на беговую дорожку без специальной подготовки. Только насчет того, как быть человеком, каждый еще считает себя вправе судить, и старый предрассудок утверждает, что человеком родишься и умираешь! Но хоть я и знаю, что пять тысяч лет назад женщины писали своим любовникам дословно такие же письма, как сегодня, я уже не могу читать такое письмо, не спрашивая себя: не должно ли и тут что-то измениться!»
И действительно: с одной стороны, все изменилось за пять тысяч лет… С другой стороны, не изменилось ничего.
В ближайшие годы нас ждут гораздо более радикальные изменения, об этом пишет Юваль Ной Харари.
И всё равно, главные вещи останутся теми же.
Миром будет править любовь и голод, останется невозвратность прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего. Жизнь, возможно, будет продлена, но победить смерть не удастся никогда. И путь человека по-прежнему будет от зловонной пеленки до смердящего савана.
И ничего здесь не поделаешь.
Случай в нью-йоркском автобусе
Обыденная встреча с безумием
Сегодня в нью-йоркском автобусе ехали психи. Не в переносном, а в буквальном смысле. Это, наверное, была какая-то школа для дураков, или там, не знаю, пансионат для психически неполноценных. Некоторые с типичной внешностью дебилов и олигофренов, но это ладно… мы в Нью-Йорке к этому привыкли.
Некоторые просто ковыряли в носу и громко пели песни… а некоторые, что-то вроде полубуйных, громко орали, дрались, матерились, приставали к водителю.
За всем этим наблюдала строгая воспитательница… а политкорректный автобус молчал.
Никто и не пикнул.
На одной из остановок они все с воем и гиканьем сошли и только тогда какой-то мужик облегченно выдохнул: fucking shit!
Нью-Йорк – город сумасшедших. Здесь Halloween продолжается круглый год, здесь на улице встречаешь таких типов, которых ты не увидишь в фильмах про вампиров или зомби, здесь на улицах в самых неожиданных местах вдруг поют или танцуют, просят милостыню или наоборот, разбрасывают деньги или продукты.
Welcome to Hell – самая правильная надпись на въезде в любой borrow (район) Нью-Йорка!
Зато здесь весело и непредсказуемо. И не дают скучать. И даже встреча с идиотами (см. выше) настраивает скорее на идиллический лад. Мол, и такое здесь есть…
Вронский в Америке
Кто лучше всех сыграл Вронского в американском кино?
Конечно, Роберт де Ниро. В фильме «Охотник на оленей». Его персонажа в этом фильме зовут Михаил Вронский. И он, кстати, очень даже похож на графа Вронского – элегантный, с бородкой…
Ну хорошо еще, что Михаил.
Я смотрел американскую постановку мюзикла «Анна Каренина» лет 20 назад.
Чтобы американские зрители не путались и не смешивали Каренина с Вронским (а они у Толстого оба Алексеи), Вронского там зовут. Николай.
Когда я спросил режиссера Тэда Манна почему, он сказал: «Чтобы американцы не путали. Два героя с одним именем для них слишком много.»
Другая версия изгнания
Почему Адама и Еву изгнали из Рая?
Посмотрел прекрасный странный фильм «Художник и его модель» (Франция), в главных ролях Жан Рошфор и Клаудиа Кардинале (испанский режиссер Фернандо Трюба).
Фильм завораживающий, хотя очень простой, никаких особых коллизий…
Старый художник чувствует, что конец уже близок… и готовится к смерти.
Но одна история в этом фильме меня захватила…
Это рассказывает главный герой фильма, художник, влюбленный в свою модель.
«Бог создал сначала всю красоту – землю, небо, море, звезды и т. д.
И понял, что чего-то не хватает… А не хватало женщины… И он создал для себя женщину… И она была самой прекрасной на свете… И он назвал ее Евой…
И бог занимался с ней любовью…
И у них родился сын Адам…
И бог сказал ей: только никогда не делай этого с Адамом…
Но однажды он застал Еву с Адамом в постели… и выгнал их из Рая…
И больше никогда не было счастья на Земле…»
Это похоже на правду…
О лобстерах
Чем дороже, тем лучше
А вот что я вычитал.
Лобстеры не всегда были деликатесом… Более того – раньше богатые их не ели вообще, их было слишком много, особенно в Штате Мэн, ближе к Канаде…
А слуги, когда их нанимали, подписывали контракт, что лобстеры в меню не чаще 3 раз в неделю…
Сейчас лобстеры, омары, лангусты – самые дорогие блюда в любом меню любого ресторана в любой стране мира.
Но это потому, что иначе никто не получит настоящего удовольствия…
Это как с вином – чем дороже, тем покупатель больше кайфует…
Несколько раз мы с женой пили очень дорогое вино – от полутора тысяч до двух тысяч евро за бутылку.
Нам казалось, это вино – божественная мальвазия.
А потом вдруг поняли, что привычное Пино Гриджио идет куда лучше.
Но от маркетологов не уйдешь. Они всё равно впарят тебе свой «эксклюзивный продукт».
«Поливалка» и радиоточка
Советские радости
Давно хотел сказать, что только в Советском Союзе существовали две удивительные вещи: «поливалка» и радиоточка. Собственно, они существуют и сейчас. Но одна из них совсем ушла под воду, и только в некоторых старых домах (как, например, тот, в котором мы сейчас живем), радиоточки до сих пор существуют. Во всяком случае, мы за них платим ежемесячно 25 рублей… Правда. Чтобы заставить их заработать, надо приложить уйму усилий, найти этот провод, вывести его наружу, купить репродуктор, присоединить – и тогда что-то из этого репродуктора польется. какая то российская радиостанция. конечно, не «Эхо Москвы» и не «Коммерсант».
Что касается «поливалок» – так в моем детстве назывались машины, едущие по улицам и разбрызгивающие воду. Они продолжают ездить и сегодня, ничего не изменилось.
Собственно, ничего плохого нет ни в радиоточке, ни в «поливалке». Просто у меня есть твердое убеждение, что это всё родилось в СССР, что придумал оба этих предмета лично И. В. Сталин, и что больше нигде в мире таких штук не существует.
И что эти два предмета – какие-то родственники.
Во всяком случае, ровесники.
Нигде в мире ничего подобного не встречал. Если ошибаюсь, поправьте меня.
Распространение радиоточек и «поливалок» началось в СССР примерно в начале 30-х годов, ровно тогда, когда вождь стал безраздельно командовать на бескрайних советских просторах. И то и другое было внешне полезно: радиоточка упреждала народ о любом нападении агрессора, а «поливалка» лила воду на нашу мельницу, причем часто совершенно бессмысленно: все мы видим, когда идет дождь, прохладно, ветрено, и вдруг «поливалка», с энтузиазмом поливающая и без того мокрые улицы.
Объяснить это иностранцам невозможно. Я не смог. Даже полякам.
Но мы-то всё понимаем.
«Поливалки» получают дневное задание расплескать столько-то литров воды каждый день. Независимо от погоды.
Это делается за деньги городского бюджета, то есть за деньги налогоплательщиков, но кого это волнует?
Происшествие в супермаркете
Языковой вопрос
Говорят, это случилось в одном большом супермаркете на Среднем Западе, в Америке.
В кассу стояла довольно большая очередь (был день распродажи).
Одна женщина, по виду то ли бразильянка, то ли аргентинка, а может, и гречанка, высокая, красивая, с пышными черными волосами, громко разговаривала по телефону. Причем говорила она без умолку, такое впечатление, что её собеседник просто молчит.
И говорила она на никому не понятном языке.
В Америке никого не удивишь иностранными языками, тут все недавние иностранцы, и со своими соплеменниками разговаривают громко, не стесняясь в выражениях.
Но этот язык был какой-то особый, с хриплыми гортанными звуками, с придыханиями, и пощелкиваниями языком.
Очередь терпела долго. В конце концов одна пожилая дама не вытерпела:
– Мадам, вы очень громко разговариваете, да еще на совершенно непонятном языке. Мы здесь все говорим по-английски. А если вы еще не научились говорить на нашем языке, будьте любезны, научитесь!
– Вы очень мешаете, – подхватила другая пожилая дама. – Или отойдите в сторонку, или потише, пожалуйста.
Женщина, не замечая пожилых дам, продолжала так же громко орать на своем непонятном языке. Из чего все вокруг поняли, что она вообще не понимает ни слова по-английски.
Тут толпа зароптала, раздались возгласы, что надо позвать полицию…
В этот момент громкий телефонный разговор прервался и высокая женщина, всё так же громко, но на безукоризненном английском языке, обратилась к толпе.
– Значит так, господа, – сказал она. – Вы думаете, что я к вам недавно приехала. Нет, это вы ко мне недавно приехали. Мои предки живут на этой земле около тысячи лет. А говорю я со своей дочерью на языке навахо, одном из древнейших языков нашего континента. И если вам не нравится – убирайтесь вон отсюда!
Как писал классик, после этого была немая сцена. Все мгновенно заткнулись и втянули голову в шею.
Наступила тишина.
Малютки или короткие заметки
Хасиды
Мало что в мире может сравниться с экстазом евреев– хасидов в бруклинском Краун-Хайтс, поющих вместе с Любавическим ребе!!!
Однажды я это слышал своими ушами.
Разговоры о смерти
Надо написать книгу о своей юности и о философских разговорах, которые мы вели в 15–16 лет, подражая Джулиану Барнсу (см. его книгу «Предчувствие конца»). Разговоры эти были исключительно о смерти и о другой жизни после смерти…
Разрушение храмов
А вот мысль, пришедшая в городе Куско, Перу. Храмы инков, переделанные в христианские церкви, – не есть ли это такое же кощунство, как превращение стамбульской Святой Софии в мечеть или разрушение Храма Христа Спасителя? Любое разрушение культовых зданий или предметов – это надругательство, и боги за это мстят. А бог не фраер!
Хотя я вполне спокойно отношусь к храмам и не люблю бывать внутри, особенно после того, как побывал во всех великих храмах: св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, Нотр-Дам в Париже, Cathedral Church of Saint John the Divine в Нью-Йорке.
Я человек нерелигиозный и не церковный, однако с уважением отношусь к любой религии. И ненавижу разрушающих храмы.
Генофонд
Россия много лет назад уничтожила свой культурный слой. Чтобы восстановить его, надо это же количество лет (то есть 70) помножить на 3: ведь строить куда труднее, чем ломать…
В общем, приходите через 210 лет.
Cogito?
А вот еще одна мысль: знаменитое декартовское «я мыслю, стало быть, я существую»… (Cogito ergo sum).
А если я не мыслю…
И тут миллион аргументов… Ведь человек далеко не всегда МЫСЛИТ, а некоторые люди вообще не МЫСЛЯТ. Значит, они не существуют?
А они ведь существуют, да еще как!
Соло на арфе
Гостиница «Европа», Санкт-Петербург, шикарный завтрак, где-то тихонько играет арфа… Присматриваюсь – сидит арфистка. Вот молодцы, думаю.
Арфа. Чайковский. Россия. Питер.
Прислушался… а звучит «I love to be in America» Leonard Bernstein!
Глобализация!
Литературный огород
«Литература – место не огороженное», прочитал я где-то… Однако сравнение литературы с огородом вполне уместно… Здесь копают, сажают, удобряют и убирают урожай многие труженики литературного труда.
А слово «огород» происходит по-русски от слова «ограда» – «огороженный».
Вопрос: каждый ли может пастись в этом огороде?
На венском рынке
В Вене в погожий день гуляем по рынку, около театра «An der Wien».
Вижу небольшую гипсовую статуэтку среди прочей рухляди… похоже на Вагнера… Спрашиваю у продавца, кто это изображен? Продавец берет в руки, вертит в руках и говорит: понятия не имею… Беру в руки статуэтку и нахожу полустертые буквы: Wagner… радостно говорю продавцу: это же великий Рихард Вагнер… А кто это? – переспрашивает продавец, австриец средних лет…
Немая сцена.
Филологический казус
Слова, где приставка «не» ничего не меняет:
Истовый – неистовый.
Ужели – неужели.
Хай – нехай.
Может, есть еще. Я больше не знаю. Да и третья пара скорей украинская.
Характеристика из детского сада:
Спит, пьет, гуляет хорошо.
Об «Аватаре» завтра
Фильм «Аватар» для нынешней молодежи – то же, что «E.T.» для предыдущего поколения… Что будет следующее? Какой-нибудь «Last Airbender»?
Элен Безухова и композитор Прокофьев
История Элен Безуховой, когда она хочет, как сказано у Толстого, «от живого мужа выйти замуж за другого», и придумывает повод, что тот брак был плох, потому что религия плохая, то есть для нее, ставшей католичкой, православные законы уже не указ…
Это очень напоминает историю второй женитьбы С.С. Прокофьева, когда ему в НКВД сказали: «Да что вы, Сергей Сергеич! Мы ведь церковный брак не признаём! Вообще! Совсем!»
И он, бедняга, стал двоеженцем. Этот случай известен всем юристам как «Казус Прокофьева».
После рождения
Ребенок рождается так же, как и всегда… И первые дни он проводит точно так, как тысячелетия назад.
А потом начинаются новшества… Ведь мир наполнен сегодня миллиардом вещей, которых раньше не было… и ребенок уже в первые дни видит телевизоры, смартфоны, самолеты и компьютеры.
Что это меняет? М-м-м… сначала ничего. а потом – меняет всё.
Солист и оркестрант
Интересная тема для рассказа: солист скрипач играет с оркестром… Всё это – глазами оркестранта с последнего пульта… С которым он учился когда-то в консерватории и ненавидел его уже тогда. Оркестрант был талантливее солиста. Но солисту повезло: он сыграл на конкурсе, его подхватил агент, стал рекламировать, сделал контракт с фирмой грамзаписи. И солист прославился. А у оркестранта умерла жена, оставив ему трех детей, и он никогда не смог выбраться из бытовой ерунды. И совсем разучился играть на скрипке. В оркестре его держат просто чтобы дать доработать до пенсии.
А солист оркестранта и не помнит. и при встрече не узнает.
Беллоу он же Белоус
Знаменитый американский писатель, лауреат Нобелевской премии Сол Беллоу на самом деле был из русских – его родители жили в Санкт-Петербурге и эмигрировали за два года до рождения писателя. Отца звали Абрам Белоус. Они бежали из фашистской Италии так же, как мой дядя Майкл. Но это отдельная история, заслуживающая отдельного рассказа.
А Сол Беллоу в какой-то период своей жизни был троцкистом, и даже сталинистом. Что неудивительно: все левые евреи не избежали этих социалистических дискурсов и интенций.
Однако писатель он очень хороший, настоящий классик. Многие считают его последним писателем еврейского Золотого века в литературе. Но нет, был еще один – Айзек Башевис Зингер.
Начало моей биографии – газета «Правда» от 7 августа 1945 года…
Эту газету подарили мне на день рождения. Я ее храню, хотя там ничего интересного. Зачем храню – неизвестно…
Писатель Джон Кутзее
Потрясающий роман Дж. Кутзее «Осень в Петербурге»… По-английски «Master of Petersburg». Удивительный материал, странная смесь вымысла и правды… Поразительный образ Достоевского, даже круче, чем «Лето в Бадене».
Самое невероятное это перевод. С. Ильин – я помню его по переводам Набокова… но там он переводит русского писателя, пишущего по-английски, всё-таки можно предположить, что где-то под английскими словами есть некая русская амальгама, русский ход мыслей… Но у Кутзее этого точно нет. Он не говорит по-русски и никогда не был в России. А текст читается, как будто это написано Достоевским… Или его современником…
Как будет по-английски «тать в нощи»? Или «за нонешний месяц я заплатила»… По-английски так сказать невозможно. Значит, это выдумал переводчик!
Кутзее – 2
И еще один роман Кутзее. «В ожидании варваров»… Высокий класс! Не зря же за этот роман он получил Нобеля, удивительная, пророческая книга… и особенно выдающиеся места, где описываются ощущения пожилого мужчины и его отношения с женщинами… Буду еще читать этого писателя…
Кутзее – 3
А третий роман разочаровал.
«Жизнь и время Михаэла К».
Понимаю, что это мастер, что очень трудно сделать героем персонаж, с которым ничего не происходит, который ничем не интересуется, у которого нет любви, романов, женщин, у которого единственное событие в жизни – как он хоронил свою скучную маму… И пока не появляется комментатор-доктор, видно, как трудно и скучно самому автору это всё описывать… Доктор вводится, чтобы пояснить и прояснить… Но и это не спасает… Всё равно скучно… Роман, к которому подойдет выражение «интеллигентно поскучать».
Еще о литературе
И еще прочитал два русских романа: «Лестница Якова» Людмилы Улицкой и «Ненастье» Алексея Иванова… Оба – добротная хорошая литература… В обоих масса достоинств. Есть трогательные места, когда ком к горлу и задевает за живое.
Но Иванов будет посильнее… там правда жизни бьет в глаза, лихо закручен сюжет, масса очень интересных персонажей, которых прямо-таки видишь и чувствуешь, и всё про них понимаешь…
А у Улицкой много придумок, выдумок, и часто интерес пропадает… Хотя всё вроде документально, всё из жизни её семьи…
Самое эффектное это последние страницы, досье Якова Осецкого…
Но в целом оба романа – достойное чтение, рад, что потратил на них время…
Разрозненные фрагменты
(Без комментариев)
Для меня самоубийство
Страшнее, чем само убийство…
* * *
Зачем писать злобные мемуары?… Не для мести… Просто чтобы они знали – мы всё помним… (сказал Дима Быков).
* * *
Знаменитые строки Пастернака:
- Любить иных – тяжелый крест.
- А ты прекрасна без извилин…
Да почему без извилин-то? Представишь себе женщину без извилин – без мозговых извилин… Ужас берет! Конечно, гораздо лучше – «без изъянов»!
И тогда рифма – пьяным… Можно переписать?
* * *
Для будущих воспоминаний.
Для тех, кто это помнит.
Дом творчества «Иваново». Такая была своего рода бурса, все сильно пили, вставали к обеду, приходили «самоходки» (кому надо, тот знает), при этом писалась масса прекрасной музыки.
Всё это было основано в 40-е годы, во время войны, и здесь проводили свое время и сочиняли гениальную музыку Шостакович, Прокофьев, Хачатурян… Именно они ввели здесь вольные бурсацкие правила. И я это немного застал.
А потом вдруг пришли другие: Смирнов и Фирсова, Вустин, Беринский, ещё кто то… И все стало другим…
Аналогично произошло с «Кинотавром»…
(Сравните «Кинотавр» Рудинштейна и Роднянского.)
* * *
Воспоминания: «ИГРЫ из ДЕТСТВА»
Игры:
Жопа к стенке
Кони рыцари
Ошички
Лянга
Пристеночек
* * *
Умерла журналистка Лена Калядина… мы с ней однажды ездили с какой-то группой на Кипр… Общались крайне мало, она иногда звонила и даже сделала со мной пару интервью, но было это очень давно…
Потом её отправили на пенсию, она как-то там доживала свой век, кажется, совершенно одиноко… И я ничего про неё не слышал.
И вдруг она звонит: как дела? Что делаешь, какие новые работы, премьеры? Позови куда-нибудь… Я сказал: обязательно, только осенью, сейчас ведь лето, не сезон…
– Ну да, не забывай, – сказала она. – Помнишь Кипр?
– Помню, но очень смутно…
– А у меня фотки остались…
– Интересно бы взглянуть, – ответил я без всякого интереса…
А через две недели узнал, что она умерла – после тяжелой болезни…
И я вдруг понял, почему она звонила… Это была последняя ниточка, связывающая её с жизнью… Ей хотелось напомнить себе, что еще не всё потеряно, что жизнь ещё продолжается, что осенью её друг-композитор позовет её в театр…
И мне стало ужасно её жалко… Просто до слез.
* * *
Сто лет не ездил в российских поездах… О, эти дымные платформы! Это желание поговорить с попутчиком, тут же достать припасенную на такой случай бутылку водки, и нарезать колбаску… Сразу всё вспоминается, юность, разбитные проводницы, храпящие попутчики… а эти провожающие, которые сидят в вагоне, пока поезд не тронется, а потом выпрыгивают на ходу.
* * *
Сколько не орали большевики «Время, вперед!», даже музыку специальную заказали… А время шло своим чередом, ни вперед, ни назад, шло так, как положено, и всё предсказанное сбывалось… «всё, что было загадано, всё исполнилось в срок».
Или исполнится.
Короткие шутки
Сидят и кушают бойцы товарищей своих.
Все думали, он «хилер», а оказалось – киллер.
Вопрос уже не стоИт.
У Жени стОит? А у кого не стОит?
Компьютерная опечатка – вместо «искренне» в конце письма у него всегда получалось «выспренне».
Композиторы Блох и Брух не были родственниками, и даже друзьями. Хотя вполне могли быть знакомы.
«Поцелуй в диафрагму» (такой кинематографический штамп) – мне всегда это казалось противоестественным.
Потому что диафрагма – это где-то глубоко, под легкими, и поцеловать туда трудно. (тогда я не знал, что речь идет об оптическом приеме).
* * *
«Воспоминания – как лунные лучи. Мы делаем с ними что хотим».
Из фильма «Beyond the sea». Кевин Спейси так сказал о певце Бобби Дарине, которого он играл.
* * *
Цветаевское «Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед». – оказывается, неточно.
Понятно, она хотела сказать, мол, через сто, двести и более лет меня будут читать.
Но вино так долго не живет. Так долго может жить коньяк. А срок жизни вина – максимум 50–60 лет. После этого оно киснет.
К счастью, стихи Цветаевой не киснут. И надеюсь, они не уподобятся скисающему вину…
* * *
К вопросу, почему я не откликаюсь на многие события в мире. Нашел в «Нью-Йоркере»:
SAMUEL Beckett might have been right about the fundamental tension between human frailty and the expressive instinct of human culture. “If you really get down to the disaster,” he once observed, “the slightest eloquence becomes unbearable”.
Перевод:
Самуэль Беккет, возможно, был прав насчет фундаментальной напряженности между человеческой слабостью и инстинктом выражения человеческой культуры. «Если вы действительно приступите к обсуждению катастрофы, – заметил он однажды, – малейшее красноречие станет невыносимым».
Поэтому я не хожу на похороны.
Новая форма
Когда-то я придумал, как показалось, новаторскую литературную форму: идет текст, а к нему примечания, а затем примечания к примечаниям, а затем примечания к тем примечаниям, которые были к примечаниям – и так до полного абсурда.
Но оказалось, что и это уже было.
Вот роман Генриха Сенкевича «Quo vadis». Правда, это специальное издание http://www.lib.ru/INOSTRHIST/ SENKEWICH/kamo_gryadeshi.txt.
В тексте Сенкевича этого нет.
И тем не менее моя находка обесценилась.
Увы, ничего нового придумать невозможно.
А еще недавно открыл, что есть роман американца Марка Данилевского, где именно это и используется…
Кстати, роман Данилевского, который я прочел по рекомендации Д. Быкова, оказался: а) неинтересным, б) нестрашным, c) совсем не таким уж авангардистским, как я его себе представлял.
То есть сначала он набрасывается на тебя необычными штуками, где странно всё, вплоть до смысла слов и расположения текста на бумаге.
Но потом ко всему привыкаешь, пролистываешь, пролетаешь, и понимаешь, что это вполне заурядное «фэнтези», только очень многословное, с огромным количеством цитат, как настоящих, так и выдуманных.
И неинтересно.
Предки
Интересно, что великий американский дирижер Джимми Ливайн учился сначала у Уолтера Левина, а затем у Розины Левиной. Они не были его родственниками, просто однофамильцы. Хотя ясно, что все они из одного племени Левитов и у них общие предки.
Так же как все Толстые произошли от одного-единственного Толстого, Петра Андреевича.
Который был реально тОлстым… это мне сказал великий Натан Яковлевич Эйдельман.
Стивен Хокинг о прошлом и будущем
Прошлое – это вероятность.
По словам Хокинга, одно из следствий теории квантовой механики заключается в том, что события, произошедшие в прошлом, не происходили каким-то определённым образом. Вместо этого они произошли всеми возможными способами. Это связано с вероятностным характером вещества и энергии согласно квантовой механике: до тех пор, пока не найдётся сторонний наблюдатель, всё будет парить в неопределённости.
Хокинг: «Независимо от того, какие воспоминания вы храните о прошлом в настоящее время, прошлое, как и будущее, неопределённо и существует в виде спектра возможностей».
Мое время
Гениально написал Томас Манн – «мое время». Могу ли я об этом ТАК написать? Или еще рано? Ему было 75 в 1950 году. Мне сейчас почти 75.
Но я готов написать немало интересных страниц о Моем времени… Было бы время…
Музыкальные сходства
Обыватели считают, что композиторы часто списывают друг у друга.
Но это не так, сознательно ни один нормальный композитор ничего ни у кого не списывает. А если заметит вдруг явное сходство своей музыки с чем-то другим – тут же её переделает: ведь это очень просто, изменил несколько нот и сходство исчезло.
Но случайные сходства остаются.
Вот замеченные лично мной.
Лист – «Годы странствий» и Чайковский – ария Ленского «Куда, куда вы удалились…»
Сибелиус – 2-я симфония (финал) и Чайковский – «Спящая красавица», лирическая тема.
«Гроссе Фуга» Бетховена и «Кармен» Бизе, ария Хозе «Я всё забыл, Кармен, я все забыл и прощаю».
Список может продолжаться довольно долго. Да наверняка в интернете можно найти такие источники.
О чем это говорит? Ровно ни о чем. Что в жизни бывают случайные совпадения. Никакой мистики здесь нет.
Названия для романов
СКАРБ
СНУЛЫЙ
СУРДОПЕРЕВОД
ОПЕРАМАН
ШПИАТР (или ШПЕАТР) – можно спародировать Ахмадулину («стихотворения чудный шпеатр…»)
ПОНЯТОЙ
АПОДЖАТУРА
ТРУСЫ (в этом романе речь пойдет и о трусАх, и о трУсах).
Есть и идеи, о чем могли бы быть эти романы. Они уже мною зарегистрированы, и копирайт мой. Осталось написать эти романы.
Опера как константа
Опера оказалась одним из самых устойчивых искусств. Более 400 лет – ничего не изменилось. Вернее, изменилось всё, но суть та же – поют, представляя.
Где рок, где джаз, где симфонии?
Нет, они есть, но они прошли свою фазу, достигли кульминации и остались в истории. Эти жанры сегодня – не культовые.
А опера по-прежнему «культ», и у нее много последователей…
Правда, кино, особенно в его электронных версиях, всё меняет. Люди привыкают к электронике, они уже не смогут слушать живое… уже сегодня оперу смотрят на DVD, на других ресурсах гораздо охотней, чем в театре. Это намного дешевле и качественнее.
И всё же опера – forever!
Об опере «Смерть Клингхофера»
Точная заметка критика из газеты «New York Times».
Sellars is wrong: Explaining historical events is not an opera’s job, and never has been. The art form brims with inexplicable revolutions and preposterously fictionalized intrigue folded into rich and marvelous dramas. What matters is how vast events frame a human drama, translated into musical form. Don Carlo, for instance, is not about the Inquisition or a Flemish uprising, but about the relationship between a powerful father and a frustrated son.
«Питер Селлерс (режиссер оперы – АБ) ошибается: объяснение исторических событий – не задача оперного спектакля, и никогда таковой не была. Художественная форма полна необъяснимых революций и нелепо вымышленных интриг, которые складываются в богатые и изумительные драмы. Важно то, насколько масштабные события создают человеческую драму, переведенную в музыкальную форму. Опера «Дон Карлос», например, не об инквизиции или фламандском восстании, а об отношениях между могущественным отцом и расстроенным сыном».
Шостакович о Рошале
Это – сотый еврей. Из ста евреев – 99 умных. А он – сотый.
Вагнер и Доницетти
Доницетти старше Вагнера на 16 лет. Доницетти родился в 1797, а Вагнер в 1813 году. Вряд ли они пересекались. Доницетти умер молодым в 1848 году, Вагнер только начинал свое восхождение. Хотя наверняка Вагнер знал оперы Доницетти, и наверняка их презирал (как он презирал Верди, Беллини, Россини и пр.). Но любопытно, что одна из самых великих опер Вагнера построена на том же сюжетном рычаге, что и опера Доницетти. Более того – в опере Доницетти «Любовный напиток» в самом начале упоминается «Тристан и Изольда» и любовный напиток.
Знал ли об этом Вагнер? Наверное, да. К Доницетти он был неравнодушен и признавал, что определенные произведения Доницетти весьма достойны, отмечены благородным вкусом, и даже сочинил квартет, в основу которого положил несколько особенно понравившихся ему мелодий из оперы «Фаворитка». Есть ли здесь факт заимствования? Возможно, но это в то время не имело никакого значения. Никакого копирайта на сюжет тогда не существовало. Да и на музыку тоже.
Борхес об Эсхиле
Почему Эсхил – создатель театра?
Потому что именно Эсхил ввел второго. До него был один человек на сцене, и это был монолог, сопровождаемый хором.
А Эсхил ввел второго, возник диалог, это и был ТЕАТР.
Борхес о пьесе Шоу
У Борхеса я нашел то, почему взялся за мюзикл «Цезарь и Клеопатра» – именно фразу об Александрийской библиотеке: Цезарь говорит (в ответ на реплику: «Это ведь горит Память человечества»): – «Пусть горит. Позорная память…»
Хотя реальный Цезарь Александрийской библиотеки не сжигал.
И Клеопатре было не шестнадцать лет, а 20.
Но – какая разница? Это же пьеса, а не учебник истории.
Ашибки на компуторе
Все уже давно привыкли, что в электронных письмах масса ошибок.
Было бы смешно, если бы каким-то образом погасали или изменялись буквы в названиях компьютерных заданий русских Windows.
Вместо НАПИШИ – НАПИЩИ (то есть попищи).
Вместо создать – дать.
Вместо закрыть – крыть.
Вместо открыть – отрыть.
Вместо отправить – отравить.
Отправленные – отравленные.
А в английском самое распространенное:
SAVE – SHAVE – то есть СБРЕЙ
Наверное, хакеры способны так подшучивать над примитивными пользователями…
Из истории слов
Слово Метрополитен, оказывается, родилось в Лондоне, так же как и слово вокзал. Просто в Лондоне впервые была построена Metropolitan Railroad. И именно русские забрали себе это слово Метро.
А в Америке пользуются словом Subway.
А слово «наган» – это имя собственное. Так же как Ксерокс, Вазелин, Барби, Граммофон и Героин. Уж не говоря про Макинтош.
Из записок Геннадия Рождественского.
Рассказ винодела
«Лучший виноград произрастает на худшей почве. Хорош он потому, что должен своими корнями пробивать сопротивляющуюся землю и, только победив её сопротивление, напиться животворящими соками».
К чему это? Что для музыки (и вообще для художника) очень важно встречать сопротивление… без сопротивления искусство выходит слишком гладким, когда всё можно – это скучно.
А вот интересные слова Давида Самойлова, которые он написал в письме моей подруге, израильской поэтессе и художнице Алле Липницкой.
«.Поэт не отдельное дерево. Он дерево в лесу, он должен продираться сквозь толпу себе подобных вверх, тем укрепляясь и отстаивая свою индивидуальность, тем и походя на своих собратьев, что смогло отстоять себя, включить в процесс леса и остаться самим собой.»
То есть – нельзя быть на отшибе. Нельзя творить в одиночестве. Да, само творчество требует тишины и сосредоточения, иначе не бывает.
Но формирование личности и мировоззрения происходит в толпе.
Иначе получается одинокий нарцисс.
Опять же уместно вспомнить Гете
(из поэмы «Торквато Тассо»):
Таланты образуются в покое,
Характеры – среди житейских бурь.
А художник – это обязательно сочетание таланта и характера.
* * *
Насколько я помню, из больших русских поэтов только Маяковский, Есенин и Цветаева много писали о самоубийстве, и все трое покончили с собой. Не знаю, пророчество ли это или страшная реальность их жизни: кто часто зависал над пропастью, один раз мог и сорваться.
Всё-таки я предостерег бы поэтов писать на эту тему.
* * *
Недавно наткнулся на слово «амузия»: оказывается, это термин в психологии, когда человек не различает музыку, не отличает звуки.
Это вообще-то болезнь. Но если брать шире, то это и непонимание художества, непонимание ценностей музыкальной истории, ну а если еще шире – непонимание искусства вообще…
Да, такое бывает. Чаще всего это происходит от отсутствия воспитания, среды, образованного круга вокруг человека. Это не болезнь, но глухота, тупость, антикультурность.
Но это же слово можно с успехом отнести к некоторым сегодняшним «псевдоавангардистам». Которые пишут уже совсем не музыку, а некие «шумоподавительные» опусы. Не понимаю и никогда не пойму.
Пианино в заточении
Когда мы только переехали в Америку, у нас не было пианино, вообще не было никакого музыкального инструмента. Нет, была скрипка, на которой играл наш сын Лёва.
Но больше ничего.
Конечно, я стал спрашивать, нет ли у кого лишнего инструмента. Просил всех знакомых узнать…
И вот раздается звонок.
– Александр, нам сказали, что вам нужен инструмент.
– Да.
– Так вот, мы хотим вам предложить прекрасное пианино. Единственное условие – вы должны его сами вывезти.
Конечно, – согласился я и через несколько часов был по указанному адресу в Бруклине.
Пианино было вполне хорошее, немецкое, послевоенного времени, ГДР. Вполне сносно настроенное. Я спросил:
– А кто у вас играет?
Хозяин довольно грубо ответил:
– Никто. Это не наш инструмент.
Я сказал, что беру. Хозяин очень обрадовался.
– Забирайте прямо сейчас.
Грузчики приехали через полчаса. Сердце мое наполнялось радостью – уже сегодня дома будет стоять пианино и я смогу на нем играть.
Правда, грузчики повели себя как-то странно. Они поцокали языком, походили вокруг пианино, потом подошли ко мне.
– Хозяин, ничего не получится.
– Как не получится? – возопил я.
– А очень просто, – сказал здоровый детина-грузчик. Это пианино невозможно вынести из комнаты.
И тут я понял. Дело в том, что квартира была на 4 этаже, в обычном многоквартирном доме. Но в этой квартире недавно был сделан ремонт. И комнату, в которой находилось пианино, переделали. Построили дополнительную стенку и заложили проход, а дверь сделали в другом месте, очень маленькую и узкую, туда пианино никак не проходило.
Таким образом, задачу можно было решить двумя способами: или разобрать стену, на что решительно не был согласен хозяин квартиры, либо вызывать специальную технику (типа пожарного крана) и через окно, медленно, на специальных ремнях, спускать музыкальный инструмент на землю. Опытные грузчики мгновенно подсчитали, что эта операция обойдется нам примерно 2000 долларов. Купить приличное пианино в комиссионном магазине можно было тогда за 800 долларов.
Что я и сделал.
А пианино, которое мне предлагали, наверное, так и стоит в той комнате. Вполне возможно, меняются хозяева, а пианино переходит вместе с квартирой из рук в руки. И всё ждет, кто же его освободит из непредвиденного заключения. И немного поиграет на нём, ну хоть «Собачий вальс»…
Стишки
Всё, что я включил в этот раздел, написано по случаю. На юбилеи, на встречи, просто от радости. Ни в коем случае не причисляю к себя к поэтам, небожителям и фантастическим представителям человеческого рода (говорю без всякой иронии).
Просто люблю слагать слова в рифму и в ритме. Могу себя называть версификатором.
- Ах, сколько всего замечательного
- На полках моей библиОтеки.
- Мне книги дарят друзья мои,
- Прозаики и переводчики.
- И я их читаю внимательно,
- порой оторваться не в силах
- читаю не всё: Избирательно.
- путаюсь, иногда пугаюсь
- но всё равно пытаюсь
- понять —
- хотя бы немножечко,
- о чем это?
- И кто этот человек,
- который всё это написал
- ведь я его знаю в жизни,
- но в строчках он раскрывается
- порою совсем по-другому,
- И я понимаю что-то,
- чего раньше не понимал.
- конечно, я стараюсь
- не добавлять ложку дегтя
- в тот мед, что назойливо
- облепляет меня своей сладостью…
Библиотека
- за строчками стоят чьи-то тени
- и я их угадываю порой.
- Но чаще и не пытаюсь угадать
- Что там – за горой.
- И кто там – герой?.
–
- Ах, зачем мне такой геморрой?
- Ах, зачем я так много читаю?
- Для чего эти буквы и мыслей рой?
- Зачем в жизнь я чужую врастаю?..
- но я не могу иначе.
- Такая вот незадача…
- Мысль изреченная есть ложь
- Сказал поэт. Но он ошибся.
- Мысль изреченная есть нож —
- сказал философ Фридрих Ницше.
Мысль изреченная
- порой кривой, порою ржавый
- порою тонкий, как стилет
- иль занесенный над державой
- Топор. Иль скальпель. Иль кастет.
- В тот миг, что Цезарь мысль озвучит —
- Толпа, вскипает, горяча,
- Излиться хочет, словно туча,
- И жаждет крови и меча.
- И вдруг над миром бомбы грянут.
- И гуннов полчища помчат
- И вновь империи увянут
- По мановенью палача.
- И всё пожрет огонь нещадный,
- И обратится мир наш в пыль…
- Запомни, друг мой ненаглядный —
- Мысль изреченная – фитиль.
- Примечание: «Фьоренца» – новелла в форме пьесы Томаса
- Манна, на сюжет которой я написал оперу.
Вариации на тему «фьоренцы»
- Мы много говорили о приоре
- И становилось ясно a priori
- Какие я выделывал коленца
- Со строками божественной «Фьоренцы»…
- Как выросло с тех пор мое брюшкО
- Когда дарил завистливый Грушко
- Свои вполне божественные вирши
- как будто был допущен он до пиршеств
- тех всеблагих,
- о коих нам камлал
- потомок эфиопов А.С. Пушкин.
- Поверьте, одного б я лишь желал —
- чтобы никто меня не взял на пушку.
- Он был человек без долгов
- Можно сказать «бездолговый»
- А друг его был без мозгов
- Можно сказать «бестолковый»
Долги наши
- Это было тогда
- Я сказал вам «Тода»
- Это значит по-русски «спасибо»
- Но ответ был суров
- Он ответил мне «Тов»
- «Хорошо» – перевод. Или прибыль.
Русско-ивритское
- Перевод – как ушиб,
- перевод – как загиб,
- перевод – это будто фунт лиха.
- Я сказал ему Шма!
- Я сказал – манишма!
- После тихо шепнул ему – слиха!
- Он снова посрёт и снова поссыт
- А после он примет ново-пассит,
- И ляжет и будет пытаться заснуть.
- О да, sic transit, —
- человеческий путь!
Жизнь
- В юности, в тесной тиши кабинета
- Мы романтично рвались – на север!
- Нынче же тихо, – в сетях интернета
- Мы повторяем – на сервер! на сервер!
Блогерское
* * *
Народная песня
Первая строка
Пойду ль я, выйду ль я да
А вторая строка
Пойду я, вылью яда!
* * *
- Позади меня – степь, сверху – Родина
- Рядом баба моя – сверхуродина!
- Закулисные тайны и другие истории
- Володя Вишневский, Вишневский Володя,
- Любимый, прекрасный и всё в этом роде.
- Вишневский Владимир, маэстро Вишневский,
- Ты взрослый мужик – но с улыбкой из детства.
О, да – вишневскому!
- Ты пишешь стихи. Это странная доля.
- Эта охота ведь пуще неволи.
- Ты со стихами навеки повязан.
- А гражданином ты быть не обязан.
- Поэтом легко быть. Да проще простого.
- Берешь ты словарь, выбираешь ты слово.
- Потом подбираешь к тому слову рифму.
- Потом продаешь – по двойному тарифу.
- Но так сочиняет поэт без полета
- Они графоманы, они виршепл