Читать онлайн Happyend бесплатно
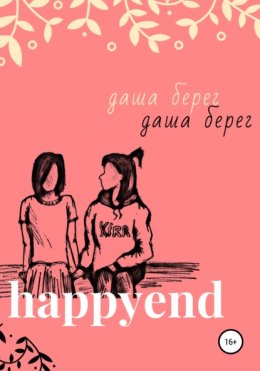
ДАША БЕРЕГ
Сборник рассказов «
Happyend
»
Carpe diem
Настя одернула рукава нового плаща, пристегнула ремень безопасности и улыбнулась. Она так любила пятницы, что почти не расстроилась из-за испорченной блузки. Симпатичный незнакомец, проливший на нее в кофейне смузи, мило извинялся и предложил подбросить до работы, а там, в шкафчике, ее ждала сменная одежда. Все складывалось замечательно.
В конце рабочей недели Настя позволяла себе обед в местах поприличней офисной столовой. Она любила находить новые, интересные ресторанчики и все утро обычно зависала в телефоне, исследуя карту и прокладывая маршрут. Не слишком пафосно, не слишком просто, не больше двадцати минут пешком, не больше тысячи за обед и не попсовая сеть – лэйблы Настя уважала только на одежде. В эту пятницу ей приглянулась кофейня со странным, некофейным названием «Carpe diem»1, находящаяся в максимальных двадцати минутах от Настиной работы. По-хорошему, обед ей не светил вообще – накопилась гора документации, и сдать надо было к вечеру, но название кофейни интриговало и заманивало.
Лови момент.
«Успею», – подумала Настя и отправилась ловить. Улов оказался знатным – красивый мужик и оранжевое пятно на блузке. Первое перевешивало.
Насте нравилось верить в возможность случайных романтических встреч и, окрыленная, она разрешила оплатить свой чек и довезти до работы. Автомобиль у незнакомца был добротный, но всю романтику испортило детское автокресло на заднем сидении. Настя не подала вида и, пристегиваясь, дружелюбно улыбнулась. Ну и ладно. Блузка была старая – не жалко, главное, плащ от Майкла Корса не пострадал. Она потеряла интерес к незнакомцу, который всю дорогу оправдывался по телефону перед визжащим женским голосом, и прикрыла глаза, мечтая о том, как закончится рабочий день, она сядет в свою машину, включит любимый плейлист, и…
Когда Настя открыла глаза, голос продолжал что-то орать из трубки, которая теперь почему-то валялась на полу салона. Противно пищала сигнализация. Тикало в висках. Настя попробовала поднять руки, но ее словно прикрутило к сидению.
«Заснула я, что ли?» – подумала она, и повернулась к водителю. У того не было половины головы. Настя что-то невнятно промычала и еще раз попробовала поднять руку, чтобы посмотреть время, но снова не получилось. Впрочем, циферблат видно было и так – без пяти минут два. Скоро кончится обеденный перерыв, а она зачем-то сидит в чужой машине.
«Что ты молчишь? Ты нас предал, предал!» – визжал голос из трубки.
Конечно, это же машина незнакомца из кофейни, и его истеричка-жена в телефоне. Как там звучало название?
– Карпэ диэм, – проговорила Настя вслух пересохшими губами и снова перевела взгляд на водителя. Вместо верхней части головы у него была серо-красная каша. Такая же каша была размазана по всему салону и самой Насте. Пахло кровью. Она посмотрела на рукав своего белого плаща – он стал грязно-красным, а ближе к манжету прилипло что-то, напоминающее человеческий глаз. Настю вырвало. Машину окружили люди, и только когда у кого-то получилось открыть дверь, она смогла закричать.
***
– Вам очень повезло, – в очередной раз сказал ей полицейский. Настя сидела в больничном коридоре и давала показания. У нее не обнаружили ни серьезных повреждений, ни переломов, а плащ от Корса забрали медэксперты, впрочем, вряд ли у нее бы возникло желание повторно его надевать. Еще в машине скорой помощи ей вкололи лекарство, действие которого стало догонять только сейчас – она казалась самой себе посторонним наблюдателем, а случившееся в обед – просто красочно нарисованным мультиком, даже немножко смешным. Она добавляла ненужные подробности в свои ответы: что должна была доделывать отчет в обеденный перерыв, но сбежала в кофейню, что Carpe diem переводится как «лови момент!», а она ничего не поймала, что шеф – старый мудак, а нормальные мужики не пьют ягодные смузи и, тем более, не льют их на незнакомых девушек.
– Вы – Ивантеева? – спросил у нее очередной врач, проходящий мимо нее по пустому коридору.
Настя кивнула. Полицейские уже ушли, а она все продолжала сидеть на лавке, как забытая кукла.
– Вы зачем подписали отказ от госпитализации? У вас сотрясение мозга…
Врач бормотал это, привычно раздвигая ее веки большим и указательным пальцем. За очками его глаза казались совсем маленькими, словно Настя смотрела в бинокль задом наперед. Она захихикала. На бэйдже врача была нарисована смешная змея, пьющая мартини, и написано: Кондратюк Игорь Валерьевич, заведующий отделением.
– А Кондратюк Валерий Иванович из Перми – не ваш отец? – спросила то ли Настя, то ли лекарство, играющее в ней.
– Мой.
– И мой тоже!
– Настя?!
Глубокие заломы на лбу, очки, усы, борода с залысинами на щеках, как у отца, – брат Игорь.
– Настя! Как я рад тебя видеть! – он крепко, почти больно, схватил ее за руки, – Я же все соцсети перерыл, пытаясь тебя найти, а ты…
Настя с интересом уставилась на его ладони, пытаясь понять, были ли они на самом деле такими горячими, или же это ее руки превратились в лед.
– Правда?..
Никто до этого её не искал. Она никогда не была настолько кому-то нужной, чтобы ради нее что-то перерывать. Игорь… Сын отца от первого брака, уже взрослый, он часто бывал у них в гостях. Насте было лет шесть, и она все просила то катать её на шее, то подбрасывать в воздух, и пищала от восторга. Потом он завалил экзамены в институт и ушел в армию, отец умер, а Настя с матерью перебрались в Екатеринбург. Больше она Игоря никогда и не вспоминала, не то что – искать.
– Как же я рад тебя видеть! – повторил брат.
Белый рукав, ставший красным. Визги из телефонной трубки. Чужие руки, вытягивающие её из машины. Настя впервые за этот бесконечный день заплакала.
***
– Отец последний год пил по-черному, – рассказывала она пару недель спустя, – а как умер, там столько долгов его разных повылазило… Они же с мамой не были расписаны, фамилии разные. Мы и уехали.
– Про долги я знаю. Я их все выплатил.
– Игорь…
– Брось. Я не в обиде. Твою маму тоже можно понять. Я выплачивал их пять лет. Наверное, тоже мог сбежать, но не стал. Кто-то же должен был.
Настя закрыла глаза. Она привыкла жить в сугубо материальном мире – любила деньги, брендовые вещи, свою машину, любила в обед по пятницам воображать, что живет чуть лучше, чем на самом деле. С матерью отношения не ладились, друзья годились только для баров и караоке, мужчины попадались сплошь недоделанные, да и намного удобнее жить одной. А тут – Игорь, с его доброй улыбкой, вкусно пахнущим домом, приветливой женой и дочками-хохотушками. Уже в который раз, сидя на его кухне, она ловила себя на мысли, что с самого детства не была так просто, беззатейно счастлива. Словно она плыла в сером одиночестве, а потом в одночасье какая-то сила подняла ее наверх, в цветной, яркий мир, и она стала чьей-то сестрой, золовкой, тетей, стала кому-то нужной. Словно Игорь подбросил ее в воздух девчонкой, а поймал только сейчас.
Они сидели на кухне вдвоем и пили чай. От кружек шло приятное, обжигающее тепло, как от ладоней Игоря в тот злополучный день. За окном был холодный осенний вечер, из коридора доносились приглушенные голоса и смех, а Настя словно сидела посередине, на границе двух этих миров. И в тот, старый, идти совсем не хотелось.
– Знаешь, – сказала она, задергивая шторы, – может, и хорошо, что я села в ту машину.
***
Было уже темно, когда она припарковалась возле дома. Во всем дворе, кроме женской фигуры у фонаря, не было ни души. Настя закрыла машину и пошла к своему подъезду.
– Думала, я тебя не выслежу, да? – закричал женский голос ей вслед.
Настя сразу поняла, кто это – они сталкивались в полицейском участке, и та уже тогда сыпала непонятными обвинениями.
Голос из трубки.
– Заморочила ему голову, развалила семью, – продолжала жена незнакомца, с которым Насте так и не довелось познакомиться, – а потом и вовсе убила! Приспичило тебе покататься!
Настя хотела возразить, но слишком поздно увидела, что в руке у женщины было нечто, напоминавшее молоток.
– Катайся теперь, катайся! – закричала та и быстро, в пару ударов, разбила лобовое стекло у Настиной машины. Взвыла сигнализация.
– Дура! – завизжала Настя и, подбежав к женщине, бесстрашно вырвала у нее из рук молоток, оказавшийся металлической колотушкой для мяса.
Женщина была ненамного старше самой Насти. Как лишившийся волос Самсон, упустив колотушку, она сразу же сложилась пополам и начала рыдать, обхватив голову руками.
Настя смотрела на разбитое вдребезги стекло и была готова сделать тоже самое. В ней снова проснулась та, старая Настя, привязанная ко всему материальному, она вспомнила свой чудесный плащ и в бешенстве заорала:
– Да откуда вы свалились на мою голову? Одна лобовуху разбила, другой… всю голову!.. Я вообще не должна была быть в этой гребаной кофейне, и мужа твоего я видела первый раз в жизни!
– Врешь! Врешь! Тебе бы только трахаться, а у нас семья была, дети!..
Настя словно вновь оказалась в разбитой, пахнущей кровью машине, и голос все продолжал и продолжал визжать в трубке, и она вдруг сказала вслух то, что было очевидно, но почему-то раньше не приходило на ум:
– Да ты же сама его и убила! Пилила его всю дорогу, он даже трубку не мог выпустить из рук, и отвлекался… Это из-за тебя все и произошло!
Та резко перестала плакать и замерла с открытым ртом. В ее расширившихся зрачках что-то колыхнулось, словно Настя камнем бросила в них последние слова, а вода глубокая, а дно илистое и вязкое, и не достать уже камень, и будет он там всегда – ужасом осознания, который потом станет ужасом вины, и, может, ужасом всей ее жизни. Насте вспомнилась кухня Игоря, тепло от кружки с чаем, смех племянниц. Младшую тоже звали Настей, и похожа она была на маленькую Настю точь-в-точь, и Игорь так же брал ее на руки и подбрасывал вверх, а та беззаботно хохотала. И это видение-воспоминание Настя ни за что не хотела бы потерять.
Ее разрывали два мира – старый, в котором важнее машины и вещей не было ничего, и новый, с простыми радостями. Кто-то убегает, кто-то выплачивает долги. У кого-то разбито всего лишь стекло, у кого-то – вся жизнь. Чувство вины тяжелее горечи утраты. Возможно, оно тяжелее всего.
Настя еще раз посмотрела на разбитое стекло и, вздохнув, тихо проговорила:
– Да, я с ним трахалась. Я разрушила вашу семью. Он не хотел, а я все не могла остановиться, и разрушала, и разрушала. И мне приспичило покататься в тот день. Я виновата. Простите меня.
Зрачки женщины сузились, выплеснули ужас. Она встала, вытерла слезы тыльной стороной ладони.
– Я так и знала. Сволочь.
– Сигнашку выключит кто-нибудь? Что случилось? – спросил сосед, вышедший из подъезда.
Настя еще раз вздохнула и показала на колотушку, которую все еще сжимала в руке.
– Я лобовое себе разбила.
– Дура, что ли?
Настя выбросила колотушку в мусорное ведро и пробормотала себе под нос:
– Ну, вроде того.
Хмели-Сунели
За завтраком Вова сказал, что смыл бедняжку Сунели в унитаз. Мы пили кофе – Вова в северной комнате, я – в южной. Уже вторую неделю мы жили по разным комнатам и все время говорили по телефону, и это было странно, потому что много лет до этого мы жили в одной и не говорили совсем.
Поэтому мы и купили этих двух несчастных рыбок в круглом аквариуме – у нас был общий бизнес-проект, и нам нужно было еще хоть что-то общее, чтобы довести его до конца и не развестись раньше времени. Продавец заверил, что это мальчик и девочка, и что к концу месяца у нас будет славное рыбное потомство. Мы назвали рыбок Фаина и Олег, как великих советских актеров, написали на стене график кормлений, потому что даже об этом уже не могли нормально договориться, и стали жить дальше, в делах и планах на дела. Полгода спустя мы очнулись и поняли, что рыбки по-прежнему плавают в пустом аквариуме. Я помню, как тогда расстроилась. Мне показалось, что будущего нет ни у кого, даже у глупых рыб. Только равнодушная вода и бутафорский домик с тощей водорослью.
А потом все изменилось – в мире грянула эпидемия, бизнес-планы полетели ко всем чертям, а я заболела модной болезнью. Вове не разрешали выходить из дома, а мне – из комнаты.
– У вас квартира создана для карантина, – сказала врач.
Мы взяли в ипотеку эту старую распашонку десять лет назад. Нам было по двадцать три года – ни денег, ни мозгов. Но мы были счастливы и радовались крошечной кухне, ванной с шумящими трубами, северной комнате со скользким линолиумом, южной – с ее обоями в цветочек. Мы стали обладателями Муми-дома, как называли его в шутку, друг друга и целого мира.
Со временем все куда-то делось. В длинной, нелепой квартире мы то болезненно сталкивались в узком коридоре, то, наоборот, целыми днями могли не пересекаться, как в заколдованном лабиринте. Ремонт бросили на половине из-за ругани и постоянного дележа имущества на словах. Нас связывала только работа, и эта связь была мучительной, беспросветной. Когда на горизонте замаячили хорошие деньги, мы решили, что ради них можно продержаться еще год, а там будь, что будет.
– Наверное, это самцы, – сказал Вова, когда стало понятно, что нам не услышать гомона рыбьих голосов, – и они гетеросексуалы.
– Может быть, они бесплодны, – возразила я, потому что тогда мне уже казалось, что в этом мире бесплодно все, кроме работы, и все не имеет смысла. Мы опять поссорились, выясняя сексуальные предпочтения рыбок, но потом все же решили дать им новые имена и оставить в покое.
Я назвала их Хмели и Сунели, без привязки к полу и ориентации. Целыми днями они бесцельно плавали друг за другом в своем круглом доме.
Когда я заболела и врачи заперли меня в южной комнате, уже стало понятно, что бизнес-планов можно больше не строить и мы банкроты. Вова заказывал продукты и сам готовил еду. Мне она казалась безвкусной и я писала ему на вотсап: «Недосолил борщ», «Зажал соуса».
– Можно подумать, твой борщ был съедобным! – орал Вова из кухни. – Я ненавижу все острое!
– Мог бы об этом говорить! – орала я в ответ, а потом долго кашляла.
На третий день после очередной такой перепалки я устала кричать и набрала ему по телефону.
– Раньше ты говорил, что паровая грудка тоже вкусная!
– Раньше мне все, что ты делала, казалось вкусным, – сказал Вова, а я заплакала.
Мы проговорили двенадцать часов подряд, как столько же лет назад, когда только начали встречаться. Не выясняли отношения, не касались работы и того, как жить дальше, просто говорили. Оказывается, за последний год Вова подтянул свой английский. Я села на шпагат. Вова до сих пор помнит стихотворения Пушкина из школьной программы. Я никогда не читала Мураками. Вова любит комочки в манной каше. Я быстро сгораю на солнце. Кажется, я все это знала когда-то. Кажется…
Мы говорили днями напролет. Мы желали друг другу доброго утра и спокойной ночи – впервые за много лет. Обменивались дурацкими фото и сообщениями. Мне напоминало это о временах, когда только появились мобильники, и все перекидывались смс-ками, сидя в одной комнате. Вот и мы с Вовой вели себя так, как подростки из начала нулевых, только связь теперь стала дешевле, а мобильники были у всех.
Все обесценилось, все воспринималось как должное. Когда-то давным-давно парень был только у одной из моих одноклассниц, и все ей страшно завидовали, но прошли годы, и все мы стали с кем-то жить, спать, вышли замуж, развелись. Кого теперь удивишь мобилкой… Мы с Вовой так радовались нашему Муми-дому, но время спустя он стал «этой дурацкой квартирой», которую вот-вот придется делить. Время все перемололо в труху. Или же это сделали мы сами.
На десятый день нашего карантина Сунели всплыл кверху брюхом и Вова смыл его в унитаз. Хмели остался в одиночестве.
– Давай, я зайду и мы будем болеть вместе, – сказал Вова и сел под моей дверью.
– Надо было раньше, – вздохнула я и тоже села под дверью, только с другой стороны.
– Раньше я про тебя ничего не знал.
Мы прожили вместе десять лет. Мы ничего друг про друга не знали.
Когда я вышла из комнаты, аквариум уже опустел. Хмели постигла участь его друга.
– В этом мире выживают только влюбленные, – смеясь, сказал Вова и взял меня за руку.
44 размер
С голодухи Натке всегда снилась ерунда. Разгрузочный день, хоть на кефире, хоть на яблоках, оборачивался для нее мучительной пыткой, а сон был тревожным и рваным. Нынче снилось, что в мире больше не было кофе, даже не так – снилось, что в мире никогда не было кофе.
Натка не была заядлой кофеманкой, поэтому на кошмар сон не тянул. Кофе для нее был, прежде всего, напитком, с которого начинался день в любой диете (завтрак: рисовый хлебец и черный кофе без сахара), а еще тем, без чего она не представляла Олега. По утрам он варил его в турке, напевая себе под нос попсовые мотивы, а Натке нравилось встать у него за спиной и уткнуться носом в основание шеи, в самый острый позвонок. В ее сне этого не было – ни Олеговых песенок, ни тепла его спины, они пили чай из пакетиков и шли каждый по своим делам. В теплые выходные они также слонялись по парку, но без ореховых рафов в руках, а значит, не выдумывали дурацкие имена для подписей на стаканчиках, не смеялись, и не проверяли, чей напиток слаще. А слаще всегда был у Натки, и Олег сцеловывал кофейную пенку с ее губ и шуточно ругался на баристу. Но в мире без кофе не нужны баристы, а раф мог быть чем угодно, но только не напитком.
Как же они тогда познакомились? Неужели не было того дурацкого, судьбоносного дня, когда два уставших, сутки не мывшихся человека пытались воскресить кофе-автомат на вокзале? Отчаившись, они тогда уселись прямо на грязный пол, и один из них, оказавшийся Олегом, спросил: «О чем вы сейчас мечтаете?», на что второй, то есть Натка, ответил: «Почистить зубы». Потом это стало их фирменной шуткой, и к любому желанию они обычно добавляли – и зубы почистить. Хочу пиццу «Четыре сыра» и почистить зубы. Хочу летом в Испанию и почистить зубы. «Я люблю тебя и твои зубы», – говорил Олег, и они, как по команде, начинали хохотать, хотя шутка была затерта до дыр.
А во сне и Олег-то был не Олегом – просто серый силуэт, пивший чай, молчавший вечерами, ни о чем не мечтающий, и, тем более, не шутивший.
Натка проснулась резко, как по щелчку, и первым делом выглянула из окна, принюхиваясь к запаху из кафешки на первом этаже. Оттуда шел бодрящий кофейный аромат, а у людей, спешащих по проспекту, в руках были заветные стаканчики. Натка выдохнула. Вот приснится же! Захотелось скорее обнять Олега и прижаться щекой к его спине.
Но на кухне было пусто. Натка зябко повела плечами и потянулась за туркой, но ни ее, ни банки с перемолотым кофе на привычном месте не было. Желудок предательски заурчал, прогнав наваждение. И точно. Ни Олега, ни кофе в ее жизни давно нет.
Завтракать расхотелось. Натка поплелась в ванную и долго разглядывала себя в зеркале, вспоминая, зачем она опять решила худеть, и, самое главное, почему они с Олегом расстались.
«Хочу похудеть и почистить зубы», – говорила Натка, крутясь перед зеркалом миллион лет назад, а Олег отрывался от компьютера и крутил пальцем у виска.
«Зубная паста в ванной», – отвечал он, игнорируя начало фразы, но потом на пару с Наткой ужинал безвкусной грудкой и огурцами. Собственно, более-менее похудеть у Натки получалось, только когда они жили вместе, хотя Олег и говорил, что это никому не нужно.
«Мне нужно», – почти плакала Натка, пытаясь сосредоточиться на кресс-салате, а не огромном синнабоне, всплывающем зачем-то в ее голове.
Олег пожимал плечами и накладывал себе новую порцию салата. К концу месяца на нем болтались все джинсы, а Натка так и не могла влезть в сорок четвертый размер.
И вот она, оказывается, уже одна. Следов мужчины в квартире нет – ни тапочек, ни пены для бритья, значит, совсем одна. Натка посмотрела на свои руки, ноги, талию и вдруг впервые задумалась – а что не так с сорок шестым? «Сорок шестой размер – мой самый любимый размер», – говорил Олег. «Хочу сорок четвертый и почистить зубы», – смеясь, отвечала ему Натка, а Олег почему-то не улыбался.
Натка помнила, что в грудке сто тридцать семь килокалорий, а в кусочке шоколадки – двадцать восемь, но почему Олега больше нет в ее квартире, вспомнить не могла. В голову лезла всякая ерунда – ночь, сладкий, сваренный Олегом кофе, снежное конфетти в свете уличного фонаря, один плед на двоих и ее рука в его руке.
И Натка решила сделать невероятное.
– Наташа? – удивился голос Олега в телефоне. На заднем плане истошно пищал ребёнок.
– Знаешь, мне приснился сон…
– Я тебя не слышу! У меня же теперь дочка! Перезвоню позже, хорошо?..
Дочка… Три года прошло, у нее все по кругу, даже цифры на весах остались прежними, а вот Олег вышел на прямую.
Натка разглядывала экран телефона, пока в глазах не зарябило от цветных иконок.
– Знаешь, – сказала она иконкам, – мне приснился сон про мир, в котором не было кофе. А потом я поняла, что он про мир, в котором не было тебя. Нас. Ты помнишь, почему нас не стало?..
За окном не падал снег, потому что было лето. Натка включила чайник и начала собираться на работу.
Макрелька и булочка
Жила-была девочка по имени Макрелька. В детстве ее обидно прозвали Селедкой. Что это вообще за рыба такая – селедка? Сразу пахнет луком, перегаром и краснеют пальцы от перетерания свеклы. Поэтому, когда девочка подросла, она досадное прозвище исправила и на сайте знакомств назвалась Макрелькой. Макрелька – представляется что-то шустрое, красивое, с серебристой чешуей, а не то, вонючее и под шубой.
Однажды девочка собрала чемодан, кошку и переехала жить на юг, к морю, где жарило солнце и пахло кипарисами. Она сняла крошечную квартирку в старом пятиэтажном доме, устроилась на работу в самом сердце города, где вдоль реки, как сказочные тридцать три богатыря, выстраивались в ряд могучие эвкалипты с гладкими кронами, и зажила в свое удовольствие. Дом Макрельки располагался на пригорке, и чтобы до него добраться, нужно было пробежать две лестницы с покосившимися перилами. Двор напоминал ей двор ее детства – старые качели, чумазые дети без гаджетов, крики мам с балконов и бабушки-божьи одуванчики. Поднимаясь по ступенькам, усыпанным переспелой алычей, Макрелька любила фантазировать, что попала в машину времени, и вот-вот из-за кустов вертлявой рыбкой вылетит маленькая она с ободранными коленками.
Бабушки в доме жили разные. Одни ранним утром хватали тележку с клетчатой сумкой и исчезали в неизвестном направлении. Другие целыми днями сидели на лавочке в глубине двора и перетирали новости, как свеклу для того салата. Третьи в блаженном беспамятстве грелись под солнцем, возможно, последним в своей жизни. Дедушек во дворе почему-то не было.
Макрелька ходила на работу к обеду. Вечерами она любила взять себе пломбир и откусывать его маленькими кусочками, пока ноги сами несли ее извитыми тропинками, поднимали до дома по двум лестницам. По воскресеньям Макрелька спала полдня, а потом еще долго валялась в постели, пила сладкий чай и хрустела вафлями. Словом, жилось девочке неплохо.
Макрелькина бабушка не могла уже толком ни ходить, ни говорить, а только сидела возле подъезда на деревянном стуле, неизменно одетая в сиреневый плащ и мужскую фетровую шляпу. Разумеется, это была не настоящая Макрелькина бабушка – настоящая осталась в Сибири и шныряла по городу с клетчатой сумкой. Сиреневая бабушка была одним из столпов, на которых держался Макрелькин день – солнце греет, алыча зреет, сиреневая бабушка сидит. Макрелька кидала ей «здрасте» и бежала на работу. Было у девочки такое качество – вечно она долго спала и везде опаздывала.
Иногда у бабушки появлялись просьбы, и не к кому-нибудь, а к вечно бегущей Макрельке.
– Внученька, – шамкала бабушка, – заведи меня домой.
И Макрелька, рабочий день которой должен был начаться уже вот-вот, медленно вела ее по бесконечным десяти ступенькам до квартиры на первом этаже, а потом еще возвращалась на улицу за бабушкиным стулом.
– Доченька, купи мне булочку в киоске, – и к Макрельке тянулась морщинистая рука с монетками.
Киоск располагался между двумя лестницами при подъеме во двор. Макрелька киосков не любила с детства – туда нужно было просовывать голову и разговаривать с продавщицей, задача которой – подсунуть несвежее молоко. Еще в киосках нужно было платить деньгами – нелепыми бумажками и грязными монетками, оттягивающими кошелек. Макрельке нравились супермаркеты, где можно было выбирать продукты, не снимая наушники с головы, и банковские карты с их смешным «дзень!» на кассе. У Макрельки давным-давно не было кошелька.
От денег Макрелька, конечно, отказывалась – уж на булочку для бабушки она худо-бедно зарабатывала, и, сжав зубы, галопом неслась до киоска, шаря по карманам в поисках грязных монеток. Дальше нужно было отстоять очередь из других старушек, поклонниц рыночной торговли, а потом нестись с добычей обратно. Бабушка растроганно плакала и благодарила, а Макрелька потом получала выговор от начальства.
В тот день Макрелька опаздывала так сильно, что не высушила волосы, и те мокрой косой били ее по шее, пока она бежала до первого этажа.
– Лапонька, купи мне булочку, – прошелестела Сиреневая бабушка и протянула мелочь.
– Бабушка, сегодня никак! – на бегу крикнула ей Макрелька. На работе у нее были неприятности, тут не до киосков. – Я вечером вам в магазине куплю!
Макрелька еще немного подумала о бабушке, пока летела вниз по двум лестницам, а потом переключилась на свои неприятности. В конце концов, живут же в доме еще люди. Кто-нибудь сходит в киоск за булочкой.
А потом неприятности оказались не такими уж и неприятными. После работы Макрелька зашла в магазин, купила вафли и мороженое, но про булочку забыла. Да и про бабушку тоже. Та перестала выходить во двор со своим стульчиком и как-то сразу вывалилась из Макрелькиной памяти.
А спустя месяц в квартиру Сиреневой бабушки заехали новые жильцы. Макрелька объедала стаканчик от пломбира и растерянно смотрела, как грузчики заносят диван в знакомую дверь. Она понимала, что в бабушкином возрасте переезжают только в одно место.
«В киоске они всегда мягкие», – вспомнились Макрельке бабушкины объяснения, – «зубов-то у меня нет».
И – так вышло! – что человека, который бы радовал ее этими булочками, тоже не было.
А что Макрелька? Спит до обеда, лопает пломбиры, любит маленькие радости. А другому их сделать не может – некогда.
Пятнадцать рублей и лишних две минуты. Проще, чем высушить волосы. Тяжелее, потому что для другого. А потом – раз! – и жизнь другого заканчивается, и шанса что-то исправить, сделать приятное, уже нет.
Чертыхаясь, грузчики вернулись на улицу за шкафом. Мороженое у девочки Макрельки таяло, а она вдруг впервые осознала, что хоть и длина ее юбки не выросла за последние десять лет ни на сантиметр, давно уже никакая она и не девочка, а зовут ее Анастасия Сергеевна. Какая там Макрелька, какая серебристая чешуя. И сумка у нее дурацкая – с улыбающимися котами, как у пятиклассницы. Разве коты улыбаются?
Она закрыла глаза и увидела, как купила ту булочку – мягкую, последнюю. Как радостно вспыхнули слеповатые глаза, как крючковатые пальцы сжали пахнущий сдобой пакет. Мороженое капнуло на сумку, прямо на улыбку нарисованного кота. Девочка-недевочка недовольно открыла глаза и бросила недоеденный стаканчик в урну.
Грузчик уронил на ногу тяжелую коробку и выругался. Анастасия Сергеевна вытерла пальцы и пошла домой, к своей кошке.
Явная опора
К началу лета кисти рук у Янки становились загорелыми, будто отдельно от неё успевали слетать к южным морям. Зажарившись, они напоминали ей обезьяньи лапки, и она раньше всех на улице переходила на короткий рукав, чтоб поскорее стать ею целиком – верткой Янкой-обезьянкой, со сморщенным, смешливым лицом. Это от солнца – гуляют они много, темных очков Рома боится, а Янке нравится идти прямо навстречу свету, переть напролом. Когда свет остаётся позади, ей страшно.
Лапки предрекала ей подружка, когда Янка была ещё беременной – вот будешь гулять с коляской, а руки всегда на солнце, и к концу лета станут чёрными, как у шахтера. И Янке поскорей хотелось стать таким шахтером – наматывать круги по парку, в наушниках – «Тайная опора»2, в загорелой руке – стаканчик латте. Кто ж знал, что это так затянется. Растянется. Останется на всю жизнь.
Она сдувает пушистую шапку одуванчика на Ромика, а тот заливисто смеется. Когда в Янкиной руке остается голый стебель, она продолжает дуть, а Ромик – смеяться. Одуванчики в их жизни ничего не меняют.
«Смех, как из фильма ужасов», – констатировала ее троюродная сестра пару лет назад. Есть люди, которым во что бы то ни стало нужно сказать правду. Или то, что они под ней подразумевают. Определение Ромкиного смеха – меньшее из того, что сестра сообщила в тот день. У Янки не было сил спорить. Подумаешь, одной дальней родственницей меньше.
Или уборщица в поликлинике: «Ох, вижу таких деток, всегда плачу. Тяжело же тебе с ним! Вот горе-то!..» Лицо доброе, участливое, помогла с коляской, подтерла грязные разводы на полу. А в Янку как кол вбили – не улыбнуться. К своему горю привыкаешь, а вот это, навязанное, ей несется тяжело.
Счастья с парками и кофе у неё так и не случилось. Как-то сразу начались врачи, диагнозы, толстые медкарты. Не до книг, не до кофе. Им с мужем было по двадцать три, и они, крепкие юным задором, смело вступили в бой. В первые годы Ромкиной жизни она еще чувствовала ускользающую, но такую близкую победу – вот-вот, еще чуть-чуть, и мы забудем все, как страшный сон. В полтора года Ромик сел, потом стал опираться на стопу, и вот – первая попытка пройтись в ходунках. Силы из Янки хлестали через край, она могла не спать сутками – читала медицинские статьи, искала врачей, училась делать лечебный массаж. Много гулять. Много разговаривать. Много обниматься. Её жизнь стала жизнью маленького Ромика.
Потухла она не внезапно – сначала образовалась маленькая брешь, через которую из Янкиного мира стали вытекать цвета, запахи и звуки. Она все заклеивала ее на ходу, на бегу, но когда из детской коляски Рома пересел в инвалидную, у Янки опустились руки, и осталась одна пустота. Стало ясно, что самые страшные сны еще впереди, к ДЦП прибавилась эпилепсия, препараты, лечившие одно, давали откат в другом, и Янкиной борьбе не было конца.
Когда Ромику было пять, она забеременела. Раньше они с мужем мечтали о большой семье, а теперь стояли, обнявшись, в темной прихожей, как два потерянных зверька. Янке казалось, что она предает сына, которому нужны все ее силы, и того, неродившегося еще человека она тоже заранее предает, потому что на него этих сил уже не хватит. Со слезами решение было принято, но за пару дней до запланированного аборта у Янки случился выкидыш. То, чего она в первую беременность боялась больше всего, во вторую принесло облегчение.
Ей посоветовали придти к Богу, и Янка по-честному воцерквлялась, но дойти до Бога все не могла, а, может, он сам к ней не шёл. Перед сном она привычно тасовала свои прошлые грехи, все надеясь вытащить тот, сотворивший с ее ребёнком такое. Словно от того, что она найдёт причину Ромкиных страданий в себе, всем станет легче.
Спустя год Янка осознала, что Благодать, обещанная ей в храмах, шла под руку со Смирением. А такое решение за маленького Ромика она принять не могла.
Она отказалась от Благодати. Не смирилась – приняла, и стала жить дальше. Мир не стал снова цветным, но она научилась раскрашивать его сама, настолько, насколько хватало сил. Сегодня – только небо. Завтра – лягушек у пруда и сахарную вату. Потом – одуванчики. Усталую улыбку мужа после работы. Мамины руки. Ромкины глаза.
Да ничего ведь и не случилось непоправимого. Мама здорова, и всегда рядом. Муж не отвернулся от ребёнка, от самой Янки – на короткий миг, может быть, но разве она сама от себя тогда не отвернулась?.. И Ромик – добрый, сильный, родной, в глазах которого плясал весь мир, Ромик был с ней. Больше ничего не нужно.
Сын учился собирать пирамидку, а Янка училась куда более занимательным вещам. Прощаться с людьми – жестко, без второго шанса. Не потому, что злая, а потому, что нет времени на этот шанс. Прощать – потому что на обиды времени тоже нет. Просить.
Просить тяжелее всего. Но и к этому привыкаешь, если нет другого выхода. Когда семейный бюджет был исчерпан, а у Ромика снова начались откаты, Янка выдохнула и создала странички во всех социальных сетях. Сбор – всего четыре буквы, но от них зависит маленькая Ромкина победа. Сбор на операцию в Кургане, сбор на реабилитацию в Крыму… Янка впервые увидела море Ромкиными счастливыми глазами. Слезы той обещанной ей Благодати катились по лицу, и она погружалась в соленую воду с головой, и слезы становились морем – бескрайним и всеобъемлющим.
Потом нужно было учиться не обращать внимания. На всё – взгляды прохожих, смех других детей, людское скудоумие.
«Зачем вы ребёнку роллы заказали, он же ничего не понимает, и ему все равно, что есть», – комментировали ее фотографии в соцсетях.
«Рома – обыкновенный ребёнок, любит роллы, пиццу и мороженое. И если он не может это сказать, вовсе не значит, что он овощ и ничего не понимает», – терпеливо объясняла Янка.
«Машину купили себе не по кошельку» – «Потому, что только в неё влезает инвалидная коляска».
«Зачем вам перманентный макияж?» – «Потому, что я молодая женщина, и тоже хочу быть красивой».
Люди хотели видеть ее сгорбленной, униженной горем. Так было бы правильно – просящие должны вызывать жалость и даже немного отвращение, тогда им действительно хочется помочь.
«Почему вы все время улыбаетесь?!».
«Потому, что», – звенело все в Янке, но пальцы ее не касались экрана телефона, – «я люблю жить, я люблю свою маму, люблю мужа, и сына, который у вас вызывает только жалость, я люблю – не из жалости, и не потому, что так надо, а просто – люблю! И никто из нас не умер, и никто не умер в нас – в Ромке – взрослеющий ребёнок в оковах его тела, в муже – мужчина, во мне – женщина. Поэтому мы улыбаемся. Поэтому мы счастливы».
Ромке уже десять, а «Тайную опору» Янка так и не осилила. Что ж поделать – ее ребёнку куда важнее опора явная, за которую можно взяться и идти дальше. Та, на которой держится его мир.
Янка катит коляску по парку своими обезьяньими лапками. В пакете у неё булка для голубей, она сядет на скамью и будет вкладывать кусочки в Ромкину трясущуюся ладонь. Он неуклюже раскидает их вокруг и будет смеяться. Тогда Янка прикроет глаза и пятачок вокруг них станет цветным – зелёная трава, желтый хлеб на коричневой плитке – все, на что сегодня хватит сил, но больше и не надо.
Потому, что даже это – благодать.
Кусто
У нас было два пакетика сухой лапши, литровая бутылка колы, фигурка Робокара, наполовину заполненная жвачками, и куча разноцветных карамелек, разбросанных по карманам. Я не знал, что из этого пригодится, поэтому взял все.
Утром мы съели последний пакетик быстрокаши на двоих, посмотрели серию «Щенячьего патруля»3 и немного поссорились из-за шапки. Вообще-то, шапка была моя, но в последнее время Федька стал торчать по всему красному, и незаметно присвоил ее себе. Мама называла ее «шапочка Кусто». Тогда, давно. Когда папа еще жил с нами.
– Дай шапку Кусто.
– Не дам, – сказал Федька, обкусывая уголки ногтей. Он всегда так делал, когда нервничал или залипал перед телеком. Ногти у Федьки уже давно больше похожи на шматы мяса, чем на ногти.
– Это моя шапка. А ты даже не знаешь, кто такой Кусто.
– Ты тоже не знаешь.
– Я знаю! Это крутой черный певец.
Конечно, я только предполагал. Раньше у нас в гостиной висела картина, изображающая певца Боба Марли в смешной разноцветной шапке. Я не знаю, что он пел, но папа говорил, что он очень крут. Может быть, у всех крутых певцов есть яркие шапки. Когда папа от нас ушел, он забрал картину с собой.
После ухода папы мама почти перестала разговаривать. Я ходил в школу, потом пинал балду, а в шесть вечера шел встречать маму на остановку и мы вместе забирали Федьку из садика. Дома мама варила нам макароны, а потом ложилась в спальне перед телеком и выходила только утром, когда снова нужно было ехать на работу. В субботу и воскресенье мама лежала целый день. Иногда я пристраивался рядом и пытался что-то рассказать, но она не обращала на меня внимания. По телеку показывали, как куча противных людей, называющих себя пекарями, соревнуется в приготовлении тортов. От этого мне хотелось есть, и я уходил к Федьке. Мы смотрели мультики, строили города из Лего или играли в мяч на улице. Раз в неделю мама заставляла себя купить нам продуктов, но почти ничего из них не готовила. Я научился жарить яичницу, ну а с сухой лапшой и кашей мог справиться даже Федька.
Так прошел сентябрь. В будни все было терпимо – школа, друзья, нормальная еда в столовке. Уроки со мной теперь делал Федька – правда, он не умел читать и писать, но сидел рядом и делал вид, что проверяет тетради. Но вчера, в очередную октябрьскую пятницу, я понял, что еще одних выходных с пекарями не выдержу. И я задумал путешествие.
Разобравшись с шапкой (я просто отобрал ее у Федьки на правах старшего), мы собрали рюкзак в дорогу. Папин самокат я зарядил еще с вечера, а для мамы в холодильнике оставил вчерашние макароны. Напоследок я написал записку и положил на стол, а потом заглянул к маме. Шторы она не открывала, и в спальне было темно, как вечером, только телек мигал белым огоньком. В нем большой торт заливали шоколадной глазурью и смеялись. Мама смотрела на этот торт, не моргая, словно это было самым главным в её жизни.
– Ну, мы пошли, – сказал я.
– Ага, – сказала мама, не отрываясь от телека.
И мы отправились в путь.
– Ты сказал ей, куда мы поехали? – спросил Федька, когда мы вытащили самокат на улицу.
– Она бы все равно не услышала. Я оставил записку.
– Надо было написать в Вотсап.
– Мама забыла оплатить интернет и мобилки, ты же помнишь.
Федька насупился. Ему не нравилась идея с путешествием. За месяц, что мама лежала в спальне, он привык зависать на мультиках. Часто у них были даже одинаковые выражения лица, только мама смотрела пекарей, а Федька – щенков, спасающих мир.
– Давай хотя бы бабу Лену предупредим, что приедем?
– Денег нет на телефоне, ты забыл?
– Ты меня бесишь.
– Ты меня тоже бесишь.
Я разозлился. Мы и так потеряли кучу времени на сборы, а теперь еще и Федькин гундеж.
– Мы поедем сами! – заорал я. – На самокате! Потому что мы взрослые, понял!?
Федька подтянул доставшуюся ему шапку на уши и, всхлипнув, залез на самокат. Я встал сзади и оттолкнулся ногой. Путешествие началось.
Дорогу до дачи бабы Лены я знал хорошо. Мы были там много раз, в основном с папой, потому что баба Лена – папина мама. Наша мама с нами ездила редко, и говорила, что баба Лена – надменная стерва. Мне на даче нравилось. Там пахло костром, ползали всякие жуки, а на втором этаже дома хранились зачетные старинные вещи. Сезон подходил к концу, но я был уверен – баба Лена будет на даче все выходные. Тут-то мы и нагрянем.
От нашего дома до выезда из города – две автобусные остановки. Мы проехали их незаметно, словно на обычной прогулке, да и вокруг все было обычное – серые пятиэтажки, хмурые люди, переполненные мусорки возле киосков. Потом город кончился, и я окончательно понял: все по-настоящему. У нас получилось.
Я осторожно вёл самокат по утоптанной тропинке вдоль трассы. Нас обгоняли машины, было шумно, но мы ехали в тишине. Я не мог это объяснить, но словно весь мир в это время смотрел своих пекарей, а до нас никому не было дела, и мы ехали рядом с оживленной дорогой, но в полном одиночестве. Все вокруг состояло из цветных кусков, как шапка Боба Марли. Светло-голубое небо. Оранжевые листья на пятнистых березах. Желто-зеленые поля вдалеке. Серая трасса. Картинки менялись, как в калейдоскопе, а потом складывались обратно. Воздух был сухим, но пахло почему-то мокрой землей.
Федькина голова доходила мне почти до плеч. Он насупленно молчал, крепко сжимая нижние ручки самоката. Перчатки надеть мы не догадались, и руки заметно подстывали. Вчера вечером, с трудом согласившись на путешествие, Федька просился поехать на автобусе и гундел. Но мне хотелось доехать до дачи именно самостоятельно, как взрослый. Или как свободный, я точно не знал. Внутри самого себя мне все было ясно, но слов, чтобы это выразить, я подобрать не мог.