Читать онлайн Не всякая вина виновата: Как простить себя и жить в гармонии бесплатно
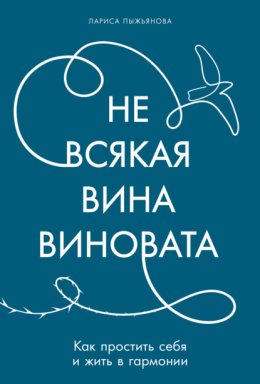
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Редактор-составитель: Тамара Амелина
Редактор: Юлия Самулёнок
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Елена Кунина
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Елена Биткова, Анна Кондратова
Компьютерная верстка: Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Пыжьянова Лариса, 2026
© ООО «Альпина Паблишер», 2026
⁂
От автора
Жить надо так, чтобы твоему психологу было о чем написать книгу.
ВЛАДИСЛАВ БОЖЕДАЙ
Эта книга о том, как жить в гармонии с собой и с миром. Как опираться на любовь и веру в лучшее, но без розовых очков. Возможно, в этом на помощь придет чувство вины. Как бы странно это ни звучало.
Вина обычно ассоциируется с отрицательным и даже мучительным опытом. Но у всего есть обратная сторона. Обратная сторона вины – это наша человечность, наша совесть, наша ответственность не только за свои поступки, но и за все зло, жестокость и несправедливость, которые есть в мире. Это экзистенциальная вина человека, осознающего, что мир был задуман не таким. Благодаря чувству вины мы обращаемся к нашим подлинным ценностям, смыслам и нравственным принципам. От него не надо отмахиваться, его не надо подавлять и вытеснять. С чувством вины надо быть в диалоге, и тогда оно будет нам не во зло, но во благо.
Чувство вины в той или иной мере есть у всех. Это одно из самых тягостных переживаний, способных медленно, но верно разрушать наши отношения, нашу самооценку, наше счастье и в конечном итоге нашу жизнь.
Как-то мне попалось на глаза рассуждение девушки на тему вины и ее отсутствия. Писала она буквально следующее: «Я и мои ровесники: годами мучаемся от чувства вины за малозначительное событие нашей жизни, берем ответственность за глобальные процессы, которые не можем контролировать, живем в бесконечной тревоге. Моя мама: мне батюшка отпустил грехи, я чиста, не за что мне извиняться».
Мы надеемся, что книга будет полезна этой девушке и поможет ей разобраться со своей тревогой и ответственностью, с виной реальной, иррациональной и экзистенциальной. Разобраться, чтобы жить не с чувством вины, а осмысленно. Осознать, что не все так просто с представлением ее мамы: если «отпустил батюшка грехи», то жизнь стала легкой и беззаботной. Увы, это не так.
Мама этой девушки, надеемся, в свою очередь сможет лучше узнать свою дочь – в чем истоки ее вины и тревоги, в какой момент и почему они с дочерью перестали слышать и понимать друг друга и можно ли что-то с этим сделать. А перед тем как идти к исповеди и причастию, она вспомнит слова святителя Иоанна Златоуста: «Прежде, чем делать дело Божие, исполни дело человеческое». «Божественную же пия Кровь ко общению, первее примирися тя опечалившим» – эта молитва читается перед самым Причащением Святых Христовых Таин.
Книга поможет разобраться во многих нюансах сложного и неоднозначного чувства вины, в его подлинных и иррациональных сторонах, в том, что может маскировать вина и что она может проявлять. Но, конечно, мы не сможем дать ответы на все вопросы. Мы рассмотрим далеко не все виды, формы, типы вины и ситуации, в которых чувство вины возникает. Так, например, мы не коснемся случаев, связанных с чувством вины в любовных и супружеских отношениях. Это прерогатива семейных психологов. Но будем говорить о чувстве вины перед любимыми за то, что недолюбили, недосказали, не спасли и потеряли навсегда. Как жить теперь?
Мы не станем погружаться в юридические аспекты понимания вины и наказания за совершённое преступление. Но будем говорить об искуплении и прощении в более глобальном, общечеловеческом смысле.
Мы постараемся рассказать о сложных, отчасти табуированных вещах так, чтобы наш читатель смог разобраться в своих переживаниях и справиться с ними, обретая веру в себя, людей и будущее. Покажем, что сила – в любви, мужество – в достоинстве, а радость – в вере и надежде.
Комментарий к рубрике «Самораскрытие»
В психологии есть такое понятие, как самораскрытие. Это предоставление психологом личной информации клиентам во время или вне консультирования. Примеры самораскрытия могут варьироваться от обмена информацией о личной жизни и опыте психолога до высказывания им личного мнения по конкретным вопросам и событиям. Существует определенный кодекс специалистов, рекомендующий, как, когда и каким образом это уместно делать. Но в любом случае клиент должен быть предупрежден о том, что психолог хочет прибегнуть к этому инструменту, чтобы иметь возможность сказать: «Нет. Не хочу. Не интересно».
Следующее, о чем хочу упомянуть: в книге будет проявляться моя православная христианская позиция.
Я буду опираться на классиков и современников психологической науки, на философов и религиозных деятелей разных времен и конфессий, приводить примеры из жизни людей, с которыми встречалась и какое-то время шла вместе или рядом. Я постараюсь выдерживать максимально нейтральную позицию, но мои взгляды будут отражаться на повествовании.
Все примеры, приведенные в книге, полностью обезличены, или клиенты дали свое разрешение на использование их историй.
Вступление
Если бы он не попытался загладить, искупить свой проступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Воскресение
«Когда я думаю о кратком сроке своей жизни, поглощаемом вечностью до и после нее… о крошечном пространстве, которое я занимаю, и даже о том, которое вижу перед собой, затерянном в бесконечной протяженности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я чувствую страх и удивление, отчего я здесь, а не там; ведь нет причины, почему бы мне оказаться скорее здесь, чем там, почему скорее сейчас, чем тогда. Кто меня сюда поместил? Чьей волей и властью назначено мне это место и это время?»[1]
Блеза Паскаля изумлял факт случайности человеческого бытия и способность людей справляться с тревогой, которую оно вызывает. Среди мыслителей своего времени Паскаль был исключением, поскольку тогда господствовало убеждение, что в будущем с помощью разума можно будет покорить природу и упорядочить эмоции человека. В XIX веке вера в способность разума управлять эмоциями, свойственная XVII веку, превратилась в привычку вытеснять эмоции из сознания. Жизнь от этого не стала легче.
Шли столетия, человек продолжал и продолжает до сих пор существовать в очень хрупком мире с мыслью, что не может полностью управлять своей жизнью и жизнью своих детей и близких. И это по-прежнему вызывает чувство огромной тревоги, способной парализовать полноценное существование. Но все же жизнь человечества продолжается. В том числе и потому, что существуют механизмы, охраняющие нас от ужаса бытия и позволяющие строить планы на будущее, жить и радоваться, учиться и строить карьеру, влюбляться и рожать детей.
Эти психологические защиты, по мнению известного американского психиатра Ирвина Дэвида Ялома, могут проявляться в виде базовых иллюзий. Одной из них, центральных, выступает иллюзия собственного бессмертия, которая заключается примерно в следующем: «Все умрут, а я останусь». Это дает нам возможность жить, не думая ежеминутно, что в один момент мы можем лишиться всего, потому что просто-напросто умрем.
Другая иллюзия – справедливости – предполагает, что каждый получает по заслугам и если я буду делать добро людям, то оно ко мне вернется. По крайней мере ничего плохого со мной точно не случится. Тем более с моими детьми – они же невинны.
Существует также иллюзия, что мир устроен просто, – она представляет мир, разделенный на белое и черное, добро и зло, а людей на своих и чужих, жертв и агрессоров. Как же легко и ясно жилось бы в таком мире…
Иллюзия доверия близкому человеку заставляет думать: «Я доверяю ей, как себе», «Мой друг – самый верный и надежный, он никогда меня не предаст». Крушение этой иллюзии очень болезненно, потому что в ней проявляется наша потребность безусловно доверять тем, с кем мы находимся в отношениях.
Иллюзии обретения и сохранения некоего подлинного идеального счастья противостоит вся непредсказуемость и противоречивость жизни, внезапность и неожиданность перемен. И тем не менее люди держатся за свои иллюзии. Они для нас дороги, утешительны и порой дают опору. Пусть и иллюзорную.
Если происходит трагическая ситуация, то сразу же становятся очевидными эфемерность, неверность и нереальность любых иллюзий. Наступает жесткое отрезвление. Потерять внезапно свой привычный иллюзорный мир больно и страшно. Человека ужасает и возмущает факт появления зла в его жизни, и он хочет получить ответ на вопрос: «За что? Что я сделал неправильно или чего не сделал? За что на меня обрушились беды?»
Когда реальность убивает иллюзии, человек испытывает страх и беспомощность и любыми способами пытается вернуть контроль над своей жизнью, а значит – над миром. И одним из первых на помощь приходит чувство вины.
• • •
Я более 10 лет проработала кризисным психологом в Центре экстренной психологической помощи МЧС России, более семи лет работаю клиническим психологом в детском хосписе и знаю, что после потери любимого человека люди первым делом говорят: «Я виноват». Это чувство становится особенно острым и болезненным, когда умирает ребенок. И каждый раз я думаю: «Почему вина возникает у тех, кто так много сделал для своего ребенка, был с ним до последней секунды? Они же спасали, любили, заботились, вытягивали, вопреки болезни помогали ребенку жить. Почему их накрывает огромное, кажется, непереживаемое чувство вины? И о чем кричит эта вина?»
Испытывая вину, мы совершаем внутреннюю духовную работу, сравнивая поступок или действие с тем, что считаем достойным и верным в данной ситуации, и оцениваем себя. Чувство вины дает нам понять, что пострадало нечто действительно для нас ценное, пострадало именно из-за наших действий или из-за нашего невмешательства. Возникающие вслед за этим тревога и ответственность заставляют нас принимать меры, чтобы по возможности исправить ситуацию.
Вина выражает нашу потребность охранять наши ценности, нести ответственность за то, что нам дорого. И в этом главный смысл вины.
Но вина бывает разная. Как минимум ее можно разделить на вину подлинную, рациональную и вину невротическую, иррациональную, мнимую, навязанную. В чем их суть, чем они отличаются? Это одна из самых сложных и неоднозначных тем в психологии – «моя и чужая вина», «моя и чужая ответственность».
Одним из основных критериев, позволяющих отличить вину подлинную от вины невротической, является фокус внимания. При подлинной, здоровой вине мы сосредотачиваемся на другом человеке, на том, кому причинили зло, нанесли ущерб, мы думаем о его переживаниях. При невротической вине мы фиксируемся на собственной боли, на своих фантазиях относительно произошедшего и практически не думаем о том человеке, который пострадал в результате нашего действия или бездействия.
Когда вина подлинная, мы понимаем последствия наших действий, осознаем ущерб, причиненный конкретному человеку или людям. Эта ответственность не навязана нам другими и не отнята у других. Это наша собственная ответственность, которая связана с нашими ценностями, жизненными ориентирами и критериями, с нашими моральными и духовными установками. «Это поступок, который я мог бы не совершать, у меня был выбор. Но я сделал выбор, в результате которого произошли события, повлекшие за собой страдания другого человека. И в данном случае неважно, понимал я тогда или нет все последствия».
Подлинная вина выражает потребность осознать и сохранить свои ценности, нести ответственность за себя и свои поступки. И это созидательная сила. Однако ответственность может быть разрушительной, если она навязана извне или отнята нами у других.
• • •
В хосписе была семья, где в результате цепи трагических событий полуторагодовалый малыш впал в кому и шесть лет лежал в таком состоянии дома. Дышал за ребенка аппарат ИВЛ, кормили его через гастростому. У них была няня – дипломированная медсестра, которая очень помогала в уходе за ребенком, потому что отец должен был работать, а потом и мама стала выходить на работу на несколько часов в день. Все остальное время родители посвящали сыну, постоянно находясь в состоянии надежды и неуверенности в завтрашнем дне. Они самоотверженно за ним ухаживали, сочетая роли мамы, папы, сиделки, медсестры, реаниматолога, массажиста. При этом они смогли сохранить отношения мужа и жены, родить еще детей, что получается далеко не у всех. Родители были глубоко рассуждающими, мудрыми людьми. Но они постоянно задавали себе вопросы, на которые не находили ответы: «Почему именно с нашим ребенком это случилось? В чем мы виноваты перед Богом, судьбой? Что мы нарушили, где ошиблись? Что с нами не так?»
Эти вопросы, вероятно, имеют отношение к базовым иллюзиям о справедливости и простоте устройства мира, где все линейно: ты совершил зло – ты получил возмездие; ты ведешь себя плохо – тебя наказывают; ты ведешь себя хорошо – тебя поощряют. Эта молодая семья не могла понять, где они свернули не туда, почему с их ребенком это произошло, они винили себя, винили врачей.
Однажды наша хосписная команда убедила их поехать с двумя младшими детьми в цирк: «Ребята, есть билеты. Чудесное новогоднее представление. Съездите. Когда последний раз вы куда-то выбирались вместе с детьми?» Никогда и никуда, потому что всегда должны были быть рядом с мальчиком, находящимся в коме. И они решили поехать.
Поскольку это было 30 декабря, они попали в чудовищную пробку. Шел снег, вокруг безнадежно стояли машины, и, как потом мне рассказывала мама, стало понятно, что, скорее всего, ни в какой цирк они уже не успеют. «Сижу и думаю – ну и что? Впервые за пять лет мы все вместе куда-то едем, дети сзади веселятся. Рядом муж ругается, но это мой любимый муж, который всегда так реагирует, когда что-то идет не по плану. И я говорю ему: "Слушай, чего ты так нервничаешь? Ну, не попадем мы в цирк, поедем в кафе, будем есть пиццу, общаться – это же тоже будет хорошо!" А он мне отвечает резко: "Да, хорошо! Конечно, не успеем, пиццу поедим! Вообще, все будет хорошо, а потом мы все умрем, и это тоже будет хорошо!"
В этот момент, – рассказывала женщина, – у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Я посмотрела на мужа, на детей, на людей в соседних машинах и внезапно поняла: да, мы все умрем. Не только мой несчастный маленький сын, который лежит на ИВЛ, зависнув где-то между небом и землей, а умрем мы все. И вдруг мне стало настолько легко, что я засмеялась и ответила мужу: "Да, мы все умрем, действительно, это так". Он сначала посмотрел на меня как на безумную, а потом тоже начал смеяться. И внезапно машины вокруг поехали, пробка рассосалась, мы успели и в цирк, и в кафе».
Когда они вернулись домой, то, не сговариваясь, приняли решение, что отпустят сына, если ему придет пора уйти. Он уже много раз умирал, и родители снова и снова проводили сердечно-легочную реанимацию, они были спаянной реанимационной бригадой. Отпустить ребенка получилось не сразу, еще два раза они возвращали его к жизни, но потом сказали: «Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты всегда был с нами, но мы понимаем, как ты устал здесь находиться и утешать нас, поэтому если ты хочешь сейчас – иди, мы отпускаем тебя». И мальчик очень спокойно и тихо умер, хотя все-таки был вызван врач, который сделал все, чтобы вернуть его к жизни.
Это не значит, что после смерти сына родители облегченно выдохнули: «Наконец-то все закончилось, наш сын теперь в лучшем мире, и все хорошо, все замечательно». Нет, у них было и горе, и тоска, и чувство вины тоже было. Но оно было не разрушительным, а очень осознанным и понятным, таким, из которого выходят, став сильнее, а не слабее.
• • •
«Как бы то ни было, человек не избавлен от того, чтобы не сталкиваться со своей ограниченностью, которая включает то, что я называю трагической триадой человеческого бытия, а именно: болью, смертью и виной»[2]. Под болью австрийский психиатр Виктор Франкл имеет в виду страдание, а две другие составляющие трагической триады представляют собой двойственный факт человеческой смертности и неизбежности ошибок.
В этой книге мы подробно рассмотрим лишь одну составляющую этой «трагической триады», а именно вину. Что такое вина? Какой она бывает и как возникает? Как избавиться от чувства вины? Возможно ли искупить вину? Получить прощение и простить себя и другого?
В вине двух апостолов – Иуды Искариота, который предал Христа, и апостола Петра, который трижды отрекся от Христа, – есть очень важный аспект. Иуда после предательства и преступления раскаялся и повесился, тем самым совершив гораздо больший грех, потому что не поверил в возможность искупления. Осознание своего преступления стало для него непереносимым, и он покончил с собой, потому что был уверен, что ему не может быть прощения.
Петр, который трижды отрекся от Христа, предал свою веру и любовь, тоже глубоко раскаялся и бесконечно страдал, но не отчаялся и до конца своих дней проповедовал веру Христову. Он не просто получил прощение, а стал первоверховным апостолом.
Глава 1
Вина и ее сотоварищи
Нет более гордого заявления, чем сказать: «Я буду поступать по совести».
ЭРИХ ФРОММ
Давайте порассуждаем о том, что такое вина, совесть и стыд, ответственность и тревога. При этом неизбежно придется обращаться к определениям этих понятий, которые дают философы, лингвисты, юристы, богословы и психологи. У вас есть выбор, читать или нет эти отсылки, размышлять или нет над теориями «великих».
Со своей стороны могу сказать, что читать и думать всегда полезно, ибо, как сказал святитель Игнатий (Брянчанинов), «в рассуждении соединены премудрость, разум, духовные чувства, отличающие добро от зла, без которых внутренний дом наш не созидается и духовное богатство не может быть собрано»[3].
Такие размышления дают возможность задуматься о себе, своих ценностях и мировоззренческих позициях. Начать разделять свое и стороннее, истинное и привнесенное извне. И в конечном итоге помогут отделить свои ошибки, свою истинную вину от вины чужой и навязанной, пройти путь осознания и искупления, очистить совесть и вернуть душевный мир. Как же это будет хорошо!
Вина и совесть
В самом начале пути к счастливому бытию «без страха и упрека» мы сталкиваемся с первым сомнением: Альберт Швейцер[4] говорит, что чистая совесть как таковая вообще невозможна. Если совесть – значит, обязательно больная. Чистую совесть Швейцер считает изобретением дьявола: «Тот, кто говорит, что его совесть чиста, просто не имеет совести, потому что совесть как раз и есть инструмент, указывающий на уклонение от долга. Люди постоянно грешат, попустительствуют своим слабостям, и, значит, чистая совесть – не более чем иллюзия, или самообман»[5].
А что же с чувством вины? Если чистая совесть – изобретение дьявола, то мучения, вызванные чувством вины, – это для нас благо? И тогда не надо от чувства вины избавляться? Цицерон, напротив, был очень категоричен: «Не существует никакого великого зла, кроме чувства вины»[6].
И кому же верить? Кто из великих прав?
В «Реальном словаре классических древностей по Любкеру»[7] дано следующее определение понятия вины:
Вина Culpa в обширном смысле – всякий безнравственный или нарушающий право поступок, в тесном смысле неоказание должной заботливости. Учение о Сulpa имеет большее значение в гражданском праве для вознаграждения убытков, происшедших от Culpa, a в уголовном – для определения тяжкости преступления.
Таким образом, из этого определения очевидно, что вина – достаточно сложное понятие и переживание. Налицо связь вины с нравственными принципами и нормами человека и общества, в частности с тем, что мы называем совестью.
Рассмотрим это переживание с разных позиций.
Позиция первая – это сфера закона, и связана она с нарушением устоев общественной жизни. В науке уголовного права неоднократно высказывалось суждение, что по степени глубины учения о вине измеряется развитие уголовного права[8]. Вина представляет собой отражение внутренних процессов, происходящих в человеке, совершившем преступление, и ее определение не может быть простым делом. Однако отношения виновного человека и закона имеют четкую схему: признание вины, наказание и освобождение.
Позиция вторая – отношения между виновным и неким абсолютом, в который он верует. Это высочайшая сфера, в которой отношения человека и Бога реализуются через признание греха, раскаяние и искупление в его различных формах. Обратимся к определению вины, данному в «Библейской энциклопедии Брокгауза»[9]. Каждый отвечает за свои дела, и, становясь виновными перед людьми, мы в конечном счете оказываемся виновными перед Богом. Только прямое обращение к Святому и Живому Богу приводит человека к полному осознанию своей вины и постижению всей ее глубины.
Наконец, третья позиция – отношения между человеком и его совестью. Считается, что среди всех известных живых существ лишь человек способен взглянуть отстраненно не только на свое окружение, но и на самого себя. Поэтому он может сам для себя становиться объектом, который можно как поддерживать, так и осуждать. А человеческая совесть, таким образом, может осуждать не только его действие, но и бездействие, не только реализованные решения, но и отсутствие решений, даже образы и желания, которые только что возникли или вдруг всплыли в памяти. Совесть осуществляет нравственный самоконтроль, формулирует нравственные обязанности, требует их выполнения и производит самооценку совершаемых поступков.
Основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг говорит об истинной и ложной совести: «Парадоксальность, внутренняя противоречивость совести издавна хорошо знакомы исследователям этого вопроса: помимо "правильной" есть и "ложная" совесть, которая искажает, утрирует, превращает зло в добро и наоборот… Без этой парадоксальности вопрос о совести вообще не представлял бы проблемы, поскольку всегда можно было бы целиком полагаться на решение совести»[10].
Юнг добавляет, что по этому поводу имеется огромная и вполне оправданная неуверенность: «Требуется необычайное мужество или, что то же самое, непоколебимая вера, когда мы желаем следовать собственной совести. Мы послушны совести лишь до какого-то предела, заданного как раз извне нравственным кодексом. Тут начинаются ужасающие коллизии с долгом, разрешаемые по большей части согласно предписаниям кодекса. Лишь в редких случаях решения принимаются индивидуальным актом суждения. Там, где совесть не получает поддержки морального кодекса, она с легкостью впадает в пристрастия»[11].
Философ Поль Анри Гольбах писал, что «совесть – это наш внутренний судья, безошибочно свидетельствующий о том, насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания наших ближних»[12].
К этому вопросу мы еще вернемся позднее, в частности в главе, посвященной переживанию подлинного чувства вины, а пока хочется сделать вывод, что чувство вины тесно связано с голосом совести и выполняет функцию самоконтроля. Вина возникает, когда мы нарушаем собственные принципы и разделяемые нами принципы и законы общества, которому принадлежим, поступаем вразрез со своими убеждениями, своей совестью, предаем свои ценности, а значит – предаем себя.
Чувство вины является результатом глубокой духовной переработки конкретного события. Здоровое чувство вины – это прежде всего опыт ответственности. Анализируя ситуацию, которая глубоко нас затронула, мы сравниваем свой поступок и его естественные последствия со своими принципами и ценностями. Если они не нарушены, мы испытываем чувство радости, гордости и удовлетворения, ощущение собственной целостности. Если же мы понимаем, что своим действием или бездействием попрали собственные нормы и убеждения, то попадаем в ситуацию внутриличностного конфликта, одним из последствий которого может быть острое чувство вины.
Таким образом, чувство вины дает нам понять, что под угрозой оказалось что-то по-настоящему ценное и важное для нас, для нашего самоуважения, нашей самоценности и цельности. То есть то, что является ключевым фактором личностного благополучия, внутренним стержнем.
Моральным результатом этих переживаний является раскаяние и искупление вины, которые дают возможность вновь обрести нравственную целостность и вернуть самоуважение. Так как прошлое нельзя отменить, остается исправить последствия в настоящем.
Вина и стыд
По моему мнению, принципиально важно разделять понятия «вина» и «стыд». В том числе и потому, что когда в дальнейшем мы будем говорить о так называемой ложной, невротической, навязанной вине, то очень многое будет в ней перекликаться с переживанием чувства стыда.
Итак, в психологии главное отличие стыда от вины заключается в предмете негативной оценки. Вина – это эмоциональная реакция на действие, которое человек считает неправильным или неприемлемым для себя. Она связана с поступками: «Я сделал что-то не так». Стыд – это переживание, связанное с ощущением, что изъян содержится в самом человеке. Он направлен на личность: «Со мной что-то не так».
Вина возникает при нарушении своих внутренних правил, это глубинное осознание того, что так, как мы поступили, поступать было нельзя. Стыд – при несовпадении своего поведения, мыслей, чувств с собственными представлениями о себе.
При чувстве вины фокус внимания сосредоточен на человеке, которому нанесен ущерб. При стыде – на себе и на страхе столкнуться с чужой оценкой.
Проживая вину адекватно, мы готовы действовать, исправлять последствия, компенсировать нанесенный ущерб. В этом созидательная для психики функция вины. Стыд, напротив, сковывает по рукам и ногам: человек ощущает себя неуместным, жалким. В стыде быть активным крайне трудно, потому что появляется желание исчезнуть, спрятаться.
Человек, который чувствует себя виноватым, после бурной ссоры предложит конструктивные способы исправления или решения ситуации. А человек, который сгорает от стыда, будет стоять неподвижно и просто отчаянно осуждать себя.
Психолог Кэррол Изард[13] отмечает, что неверный поступок может вызвать и стыд, но только в том случае, когда поступок осознается неверным не вообще, а только в связи с осознанием своего поражения, своей несостоятельности, неуместности своего поступка. Человек чаще всего испытывает стыд оттого, что ему не удалось скрыть свой проступок.
Американский психолог и психиатр Дэвид Аусубель предложил концепцию «неморального стыда» – разновидности стыда, причиной для которого могут стать поступки, не вступающие в противоречие с моральными, этическими и религиозными нормами. «Моральный стыд», по мнению Аусубеля, возникает при осуждении проступка другими людьми с позиции нравственности. Причем это осуждение может быть как реальным, так и воображаемым.
Испытывающий стыд человек ощущает себя так, словно он выставлен напоказ, опозорен, ничего не стоит, отвратителен, ничтожен. При этом качества, способные прикрыть эти недостатки, игнорируются.
Испытывающий чувство вины человек видит себя плохим, порочным, злым, полным раскаяния. Виноватого переполняют мысли о его поступке, о тех, кого он обидел, и о том, что нужно сделать, чтобы исправить случившееся. Его преследуют мысли о своих непростительных ошибках. Вина стимулирует его на действия, направленные на улучшение ситуации или компенсацию вреда.
Важно отметить, что стыд и вина могут иметь определенные позитивные стороны, которые также различаются:
■ стыд – гуманные чувства, скромность, чувство компетенции и автономии;
■ вина – моральное поведение, инициатива, действия по исправлению.
Притча «Осколки в сердце»
Однажды молодой человек шел по улице и увидел слепого с кружкой мелочи у ног. То ли настроение у человека было дурное, то ли еще что, только бросил он в эту кружку осколки битого стекла и пошел себе дальше.
Прошло тридцать лет. Человек этот многого добился в жизни. И дети, и внуки, и деньги, и хороший дом, и всеобщее уважение – все у него было. Только этот эпизод из далекой молодости не давал ему покоя. Мучила его совесть, грызла, не давала спать. И вот на склоне лет он решил найти того слепого и покаяться. Приехал в город, где родился и вырос, а слепой по-прежнему сидел на том же месте с той же кружкой.
– Помнишь, много лет назад кто-то кинул тебе в кружку битое стекло? Это был я. Прости меня, – сказал человек.
– Те осколки я выбросил в тот же день, а ты носил их в своем сердце тридцать лет, – ответил слепой.
Вина, тревога и ответственность
Тревога, по словам греческого православного писателя Андрея Конаноса, – это мучительное состояние, которое мы сами себе придумали; благодаря ей мы стареем раньше времени, терзаемся сами и терзаем других. «Есть люди, которые особенно остро переживают все происходящее вокруг и считают себя ответственными за это. У них сильно развито чувство вины, и им очень сложно сохранять мир в душе. Что бы ни случилось, их охватывает паника, хотят они этого или нет. Эту особенность своей личности человек должен знать, тогда он научится управлять тревожностью, контролировать ее для того, чтобы не мучить ни себя, ни других»[14].
Действительно, в основе чувства вины всегда лежит тревога. Когда вина подлинная, эта тревога связана с тем, что мы осознаем ущерб, который причинили конкретному человеку либо миру в результате нашего действия или бездействия. Именно вина выражает нашу ответственность за нанесенный вред тем или тому, что нам очень дорого и ценно. Тревога и ответственность заставляют нас что-то предпринять, как-то исправить ошибку, изменить ситуацию, а иногда изменить и себя. Но эта ответственность может быть разрушительной.
Нашу эпоху называют золотым веком тревоги. И речь сейчас даже не о великих социальных потрясениях ХХ и ХXI веков, не о страшных мировых войнах, а о том времени, когда люди решили, что они цари природы, что могут поворачивать реки вспять, исцелять все болезни, «дергать Бога за бороду», что они самодостаточны, в конце концов. Вот в тот момент, когда нам показалось, что мы обрели свободу, мы на самом деле потеряли опору под ногами.
Когда мы решили, что мы свободные и сильные, мы лишили себя поддержки, которая была у наших предков. И ведь действительно, раньше у людей была масса способов заглушить экзистенциальную тревогу и облегчить чувство вины. Существовали многочисленные социальные институты, которые поддерживали человека и помогали ему, – институт семьи, Церкви, общины. Всегда было с кем разделить ответственность. Всегда была возможность переложить право выбора на других. Традиции, устои, патриархальное общество, важность мнения соседей и окружающих людей – все, что, казалось, так серьезно ограничивало личную свободу, одновременно давало поддержку. Предлагались образцы, примеры, которым надо было следовать, и, таким образом, избежать трудного выбора и, соответственно, не нести за него ответственность. Именно по этой причине тревога была сведена к минимуму: ее с человеком разделяло общество, оно брало на себя ответственность, оно устанавливало четкие правила.
Сегодня большинство семейных социальных институтов претерпели серьезные изменения и потеряли безусловную власть над человеческим обществом. Те образцы и традиции, которые раньше использовались безусловно, теперь утратили обязательность. Мы можем выбирать: верить или не верить в Бога, жениться или не жениться, рожать или не рожать, где работать, как жить, – мы получили много свободы. Вместе со свободой мы приняли на себя тяжесть ответственности за свой выбор. Теперь мы, и только мы отвечаем за все последствия наших решений. Вот вам свобода: не только выбирайте, но и несите ответственность.
Это оказалось не очень приятно. Вместе с уровнем личной свободы возрос и уровень тревоги.
Тревога – это симптом, который указывает на возможность, пусть не реальную, но точно нереализованную. Если возможности нет, то тревожиться не о чем, а если возможность есть, создается ситуация неопределенности и выбора и, соответственно, ответственности за этот выбор. Выбирая, мы автоматически берем на себя ответственность за то, что произошло либо не произошло в результате наших действий. И мы понимаем, насколько важен наш выбор, потому что из всех многочисленных вариантов мы можем выбрать только один. Следовательно, мы тут же лишаемся всех прочих возможностей. Нам не удастся вернуться в исходную точку и перевыбрать, нельзя сначала написать «черновик». Земная жизнь дана нам в единственном экземпляре.
Быть свободным – значит нести издержки за свой выбор. За то, что он был сделан неправильно, за допущенные ошибки. Конечно, материальные затраты – это неприятно. Но потери психологические, среди которых досада, разочарование, вина, та самая тревога, – вот то, что нас действительно разрушает. Если бы мы могли отменить происходящее, у нас бы не было чувства вины. Но это невозможно, потому что случившееся уже состоялось.
«Почему мы не поехали на лечение в Израиль или Германию?», «Почему мы раньше не поняли, не увидели, не сделали, не потребовали?». Эти вопросы задают родители, которые действительно сделали все возможное для своих детей. И вот они возвращаются домой после похорон своего ребенка и говорят: «То есть все было зря? Все эти годы борьбы, мучений, надежды и веры – все было зря?! В чем мы ошиблись, где поступили неправильно? Что надо было сделать по-другому, чтобы наш ребенок не умер?»
Бесполезно убеждать их: «Вы сделали оптимальный выбор, исходя из тех возможностей, которые у вас были. Вы сделали все, что было в родительских и человеческих силах». Они возражают: «Да, но… Но если бы мы поступили по-другому, возможно, наш ребенок был бы жив».
Это мучительное состояние, в котором доминирующим чувством является вина из-за сделанного выбора. Это ощущение, что уже ничего не удастся исправить. Все, конец. У живого человека можно попросить прощения, повиниться. Когда человек умер, уже ничего сделать нельзя – и ты виноват, потому что не использовал все возможности: можно было поехать в другую клинику, можно было лечиться у другого доктора, можно было купить лучшее лекарство и т. д. Вокруг масса возможностей, и они кажутся безграничными. Хотя в действительности они, конечно, ограниченны.