Читать онлайн Шампанское. История праздничного напитка бесплатно
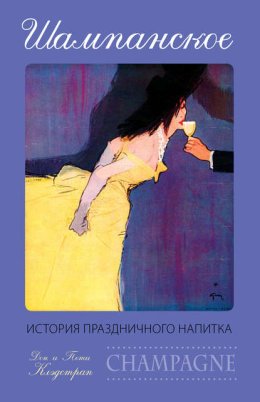
Don and Petie Kladstrup
CHAMPAGNE
How the World's Most Glamorous Wine Triumphed Over War and Hard Times
WILLIAM MORROW
An Imprint of HarperCollinsPublishers
Книга впервые была опубликована WILLIAM MORROW, An Imprint of HarperCollins Publishers, 10 East 53rd Street New York, NY 10022.
Переводчик – к. ф. н. Мария Анатольевна Богомолова
Предисловие к русскому изданию
В российском обществе широко известны два факта об игристых винах. Первое – это то, что настоящее шампанское производится только в одном регионе мира, во французской провинции Шампань, по оригинальной, проверенной вековой практикой технологии. Второй факт стал доступен общественности благодаря широкому освещению этого события в российских средствах информации. Представители Французского института вин подали в суд на производителей советского шампанского за незаконное использование термина «шампанское» для своей продукции. Данные факты и еще некоторые сведения, весьма скупые, и составляют весь объем информации об игристых винах, которым обладает среднестатистический российский любитель шампанского.
Это не кажется странным, особенно если учесть, что во времена Советского Союза высококачественное игристое вино производилось в очень небольших объемах и приобрести его было нелегко. Найти же на прилавках магазинов французские вина, особенно шампанские, было совершенно невозможно. Во многом благодаря этому шампанское стало восприниматься как «праздничный» напиток, который можно было себе позволить только на Новый год или свадебные торжества. Также считалось хорошим тоном подарить даме бутылку шампанского к 8 Марта.
Когда общество так воспринимает самое благородное вино мира, расширение знаний о нем невозможно. Ведь наиболее верный путь для понимания напитка – это регулярно его пробовать. Даже сейчас, когда началось широкое распространение информации о различных сортах вин, коньяке, виски и покупка качественного французского игристого вина больше не является проблемой, уровень знаний о шампанском остается очень невысоким.
Эта ситуация не может не вызывать удивления, ведь шампанское было признано лучшими знатоками вина благороднейшим напитком мира. Шампанское – это самое сложное вино с точки зрения понимания, самое тонкое вино в отношении букета, это самый многогранный и удивительный напиток в мире. Шампанское – это целый мир, огромный, непознанный, манящий своими тайнами и загадками, обещающий волшебные открытия.
Самым первым из таких открытий может стать то, что существует бесконечное множество стилей и вкусов шампанского. Российский потребитель, привыкший к сухому, полусухому и полусладкому шампанскому, будет поражен многообразием игристых вин. Палитра вкусов представлена как легкими, элегантными, цветочными, так и необычайно тяжелыми, вязкими, концентрированными образцами.
Второе открытие заключается в том, что шампанское – это гастрономический напиток, который можно и нужно сочетать с различными блюдами, напиток, который необходимо дегустировать, напиток, который требует особого понимания.
Шампанское универсально. Разные его стили подходят к самым разным блюдам. Шампанское может быть основным напитком за обедом или ужином. В таком случае каждое блюдо должно сопровождаться специально подобранным типом шампанского. К легкому овощному салату следует подавать одно, к мясным блюдам – другое, а вкус десерта наилучшим образом оттенит третье. Все блюда только выиграют от такого сопровождения. Даже сигары могут быть органично дополнены некоторыми видами этого замечательного напитка.
Подборка правильных сочетаний различных видов шампанского с пищей может стать увлекательным занятием, в процессе которого терпеливый исследователь совершит множество открытий. Он научится правильно выбирать стиль шампанского, готовить правильное вкусовое сопровождение, необходимое для лучшего понимания его вкуса, научится ценить и понимать шампанское.
Неудивительно, что люди, разбирающиеся во всем многообразии шампанского, находятся на высшей ступени понимания вина в целом, демонстрируют потрясающий уровень профессионализма, являются специалистами экстра-класса в мире вина. Таких людей немного. Даже среди профессиональных сомелье очень немного специалистов, способных продемонстрировать истинное понимание шампанского. Однако все больше и больше ценителей шампанского вступают на этот путь познания благороднейшего напитка мира. Ведь в случае успеха мир шампанского раскроет перед ними все свои тайны, поистине сказочные и прекрасные!
Публикация этой книги является важным шагом в формировании культуры потребления игристых вин в России. Уверен – вы получите истинное удовольствие, ведь история шампанского столь же удивительна, как и само вино, в ней невероятным образом переплелись все те качества напитка, за которые мы его так любим.
Переверните страницу, и добро пожаловать в волшебный мир шампанского!
Павел Швец
ПЕРВЫЙ СОМЕЛЬЕ РОССИИ,
ЧЛЕН СОЮЗА ЭКСПЕРТОВ РОССИИ,
ГЛАВА НЕГОЦИАНТСКОГО ДОМА «PROWINE»
Введение
Эта священная земля
Это место нам описывали как одно из самых живописных в Шампани. «Перейдите через небольшой ручей, пройдите ничем не примечательный лесок, и вашему взору откроется чудесная поляна», – сказали нам. Похоже, это было отличное место для пикника. Итак, прихватив с собой паштет, кусок сыра и свежеиспеченный багет, мы отправились на пикник. Ах да, у нас с собой была еще бутылка холодного шампанского.
Утренний туман уже рассеивался, когда мы добрались до конечной точки нашего путешествия. Издалека доносился колокольный звон – это звонили в соседней деревушке Лашеп. Было около девяти часов утра. Еще два часа назад мы были в Париже. Сейчас, когда мы, оставив машину на обочине, пробирались через заваленный упавшими деревьями лесок, нам казалось, что мы перенеслись в другой мир.
Перед нами простирался древний лагерь гуннов. На мгновение мы замерли от неожиданности. Это была вовсе не уютная полянка, рисовавшаяся нашему воображению, а скорее обширная равнина овальной формы, примерно в полумилю шириной, окруженная земляным валом. Земля была абсолютно пустынна, как оставленное под паром поле. Ни звука, ни шороха – только метнулись прочь, завидев нас, несколько оленей.
Здесь, в этом безмятежном уголке, 21 сентября 451 года н. э. вождь гуннов Аттила, прославившийся своей крайней жестокостью, собрал свою армию в 700 000 воинов и обратился к ним со словами: «Еще один натиск – и вы станете хозяевами всего мира». Ответный гром одобрения, должно быть, вселил ужас в души неприятелей – галлов, вестготов и франков, которые объединились с Римом, чтобы противостоять этой зловещей силе, грозившей им с востока.
А затем разразилось одно из наиболее кровопролитных сражений в истории человечества. Только за один день было убито более двухсот тысяч человек. Их изувеченные тела были разбросаны на холмах и полях Шампани. Аттиле и его армии пришлось спасаться бегством. Еще до начала сражения он поклялся: «Ничто никогда не вырастет на том месте, где ступил мой конь»[1].
Но Аттила ошибся. Земляной вал, окружавший лагерь, густо порос кустарником, ясенем и ольхой. Ниже к солнечному свету пробивались кусты красной смородины и калины.
Пробравшись по заросшей корнями деревьев тропинке к вершине вала, мы пошли вдоль него, постоянно уворачиваясь от веток деревьев и побегов ежевики. Воображение рисовало события, происходившие здесь много веков назад. До чего же неподходящая обстановка для пикника, подумали мы. И в то же время есть ли лучшее место, где можно примирить le champagne – шампанское, вино, ставшее символом дружбы и праздника, с Шампанью – la Champagne, – землей, политой кровью обильнее, чем, возможно, любое другое место в мире.
Столетняя война, Тридцатилетняя война, череда религиозных войн, гражданские распри времен Фронды, Наполеоновские войны, Война за испанское наследство – почти все они происходили главным образом на территории Шампани. И до этого Шампань опустошалась дикими племенами с востока – тевтонцами, кимврами, вандалами и готами. После них пришли римляне, которым к 52 году до н. э. удалось завоевать всю Галлию, включив ее вместе с Шампанью в состав Римской империи. С незапамятных времен, по словам одного историка, Шампань страдала от переизбытка нашествий.
К счастью, римляне, в отличие от других завоевателей, оказали благотворное влияние на развитие культуры и цивилизации в этом регионе. Они посадили первые виноградники и стали добывать известняк для строительства храмов и дорог. Оставшиеся после них каменоломни обнаружены спустя столетия и были превращены в огромные crayères, которые сегодня используются для хранения и выдержки шампанского.
Кроме того, римляне установили и свои законы. Согласно одному из них, наказанию подлежало уничтожение чужого виноградника или нанесение ему какого-либо ущерба. Много лет спустя этот закон франки включили в свой свод законов, получивший название «Салическая правда».
Однако даже римлянам была неподвластна мать-природа. Извержение Везувия в 79 году н. э. уничтожило не только Помпеи. Были погребены лучшие виноградники Римской империи. И очень скоро во всей империи стала ощущаться нехватка вина. Поэтому по приказу императора Домициана обширные земельные участки, засеянные злаковыми, были обращены в виноградники. И теперь недостаток вина сменился недостатком хлеба.
Чтобы справиться с этим кризисом, император приказал истребить виноградники Шампани и засеять их злаковыми культурами. У жителей Шампани не было выбора, им пришлось исполнить приказ, ведь на их земле стояли римские легионеры.
Прошло два века, и другой император – любопытно, что по происхождению он был сыном садовника, – отменил этот указ. Император Пробус не только разрешил жителям Шампани снова выращивать виноград, но и прислал им в помощь римских легионеров.
Так мы размышляли, гуляя по земляному валу вокруг лагеря Аттилы. Нам понадобилось около двух часов, чтобы замкнуть круг. Уставшие, голодные и мучимые жаждой, мы с нетерпением стали готовиться к пикнику.
Мы расстелили одеяло и открыли бутылку шампанского. И все вдруг встало на свои места. Le Champagne, шампанское, во французском языке относящееся к мужскому роду, похоже, было идеальным дополнением к суровой обстановке La Champagne, провинции Шампань, относящейся к роду женскому. Идеальная пара, подумали мы, неразделимо объединенная в союз силы, радости и элегантности.
Однако нет ничего простого и легкого в том, что так или иначе связано с шампанским. Его история полна парадоксов. И это придает напитку то, что один писатель назвал «вкусом противоречия»[2]. Чтобы сделать хорошее шампанское, нужна скудная почва; белое вино делается из черного винограда; незрячий видит звезды, а человек, которого почитают как изобретателя пузырьков в шампанcком, на самом деле большую часть жизни посвятил тому, чтобы не допустить их появления.
Однако главный парадокс состоит с том, что Шампань, место, где происходили самые кровопролитные сражения в истории человечества, стала родиной вина, которое во всем мире ассоциируется с радостью и дружеским расположением.
* * *
Эти парадоксы частично объясняют ту ауру романтичности и загадочности, которая окутывает шампанское. Так что же такое есть в шампанском? Само это слово – как взмах волшебной палочки: услышав его, люди начинают улыбаться, во взгляде появляется мечтательность, отступают тревоги и сомнения. Никакое другое вино не сыграло столь важной роли в искусстве и поэзии. Казанова считал его «необходимым орудием для обольщения». Коко Шанель говорила, что пьет шампанское только по двум поводам: когда она влюблена и когда не влюблена. Лили Боллинжер, представительница одного из самых известных винодельческих домов Шампани, пошла еще дальше: «Я пью шампанское, когда мне весело и когда мне грустно. Иногда я пью его в одиночестве. В компании же оно просто обязательно. Я делаю пару глотков, когда голодна. Во всех прочих случаях я к нему не прикасаюсь – конечно, если не испытываю жажды».
Похоже, у каждого есть свое любимое время для шампанского. Патрик Форбс, величайший эксперт и историк в области шампанского, говорит, что предпочитает пить его в половине двенадцатого дня, когда нёбо еще свежее, что позволяет почувствовать все вкусовые нюансы и насладиться каждым пузырьком. Мы спросили Филиппа Бургиньона, одного из лучших сомелье в мире, какое время, по его мнению, самое подходящее для шампанского. Он ответил: «Когда я заканчиваю стричь газон». В фильме «Письмо от незнакомки» (Letter from an Unknown Woman), вышедшем на экраны в 1948 году, Джоан Фонтэйн мечтательно говорит Луису Джордану: «Шампанское вкуснее всего после полуночи, ты не находишь?»
Затем следует Оскар Уайльд, по приезде во Францию заявивший таможенникам: «Мне нечего вам предъявить, кроме своей гениальности». О шампанском он отозвался так: «Только человек, начисто лишенный воображения, не сможет найти повода, чтобы выпить шампанского».
Столетиями шампанским отмечали свадьбы, крещения, спуск кораблей на воду; на авторалли им поливают зрителей; шампанское неотделимо от боя часов в новогоднюю ночь. Традиция отмечать важные события шампанским, уходящая в глубину веков, дала основание английскому поэту предположить, что и сам Адам пил по праздникам шампанское. В своем шутливом стихотворении «Первая новогодняя ночь» Томас Августин Дэйли (Thomas Augustin Daly) писал:
- Мужчина, Первый и Единственный,
- Первый Джентльмен на земле, сказал:
- «Может, немного повеселимся?
- Давай устроим праздник!
- Пойдем в какой-нибудь шикарный клуб, – сказал он, –
- И выпьем шампанского».
- Но она сказала: «Мы можем
- Чудесно покутить и дома»[3].
Издавна шампанскому приписывалось благотворное влияние на здоровье. В 1930-е годы французское медицинское сообщество заявило, что шампанское помогает побороть депрессию и избежать таких инфекционных заболеваний, как тиф и холера. За пятьдесят лет до этого Железный канцлер, Отто фон Бисмарк, страдавший метеоризмом, говорил, что шампанское помогало ему «изгонять ветры». Уинстон Черчилль считал, что шампанское «придает живость уму». Он также использовал тему шампанского, чтобы воодушевить своих коллег во время Первой мировой войны. «Помните, джентльмены, – сказал он, – мы сражаемся не просто за Францию, мы сражаемся за Шампань!»
Это был далеко не первый случай, когда шампанское сыграло важную роль в мировой истории. Во времена Священной войны, когда за церковь боролись сразу два папы – один в Риме, а другой во Франции, глава Священной Римской империи, король Богемии Венчеслас, отправился в Реймс, чтобы обсудить с Карлом VI, как положить конец расколу. Однако император настолько опьянел после обильного возлияния шампанским, что не смог встать на ноги, чтобы идти на встречу с королем. Поскольку это состояние продолжалось несколько дней, французский король послал двух герцогов, чтобы они привели Венчесласа на встречу. Венчеслас, пребывавший все в том же состоянии, подписал не читая все бумаги, предложенные ему Карлом. В результате папа остался в Авиньоне, в своем «Вавилонском заточении», и война продолжалась[4].
Казалось бы, все эти факты дают основание относиться к шампанскому как к чему-то несерьезному и не имеющему особого значения. В конце концов, чего можно ожидать от вина, которое называют «пеной», «шипучкой» и даже «веселой водой». В действительности же шампанское – это самое серьезное и сложное вино из всех когда-либо созданных виноделами. Кроме того, его очень трудно производить. Мы поняли это после посещения дегустации, на которую нас пригласил Клод Теттенже, президент и генеральный директор «Теттенже Шампань».
Каждый год Клод приглашает, как он говорит, «узкий круг» друзей – виноградарей, виноделов и других коллег по ремеслу, всего около сорока человек. Они представляют самые утонченные вкусы в Шампани. В дегустации участвовали около двадцати новых вин урожая предыдущего года, вина из разных виноградников и деревень, которым предстояло быть смешанными в шампанском «Теттенже» урожая 2004 года, включая его престижную марку Comtes de Champagne.
Редко когда в бутылке шампанского присутствует вино одного сорта; обычно это смесь тридцати или даже сорока вин; при этом конечный продукт, cuvée, по вкусу превосходит каждое из составляющих его вин. «Смешивание, – говорит Теттенже, – сродни искусству. Когда вы начинаете картину, вы не знаете, сколько красок вам потребуется. Вы берете немного красной здесь и немного желтой там. Иногда, чтобы добиться желаемого эффекта, вам надо сделать красный цвет ярче, а желтый приглушить».
Нам неоднократно доводилось бывать на дегустациях, но на подобной мы присутствовали впервые и поэтому чувствовали себя не слишком уверенно. Дело происходило в Реймсе, в древнем доме графов Шампани, которые правили провинцией в Средние века. Один из графов, Тибальт IV, вернувшись из Крестового похода, привез в Шампань виноград сорта шардоне.
Дегустация, по выражению Теттенже, это как «торжественная обедня – возможность еще раз подтвердить свою приверженность особой концепции шампанского».
Два длинных стола были уставлены рядами бокалов, наполненных белым вином, и в большинстве из них был только легкий намек на искрение. Половина вин была шардоне, остальные – пино нуар.
После дегустации каждого образца Теттенже интересовался впечатлениями присутствующих. В отличие от остальных мы не знали, как реагировать. За многие годы мы перепробовали много видов шампанского, но никогда не пробовали его составляющие по отдельности и поэтому не в состоянии были различить нюансы. После очередного образца Теттенже спросил Дона о его впечатлении. Дон в панике стал подыскивать слова. Наконец он выпалил: «По правде говоря, я ничего не чувствую!»
Теттенже любезно избавил его от необходимости участвовать в дискуссии, заметив, что требуются годы практики, чтобы научиться описывать и идентифицировать тончайшие различия. «Как вы определяете, что здесь – больше вязкости, там – больше характера, даже иногда больше души? – спросил он. – Каким образом вы определяете тот единственный из целого букета едва различимых ароматов чая, аниса, ванили, персика, пшеницы и даже виргинского табака и трюфелей? Как вы подбираете нужный эпитет среди таких слов, как «вкрадчивый», «обаятельный», «теплый», «глубокий», «грубый», «спокойный», тогда как вина сами по себе никоим образом не претендуют на эти качества?»
Нет необходимости говорить, что в этой книге мы и не пытаемся ответить на вопросы Теттенже. Наша книга не о дегустации шампанского и не о технических особенностях его производства. Она скорее – дань уважения; может быть, даже любовное послание. Это рассказ о том, как жители Шампани в жесточайших условиях, веками подвергаясь вражеским вторжениям, превозмогая одну беду за другой, создали величайшее в мире игристое вино.
* * *
Эта история началась очень давно. Франкский полководец по имени Кловис в V веке н. э. разгромил римлян и выкроил себе королевство в долине Реймса. Однако вскоре его королевство подверглось нашествию другого германского племени. Поражение казалось неизбежным. И тогда невеста Кловиса, христианка, призвала его обратиться к ее Богу за помощью. Язычник Кловис, пребывая в отчаянии, поклялся принять христианство, если ее Бог дарует ему победу. Боевой дух его армии чудесным образом пошел на подъем, и неприятель был обращен в бегство.
Кловис сдержал свое слово. В 496 году, на Рождество, он и его армия отправились в Реймс, чтобы принять крещение. Собор был переполнен людьми так, что епископ Сен Ремине не мог дотянуться до сосуда со священным маслом для помазания Кловиса. И в этот самый момент неизвестно откуда взявшийся белый голубь поднес епископу этот сосуд[5].
Века приукрасили эту историю, однако одно известно совершенно точно: за крещением последовал пышный банкет. И на нем подавали шампанское, точнее – вино из Шампани. В те времена шампанское было красным, в нем не было пузырьков и оно часто бывало мутноватым. Прозрачному искрящемуся напитку, которым мы наслаждаемся сегодня, еще только предстояло появиться столетия спустя.
Тем не менее слава шампанского как напитка для отмечания торжеств началась именно тогда. С тех пор почти каждый король Франции стремился короноваться в Реймсе и отмечал это событие шампанским.
Однако несчастья и войны не уходили далеко от границ Шампани. В Х веке Реймс четырежды за шестьдесят лет подвергался осаде; Эперней шесть раз был разграблен; все местные виноградники были сожжены. Затем пришло время Крестовых походов, лишивших Шампань всех трудоспособных мужчин. После этого в XIV веке пришла черная чума, уменьшившая вдвое население Европы.
Последующие столетия приносили одну войну за другой, но каждый раз и шампанскому, и Шампани удавалось выстоять.
Они чуть было не погибли в Первую мировую войну. Ни один из многих страшных периодов в долгой истории Шампани не был настолько гибельным и мрачным, как Первая мировая война.
Однако по иронии судьбы это был и ярчайший период, потому что в тот самый момент, когда все казалось потерянным, жители Шампани нашли силу и мужество, чтобы противостоять беде. Чтобы осознать, через что им пришлось пройти и каким чудесным образом им удалось выжить, необходимо прежде всего понять, что это была за война.
Великая война, как называют ее французы, стала трагедией, затронувшей почти каждую семью во Франции. Лучше всего описал это в своем дневнике молодой армейский капитан: «Скоро ли Франция забудет полтора миллиона погибших, миллион изувеченных, свои разрушенные города? Скоро ли осушат слезы плачущие матери? Перестанут ли сироты быть сиротами, вдовы – вдовами?» Молодого офицера звали Шарль де Голль[6].
Эти слова проникают в душу, однако не дают ответа на наш вопрос. Чем отличается Первая мировая война от других войн? Что было в этой войне такого, что и сейчас, столько поколений спустя, она все еще не дает нам покоя? Не рассказы ли солдат о своих товарищах, чьи тела «лежали рассеченные от плеч до пояса, как туши в лавке мясника»?[7] Не сильнейшие ли образы окопной войны, запечатленные в произведениях таких поэтов, как Джон Найт-Адкин (John H. Knight-Adkin)? Вот что он написал в стихотворении «Ничья земля».
- Но «ничья земля» – это гоблин,
- Когда патруль в ночи ползет по мертвецам;
- Будь ты Boche или британец, бельгиец или француз —
- Ты играешь со смертью, когда выползаешь из окопа.
В Шампани, где происходили самые жестокие бои, люди говорят о «долге памяти». Вот почему даже в самой маленькой деревне обязательно есть памятник погибшим во время той войны, и каждый год к нему торжественно возлагают венки.
Куда бы мы ни приезжали, везде люди рассказывали об ужасающих кровопролитиях во время Великой войны. «Вторая мировая война, – говорили нам, – была ужасна, но она ничто по сравнению с Великой войной».
В Компьене, где было подписано соглашение о прекращении военных действий, мы посетили небольшой музей. В нем были стереоскопы – старые оптические приборы, с помощью которых стереоскопическая съемка предмета представляется глазам в виде одного объемного изображения – когда-то мы находили что-то подобное в гостиных наших бабушек.
И хотя мы выросли на репортажах с Вьетнамской войны, хотя мы были знакомы и с кинохроникой времен Второй мировой войны, тем не менее мы оказались не готовыми к тому, что открылось нашим глазам: солдаты, томившиеся в грязных окопах; люди, покрытые белой пылью, которая делала их похожими на привидения; города и деревни, разрушенные до основания; поля и виноградники, перетянутые колючей проволокой, изъязвленные кратерами от взорвавшихся артиллерийских снарядов и напоминавшие лунный пейзаж.
А потом мы увидели трупы. Некоторые были сложены высокими штабелями на промерзшей земле, припорошенные снегом; другие продолжали лежать там, где их настигла смерть; их товарищи по оружию беспомощно стояли рядом, в их лицах была пустота.
Рядом с музеем находился старый железнодорожный вагон. Внутри него был длинный стол красного дерева, со стульями и табличками с именами. Здесь все оставалось так, как было в 11 часов одиннадцатого числа одиннадцатого месяца 1918 года, когда союзники приняли капитуляцию Германии. В окружавшей нас тишине мы почти ощущали присутствие призраков.
А потом мы познакомились с живым призраком. Его звали Марсель Савонне, и он собирался отметить свой сто шестой день рождения. Савонне был последним poilu – последним оставшимся в живых шампанцем – участником Первой мировой войны. Poilu – «косматые» – так называли себя французские солдаты. Именно такими – небритыми, нестриженными, неопрятными – были бойцы после многомесячного пребывания в окопах. Подобно Самсону, они считали, что их длинные волосы придают им силу.
Однако человек, с которым мы познакомились, скорее напоминал видение – хрупкий остаток человека, едва ли пяти футов высотой, с согбенной спиной, медленно передвигавшийся по комнате с помощью ходунков. Мы встретились с Савонне в его доме в Tруа, древней столице Шампани. Его гостиную украшали медали и грамоты – упоминания в списках отличившихся.
Савонне опустился в кресло, поднял голову и стал говорить. Его голос был чуть громче шепота. Ему было восемнадцать, когда его послали в Верден в 1917 году. «Это была бойня, – рассказывал он. – Каждый день смерть поливала нас дождем; каждый день – новые трупы».
Савонне часто замолкал, его глаза время от времени медленно закрывались. И когда нам уже начинало казаться, что он заснул, он вдруг поднимал голову и продолжал рассказ. «Сегодня вы видите всю картину войны, общую картину, но тогда мы ее не могли видеть. У каждого солдата было свое собственное маленькое пространство, его собственное узкое видение происходившего. Мы были изолированы, и единственное, о чем мы могли думать, – как остаться в живых».
Мы видели, что Савонне устал, и поднялись, чтобы уходить. Он опять поднял голову.
«Спасибо, что вы нас помните, – сказал он. – Спасибо, что не забываете».
* * *
Марсель Савонне отметил свой сто шестой день рождения 22 марта 2004 года. Отметил тихо, дома, в кругу семьи несколькими глотками шампанского. Несколько месяцев спустя мы позвонили ему справиться о его делах. К телефону подошел его сын. «Отец ушел от нас первого ноября, – сказал он. – Это была быстрая смерть, но после такой жизни…»
Молодой Савонне не договорил. Да в этом и не было необходимости.
В конце концов мы начали понимать. Уход Савонне не был просто смертью старого солдата; мы прощались с последним звеном, связывавшим нас с ушедшей эпохой.
Это было время, когда люди, говоря словами историка Корелли Барнетта, верили в правое дело и были «готовы умереть, если это будет необходимо, за короля и страну, за кайзера и «фатерлянд», за Отечество»[8]. Они жили такими ценностями, как товарищество, дисциплина и смелость, и эти ценности давали им силы противостоять всем бедам.
В Шампани, как нигде, эти слова кажутся особенно верными. Как сказал нам один производитель шампанского, «это закон природы: все лучшее всегда произрастает в самых неподходящих для этого условиях, потому что для того, чтобы стать лучшим, ему надо себя преодолеть. Именно так это и было с жителями Шампани. Первая мировая стала определяющим моментом в их жизни, тем суровым испытанием, на котором настаивалось шампанское. Это было буквально испытание огнем, в котором индустрия шампанского едва не была разрушена, а смелость и верность шампанцев поверялись невиданными дотоле бедами.
И они выдержали это испытание так же, как и многие другие, выпавшие на их долю за многие столетия, и уже одно это возводит шампанское в особую категорию. Именно это придает шампанскому его почти сверхъестественные качества, тот шарм, который пленяет души и воображение людей во всем мире, и дает нам стимул и вдохновение, чтобы разобраться, как же все это начиналось.
Глава 1
Монарх и монах
Они родились и умерли в один и тот же год – и при этом они были совершенно разными людьми. Один жил в абсолютной роскоши, другой – в абсолютной нищете. Один гордился своими длинными вьющимися волосами, другой брил голову. Один носил высокие красные каблуки, другой ходил в простых сандалиях. Один наряжался в шелк и бархат, на другом были одежды из сурового льна.
Но было между Людовиком XIV и Домом Периньоном одно сходство: они оба любили шампанское, или, точнее, то, чему еще только предстояло стать шампанским. Не- смотря на их различия, именно эти люди сделали все, чтобы шампанское завоевало славу и успех.
Когда-то то, что мы называем шампанским, не существовало. Шампань была не вином; это была местность, славящаяся преимущественно производимой здесь высококачественной шерстью. Если у крестьян был излишек земли, они иногда выращивали на нем виноград и делали из него вино – либо для собственного стола, либо на продажу, как источник дополнительного заработка. Это вино было настолько невыразительное, что даже не имело собственного названия. Оно входило в общую группу вин, известных как vins de l’lle de France (вина Иль-де-Франс) или иногда просто vins Francais (французские вина). Иногда эти вина называли по имени городка или области, из которых они происходили, например vins de d’Ay (вино из Аи), vins de la montagne (горное вино) или vins de la riviere (вино с реки). Но «шампанским» его никогда не называли.
Оно было красного цвета, но не темно-красного, а скорее бледного, цвета луковой шелухи, разнообразных оттенков розовато-коричневого – цвет, который называли oeil de perdix, или «глаз куропатки».
Еще важнее то, что в нем не было пузырьков, во всяком случае, намеренно внесенных. Пузырьки считались дефектом, который мог погубить вино и которого следовало избегать.
Хотя римляне начали выращивать виноград и делать вино в Шампани примерно в 57 году н. э., до XI века оно не пользовалось известностью за пределами области. А затем сын виноградаря из Шатильон-сюр-Марн был избран папой и принял имя Урбан II. Новый папа многое сделал, чтобы вина его родной земли стали известными. В частности, он дал понять, что «предпочитает их всем остальным»[9]. (Все в Риме знали этот секрет: ищущий аудиенции у его святейшества должен прибыть к нему с вином из Шампани.)
Но папа сделал и еще кое-что, что также помогло продвижению вина с его родины: он начал Крестовые походы.
Шампань в те времена напоминала лоскутное одеяло, состоявшее из воюющих между собой феодальных поместий. В провинции царил постоянный хаос. Центральная власть отсутствовала; одни были верны королю, другие были вассалами герцога Бургундского, а третьи были лояльны императору Германии. Некоторым землевладельцам, чьи земли были разбросаны в разных местах провинции, приходилось платить подати пяти или шести сюзеренам.
Путаница в вассальной зависимости вела к таким потрясениям и разрушениям, что в конце концов церкви пришлось призвать к «перемирию Божьему», которое запрещало враждебные действия во время церковных праздников, святых дней и по воскресеньям. Именно тогда и появилось понятие «выходные дни».
Однако «выходные дни» едва ли способствовали прекращению вражды. И вместо того чтобы попытаться положить ей конец, церковь решила использовать ее в своих целях.
В 1095 году папа Урбан выступил с таким призывом: «Пусть те, кто до сих пор боролся только со своими собратьями-христианами, обратят свое оружие на неверных». Этот призыв положил начало Первому крестовому походу. Призыв папы к священной войне нашел особый отклик в душах его соотечественников-шампанцев. Феодалы забыли о своих разногласиях и отправились в Иерусалим, сопровождаемые своими войсками и свитой.
И впервые за долгое время в регионе воцарилось спокойствие. Теперь избавленная от междоусобиц Шампань стала «островком мира»[10], получив возможность использовать преимущества, которые давало ей положение на пересечении двух крупнейших торговых путей Европы. Один шел с востока на запад, между королевствами франков и германцев, другой – от Северного моря к Средиземному. Благодаря такому местоположению Шампань стала естественным центром торговли. Здесь стали проводиться крупные ежегодные ярмарки. Длившиеся неделями, они привлекали купцов со всего континента. Сюда везли кружево из Голландии, одеяла из Бельгии, меха из России, кожу и золото из Италии, острейшие стальные клинки из Испании, масла из Средиземноморья, шерсть и лен из Франции.
Но не вино. Вина Шампани производились только для местного потребления и в таких незначительных количествах, что их не всегда хватало даже местным жителям. Не могло быть и речи о том, чтобы предлагать вино на обмен или на продажу на ярмарках.
Однако к 1200-м годам ситуация стала меняться. Производители шерсти из Шампани, которые также немного занимались виноделием, решили привлечь посетителей ярмарки к своей продукции, предлагая им в дополнение к шерсти бесплатное вино.
Результаты этого рекламного хода превзошли все ожидания. Они не только стали продавать больше шерсти, но и начали получать заказы на вино. И за короткое время вино потеснило шерсть, став основным продуктом региона. И хотя большинство покупателей считало необходимым перед употреблением «окрестить» вино, разбавляя его водой, поскольку оно было довольно терпким, они тем не менее находили его вполне приемлемым. И кроме того, оно было дешевле вин из Бургундии.
Однако Крестовые походы не только обеспечили мирную передышку, во время которой Шампани удалось воспользоваться преимуществами своего положения на пересечении крупнейших торговых путей. Они также привели к расширению виноградников Шампани. Поскольку участие в Крестовом походе было делом довольно дорогим, рыцари, знать и прочие землевладельцы стали разрешать своим крестьянам выращивать больше винограда и делать из него вино, чтобы помочь финансировать участие в походах. Кроме того, они составляли завещания. Надеясь заслужить спасение, благочестивые воины оговаривали в своих завещаниях, что, если они не вернутся из Святой земли, часть их собственности, включая виноградники, должна быть передана церкви. Многие не возвращались – и соответственно земельные владения церкви значительно увеличились.
Стало улучшаться и качество вин Шампани, поскольку в те времена монахи были лучшими энологами. Они были воистину преданы своим виноградникам и знали о виноградарстве больше, чем кто-либо другой. Без вина невозможно было служить мессу, излечить страждущих и радушно принять пилигримов и других странников. Еще важнее было то, что для монастырей вино являлось финансовой опорой. Зачастую церковная десятина выплачивалась виноградом и вином, которое потом продавалось или обменивалось на другие товары. Иными словами, трудно себе представить, как существовали бы монастыри без виноградников.
Аббатство Овилье, располагавшееся высоко в реймсских горах Montagne de Reims, не было исключением. Основанное в VII веке, оно пользовалось известностью как место, окруженное мистической завесой, затерянное во времени. Окутанное голубоватым туманом, поднимавшимся с горных склонов, Овилье было «центром притяжения для истинно верующих. Юноши стекались туда, чтобы стать монахами; старики приходили умирать»[11].
Появилась там и женщина. Причем уже после своей смерти.
Ее звали святая Елена. Она была матерью Константина, первого христианского императора Константинополя. Она была похоронена в Риме в IV веке. Ее почитали за то, что она спасла Иерусалим от язычников и нашла «Святой крест».
В 841 году монах из Овилье, по имени Тетжиз, посетил Вечный город. Страдавший недугом в течение многих лет, он взывал о помощи ко многим святым, но все было безрезультатно. Однако после молитвы в усыпальнице святой Елены он, по собственному заявлению, чудесным образом исцелился. По остающимся неясными причинам он выкрал мумифицированное тело Елены из мавзолея и тайно привез его в Шампань в надежде, что эти священные останки будут перезахоронены в Овилье.
Когда архиепископ Реймса и настоятель Овилье узнали о том, что он сделал, они пришли в ужас. Опасаясь гнева папы и не воспринимая серьезно утверждений Тетжиза о якобы чудодейственной силе останков, они отказались принять тело. Местные жители восприняли произошедшее как шарлатанство. В то время они были озабочены более важными делами. Вот уже несколько месяцев, как не было дождей, и виноградники погибали от засухи. «Не волнуйтесь, – сказал им Тетжиз. – Если вы три дня выдержите пост и будете молиться святой Елене, пойдут дожди и засуха прекратится». Крестьянам нечего было терять, и они согласились.
Через три дня пошли дожди. За этим последовали и другие чудеса, и тогда архиепископ и настоятель изменили свое мнение, отправив своих посланников в Рим. Папа, желая избежать скандала и сохранить лицо, заявил, что святая Елена, похоже, неплохо себя чувствует на французской земле и вряд ли ее стоит беспокоить. Виноградари, занятые уборкой обильного урожая, возликовали и поклялись, что будут почитать святую Елену как их главную покровительницу.
Но даже присутствие знаменитой святой не смогло спасти аббатство Овилье от бед, пришедших после окончания Крестовых походов. Когда их участники стали возвращаться домой, земля Шампани снова погрузилась в насилие. На протяжении XIV и XV веков безземельные рыцари и жадные до новых приобретений землевладельцы непрерывно боролись за сферы влияния, в то время как по городам и деревням разгуливали банды разбойников, сжигая и разграбляя все на своем пути. Жители покидали города и деревни. «Не осталось и следа, – говорит современник. – Не осталось деревень, не осталось людей – только разбойники».
Аббатство Овилье, где жил и работал Дом Периньон
(КОЛЛЕКЦИЯ «МОЭ И ШАНДОН» /© MICHAEL KENNA)
Аббатство Овилье было разграблено и сожжено до основания по меньшей мере четыре раза. Даже французские войска, присланные на его защиту, поучаствовали в разграблении. «Они выпили 600 бочонков вина, – свидетельствовал живший поблизости крестьянин. – Они вырубили деревья в лесу и сожгли двери аббатства. Это не собаки, посланные королем охранять его стадо, это волки».
К концу XVI века почти все монахи Овилье разбежались. «Почти никого не осталось, – вспоминал один из них. – Горстка оставшихся не в состоянии заботиться о монастыре»[12].
* * *
В 1634 году настоятель Овилье признал поражение и передал монастырь на попечение братии Святого Ванна – St. Vanne, в Вердене. В течение последующих тридцати лет монахи без устали пытались восстановить монастырь. Необходимо было расчистить груды булыжника, восстановить здания, снова засеять поля и посадить лозу. Работа продвигалась мучительно медленно.
К началу 1660-х стало ясно, что Овилье, аббатство, давшее пристанище святым останкам, творившим чудеса, само нуждается в чуде. И это чудо явилось в 1668 году в обличье молодого монаха по имени Дом Периньон[13].
Дому Пьеру Периньону не было необходимости идти в монахи. Он мог вести вполне комфортный образ жизни, пойди он по стопам отца, чиновника в местном суде. Как старший сын, он унаследовал бы право распоряжаться семейным имуществом, которое включало несколько виноградников, расположенных в его родном Сент-Мену – Sainte-Menehould, живописном местечке в Восточной Шампани.
Когда Пьеру исполнилось тринадцать, семья послала его на обучение в школу иезуитов в окрестностях Шалон-сюр-Марн. Там он и обрел свое призвание. После пяти лет обучения он объявил, что хочет стать монахом, и пошел в монастырь Св. Ванна – St. Vanne, славившийся не только строгостью монашеской жизни, но и высокими требованиями к умственному труду, в распорядке дня были молитвы и послушание. Определенные часы были отведены еде, работе, молитвам, сну и молчанию, и все это требовало неимоверной личной дисциплины и строгого следования заповеди святого Бенедикта: «Поскольку праздность – это враг души, братья должны постоянно находиться в работе. Предпочтителен физический труд, поскольку именно тогда дух вдохновляется на наиболее плодотворные мысли»[14].
Монахи жили в крошечных кельях, узких и не более девяти футов в длину. «Было бы удивительно, если бы Дом Периньон не чувствовал себя птицей в клетке или ступней в тесном ботинке»[15], – пишет историк. И тем не менее он преуспевал, отличаясь своей твердой верой и трудолюбием.
Дому Периньону было тридцать лет, когда настоятель монастыря назначил его procureur, или, выражаясь современным языком, управляющим делами Овилье. Состояние монастыря значительно отличалось от того, что было описано одним монахом многими годами ранее: «Он восхищает всякого, удовлетворяет любые желания и очаровывает каждую душу». Все было в состоянии упадка. Церковь, больница, склады развалились; жилые помещения лежали в руинах. С виноградниками дело обстояло еще хуже. Дом Периньон, в обязанности которого входило и управление винным погребом монастыря, сразу же понял, что восстановление Овилье зависит в первую очередь от возвращения к жизни его когда-то знаменитых виноградников.
Эти виноградники давали вино, которое упоминалось еще в песне XIII века. Говорят, что король Филипп-Август специально заказывал les vins d’Auviler для своего королевского стола. Веком позже это вино подавалось на коронации Чарльза IV и Филиппа VI.
Восстановление виноградников потребовало тяжелейших трудов. Необходимо было очистить участки от сорняков и камней, вырубить заросли ежевики. Надо было насыпать новую почву из долины внизу. По указанию Дома Периньона лозу заменили на более качественную. «Уничтожьте ту лозу, которая дает обычное вино, – говорил он. – Добивайтесь качества, которое принесет славу и доход».
Именно Дому Периньону часто ставится в заслугу изобретение шампанского. На самом деле шампанское никто не изобретал; оно само себя изобрело. Все вина начинают пузыриться уже в тот момент, когда давится виноград. Дрожжевой грибок на кожице ягоды вступает в контакт с сахаром, содержащимся в виноградном соке, превращая его в алкоголь и углекислый газ, – этот процесс называется ферментацией. В более прохладных местах, а именно к таким относится Шампань, дрожжевой грибок в зимнее время засыпает еще до того, как весь сахар был переработан. Весной грибок просыпается и с новыми силами нападает на остающийся сахар, таким образом производя дополнительный алкоголь и углекислый газ, поднимающийся на поверхность в виде пузырьков.
Во времена Дома Периньона не знали о дрожжевом грибке; он оставался тайной еще в течение двух столетий, до тех пор пока его не обнаружил Луи Пастер. Пузырьки считались изъяном, капризом природы, и Дом Периньон усердно работал над тем, чтобы избавиться от них. Шипучее вино было неприемлемо не только для мессы; оно было неприемлемо и для большинства людей, привыкших к негазированным винам. И все-таки из-за климата Шампани ферментация постоянно оставалась проблемой. Виноторговцы предупреждали покупателей: «Выпейте его до Пасхи, потому что весной становится тепло и вино снова начинает играть».
За все 47 лет управления винными погребами Овилье Дому Периньону так и не удалось полностью избавить свои вина от пузырьков. Но он сделал значительно более важное. Он установил так называемые «золотые правила виноделия» – указания, которым виноделы следуют до сих пор. Сюда входит, в частности, следующее: используйте только лучшие ягоды, отбрасывайте поврежденные; ранней весной обрезайте лозу, чтобы родила не обильно; собирайте урожай в прохладные утренние часы; давите виноград мягко; не сливайте вместе соки каждого отжима».
Отец шампанского, Дом Периньон
(КОЛЛЕКЦИЯ «МОЭ И ШАНДОН»/ © XAVIER LAVICTOIRE)
В те времена это были революционные идеи, шедшие вразрез с обычной практикой. Большинство виноградарей стремились вырастить как можно больше винограда – это означало для них больше вина и, соответственно, больше денег. До Дома Периньона весьма немногие понимали, что, уменьшая урожай, они тем самым способствуют появлению более густой грозди, а ягоды, собранные в прохладные утренние часы, обращаются в более утонченное и изысканное вино.
Однако по-настоящему гений Периньона проявился в смешивании. Его отличала необычайная способность ощущать вкус. Он был одарен чувствительным нёбом и исключительной памятью на вина. Рассказывали, что, когда работники приносили ему виноград с различных виноградников из разных деревень, он мог «с пугающей точностью»[16] определить происхождение каждой грозди. Однако настоящим испытанием было правильно сочетать этот виноград – определить, какие сорта использовать, и затем соединить их, чтобы создать вина абсолютной гармонии и равновесия. И в этом Дом Периньон не имел равных.
Его таланты были настолько необычны, что о нем стали ходить легенды: якобы у него был секретный рецепт производства шампанского; что он был слеп; что, попробовав в первый раз игристое шампанское, он воскликнул: «Я пью звезды!»