Читать онлайн Пограничник бесплатно
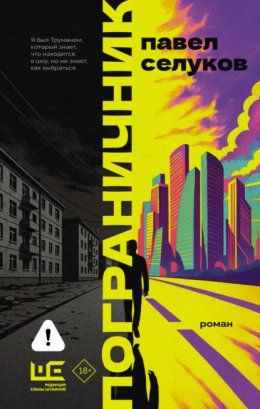
© Селуков П.В., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
⁂
Бабушке, дедушке, Артёму, Никите, Маше Махоне и всем, кто не дожил.
Дом на Доватора, 30а, был желто-розовым, тусклым, похожим на Петербург. Питер я увидел через тридцать лет, а сейчас я только родился. Мне ноль лет и несколько дней. Отец держит меня на руках. Бабушка говорила, его переполняла нежность, он не знал раньше такой нежности, поэтому его руки слегка дрожали. Рядом с отцом стояла мать. В ее глазах, это я предполагаю, зная дальнейшие события, плескалась животная любовь, готовность растворить себя в младенце. Впрочем, я не видел глаз всех матерей, может, это общеупотребительное. Справа и слева от родителей стояли бабушка и дедушка, рядом с бабушкой – мамина сестра. Фотографировал нас сосед Малышев.
Раннее детство я помню плохо, память изменяет мне, как молодая жена пожилому мужу. Впрочем, я помню нашу двухкомнатную квартиру, где не было предусмотрено помещение для ванной. Горячую воду мы брали из батарей, а мыться ходили в общественную баню. Лет до пяти я ходил в женское отделение с мамой. Там я смотрел на женские груди, то ли из эротических соображений, то ли хотел есть. Потом меня отдали отцу, и я попал в мужское отделение. Там я смотрел на пенисы. Сейчас я понимаю, что и женские груди, и пенисы были самими запоминающимися подробностями человеческого дизайна. Они у всех разные, еще более разные, чем лица. А еще и те, и другие висели, а висит обычно то, без чего можно обойтись: сережка, волосы, флаг. Может, этой «лишностью» они меня и завораживали. Позже я прочитаю у Якоба Бёме об андрогине, юноше-деве, и в моей голове кое-что прояснится. Или затуманится.
К семи годам я пристрастился к парилке. Отец начал вводить меня в мир веника постепенно, но, видя мои успехи и удовольствие, невероятно обрадовался. Скупой на эмоции, отец мог годами сжиматься внутри, как пружина, чтобы взорваться безобразной яростью или безобразной нежностью. Вся моя жизнь пройдет в поисках его одобрения.
Я быстро понял: если я парюсь и не убегаю из парной, то отец меня любит – улыбается, ерошит волосы, хлопает по плечу, дает первому попить квас. Ребенком я не понимал, что внутри отец меня любит, просто не показывает, ребенком я думал, что раз не показывает, то и не любит. Вернее, раз я не вижу. А тут увидел.
В баню я стал ходить не за паром, за любовью. Парился до головокружения. Однажды шел с тазиком, поскользнулся и боднул головой бетонный стол, на котором набирали воду. Обычно в сценариях такое событие запускает последствия: ребенок вырастает маньяком, или у него открывается талант к музыке, или он получает способность летать. Это не тот случай. Я оклемался. Всё.
Мне было пять. Шел 1991 год. Страну трясло. Раньше по выходным мы всей семьей лепили на кухне пельмени, теперь все сидели у телевизора. Пельменей больше никто не лепил. Отец включал на кассете Высоцкого, дед пытался стащить водку из морозилки. Это был обряд, традиция. Это нас здорово всех объединяло. Но исчезла страна, исчез и обряд. Бывает.
В моем доме жила девочка Оля с братом Димой. Она была на год младше меня. Когда ей было шесть, а мне семь, Оля предложила заняться сексом. Я был против. Однажды я забежал к родителям в спальню и увидел, как папа трахает маму. Он лежал на ней и, кажется, душил. Мама стонала от боли. Я кинулся к отцу, схватил его за руку и потащил. Отец машинально отшвырнул меня к серванту. Я упал. Включился свет. Я увидел отвертку, схватил.
– Не обижай маму!
Я целился отверткой в отца, будто направлял в атаку полки́. Неистовый Бонапарт. Отец подошел ко мне, он был завернут в одеяло, забрал отвертку, взял на руки. Я заплакал. Подошла мама:
– Не плачь. Папа меня не обижал. Это секс. Люди так детей заводят. Мы тебе сестренку хотим.
– Мне она не нужна!
Отец поставил меня на пол и легко шлепнул по попе:
– Всё, быстро спать!
Я понуро ушел в свою комнату. А тут Оля со своим сексом. Я ей все рассказал.
– Да нет, Паш, тут не так! Ты меня за ноги держишь, а я руками по земле. Давай!
Оля приняла упор лежа и протянула мне ногу. Я взял. Потом вторую. Оля пошла руками по асфальту, я поплелся за ней. Тогда я не знал, а сейчас понимаю – это была метафора всех моих будущих отношений с женщинами.
В первый класс я пошел на Кислотных Дачах, в чудесную 89-ю школу. Чудесную – потому что в ней был урок бассейна. Плавать я уже умел. Отец выкинул меня из лодки на реке Чусовой. Я воспринял это как еще одну возможность заслужить его любовь и просто поплыл, как маленькое влюбленное животное. Но в бассейне нас учили плавать разнообразно, правильно дышать, нырять. Помню, я куда-то шел и подумал – вот бы все люди жили в воде, а не на земле, как было бы здорово!
Прогуливать школу я начал во втором классе. Уже тогда во мне стала проявляться эта патология – непереносимость запретов, правил, чужой воли. Даже разумной воли. Как только я понимал, что чего-то нельзя делать, я тут же невыносимо хотел это сделать. И «невыносимо» не преувеличение. Моему однокласснику Саше Иволгину мама купила приставку «Денди». Она была челноком, такой энергичной женщиной с белыми волосами и в золоте. Я видел ее пару раз. Она показалась мне похожей на мужчину.
Как-то мы с Сашей встретились у школы. Саша сказал:
– Мне приставку подарили. Пошли поиграем?
– А школа?
– Прогуляем.
От одной мысли, что я прогуляю школу, перехватило дух. Приставка меня не сильно интересовала. Я не знал тогда, что такое «эскапизм», но уже его не любил. Раскрыли нас через три дня. Раскрыли бы и раньше, но политическая ситуация отвлекла. До двух ли мальчишек, ушедших куда-то, когда куда-то вышли все?
Надо сказать, ушел я не в первый раз. Был еще садик. Меня отдали туда в четыре года. Я увидел молоко с пенкой и на прогулке скрылся через щель в заборе. «Лучше смерть, чем молоко с пенкой!» – наверняка подумал бы я иронично, будь у меня ум. Нашли меня на другом конце района – мама и милиционер на уазике. Мама была счастлива, милиционер – не очень.
Кроме бассейна, в школе случилась моя первая драка. Это был кабаноподобный мальчик Новосельцев с челкой, как у битлов. Не помню, из-за чего мы сцепились. Кажется, я любил девочку с какой-то невероятной косичкой, и Новосельцев за эту косичку дернул. Драку я откровенно проигрывал. Новосельцев допинал меня до конца кабинета, где я его как-то уронил. Рядом валялся пустой пакет, мы оставляли сменку в классе, я взял этот пакет, надел Новосельцеву на голову и затянул. У меня не было идеи задушить Новосельцева, я действовал по какому-то наитию. Стоило мне тогда насторожиться. Потому что это наитие будет сопровождать меня всю жизнь. Когда в класс забежала учительница и оттащила меня, Новосельцев был без сознания. Меня напугали директор, мама и бабушка. А папа на улице похвалил. Я был счастлив. Может, тогда, а может, мне теперь кажется, что тогда, но я понял, что должен побеждать в каждой драке. Ради папы. Любой ценой.
Бабушка моя работала в ту пору начальником отдела кадров нефтебазы. Нефтебазы по всей стране поглощал «Лукойл». Бабушке предложили уволиться по собственному желанию. Бабушка отказалась. До пенсии ей оставался год. Согласилась она, когда «Лукойл» предложил ей две новые квартиры на Пролетарке, на другом конце Перми. Взамен бабушка уходила и отдавала нашу квартиру и две комнаты, в одной жила моя прабабушка Ольга, которую все звали Лёля, а в другой прабабушка Нина, которую так и звали. Новые квартиры были на третьем и девятом этажах. Мы въехали в ту, что на девятом: я, мама, папа и прабабушка Лёля. Помню, открыли дверь в ванную и долго смотрели на эту роскошь. А потом папа включил душ. Праздник какой-то.
Я бродил по квартире и не верил, что буду здесь жить, так много места. И к окну страшно подходить – высота. Когда я первый раз к нему подошел и посмотрел, мне захотелось прыгнуть, резкое такое желание, как зубная боль. Я испугался и отбежал.
Отец не хотел переезжать, все его друзья жили на Кислотках. Последним его аргументом было то, что на Пролетарке нет освещенной лыжной трассы. Почувствуйте всю беспомощность – никто в нашей семье не катался на лыжах.
На Пролетарке я прижился легко, как сорняк. Подружился с ребятами, чьи имена вам ничего не скажут, но перечислю: Киса, Дрюпа, Шира, Петя, Гриша, Толстый. Такая стая человеческих щенков: шалых, веселых, глупых. Из достижений – влез на стрелу крана. Я боялся высоты и ненавидел себя за это, поэтому и полез. Хотел покончить с этим, хотел свободы. Это я сейчас так думаю. А тогда… Полезли все – полез и я. Кран стоял посреди заброшенной стройки. Стройку мы воспринимали как свою недвижимость. В каком-то смысле она уравнивала нас со взрослыми.
Из поражений. Отец ковырялся в машине, я стоял у подъезда, ждал, когда позовут помогать. Мимо шел Юра Баранкин, мальчик на год старше меня, десятилетка. По неизвестной мне причине мы с Юрой решили подраться. Обхватили друг друга за шеи, сели на бордюр и стали щипаться. Меня подвела близость отца. Я все время ждал, что он придет на помощь и покарает Юру. Не пришел. Наконец мы с Юрой расцепили объятья, и он ушел. А я остался и заплакал.
– Чего ревешь, как баба! Нормально дрался. Иди умойся.
Я поднялся домой, где излил всю свою боль маме. Мама утешала меня, как могла, но суть трагедии, кажется, от нее ускользнула. А я смекнул – помощи не жди. Всё сам.
Тогда же, в первое лето на Пролетарке, я увидел смерть. Мы с Толстым играли в песчаном карьере позади дома. Вдруг – крик. Мы всмотрелись. В окне восьмого этажа второго подъезда стояла девушка в халате. С ее ноги спала легкая тапочка и полетела вниз, слегка планируя. За тапочкой полетела девушка. Уже соступив, она тонко вскрикнула: «Мама!» Мы с Толстым побежали. Девушка лежала на асфальте, ее руки-ноги вывернулись, как у пластмассовой куклы. Правый глаз был открыт и пугал нездешним выражением. Из него смотрело ничто. Мы замерли с Толстым, не понимая, кажется, что произошло. Из-под девушки поползла лужа крови. Девушка была мертвая, а кровь – живая. На уровне чувств меня это потрясло. Сейчас я пошутил бы про девушку Шрёдингера – живую и мертвую одновременно. Но тогда я просто смотрел на ползущую к моим сандалиям кровь. Это было красиво. Я не знал еще ни Поллока, ни Ротко, но доминацию цвета, его глубину, насыщенность, эмоцию оценил, пусть и не сформулировал. Много лет я считал, что та смерть на меня никак не повлияла. Теперь я склонен думать, что повлияла. Если представить жизнь книгой, что я сейчас и пытаюсь сделать, то я был на первых страницах, однако, благодаря случаю, подсмотрел финал. Конечно, я продолжил читать, то есть жить, с тем же интересом, но знание финала нависало и производило во мне свою работу.
За мортидо последовало либидо. Иногда мне кажется, что это одно и то же, как абсолютный минус и абсолютный плюс. В каком-то смысле они не следуют друг за другом, они друг друга подтверждают. Мне повезло, а может, не повезло жить в эпоху зарождения новой технологической природы. На моих глазах появились пейджеры, игровые приставки, видеомагнитофоны, CD, сотовые, DVD, компьютеры, флэшки, ноутбуки, интернет. Мир становился все более удобным и предсказуемым. А еще этот мир искушал. Мой дед, когда был пацаном, мог полюбоваться голой женщиной, разве что подглядев в окно женского отделения бани. Мы смогли это сделать по видеомагнитофону и тайной кассете Гришиных родителей. Гриша взломал отверткой ящик в отцовском столе. Он не искал ничего конкретного, ему просто не понравилось, что он заперт. Эта нелюбовь ко всему запертому или любовь к открытому сохранится в Грише до конца его дней и сыграет трагическую роль в его судьбе. А пока Гриша добыл кассету, вставил в видик и с первых же секунд просмотра осознал всю ее исключительность. Это был триумф, а триумф, подумал Гриша, глупо переживать в одиночку. Да и как-то страшно. Вскоре на диване расположились: Киса, Дрюпа, Шира, Петя, Толстый, Гриша и я. На экране возникла очень вольная интерпретация сказки братьев Гримм «Джек и бобовый стебель». Это был мультфильм. Когда Джек взобрался по стеблю наверх, там оказалась роскошная великанша, она обнажила роскошную грудь и приложила Джека к роскошному соску, как подорожник. На эту нарисованную грудь мы страшно возбудились. То ли как бывшие дети, недавно от груди оторванные, то ли как будущие мужчины, вновь к ней стремящиеся. Вдруг великанша раздвинула молочные ноги, и мы увидели сокровенное. Тонкая нарисованная полоска волос, как стрелка, указывала на самую суть. Я ел экран глазами. Я не думал о том, что вышел из чего-то похожего, я думал, как бы во что-то похожее войти. Представьте же мое удивление, когда великанша взяла Джека, как палочку, и ввела в себя по самые ботинки. А потом вынула. И снова ввела. Раз-два, раз-два. Лицо Джека чем-то испачкалось. Великанша начала стонать, ноги задергались, груди стали еще больше. Гриша потрясенно поставил видик на паузу. Переглянулись. Гриша озвучил повестку:
– Почему она так стонет?
Шира отреагировал:
– Секс.
Гриша не сдавался:
– Да я понимаю, что секс. Стонет почему?
Дрюпа ответил:
– От удовольствия.
– Ты стонешь от удовольствия?
– Нет.
– Кто-нибудь стонет от удовольствия?
Все переглянулись и помотали головами.
Я сообразил:
– Она чешется.
– Чего?
– У нее чешется внутри, и она Джеком чешет. И стонет, расчесывает.
Подумали. Гриша поверил:
– А-а-а! Точно.
Киса уточнил:
– Подождите. Это что получается – у женщин там всегда чешется, а мужчины им чешут?
Я проявил твердость:
– Ну да.
– А мужчинам это зачем?
Подумали. Гришу осенило:
– У них тоже чешется.
Шира не согласился:
– У нас же не чешется.
– Мы маленькие еще. Вырастем, и зачешется. Будем чесаться об женщин, а женщины об нас.
Этот вывод устроил всех. Действительно, иной раз между лопаток так зачешется, хоть вешалку хватай, а если внутри, да еще нежное?
Гриша включил запись. Великанша потряслась на стуле и обмякла. Джек выбрался наружу и вытер лицо о ее подол. Потом он взобрался на стол и снял штаны, явив нам маленький крепкий пенис. Великанша послюнявила два пальца и взяла пенис Джека. И давай чесать. Эта сцена возбудила нас сильнее предыдущей. Как обезьянки бонобо, стали мы хватать друг друга за члены, стараясь воспроизвести увиденное на экране. Быстро игра приобрела жестокий пенисовырывательный характер. Я сбежал, выпрыгнув с лоджии: Гриша жил на первом этаже. Дома я заперся в туалете и впервые помастурбировал. Под веками проступила белая кожа, раздвинутые ноги, голубые глаза, пышная грудь и розовые соски. Было чудесно. Не знаю, в тот ли момент, почему-то хочется думать, что в тот, я распробовал силу воображения, прикоснулся к тайне, живущей в темноте век каждого человека. Позднее я обманчиво пойму, не умом даже, а твердым наитием, что мои фантазии лучше и совершеннее реальности, а значит, главнее.
На Пролетарке я пошел в новую школу, в новый 3 класс под литерой «Г». Оттуда помню только классную руководительницу Марину Сергеевну, вернее, ее кофту крупной вязки из петелек. Я смотрел на нее всякий раз, когда только мог. Не знаю уж, чем она мне так приглянулась. И девочку Аню Птицыну. Марина Сергеевна заставляла меня танцевать с ней медленный танец на вечеринке для третьеклашек. Странновато прозвучало. Помню, я вцепился в парту, они стояли по периметру танцпола, Марина Сергеевна тянула меня за талию, а другие девочки отцепляли пальцы. Они победили. Я танцевал с Аней, умирая от какого-то первобытного стыда, природу которого едва ли понимаю и теперь.
Экзистенциально моя жизнь проходила тогда не в школе, а в зале карате. Если кому интересны подробности, это было карате школы киокушинкай. Спортзал находился за железной дорогой. Чтобы в него попасть, надо было пройти по пешеходному железнодорожному мосту. На тренировки меня водил отец, обычно захватив с собой пару бутылок пива. Наши тренировки он воспринимал как телевидение. Или смешные гладиаторские бои. Отец обожал карате. У него был темно-коричневый пояс. В восьмидесятые он тренировался в каком-то подвале и сохранил о тех временах теплые воспоминания. Видимо, эти воспоминания как-то умножали его энтузиазм. Отец не просто сидел на всех моих тренировках, но и тренировал меня дома после тренировок. Иногда он разбивал мне губы, ставил синяки, один раз разбил нос. Я не думал об этом как о насилии или несправедливости, я даже не сильно переживал, это был фулл-контакт, мы просто работали. Переживал я из-за кимоно. Все мальчики в зале носили покупные кимоно, а я носил сшитое мамой. Мама говорила, что это временно, чтоб понять, нравится мне карате или нет. Если нравится, купим тебе настоящее. Отец молчал. А я догадался, что у нас нет денег. Тогда впервые деньги стали для меня синонимом проблемы, а их наличие – ее отсутствием. Мальчишки в зале постоянно цепляли меня из-за этого кимоно, обзывали его курткой и пиджаком. Они меня злили. Добавьте к этому тренировки с отцом. Где-то через полгода я стал уничтожать всех, кто был в моей секции. Я ведь привык блокировать тяжелые руки-ноги отца, доставать его, а тут какие-то девятилетки. С карате мы разошлись по разным углам, когда мне было одиннадцать. Я дрался в финале чемпионата Перми, проигрывал по очкам. Мальчишка был ловким и легким, я никак не мог попасть и бесился от этого. На трибуне сидел отец. Время боя истекало. Распсиховавшись, я пробил правый прямой. Кулаком точно в нос. Меня тут же дисквалифицировали. Удары рукой в ли-цо в киокушинкай строго запрещены. Я сломал мальчику нос. Первый сломанный нос в моей жизни. Из секции меня тоже отчислили. Правда, это мало что изменило в моей жизни. В школе открылась секция дзюдо, и я перекочевал туда, вернее, отец меня отвел. Он с гордостью воспринял такое мое поражение, обозвав соревнования балетом.
После 3 класса «Г», довольно сносного в нравственном смысле, я попал в 5 «Е». Тогда школьников учили по двум программам – 1/3 и 1/4. Первая четвертого класса не подразумевала, вторая на нем настаивала. Я учился по первой, как бы торопился жить – в школу пошел с шести, в четвертый не ходил. Кто тут у нас такой маленький и взрослый?
Класс наш состоял из девочек и мальчиков из неблагополучных семей. Вскоре я выяснил, что большинство этих семей – многодетные. Родители моих одноклассников не обязательно пили, не обязательно кололись, не обязательно сидели в лагерях, просто они размножались. За это их дети попали в класс-отстойник, где полгода могло не быть математики, вовсе не быть черчения или биологии. Но я понимаю это сейчас, тогда мы радовались, что у нас нет математики, черчения, биологии. Почему не было? Учителя отказывались преподавать нашему классу. Тут замкнутый круг. Во-первых, наш класс быстро зажил по лагерным понятиям. В Пермском крае, тогда области, находится двадцать восемь колоний. Женская колония и вовсе была напротив Пролетарки, через дорогу. Зэки освобождаются и оседают по окраинам Перми. И несут в массы свои принципы. Естественно, мы эти принципы легко и с удовольствием впитывали. Понимаете, у тех принципов не было конкурентов, общество ничего другого нам не предложило, вот мы и взяли, что дают. Я взял в меньшей степени, потому что пропадал в спортзалах, но мои одноклассники пропитались ими донельзя. Учителя видели в нас маленьких зэков и презирали, а мы, чувствуя их презрение, еще вернее превращались в маленьких зэков. Во-вторых, из-за лагерных принципов мои одноклассники, а вскоре и я, не боялись наказаний. Апофеоз наказания – зона, а попасть в зону, в это святое место, считалось почетным. Любовь к аду освободила нас от десяти заповедей. В этом недостаток любой стращающей системы. Учителя не имели рычагов давления на нас, кроме инспектора по делам несовершеннолетних, но и та – крашеная блондинка с огромной попой и угрями на носу – разводила руками. Мы часто слышали от учителей – по вам тюрьма плачет. Иногда я мечтаю: вот бы к нам тогда пришел учитель и заговорил по-людски, по-воровски, вытащил нас, мы бы прожили долгие жизни, завели семьи, увидели мир. Смешно.
Я нарисовал мрачную картину, но картина эта мрачна лишь в силу своей ретроспективности. Тогда я просто пришел в новый класс, на перемене на меня наскочил Эдик Антипов, я швырнул его через бедро, но не довернул бросок в пол, как полагается, а бросил как бы вдоль пола, чтобы соперник эффектно прокатился кубарем. Конечно, меня зауважали, вскоре наградив погонялом Спортик. Спортиком я пробуду, пока не стану наркоманом. Кому-то этот переход покажется неестественным, однако это не так, это все те же абсолютный плюс и абсолютный минус, вид сбоку. У нас не было такого, что кто-то встал и сказал: «Давайте жить по лагерным понятиям, братья и сестры!» Просто метла, которая смела нас в «Е» класс, смела как раз тех, кто уже по ним жил или, по крайней мере, присматривался. В первый месяц все со всеми передрались. Не передрались, чтоб определить иерархию, а передрались и определили иерархию. Кто-то ушел вниз пищевой цепочки – к отверженным (лохам), кто-то остался серединкой на половинку (мужики), а кто-то ушел наверх – в блаткомитет (блатные). Если отбросить лагерный жаргон, это обычное деление приматов всех мастей. Может быть, за исключением бонобо, где разногласия решаются сексом. В приличных классах типа «А» и «Б» деление было точно таким же – ведущих, ведомых, лидеров никто не отменял, просто наша иерархия была священной, корыстной и насквозь пропитанной физическим насилием.
Как-то в седьмом классе, уже весной, мы тусовались с Эдиком Антиповым за школой, он курил, а я подтягивался на турнике. Вдруг Эдик спросил:
– Ты кем хочешь стать?
Он не спросил – кем хочешь стать, когда вырастешь. Это симптом то ли нашего класса, то ли поколения – мы не считали себя детьми даже тогда, когда ими были.
Я спрыгнул с турника и ответил:
– Чемпионом мира по дзюдо.
Мой ответ был тем более комичен, что в школу я всегда ходил в брюках, туфлях, рубашке и пиджаке, такой ботаник. Если б я не был Спортиком, меня бы живьем съели за такой, как сейчас говорят, «лук».
Я сел рядом с Эдиком. Он посмотрел мне в глаза:
– А я знаешь, кем хочу стать?
Мне было плевать, кем он хочет стать, но я спросил:
– Кем?
– Вором в законе.
Мое лицо чуть не треснуло от желания засмеяться. Выдохнув, я заметил:
– Отбывать надо.
Эдик покивал и как-то драматически навис над своими коленями.
– Надо. После школы отбуду.
– По какой?
– Да вот думаю. Сто шестьдесят первая или сто пятьдесят восьмая.
Мы все тогда уже отлично знали уважаемые статьи. 161-я – грабеж. 158-я – кража.
– Со сто шестьдесят первой на сто пятую можно заехать. Не коронуют.
– Да я в курсе.
– Знаешь, кто ты?
– Кто?
– Вор Антип.
Я не выдержал и заржал. Антип покраснел, а потом спохватился:
– Не говори никому!
– Всем расскажу.
– Да блин! Я тебе за это…
– Давай. Над асфальтом полетаешь.
– Да блин! Ну пожалуйста, не говори.
– Не верь, не бойся, не проси. Ты же вор, должен знать.
По поводу детских диалогов. Моя память не сохранила их ни в каком виде, за давностью лет я не могу их расслышать, как не слышно слов из-за толстой стены, однако я помню, что говорили мы чисто, стараясь говорить по-взрослому, поэтому представим прямую речь в этой книге не как возрастную примету или характеристику персонажей, а как способ передачи информации, потому что только за информацию я и могу поручиться.
Я действительно всем рассказал про вора Антипа. Эдика с тех пор так и звали – вор Антип. Поначалу он психовал, но потом и сам стал ржать над этим прозвищем. Может быть, это его сберегло. Сложно по-настоящему хотеть стать тем, над кем смеешься, даже если смеешься над несоответствием, а не сутью. Тогда мы не могли сформулировать, но интуитивно чувствовали – Эдик добрый мягкий парень, в нем нет жесткости и жестокости, он никакой не вор, тем более – в законе. Через шесть лет, в 2004 году, по телевизору покажут сериал «Штрафбат» с Алексеем Серебряковым. Я сяду смотреть первую серию, как вдруг в ней появится персонаж по имени вор Антип. Там так и скажут – вор Антип. А я вдруг исчезну из своей сложной жизни и перемещусь на лавку, в май, в тот разговор, так что даже и запахи весны вползут мне в ноздри. Казалось бы – мелочь, всего два слова, а меня уже нет, исчез, вышел покурить. И я уверен, мои одноклассники, когда это услышали, тоже вышли. Я не думал тогда – сила слова, власть момента, просто стал переживать за вора Антипа, как за родного, и сериал, который пять минут назад был обычным сериалом, стал родным, личным. И война стала личной. Я все это присвоил. Сделал своим. Позже, когда я чуть поумнею, начну писать книги и сценарии, то пойму – я должен дать людям героя, которого дал мне случай в лице вора Антипа. Вовсе не сюжет или язык главное в литературе и в сценариях, главное – герой. Пока нет героя, все остальное не имеет никакого значения.
Я отвлекся. В седьмом классе нашу параллель охватило новое увлечение – выяснить, кто самый сильный боец в этой самой параллели. В нашем классе учился третьегодник Витя Зюзя Чупа-чупс. Он был на голову выше нас, такой дяденька среди детишек. Однажды мы с Витей подрались. Он оторвал рукав моего пиджака, а я кинул в него цветочным горшком, но не попал. Нас разняли девчонки. Все они были пацанками, хоть и красивыми. Я понимаю, что это неправда, но мне помнится, что все наши девчонки были красивыми. Объективно красивой была Настя Спиридонова – бледная волоокая брюнетка с рано поспевшей грудью. Мне кажется, мы так тогда красоту и воспринимали: поспела – красивая, не поспела – расти над собой. Вообще девочки ставили нас в тупик, потому что в зоне девочек нет и наши понятия, исторгнутые оттуда, обращению с ними в принципе не учили. Нет, там был запрет на еду-питье после девушки, практиковавшей оральный секс, и запрет на куннилингус, но в положительном ключе о девушках там не говорилось. Мы как бы жили в зоне, не живя в зоне, да еще и с таким неопределенным фактором под боком, как девушки. Большинство из нас их сторонились. Но чем старше мы становились, тем сильнее нас к ним тянуло. Девчонки же жили своей женской зоной, заигрывали с нами и были такими свободными, что казались нам чокнутыми. Чтобы хоть как-то растормошить инертность нашей касты, девочки придумали анкеты. Там были всякие личные вопросы, мальчик на них отвечал и отдавал девочке, а девочка давала ему точно такую же анкету, только заполненную ею. Бумажная версия Тиндера. Первой с такой анкетой подошла Настя Спиридонова. Избранником был Яша Тихий, брат Витамина. Настя протянула тетрадь и сказала:
– Тут анкета. Заполни, пожалуйста.
– Нафига?
– Взамен я тебе свою отдам.
– Нафига?
– Узнаем друг друга.
– Нафига?
Настя взорвалась:
– Людское потому что! Заполни, блин!
– Ладно.
Вскоре в игру с анкетами включился весь класс, кроме меня и Вити, нам анкет никто не предлагал. Я не подавал виду, но в глубине души переживал. Идет в мою сторону какая-нибудь девочка с тетрадкой, я в стойку – сейчас анкету даст! Нет, мимо. Прошел месяц. Я пошел за школу на турники, на лавке сидел Витя, курил сигарету или «шабил сижку», как он говорил. Я поздоровался:
– ПТ, Витя.
– Падай.
Я сел. Выждав, спросил равнодушным тоном:
– Тебе девчонки анкету давали?
– Не.
– И мне. Почему, думаешь?
– Да страшные мы. Ха-ха-ха!
Витя это так сказал, так засмеялся и так быстро ушел, что сейчас бы я подумал – вешаться. Тогда я истолковал его слова в пользу собственной опасности. Я такой опасный, что девчонки боятся со мной связываться. Как Ван Дамм. Хотя с Ван Даммом девчонки постоянно связывались. Вот – как Боло Янг. Я – Боло Янг. В юном возрасте, да и в любом, сложно набрести на мысль, что ты можешь просто не нравиться, что тебя могут просто не любить.
Но вернемся к выявлению самого сильного бойца в параллели. Не знаю, кому в голову пришла эта грандиозная идея, но одобрение она встретила во всех классах, даже в умненьких «А» и «Б». Что-то древнее наползло на нашу параллель: большие пальцы, опущенные вниз, лавровый венок на челе, гладиатор, забрызганный кровью. Сейчас мне кажется, что дело было не столько в зрелище, сколько в сладком гаденьком чувстве, когда бьют другого, не тебя, а ты в шаге от опасности, но шаг этот защищает тебя вернее бетонного забора, поэтому ты одновременно и зритель, и участник драки.
В «Е» классе вслед за преподавателями могли исчезнуть какие угодно предметы, неизменными оставались труды, музыка, театр и шахматы. Последние два держались на энтузиазме учителей. Денег за свою работу они практически не получали, это были крохи даже по сравнению с зарплатами педагогов, которые вели базовые предметы. Театр преподавала Анжела Борисовна. Помню, мы ставили какие-то незатейливые пьески, много ржали и постоянно ходили красномордыми то ли от смущения, то ли от свободы. На урок театра мы шли смущенными, потому что не знали, чего ждать, не знали такой свободы, а уходили счастливыми, потому что ее распробовали. Воровской закон, блатная оптика, феня, ужимки сползали с нас, мы снова становились детьми. Но стоило нам покинуть кабинет, как все возвращалось. Однажды мы с Антипом сидели на лавке после театра, Антип курил. В его лице доплясывала свобода, какая-то хитрая радость Емели, поймавшего щуку, он играл его в спектакле и будто бы все еще был им там, на сцене. Но вот его лицо захлопнулось, как забрало рыцаря, стало плоским, мрачноватым. Антип отщелкнул сигарету в клумбу и резюмировал:
– Ладно, чё. Поморосили, ваньку поваляли, и будет.
Я заинтересовался:
– Что будет, Антип?
Антип вздохнул, как двенадцатилетний взрослый, и ответил:
– Ничего хорошего.
Шахматы вел Дмитрий Павлович, которого все звали Дмитрий Палыч. То ли язык стремится к лапидарности, то ли туда стремился Дмитрий Палыч. Работал он машинистом на железной дороге, рано вышел на пенсию и пришел в школу преподавать шахматы и вести шахматный кружок. Денег за это ему не платили вовсе. Дмитрий Палыч любил шахматы. Он был советским кандидатом в мастера спорта. Загаром, лысиной – она ему шла, диким темпераментом – он часто швырял фигуры по доске, попав в цейтнот, привычкой нависать над доской и обхватывать голову руками Дмитрий Палыч здорово походил на Каспарова[1]. За глаза мы называли его Кимыч. Кимыч – это отчество Гарри Каспарова.
К шахматам я пристрастился легко и быстро. Это как с детьми: сначала учишься ходить, потом ходишь, а потом начинаешь думать, куда пойти. Собственно, думать, куда пойти, и ходить, куда подумал, это и есть шахматы. А еще, в отличие от нардов и покера, в шахматах нет встроенного элемента удачи. Никакой вам сильной руки или кубиков, выпадающих шестерками. Одинаковые фигуры, одинаковое количество времени. Все зависит от тебя. Но в этом и жестокость шахмат. В покере и нардах ты можешь сказать – не повезло! В шахматах ты так сказать не можешь. Кимыч быстро заметил, что я не умею проигрывать. Бешусь, швыряю фигуры. Поэтому он стал играть со мной лично. Каждый раз я проигрывал, а он заставлял меня разбирать эту партию. И показывал мне, где я повернул не туда. Заставлял меня учиться.
Шахматный клуб находился в подвале школы, где была и столярная мастерская. Туда вел отдельный вход с торца здания. После школы я шел в клуб, и мы с Кимычем играли три партии в рапид, разбирая потом каждую. Мы играли третью, я свистел в эндшпиле без пешки, когда в клуб спустился Антип и встал у нашего стола. Я бросил взгляд – у Антипа было такое лицо, будто он вот-вот начнет повизгивать. Кимыч предложил ничью, я пожал руку, но заметил:
– Тут проиграно.
– Нет. Пешка крайняя, король в квадрате. Оппозиции нет.
Я посмотрел на доску еще раз, посчитал:
– Темп в темп.
Кимыч улыбнулся.
– Темп в темп.
Кимыч ушел, оставив мне ключи от клуба. Напоследок он посмотрел на меня с укоризной. Это из-за того, что я до сих пор не решил этюд. Кимыч подарил мне штук тридцать советских шахматных журналов «64», где много задачек и этюдов. И партий Карпова с Каспаровым. Мы это всё решаем и изучаем.
Едва Кимыч вышел, Антип сел на его место и внимательно на меня посмотрел. А потом взахлеб рассказал про турнир. Шесть классов в параллели, шесть бойцов, каждый с каждым, один на один, после уроков, первый бой завтра, с Арсением Бузыкиным из «Г», за школой на спортплощадке, где турники. Я кивал, потом уточнил:
– А Зюзя?
– У Зюзи усы, конь такой. С ним никто драться не будет.
– Ладно, я в деле.
– Ништяк. Завтра в два. В школе еще словимся.
Антип убежал, а я вспомнил. У меня была тайна. Вот уже полгода. Я никому о ней не рассказывал. Знала только сестра, но ей было пять, поэтому не считается. Каждый день по будням ровно в 14:20 я смотрел сериал «Элен и ребята». Это девчачий сериал, вдруг вы не видели. Там три девушки и три парня живут в Париже, учатся в университете и играют в рок-группе. Все это по отдельности – Париж, универ, рок-группа – было мне не очень интересно, но всё вместе – глаз не отвести. Не знаю, почему я их так любил. Наверное, мне не хватало нежности и дружбы, хотелось в мир без насилия, в мир доброты, где люди красиво улыбаются, смеются, песенки поют. Уже тогда во мне проявилось это свойство – проникать в чужой мир и поселяться в нем, он становился для меня таким же реальным, как мир вокруг. Когда я смотрел «Элен и ребята», я смотрел «Элен и ребята», больше ничего. Никакие звуки из этого мира не долетали до меня, никакие мысли из этого мира не отягощали меня, я будто физически находился там, а не тут. Это был эскапизм, но эскапизм высшей пробы – я не бежал от реальности, я менял одну реальность на другую, как меняют перчатки: раз – белые, раз – черные.
На футбольном поле за школой собралось человек пятьдесят. Я смотрел на песок под ногами, тут и там усеянный острыми камешками. Накануне я волновался и с трудом уснул. Перед соревнованиями со мной происходит то же самое. Раз за разом я прокручиваю в голове сценарии боя. Если он правым прямым, я влево и на скачке в печень, если он джебом, я на подшаге подсеку из приседа, если он лоу-кик, я навстречу маваши гери и так далее и так далее. В иных сценариях я выдавливал сопернику глаза, в других перегрызал глотку, где-то ломал пальцы. Чудовищная смелость этих действий внутренне меня окрыляла и добавляла железобетонной уверенности. Я знал, что в своем желании победить способен зайти дальше моего соперника, а значит, больше заслуживаю победу и непременно ее отпраздную.
Я посмотрел на часы – 14:05. Мой противник опаздывал. Я пнул камешек. Если схватка перейдет в партер, все брюки изорву, надо заканчивать в стойке. Подошел Антип, я отдал ему портфель и часы. Потом вышел в круг. Народ гомонил, но я не вслушивался. Я стал спокойным до флегматичности, сонным даже. Будто организм сам по себе экономил силы для решительных действий.
14:10. Подошел мой соперник Арсений Бузыкин из 7 «Г», встал напротив меня и глуповато завращал кистями, сцепленными в замок. Я пишу «Арсений», потому что он действительно был Арсением, а не Сеней. Блондин, серьезный, чуть повыше меня, спортивный, красивый, с модельной стрижкой и в дорогом костюме из магазина, а не с рынка. Я начал снимать пиджак. Когда он сполз на локти, Арсений метнулся ко мне, схватил за волосы и три раза ударил коленом. Кому-то это покажется подлым, но это не так, просто Арсений меня боялся, вот и решил воспользоваться, а так он хороший. Все заорали. Он думал, что бьет в лицо, но бил в лоб. Он думал, что бьет костью, но бил мягким бедром. Сзади подлетел Антип и сдернул пиджак с моих рук, я тут же оттолкнул Арсения и встал в стойку. Все замолчали. Только Арсений зачем-то заговорил:
– Я тебя щас уделаю, сдавайся лучше.
Арсений стоял в левосторонней стойке, он был левшой. Правая впереди, левая у подбородка. Я был в правосторонней. Сократив дистанцию до средней, я начал отводить правую руку Арсения своей левой. Арсений зачастил:
– Чего ты добиваешься? Сдавайся, я тебя уделаю!
Отведя руку Арсения в третий раз, я пробил правый прямой между рук. Из носа Арсения хлынула кровь. Он обхватил нос двумя руками. Я тут же пробил в печень. Арсений сел на корточки. Я обрушил на него град ударов ногами, Арсений растянулся на песке. Я отступил и огляделся. Антип и все наши улыбались и недружно похлопывали в ладони. Они знали, что я его отделаю, их интриговало, отделаю ли я всех самых-самых из параллели. «Самых-самых» я приплел из фильма «Любовь и поножовщина» с Адриано Челентано. Там в каждом районе Рима были самые-самые, и они занимались такой же ерундой, как и мы, только на ножах, а ведь взрослые вроде люди.
Я еще раз оглядел толпу, которая уже расходилась. На большинстве лиц была грусть несбывшейся надежды. В нашей вселенной Арсений был положительным героем, а я отрицательным. Все классы, кроме моего, хотели, чтобы он победил. Добро победило. Но оно проиграло. С ним это часто.
14:20. Я схватил рюкзак, забрал у Антипа часы и побежал смотреть «Элен и ребята». Там Кри-Кри подсел на наркотики, и я решил, что никогда не подсяду на наркотики. Какая ирония. Через неделю я опять вышел в круг.
Те соревнования я выиграл. Пять драк, пять побед, быстрых и злых, не обременивших меня даже одышкой. Тогда эти победы казались мне подтверждением моей исключительности, торжеством духа. Теперь я понимаю, что торжеством духа было бы отказаться драться, не играть по чужим правилам. Хотя, возможно, лет через пять мне покажется торжеством духа не писать этот роман или, по крайней мере, никогда его не издавать.
Из «Е» класса я исчез так же внезапно, как туда попал. В августе мы играли в футбол, на поле пришел Андрей Хомяков, тихий мальчик с челкой и круглыми щеками, и сказал мне, что нас с ним переводят в 8 «Б». Событие было чудовищным. Во-первых, это был самый умный класс в параллели, а во-вторых, там училась Лена Лопатина – красивая брюнетка с голливудскими зубами, рано повзрослевшей грудью и смуглой, как у цыганки, кожей. Однажды я прочитал «Тараса Бульбу» и вдохновенно пересказал на уроке. Это был разовый случай, когда я что-то прочитал. Наша учительница Вера Павловна Головня рассказала о моем подвиге всей параллели. Через пару дней на перемене к нам зашла Лена в расстегнутой норковой шубе и громко спросила:
– Где Паша Селуков?
Я испуганно признался. Лена подошла ко мне, обняла, прижавшись грудью, и поцеловала в щеку.
– Это за Тараса Бульбу. Молодец.
Разумеется, я тут же в нее влюбился. А теперь представьте – меня переводят в самый умный класс параллели, да еще и к ней! Как это пережить в тринадцать лет? У древних греков есть четыре разновидности любви: эрос, филия, агапэ и сторге. Или эротическая, дружественная, божественно-жертвенная и семейная. Моя любовь к Лене, да и к большинству женщин в моей жизни – это агапэ. Эрос был мне недоступен, ведь в лагерных понятиях секс – инструмент насилия, доминации. Как говаривал мой приятель Пейджер: «Ты что, в живого человека хуй засунул?» Мне казалось, если я пересплю с Леной, она станет частью лагерной тьмы, ее свет померкнет. Лена была моим цыганским божеством, которому я поклонялся. Я не понимал, что Лена созрела, что она хочет иного, я только знал, что «трахают “петухов”». Я искал свет, Бога и нашел этого Бога в Лене.
В 8 «Б» меня невзлюбили все, кроме Лены, – от классной руководительницы Суховой до одноклассников. Как-то они украли на перемене мой портфель и наплевали в него. Я нашел его на высоченном шкафу. Надо было отвечать, и я ответил – избил трех самых крепких одноклассников. На выбор.
Программа «Е» класса сильно отставала от этой, особенно плохо я разбирался в математике, физике и химии. Химичка, женщина лет пятидесяти с лицом тяжелым, как у Татьяны Толстой, и опытом преподавания в ПТУ, к доске меня не вызывала и давала отдельные задания, чтобы я хоть что-то понял. Математичка Сухова и физичка, ее звали Шуша, дергали меня к доске каждый раз. Решить их примеры я не мог, три года у меня практически не было этих предметов. Как-то раз я тянул время до звонка, оставалось пять минут, я очень медленно мыл доску, потом уронил тряпку, нагнулся, чтобы поднять, и как бы нечаянно пнул ее в другой конец класса. Все засмеялись, кто-то громко констатировал:
– Был дебил, теперь клоун.
Все засмеялись еще громче. Лена вскочила, вышла к доске, схватила мел и написала ответ. Класс заткнулся. С того дня мы после уроков сидели с Леной в библиотеке, она помогала мне с предметами. Ей тоже доставалось. Недели через две Сухова позвала меня к доске:
– Селуков. Или ты, Лена, пойдешь?
Кто-то крикнул:
– Лена Селукова!
Мое сердце куда-то ухнуло. Больно уж сладкозвучным оказалось словосочетание. Знаете, я хотел бы составить человеческие портреты Суховой и Шуши, но не могу, ничего человеческого я в них не разглядел.
Все эти придирки, двойки, стояние у доски наверняка озлобили бы меня, и будь это тогда на слуху, я пришел бы в школу с ружьем, но из-за того, что все эти придирки, двойки и стояния у доски подарили мне Лену каждый день на два часа, я был им даже благодарен и с каким-то наслаждением принимал очередное издевательство, стоически его снося и представляя глаза Лены.
В конце восьмого класса за двумя верхними передними зубами у меня выросли еще два зуба. Стоматолог не разрешил их удалять, по его мнению, они должны были вырасти полностью. По моему мнению, я превратился в уродца. Подходя к учителям или к одноклассникам, которые сидели, я разговаривал, почти не открывая рта, чтобы никто не увидел моих дополнительных зубов. Говорил я плохо, неразборчиво. Через неделю меня вызвали к за-вучу, где была и Сухова. Завуч сказала:
– Позови маму завтра к двум. Мы готовим твой перевод в школу для умственно отсталых. Речь у тебя никакая, по предметам двойки.
Сухова добавила:
– Еще и агрессивный. Нечего тебе у нас делать, Паша. Там тебе будет лучше, на твоем уровне.
Я кивнул, вышел из кабинета и сел. Сначала 89-я школа, потом 3 «Г», 5 «Е», 8 «Б», теперь вот умственно отсталая. В умственно отсталую я решил не идти. Задумал уехать автостопом на юг и там что-нибудь придумать. Формулировал я так: обстряпаю там фартовое дело. Поймите правильно, родители меня любили, просто у мамы появилась Даша, моя сестренка, а отец впахивал на двух работах. Я никого не оправдываю, это невозможно хотя бы потому, что я никого не осуждаю. Я уже тогда понял – работать нужно с данностью, в противном случае работать не с чем.
Я сидел на лавке и фантазировал темпераментный грабеж, когда рядом села Лена и бросила на меня обеспокоенный взгляд:
– Что случилось?
– Ничего.
– Я серьезно.
– Меня переводят в школу для умственно отсталых.
С сидячей Леной я говорил нормально, но тут она вскочила, и я стал прятать лишние зубы языком. Лена воскликнула:
– Кто переводит? Почему?
– Вавуч. Плохо голорю.
– Ты только что нормально говорил. Я наблюдала – сидя нормально, стоя шепелявишь. Почему?
– Ни потиму!
Лена шагнула ко мне и обхватила мою голову руками, откинула и подняла вверх. От ее горячих рук во мне все обмерло.
– Открой рот! Быстро открой! А-а-а!
Лена показала, как открыть. Я открыл. Не думал, что так трудно открыть рот. Лена рассмотрела лишние зубы и отпустила меня.
– У тебя лишние зубы выросли?
– Да.
– Поэтому ты так говоришь?
– Да.
Лена обняла мою голову, прижала к себе, поцеловала в затылок, отстранила, заглянула в глаза.
– Дурачок ты мой. Пошли.
– Куда?
– К завучу.
– Лена!
– Паша!
Лена потащила меня за руку в кабинет завуча. Там я второй раз за пять минут обнажил рот. Мне было плевать. Она сказала: дурачок ты мой! Ее!
От меня отстали, перевод не состоялся.
Параллельно школе происходило дзюдо. Я тренировался пять раз в неделю. Школа, дом-уроки, дзюдо, сон. В выходные помогал отцу с машиной, безошибочно считывая его недовольство моим равнодушием к технике. Из происшествий помню только случай в девятом классе. Сестре было семь, мне четырнадцать. Она прибежала с улицы зареванная и с царапиной на щеке. Соседские мальчишки Дима и Ярик, на год меня младше, вымогали у нее деньги на мороженку и поцарапали ножиком щеку. Я спустился вниз и избил обоих. Ярик обкакался, я попал ему носком ботинка в печень, боль его ослабила. У Ярика был брат Серега, на два года меня старше, все детство я его боялся. У него передо мной была психологическая доминанта. Естественно, Серега пришел мстить за брата. Но к тому времени со мной что-то случилось. Я перестал чувствовать себя частью семьи, школы, секции, я понял, что один. Это чувство, когда ничему не принадлежишь, здорово меня освободило. Сереге я прошел в ноги, повалил, взял руку на болевой и вывихнул плечевой сустав.
В девятом классе дела в школе наладились. Вернее, меня перестали замечать, смирились с моим бессмысленным присутствием. Я сидел у турников, курил, подошла Лена.
– Паша, я влюбилась в Сашу Павлюченко! Мы с ним встречаемся.
Я молчал. Саша Павлюченко – это смазливый брюнет годом старше. Отец ему машину дает по району покататься.
– Паш, не делай с ним ничего, ладно?
Я почему-то захотел спать. Будто вся усталость, которую я знал в жизни, легла мне на плечи. Губы сказали:
– Не буду.
– Он классный. Я вас познакомлю. Вы подружитесь.
Я не хотел этого, но Лена все время проводила с Сашей и его компанией, поэтому я покорился и стал гулять вместе с ними. С точки зрения иерархии «Е» класса, Саша и его компания относились к мужикам, а некоторые ниже. Они пили на веранде пиво, я смотрел на них и не мог понять – почему она выбрала его, а не меня, я ведь дерусь лучше!
После школы я часто провожал Лену домой, она жила на другом конце Пролетарки. Мы курили, я нес ее портфель. Мы не обсуждали, но, кажется, нам обоим эта старомодность казалась милой и какой-то сближающей. В этом изменчивом мире мы могли, по крайней мере, опереться на Ленин портфель в моих руках.
Возле Лениного дома мы зашли в киоск «Сюрприз» и купили сигареты, моя пачка закончилась. На выходе к нам прицепились старшаки – Жданов и Вова Бумага. Жданов был высоким и тощим. Он так быстро говорил, что понимали его только избранные. Вова был обычный, но с такими ушами, будто взлетит. Оба были старше меня на два года. Бумага попросил:
– Угости сигаретой.
Я раскрыл пачку, Бумага ловко вытащил почти все сигареты, после чего они с Ждановым быстро ушли. Я растерялся и, получается, позволил себя отжать. Я, получается, лох. Это было немыслимо. Лена высказалась:
– Блин, да забей на них! Купить сигареты?
Я помотал головой. Лена поцеловала меня в щеку, взяла портфель и ушла. Я умер от стыда и пошел домой, где взял подкову, нож, переоделся в спортивное и через полчаса нашел Жданова, Вову и Илью Поносова на пятаке. Не мешкая, я подсек Жданова и ударил подковой Вову. Подковой получилось по касательной, Вова сел на задницу. Жданов упал, но тут же вскочил. Я достал нож. Жданов, Вова и Поносов бросились бежать, я бежал за ними, но передумал.
Кому-то может показаться чрезмерной такая реакция на отобранные сигареты, но никаких сигарет не было, было унижение на глазах любимой женщины. Помню, в голове звенела грозная пустота, и заполнить ее могла только месть. Если б дошло, я бы не задумываясь ударил ножом любого из них. Ну, кроме Ильи, он ни при чем. Единственное, за что я себя ценил, если не сказать – терпел, это храбрость и умение драться. Эти двое попытались украсть мою суть.
На следующей день после школы меня ждали Панц и Пейджер – старшаки. Они тоже были из «Е», только этажом выше. Через полгода Панц и мой одноклассник Витя Зюзя Чупа-чупс напьются бормотухи и полезут грабить квартиру на второй этаж в бараках. В квартире будут муж и беременная жена. Муж возьмет топор, убьет Витю, голова повиснет на лоскуте кожи, как у Почти Безголового Ника, Панц выживет, отделается титановой пластиной в голове. Тогда его и станут звать Панцем от слова «панцирь», а сейчас я зову его Панц, потому что не помню, как его звали до топора. Топор дал Вите надгробие, а Панцу – имя. Довольно щедрый топор.
Пока же Пейджер преградил мне дорогу и сказал:
– В восемь вечера на пятаке у почты.
Панц присовокупил:
– Лучше сразу закусон неси и пойло.
Так мне забили первую в жизни стрелку. Звать с собой мне было некого, да я и не хотел. Нож, подкова, спортивный костюм. Я, наверное, боялся, просто надвигающийся новый опыт, казавшийся мне колоссальным, растворил страх, превратив его в волнение, как перед соревнованиями.
До стрелки оставалось пятнадцать минут. Я сидел во дворе соседнего с почтой дома, настраивался. Я знал, что старшаков будет толпа, знал, что повалят и будут пинать, но надеялся зацепить хоть кого-то.
Из подъезда вышел парень лет восемнадцати и сел рядом. Я нагнулся завязать шнурки – из джинсовки выпал отцовский охотничий нож. Парень отреагировал:
– На охоту собрался?
– Нет.
– А куда?
– Есть дело.
– Какое?
Я посмотрел на парня – чернявый, гибкий, смуглый и с таким телом, какое бывает, когда много подтягиваешься на турнике. Черная водолазка с горлом, черные джинсы, черные тупоносые туфли. Цыган? Видимо, оттого что парень был мне не знаком, я выложил ему всё. Общеизвестно – быть откровенным с незнакомцем легче, чем с женой. Нет контекста, то бишь истории, а раз нет истории, то нет и героев, а раз нет героев, то и больно делать некому, а раз некому, то можно говорить что думаешь, не опасаясь. Иногда мне кажется, что чужой боли мы боимся больше, чем собственной.
Парень посмотрел на меня внимательно, его черные глаза заблестели. Протянул руку.
– Олег.
Я пожал. Твердая, как перила.
– Спортик. Эээ… Паша.
– Я щас домой забегу, дождись меня.
Я кивнул. Олег ушел. Через пять минут он вернулся с пластиковой бутылкой из-под лимонада «Уралочка» и дал ее мне. Я уставился:
– Это что?
– Вода. Подойдешь на пятак и скажешь: «Пейджер, ты хотел бутылку, вот бутылка, Панц, ты хотел пойла, вот пойло». Повтори.
Я повторил, но у меня были возражения.
– Меня убьют.
– Just do it.
– Чё?
– Просто сделай это. При твоих раскладах это лучший вариант.
Олег посмотрел на часы. Они были массивными, блестящими, я раньше таких не видел.
– Мне пора. Удачи.
Я остался один. Спрятал бутылку в карман. Достал нож из ножен, опустил его лезвием вниз во внутренний карман джинсовки, встал, переложил подкову в задний карман боком, чтобы сразу легла в руку. Я устал ждать, я хотел, чтобы уже состоялась эта стрелка, чтобы меня побили, убили, я бы попал в кого-то подковой, воткнул нож, пусть будет больница, тюрьма, смерть, лишь бы действия, лишь бы я вышел из предбанника ожидания, муки воображения.
Я посмотрел на часы. У меня они командирские, желтые, дедушка подарил. Это сейчас я могу называть его «дедушка», а тогда он был для меня исключительно «дед». Дед родился в 1947 году от мамы, которую знал, и от офицера, которого так никогда и не увидит. Офицер, узнав о беременности уже в Москве, он был родом оттуда, напишет прабабушке письмо, предложит помогать деньгами. Прабабушка откажется. Она была гордой, глупой и молодой. Дальше бараки, Мотовилихинские заводы, тяжелый героический путь матери-одиночки. Правда, героический и тяжелый он только снаружи, изнутри баба Рита не унывала – ходила на заводские дискотеки, пыталась обрести личную жизнь, пела деду перед сном «Журавлей» и «Катюшу». Дед был не только ее ребенком, он был ребенком барака. Каждый сидел с ним понемножку, каждый что-то ему говорил, как-то воспитывал. В четырнадцать лет дед бросил школу и пошел на завод. В шестнадцать он встретил мою бабушку, она была двумя годами старше, они скоропалительно поженились. С точки зрения нашей эпохи скоропалительно, с точки зрения их эпохи все было естественно. Через два года дед ушел в армию и попал в ВДВ. Тогда дедовщины не было, поэтому дед прыгал с парашютом, а не красил газоны. Напрыгал он шестьдесят прыжков, чем всю жизнь гордился. Голубой берет и значок парашютиста извлекались из шкафа каждое 2 августа и водружались на свои места с физической значительностью. Пока дед был в армии, через девять месяцев, как он ушел, бабушка родила мою маму. Ее назвали Лена. Из армии дед пришел через три года. Его попросили остаться на год инструктором, и он остался. Пришел дед не с пустыми руками – купил по дороге килограмм лимончиков. Это такие желтые дешевые конфеты в сахаре. Взяв одну в руку и пососав, мама швырнула конфету на пол и захныкала. Бабушка вручила деду мусор и лимончики.
– Выбрось. Лена ест только шоколадные.
Бабушка не знала, какую очередь отстоял дед за этими конфетами и как корил себя за дополнительный год. Он и согласился-то из-за полковника Арсеньева, который прошел всю войну, герой Сталинграда, Берлин брал, таким людям не отказывают, но надо было отказать. Стоя посреди кухни с мусорным ведром и лимончиками, дед почувствовал, что потерял семью. Конечно, это было не так, постепенно бабушка, он и моя мама сложатся. Но сложатся криво. Каждый раз, продавливая что-то свое, дед будет орать. Это нельзя назвать абьюзом, скорее это крик сидящего в очереди, которого пытаются оттереть от кабинета. Дед отчаянно хотел быть отцом и мужем, просто ему повсюду мерещилось покушение на эти статусы, и он с этими покушениями нервно воевал. Со временем бабушка научилась предупреждать и гасить эти вспышки, воевать с ней деду стало неинтересно, он проигрывал, поэтому он переключился на дочь, потом на вторую дочь – Марину, но и с девчонками воевать было неинтересно, затем появился мой отец, с ним дед повоевал недолго, отец мог просто его убить, но зато, когда родился я, у деда появился идеальный объект для воспитания, утверждения. Не скажу, что дед ко мне как-то особо цеплялся, просто он подмечал мои несовершенства и незамедлительно об этом сообщал с довольным лицом. К пятнадцати я стал совершенен – пиджак не мят, рубашка бела, туфли сияют, ногти не обкусаны, волосы расчесаны, уши почищены, пушок на лице сбрит.
Посмотрев на часы, я вспомнил про деда, не про все, что я сейчас написал, а про шестьдесят прыжков с парашютом. Он падал в бездну, а я к людям боюсь идти? Сижу тут, как мороженая рыба. Я сунул руку в джинсовку и сжал нож. Кинутся – бей! И подковой. Прямыми, коротко. И пяться. Не по прямой, зигзагами. Не беги. А если побежишь, подпусти поближе и присядь, споткнутся – добьешь. Палку бы. Загонят – лезь на дерево. Кирпичом еще попасть надо. А с дерева на гараж и во весь опор, потом на заброшенную стройку, оттуда на кран, там по стреле и по тросу вниз, пускай-ка повторят! Я засмеялся всем этим воображалкам, выдохнул, встал и пошел на пятак.
На пятаке собралось человек двадцать – спортивные костюмы и куртки из свиной кожи, крупнопористые, с привкусом фальши. Были тут Жданов, Вова Бумага, Илья Поносов, Панц, Пейджер, еще кто-то, не вспомню, и старшак Дима Цаплин, ему двадцать три года, на КАМАЗе работает. Рядом с ним стояла Лена, она его обнимала, когда я подошел, они поцеловались, я глазам не поверил.
– Ты же с Сашей?!
– Была. Ну, параллельно. Я тебе не говорила, чтобы ты не проболтался. Как с итальянцем.
Лена ездила летом в Болгарию и рассказала мне, что потеряла девственность с итальянцем. Попросила никому не говорить, а я всем растрепал. Мне было плохо, я хотел лететь в Италию и убить всех Джованни, так его звали.
На передний план выступили Панц и Пейджер. Жданов и Вова Бумага стояли рядом. Жданов спросил:
– Ты чё на нас напал?
– А чё он сигареты у меня забрал. При ней.
Я кивнул на Вову и Лену. Жданов продолжил:
– Ты по фазе поехал? С ножом из-за сигарет.
– А ты не трогай чужое, и ножа не будет.
Пейджеру надоело.
– Хорош этот треш-меш. Принес чё-нить?
Я достал бутылку, протянул Пейджеру.
– Пейджер, ты хотел бутылку, вот бутылка, Панц, ты хотел пойло, вот пойло.
Пейджер отреагировал:
– Синдикат?
Я промолчал. Синдикатом на Пролетарке называют бормотуху. Толпа сгустилась, как туча. Я посмотрел на Лену. От нее помощи не жди. Ей пятнадцать, ему двадцать три, Лена млела. Рука Цаплина была за ее спиной, но вряд ли на спине.
Пейджер открыл бутылку и глотнул, тут же сплюнув на асфальт. Он был в ярости.
– Тут вода! Ну всё, пиздец тебе!
Пейджер отшвырнул бутылку. Туча стала грозовой, я достал нож и подкову. Вова бросился к лавке и прибежал с тремя арматурными прутами, один оставил себе, а два других сунул Пейджеру и Панцу. Приготовились. На короткую секунду мне это польстило. Я прижался спиной к забору садика. Перелезть я не успевал, бежать было некуда. Пейджер замахнулся, я выставил нож, надеясь принять прут на гарду, но это была обманка, Пейджер ударил по ногам, каким-то чудом я успел подпрыгнуть. Раздался резкий властный свист. Будто Соловей-разбойник свистел купцам незначительной гильдии. Все обернулись, а я видел и без этого – к нам шел Олег, а за ним еще человек пятнадцать, все в черной одежде. Олег рассек толпу и встал рядом со мной, остальные тоже заняли мою сторону. У «цаплинских» вид был ошарашенный, будто они смотрели один фильм, а начался другой. Где главные герои не они. Паузу прервал Олег:
– О чем трем?
Жданов высказался фальцетом:
– С ножом на нас бросился!
Олег заметил:
– Я бы тоже бросился. Вы у него сигареты отжали при девушке. Беспредельщики.
Слово «беспредельщики» ухнуло в наш водоем, как голый мужик в прорубь. Заговорил Цаплин:
– Олег, пусть сами решают.
– Пусть. А чё ты тут делаешь тогда?
Олег посмотрел на Лену:
– Тебе сколько лет?
– Пятнадцать.
Олег удивленно посмотрел на Цаплина:
– Ты охуел?
– Чё?
– Ей пятнадцать! Возраст согласия шестнадцать! Ты педофил?
– Олег, да ты посмотри на нее!
Олег посмотрел:
– Домой! Еще раз с ним увижу – на голову наступлю.
Лена испуганно ушла. Все стояли будто загипнотизированные. Олег шагнул к Пейджеру и Панцу.
Пейджеру:
– Тебе бутылку принесли?
– Да.
– Ты доволен?
– Да.
Пейджер смотрел за плечо Олега, словно кого-то там высматривал.
Олег обратился к Панцу:
– Ты пойло хотел. Напился?
Панц наклонил голову вбок и сделался беззащитным, как ребенок. Мне было его даже жалко.
– Напился.
Олег возвысил голос:
– Есть еще претензии к пацану, или вопрос исчерпан?
Туча медленно расползалась на облака, все уходили, как будто по своим делам.
Цаплин нашел в себе силы ответить:
– Исчерпан.
Так я стал человеком Олега или «воронцовским» – фамилия Олега была Воронцов. Тогда я не знал аббревиатуры ОПГ, но скоро узнаю. До сих пор, глядя на тот отрезок жизни, я вижу его то в извиняющем, то в осуждающем свете, и каждый такой взгляд в минуту взгляда кажется мне объективным. «Нет, мы не были ОПГ!» «Господи, мы были ОПГ!» Надеюсь, письменное изложение тех событий поможет мне преодолеть искажения памяти, и я увижу правду.
После стрелки мы пошли на веранду. Не все, а, как я понял, ближний круг. Невысокий коренастый парень с громким и каким-то оскорбляющим все сущее голосом предложил «взять топлива». Парня звали Дюс. Сначала он был Андреем, потом Дрюпой, затем Дюшей и в конце концов стал Дюсом. Олег дал ему две тысячи, отсчитав их из пачки. Я видел пачку отца, когда он приходил с зарплатой, его пачка была в два раза меньше. С Дюсом пошли братья Завьяловы – Лёха и Миша. Они были близнецами, но не двойняшками. В их облике было аккуратно все – от ботинок и ногтей до стрижек и приглаженных воротников футболок поло. Оба благоухали резковатой парфюмерной водой, именно парфюмерной, а не туалетной, потому что парфюмерная дольше держит запах, все пацаны пользуются парфюмерной, туалетной «прыскаются фраеры». Лёха то и дело доставал расческу и расчесывал не нуждающиеся волосы. Миша поправлял складку на джинсах у ботинок, а потом поставил ботинок на лавку и полюбовался на него в профиль. Он недавно их купил. Ботинки фирмы Timberland. Это было очень важно. Спортивный костюм обязательно Nike, причем они говорили не «Найк», как мы все, а «Найки». Когда появится интернет, я случайно узнаю, что они говорили правильно. Зимой они носили тонкие дубленки из «Снежной Королевы» и штаны фирмы Columbia. Не было интернета, не было Lamoda, но они откуда-то всё это знали. Читали глянцевые журналы? Тогда я не спросил, а сейчас уже поздно.
Когда Дюс, Миша и Лёха ушли, на веранде остались я, Олег и Ильяз. Ильяз был коренастым круглолицым татарином с бледной мучнистой кожей. Он подкалывал всех, кроме Олега. Позже, наблюдая за ним, я пойму, что он не участвует в общей беседе как бескорыстный участник, он ищет, кого бы подколоть. Если б Ильяз был поляком, его фамилия была бы Издевальски. Своим поведением Ильяз довел всех нас до странной формы любви. Когда его выбор падал не на тебя, ты выдыхал и даже любил его за такой выбор. Приколы Ильяза не носили чересчур обидный характер, он тонко чувствовал грань, за которой может последовать мордобой. Например, он удачно пошутил, и Дюс подставил ему ладонь, чтобы Ильяз дал ему «пять». Ильяз замахнулся, но в последний момент замер и спросил:
– Ты не дрочил сегодня?
Дюс сдулся, его прекраснодушный порыв опал вместе с рукой. Однажды я рассказывал Ильязу про Лену, какая она умная, интересная и все такое. Я увлекся, говорил с жаром, махал руками, Ильяз благодушно кивал. Потом он посмотрел на меня и сказал:
– Зачем ты мне это рассказываешь? Мне неинтересно.
Я будто налетел лицом на стену. Ильяз и был стеной. Стеной, о которую разбивались чистые, иногда глупые, но подлинные порывы. Вскоре я возненавижу его. Он станет мне неприятен, как острый камешек в ботинке. Я захочу его вытряхнуть.
А тогда, на веранде, пацаны притащили ящик пива, две водки и закуску. Олег протянул мне бутылку пива, я взял, открыл и сделал пару глотков с таким видом, будто до этого уже пил. Я не любил алкоголь, но тут попал под власть момента и хотел быть таким же взрослым и уверенным, как все вокруг. Вряд ли в тот момент я стал алкоголиком, хотя так и вижу весело переглядывающиеся отцовские гены. Да и путь к своему алкоголизму я начал, наверное, не тогда. Но вот связка алкоголь = отдых начала оформляться в тот день, больно уж приятно было стоять со старшаками, рассказывать им, как отметелил Жданова и Вову, и ловить одобрительные взгляды, похвалу. Я нуждался в похвале. Мама хвалила меня, но по таким поводам и так избыточно, что я давно пропускал ее похвалу мимо ушей. Папа не хвалил меня никогда. Этого мимо ушей я не пропускал. Отец требовал – быстрее, выше, сильнее. Я умирал в зале, отжимался дома на кулаках, истязал себя на турнике так, что к вечеру у меня тряслись руки, а мозоли были такими, что однажды Олег скажет: «Как девку по титьке гладить будешь? Поцарапаешь». Постепенно закрадывалась мысль, что я никогда не стану предметом отцовской гордости, что бы я ни делал. Но пока я стоял на веранде и купался в похвале, как дельфин в Средиземном море.
Олег почти не пил. За весь вечер он выпил две бутылки легкого мексиканского пива. Я – столько же. Как это бывает в компаниях, пьяные сплотились с пьяными, наслаждаясь общей волной, а трезвые с трезвыми. Олег расспросил меня про дзюдо, друзей, девушек, родителей.
Мама занята была сестрой, Даше было семь лет, красивая, я любил ее, но почему-то чужая. Я буду заботиться о ней, делать все, что полагается старшему брату, но так и не смогу сделать ее своей. Помню ее вкруг правильной отличницей, смотревшей на меня с легкой ноткой осуждения. С возрастом ничего не изменится, просто осуждать меня будут не за пьянки и драки, а за незнание феминизма, абьюзивность и насмешливое отношение к сексуальным меньшинствам. Когда же во мне откроется талант к литературе, взгляд сестры обретет обидчивое непонимание: как талант мог достаться дикарю, вместо того чтобы свалиться в ее прогрессивную голову? Хотя в ее голове талант тоже был – она неплохо писала, ясно думала, любила придумывать и точно писать. Просто знания, которые она получила на журфаке, сообщили ей не уверенность, а сомнения. Иной раз даже по поводу каждого написанного ею предложения, не говоря уже о ее роли в литературе. Поэтому ее нелюбовь ко мне была и общеупотребительной нелюбовью всех образованных людей к выскочкам или, как меня назовут, самородкам. Так мне кажется в иной раз, потому что в другой мы часами говорим с ней по телефону, вместе придумываем сценарий, фантазируем, нам очень хорошо.
Отец работал на двух работах – сварщиком и автослесарем, а по вечерам пил на кухне. Он работал так уже десять лет и наглухо выгорел, видимо, алкоголь отыскивал в нем хоть какую-то жизнь, скрытые резервы, заставляя тело продолжать свой путь. Он пил и раньше, но это было радостное питьё, от избытка. Он интересовался моим карате, Дашиными оценками, выбирался с матерью в театр, но в последний год он утратил интерес ко всему, кроме работы. Помню корявые пальцы с мазутом под ногтями, будто выросшие из земли, и как он сидел на кухне, поглощая пачку «Чайковских» пельменей, щедро запивая их пивом «Рифей» и густо обмакивая каждый пельмень в майонез. Я приходил на кухню, садился напротив и рассказывал отцу про соревнования, школьные дела, Лену, а он молчал, изредка хмыкая в ответ. Я чувствовал, хоть и не понимал – наша семья разваливается, и пытался склеить ее своей болтовней, создать видимость нормальности, заговорить судьбу. Однажды, напившись – отец мог выпить бутылок десять, он стал разговаривать с невидимыми людьми. С каким-то Лёней Уткиным и Юрой Диким. Я обалдел и побежал к маме. Вместе мы вернулись. Она взяла отца под руку и потащила спать, я взял под другую. Повалившись в кровать, отец забормотал, вскрикнул, обнял жгут одеяла ногами и тут же уснул, сжав подушку пальцами, будто схватил кого-то за волосы. Мы с мамой ушли на кухню, сели за стол. Я спросил:
– Это что было?
Мама внезапно отпила из папиной бутылки и ответила:
– Твой отец воевал в Афганистане.
Бутылка в маминой руке шокировала меня больше новости про Афганистан. Мама отпила еще и закончила:
– Лёня Уткин и Юра Дикий погибли под Кандагаром.
Мама ушла. Я смотрел на пивные бутылки, стоявшие по соседству с тарелками, перечницей, солонкой, корзинкой с белым хлебом, вазой, там болталась засохшая хризантема, отец каждую неделю дарил маме цветок – и чем дольше я смотрел, тем нелепее, чужероднее, страшнее выглядели эти бутылки, будто Эдвард Мунк нарисовал своего уродца посреди «Радуги» Куинджи.
Конечно, всего этого я не рассказал Олегу, отделавшись общими фразами и заострившись только на дзюдо. Олег выслушал и вдруг спросил:
– Денег хватает в семье?
Я смутился, но ответил честно:
– Нет.
– Могу на кладбище к себе взять, на лето. У меня отец смотритель, я бригадир.
– На «Северное»?
– На «Банную Гору». Это в Лёвшино.
– Я знаю. У меня там родня.
– Тем более.
– А сколько по деньгам?
– Пятнадцать. С шабашками.
Я переваривал. Мой отец со всеми своими работами столько не получал. Тут надо оговориться: цифры я точно не помню. Но раз уж это роман-воспоминание, пусть так и будет. Но согласился я не из-за денег. В «Е» классе я жил в напряжении, в любую минуту готовый отстоять себя. В «Б» классе меня травили, я был одинок и не спятил только благодаря Лене. А тут мне было комфортно, рядом с Олегом, с пацанами я чувствовал себя в безопасности, как-то расслабленно, легко. Может быть, это было пиво, но вряд ли только пиво, оно разве что усилило эффект. Я чувствовал себя ровней. Не выше, не ниже. Я нашел свое место. Сейчас эти рассуждения кажутся наивными, но тогда я был счастлив и пенился, как пиво, захлебываясь историями, которые мне некому было рассказать. Я стал частью чего-то большого, частью силы, и сам стал силой.
На кладбище мы уезжали в восемь утра с пятака возле круглосуточного магазина «Агат». Когда я объявил родителям о летней подработке, отец обрадовался – наконец-то еще кто-то в этой семье будет работать, а мама попыталась отговорить, но, встретив отпор, сразу сдалась. Она потеряла меня в пятом классе. В лагерных понятиях мать существо священное, но бесполезное и ничего не решающее. К ней, конечно, бегут из лагеря, когда она при смерти, как в песне Кучина «Человек в телогрейке», однако никаких дел с ней не обсуждают и мнения не спрашивают. Для меня мать стала прислугой, над которой я повесил вопрос: «Почему ты не работаешь?» Сестре семь, мне четырнадцать, а ты сидишь дома. Вслух я этого не озвучивал, и оттого, что не озвучивал, этот вопрос как бы забродил во мне, отравив ум, так что я даже стал подспудно винить мать в пьянстве отца и в том, что у нас всё так. А у нас всё было именно так: рваные обои, драный линолеум, а еще мать завела тойтерьера Банди, по ее плану песик должен был смягчить черствого и злого отца. Понимаете, в чем дело? Вместо того, чтобы пойти на работу и разгрузить папу, она завела собаку. А знаете, почему она это сделала? Потому что ей нужен добрый и ласковый муж. Ей. Нужен. По ее логике, папа был злым из-за отсутствия чертова пса. Зимой Банди отказался гулять, у него мерзли тощие лапы. Постепенно, как у нас водится, на прогулки все забили, и он стал ссать прямо на линолеум. Я пытался его выводить, но мне было противно, это не моя собака, со мной даже не посоветовались, заводить ее или нет, почему я должен с ним гулять?! По ночам я часто влипал ногой в мочу, идя в туалет или попить. Ощущение внезапно мокрой ноги доводило меня до бешенства, и скоро я стал смотреть на Банди с анатомическим интересом. Может, сломать ему шею и сказать всем, что он неудачно спрыгнул с дивана? Мыслей этих я тут же стыдился и бросался обнимать и целовать Банди. Ни отец, ни мать, ни сестра не вызывали во мне таких богатых чувств, как этот пес. Какой-то достоевский пес.
На пятак я пришел заранее с рабочей одеждой в пакете и баночками еды. К пятаку подъехала новая «тойота», за рулем сидел Олег, на переднем сиденье Лёша. Я сел назад – к Мише и Дюсу. Ильяз ездил на своей машине, чему я искренне обрадовался. «Тойота» произвела на меня впечатление. Мой отец ездил на «фольксвагене» моего – 1986 – года рождения.
Олег включил мистера Кредо, и мы понеслись. Окна были открыты, ветер выдувал слова, поэтому никто не разговаривал. Была суббота. Пустая дорога отсвечивала мокроватым асфальтом. Олег разогнался до ста восьмидесяти километров. Я никогда не ощущал такой скорости, внутри поднималось ликование, как у щенка, выпущенного на улицу после долгого заточения. Мимо пролетали корабельные сосны, сливаясь в зеленую стену с просветами. Слева меня подпирало крепкое плечо Дюса, вдруг показавшееся родным. Мы будто стали сообщниками скорости, солнечного утра, льющейся музыки. Это была такая свобода, что я захотел прочувствовать ее сильнее и высунул руку в окно, подставив ладонь тугим струям воздуха. Дюс наклонился к моему уху:
– А если пчела?
Я представил пчелу, пронзающую мою ладонь, как пуля, и подумал – пусть.
Работа на кладбище была простой по мысли и сложной по исполнению. Я получил должность «негра». Звучит неполиткорректно, но куда деваться? Я вытаскивал старые памятники и ветки из кварталов, помогал заливать опалубки, устанавливать памятники и копать могилы. Все это осложнялось тем, что кладбище находилось в сосновом лесу, а не в поле, как «Северное». Шоссе поблизости было неоживленным, и деревья, хоть и мешали, создавали приятную тишину, густую, как кроны, такой тишины не испытаешь в городе. В конце кладбища стояла административная изба. Там сидел отец Олега Иван Петрович, он был невысок, с аккуратными усами щеточкой, в вечной кожаной куртке. Ездил Иван Петрович на «Ягуаре». Мне очень понравился значок на капоте – вытянувшийся в прыжке стальной ягуар. В административной избе было две комнаты – приемная и для отдыха. В последней стоял диван, в котором лежали бутылки водки, кладбищенский запас. Водку отдавали родственники умерших в благодарность за похороны. Еще они отдавали еду, в основном колбасу, и деньги, но деньги изредка. Весь этот улов в конце дня сваливался на стол и делился на всех, часть водки шла в диван, дожидаясь дней рождения, Первомая, Дня Победы или настроения.
Через неделю я попал на свои первые похороны. Дюс позвал меня помогать с могилой. Я легко втянулся в работу. Мне нравилось, что моя сила приносит пользу, а не просто сбивает кого-то с ног. И еще мне нравилось, что каждый раз Олег подробно объяснял новую задачу. «Эти ветки надо вытащить. Много не бери, чтоб над памятниками поднять, а то поцарапаешь портреты». Или: «Бери лопату и толкай щебень на Дюса. И запоминай. Когда цемент, когда вода, сколько. Потом один будешь мешать». Или: «Старые памятники надо из оврага к избе стаскать. Стремные в кучу кидай, а хорошие ставь отдельно. Подшаманим их и на продажу. Долю получишь».
На свежем воздухе работалось легко и как-то… не за деньги. А когда Дюс позвал меня на могилу, я и вовсе побежал, давно хотел увидеть суть этого места.
Дюсу попалась трудная могила или, как он говорил, ёбнутая. Толстые корни сосен перерезали ее тут и там, а когда мы их спилили и почти дошли до нужной глубины, пошла вода. Дюс выругался:
– Блядь! Теперь при клиентах докапывать.
– А сейчас?
– Еще больше воды будет. Вычерпай.
Дюс дал мне ведро, я спрыгнул в могилу и вычерпал воду. Намокнув, глина превратилась в пасть чудовища, и мне стало грустно, что человек ляжет в такие условия.
Через два часа на кладбище появилась кавалькада машин. Блестящий катафалк следовал во главе. Мы с Дюсом переглянулись. Даже я знал, что у нас гробы привозят пазики, а не катафалки из американских фильмов. Четверо мужчин в белых перчатках и черных классических костюмах открыли багажник, достали гроб и понесли к нам. За гробом шла родня. Я отметил высокого мужчину лет сорока с властным надменным лицом. Рядом с ним шла женщина в черной шляпке с вуалью, она опиралась на руку мужчины.
Гроб поднесли к могиле и поставили на лавку. Он был из черного полированного дуба с серебряными ручками. Такие гробы не заколачивают, у них есть специальные затворы. Дюс шепнул:
– Как машина сто́ит.
Родня покойника взяла могилу в плотное кольцо. Седой подвел Шляпку к лавке по соседству, с легким нажимом усадил, а сам подошел к могиле.
– Почему тут вода?
Дюс ответил:
– Грунтовые воды близко. Сейчас докопаем и похороним. Прощаться будете?
Седой помедлил и кивнул, мы с Дюсом открыли крышку гроба. Внутри была девчонка моего возраста в розовом платье, похожем на балетную пачку. Я попятился и упал в могилу. Кто-то ахнул. Дюс положил лопату поперек, я подтянулся и вылез. Мы отошли в сторону. К нам подошел Седой.
– Ее убили в Пальниках, у нас дом там. Найдете ублюдка – десять штук баксов сразу, не глядя! Поняли?
Мы с Дюсом кивнули. Мы оба были растеряны. Дюс вспомнил про могилу, схватил лопату и спрыгнул, быстро докопав оставшиеся двадцать сантиметров. По ГОСТу глубина могилы должна быть метр двадцать. На лопатах у нас были насечки, с помощью которых мы измеряли глубину и ширину.
Закрыв гроб, мы переставили его на глиняную кучу возле могилы. Потом завели под гроб тонкие канаты и спустили его вниз, сначала заведя ноги, потом опустив голову. Пока мы это делали, вокруг заплакали и запричитали женщины. Я глянул на женщину в шляпке – она легла на лавку боком и закрыла лицо, в правой руке был зажат белый платок. В небе закричали вороны. Хотелось быстрее с этим покончить. Из катафалка принесли могучий дубовый крест. Дюс поставил его в ноги покойной, велел мне держать и стал набрасывать землю и делать холм – пристукивать землю лопатой. На табличке была фотография, на ней Анна Николаевна Затонская отдыхала на море. Старше меня на год – 1985 года рождения. За ним шел год смерти – 2000-й.
Вечером на кладбище приехал Иван Петрович, он часто уезжал по делам. Иван Петрович рассказал нам, что в Лёвшино завелся маньяк. Неделю тому назад пропала девочка, сегодня ее нашли в лесу мертвой. Наша покойница Анна Николавна – я почему-то про себя называл ее так, а не по имени – была его второй жертвой. Дальше события стали уплотняться в какую-то черную дыру. По соседству с кладбищем была психиатрическая больница с таким же названием – «Банная Гора». Оттуда сбежал сумасшедший, это случилось через день после похорон. Еще через два дня в больницу загремел наш ночной сторож Петрович – седой старик с золотыми зубами и народной хитростью в глазах. Пришлось распределить ночные смены между мной, Олегом, Ильязом, Дюсом, Мишей и Лёшей. Если б ко мне пришел четырнадцатилетний сын и сказал, что пойдет работать на кладбище, да еще будет там по ночам дежурить, я бы лучше руку себе отгрыз, чем разрешил ему. Но тогда было особенное время, или я рос в особенной семье, мне разрешили легко, будто так и надо. На этом события сгущаться не прекратили, через три дня, как слег Петрович, у нас ночью украли пять медных памятников. Вырвали их из почвы и увезли вместе с табличками. Иван Петрович ввел ночные обходы кладбища каждые два часа, при себе иметь топор и фонарик. Еще через день родила наша кошка Мурка. Встал вопрос – кто будет топить котят? Все отказались. Вызвался я. Мне казалось, что этим поступком я завоюю авторитет, покажу силу. На самом деле я просто брякнул. Помните, в фильме «Спартак» римлянин спрашивает: кто Спартак? – и мужик, который не Спартак, встает и говорит, что он Спартак. Я тоже хотел избавить пацанов от этой участи. Вызвать огонь на себя.
Все уехали. Я взял коробку с тремя котятами и вынес во двор, к ведру воды. Посмотрел на них, один в полосочку, погладил, разозлился непонятно из-за чего и побросал их в ведро. Я думал, они сами утонут, а они не тонули, барахтались. Тогда я обхватил их и утопил. Минуту держал на дне. Помню свои руки и мокрые головки котят торчат с открытыми ртами, и скреблись еще лапками о костяшки. Потом, смотрю, языки вывалились и лапки опали. Убил. Главное, так и подумал – убил. Схватил ведро, отнес за избу, вырыл яму и вылил котят. Один заерзал. Снова, думаю, что ли его топить? В голове пусто и болит. Забросал землей, как собака, не соображаю, руки делают что-то, очнулся – холм, будто ребенок похоронен. Камней натаскал еще, крест сколотил из досок, белых таких, воткнул, ушел в избу, лег на лицо, завздрагивал. Я в ту ночь дежурил. Отчасти я поэтому и вызвался. На меня подействовало, что Муркой Петрович занимался, кормил ее и клещей пинцетом вывинчивал. А сейчас я за него, а раз я, то и с Муркой мне решать.
Может, ничего бы и не случилось, но Мурка эта стала вокруг избы ходить и орать. Я сразу подумал, что она котят своих ищет, которых я убил. И гроза началась, потемнело все, ветер соснами заскрипел пронзительно, зловеще. Мне все вокруг стало зловещим казаться, а еще на обход идти. Я к обходам ответственно относился, засекал время и шел на кладбище каждые два часа. Чтобы нервы унять, я полстакана водки саданул. Сидит такой четырнадцатилетний ребенок в избе, пьет водку, на столе топор и фонарик, гроза, кошка орет, а он плачет, что котят погубил, лучше бы домой взял.
Гроза прошла, сгустилась ночь. Я шмякнул еще треть стакана, взял топор, фонарик и пошел на обход. Я боялся этих обходов, не воров, которые памятники крадут, людей я тогда не боялся, меня пугала темнота и атмосфера, выкрики ворон, скрипы сосен, из-за туч появившаяся луна. В первый раз я по колено провалился в могилу, свежая была, холм не над могилой сделали, сместили, вот я в рыхлую землю и попал. Чуть на топор не напоролся. В этот раз я шел по кладбищу очень уверенно. Я нафантазировал, что встречу грабителей и отметелю их, как бы искупив убитых котят. А потом я стал представлять, что встречу маньяка, одолею его и получу десять тысяч баксов, но, главное, отомщу за Анну Николавну, сведу его в могилу. Помню, я крепко сжимал топор и представлял, как бью, если он бросится оттуда, или оттуда, или со спины. Поэтому я даже не понял, что произошло, когда из-за ограды на меня кто-то метнулся, просто сделал то, что представлял. Я держал топор за кончик рукояти. Ударил по дуге сбоку. Топор вырвало из рук. Я рефлекторно посветил фонариком. На тропинке лежал мужик в пижаме сумасшедшего дома. Топор прорубил висок, застрял. Правый глаз вытекал из глазницы. Я прорубил голову почти до середины.
В избе был стационарный телефон. Я позвонил Олегу. Долго слушал гудки. Потом Олег ответил. Разговор был коротким:
– Это Паша. Я убил человека. Серьезно.
Молчание.
– Еду. Никуда не уходи.
Я не плакал. Видимо, включился инстинкт выживания. Я только непрестанно вспоминал, точно ли он кинулся или все-таки вышел. Кинулся или вышел? Я вспоминал мгновение до удара раз за разом. Сам удар находился в слепой зоне. Удар я почему-то не помнил. Зато помнил, как пропал из руки топор. Удивительно, нравственные переживания из-за убийства быстро сменились переживаниями по поводу лагеря. Но и эти переживания скоро прошли: посижу, посмотрю за хатой, наберусь опыта, за людское, за воровское. Потом я и вовсе стал думать, что ни в чем не виноват, он кинулся на меня, я был на обходе, защищался, мне четырнадцать лет, какой, блин, с меня спрос? Утешаясь этими мыслями, где-то в глубине я все отчетливее понимал – он не кинулся, просто вышел. Может, прикурить. Или попросить еды. Или ночлега.
Олег присел возле трупа, посветил, резко вытащил топор и внимательно посмотрел на меня. Я затараторил:
– Да говорю же – он кинулся! Если надо – отсижу!
– Если узнают, что мы малолетку на работу взяли…
Олег думал. Потом скомандовал:
– Бери за руки, потащили.
Мы отнесли труп к вырытой могиле. Миша вырыл ее с вечера для утренних похорон. Я показал на могилу:
– Туда?
Олег покачал головой, мы положили труп на кучу земли. Олег скомандовал:
– Лопаты тащи.
Я принес лопаты, Олег спрыгнул в могилу и стал копать. Я светил ему фонариком. Углубив могилу на метр, Олег вылез и столкнул в нее труп, потом спрыгнул и положил труп на спину, вытянув ему руки. Вдвоем мы забросали труп землей и утрамбовали дно, будто никакого трупа не было. Поначалу, когда земли было мало, нам приходилось ходить по трупу, я наступил ему на живот, и труп пукнул, я чуть не выпрыгнул из могилы. Олег был мрачен. Когда земля скрыла труп, дело пошло быстрее. Мы вылезли, легли на комья земли и дополнительно утрамбовали дно совковыми лопатами, заметая следы. Олег закурил и подвел черту:
– Завтра сверху ляжет официальный покойник. Его никогда не найдут.
Вдруг он дернул меня за плечо и взял шею на удушающий. В ухе раздался шепот:
– Если кому-нибудь расскажешь – убью.
Из любых других уст я бы не поверил в это «убью», а тут я поверил сразу и навсегда. Олег не волновался, не дышал, он был спокоен как удав. Я прохрипел:
– Не скажу. Слово пацана.
Олег отпустил меня и развернул к себе лицом:
– Слушай сюда. Ты не знал, что ему надо. Он мог убить тебя, выебать. Вдруг это маньяк? Короче, не парься. Ты поступил правильно.
Я кивнул и почувствовал облегчение. Будто приказ Олега не страдать отменил страдания. Я стал суворовским чудо-богатырем, чьи действия одобрил фельдмаршал. Буквально по щелчку пальцев я переобулся и даже немного погордился собой. В памяти всплыл исчезнувший момент удара, лихая дуга топора. Позже я прочту биографию Степана Разина, там будет момент, когда Стенька зарубил топором монаха, который издевался над крепостными, и мой топор каким-то удивительным образом сольется с топором Стеньки. А еще меня зацепит слово «выебать». Хотел меня «выебать». Совершить самое чудовищное надругательство над человеком. Постепенно, зарастая патиной времени, мое убийство превратится в эпический подвиг и рассказать о нем я захочу именно в этом ключе, мне будет обидно, что моя подруга, друзья не знают, насколько я крутой пацан.
Административная изба, не знавшая наших волнений, встретила нас тихой прохладой. У ведра в коробке из-под котят спала Мурка. В избе Олег налил два полстакана водки, мы выпили, покурили и легли спать. Перед сном, захмелев, я сказал:
– Олег, круто я его уебал, а? Тыщщ!
Я махнул в темноте воображаемым топором. Олег хохотнул:
– Дюс бы личинку отложил!
Посмеялись. Я добавил:
– А Лёша бы – ой, мой костюм, на нем мозги, не отстирается!
Олег заметил:
– Татарина бы вообще выебали.
– А он такой – ой-ой, мне это неинтересно!
Смеялись уже в голос. Это было что-то терапевтическое, мы словно попали на войну, где или пьяный, или смеешься, иначе сойдешь с ума от напряга. Сейчас, издалека, это кажется чудовищным, но тогда это было приключение.
В десять утра к нашему трупу привезли другой труп. Собралась родня. Мы с Олегом стояли поодаль. Ничего не подозревающий Лёша опустил гроб в могилу, закопал, поставил крест, сделал холм, забрал «концы», так на кладбище называют длинные вафельные полотенца, на которых родственники несут гроб к могиле, получил пакет с водкой и едой, после чего кладбище опустело. Мы с Олегом подошли к могиле, покурили, и всё.
Исчезал август. Отдыхали мы один день в неделю, но и в этот день я мечтал оказаться на кладбище. Плюс тридцать пять. Бетонный город задыхался от жары. А тут, среди корабельных сосен, вдали от цивилизации, случалась прохлада. Административная изба, сложенная из толстых бревен, сдавалась жаре только ближе к вечеру. В течение дня, особенно когда мы мешали раствор или устанавливали тяжелые памятники, кто-нибудь из пацанов обязательно сбега́л в избу, якобы в туалет. Я тоже сбегал. Во дворе бочка, выльешь ковш на голову, потрешь лицо с силой, будто хочешь вылепить новое, зайдешь, ляжешь на диван, закинешь ноги на подлокотник и чувствуешь – вот оно, тело мое. Я работал в лыжных ботинках, срезав ножом кантик. Вернее, ножом я срезать не смог, зарубился только. Пришлось идти к Калиничеву на десятый этаж. Он резал по дереву. Он только вник, принес резак и за десять секунд срезал. В кроссовках на кладбище не поработаешь, подошва о лопаты рвется и больно.
В тот день мы работали до одиннадцати вечера. Пацаны уехали в десять, а Олег взял в обход отца заявку на заливку опалубки, это семь тысяч рублей. Берешь опалубку, три трубы, кладешь трубы на могилу по уровню, ставишь сверху опалубку, затыкаешь все щели землей, плотненько, потом замешиваешь раствор – цемент, щебень, воду – и льешь раствор в опалубку доверху, мастерком протыкиваешь, подравниваешь, снимаешь через сутки, и фундамент для памятника готов. Если знать и не тупить, за час примерно управишься. Олег сплюнул мастерком излишек цемента и сел на лавку рядом со мной. На могиле были растаявшие конфеты, я протянул ему одну, Олег поморщился.
– Паша, ты что после кладбища делать будешь?
Я удивился:
– Я чё-то не то делаю? Ты меня увольняешь?
– Да нет! Просто тебе пятнадцать лет.
Пятнадцать мне исполнилось две недели назад, 7 августа. Мама купила торт, тоска зеленая, пацанам я не говорил, знал только Олег – видел мой паспорт при приеме на работу, но он тоже никому не сказал.
– И чё?
– Учиться надо идти, чё.
– Да не, Олег, не начинай. Я тут по жизни.
– Это без проблем. Я тебя всегда возьму. Но ты образование сначала получи. Хоть какое-то.
– Какое?
– Одиннадцать классов закончи.
– Да они меня там все ненавидят. И боятся. Петушары.
– А ты их не кошмарь.
– Из кружки, может, еще из одной попить?
Олег вздохнул.
– Ох уж, блядь, этот «Е» класс.
– А чё с ним не так?
– Всё.
Помолчали.
Олег сказал:
– Короче. Заканчиваешь одиннадцатый класс и по-ступаешь в универ на юриста.
Помню, я подумал: он не перегрелся, случаем? Но ответил другое:
– А потом баллотируюсь в президенты.
– Не, этот молодой, надолго хватит.
Я огляделся. Как вот я буду без кладбища в этой школе? Сухова, Шуша… Вспомнил их физиономии, и захотелось кого-нибудь ударить. Я был свободен на кладбище, понимаете? Тут неважно, во что ты одет, красивый ты или урод, важно, как ты работаешь. Работа освобождала нас от многих условностей. Но и сама работа была свободой – ты получал лишь общее задание, все нюансы его выполнения ты определял сам, тебя не контролировали, когда ты копал могилу или хоронил, заливал опалубку, выпрямлял молотком старые железные памятники, выбирал, в какой цвет их покрасить для перепродажи. Тебе доверяли. И это доверие вкупе с ответственностью сделали меня взрослым и свободным, будто это синонимы.
Я попытался взбрыкнуть последний раз:
– Олег, я не поступлю в универ, я тупой.
– Я тебе репетиторов найму. У тебя мозги мягкие, как губка, залетит, как в Дуньку. По рукам?
Я пожал руку. Олег спохватился:
– Ах да. У меня свадьба четвертого сентября.
– На Тане?
– Нет, блядь, на Ильязе.
Хохотнули.
– На Тане, конечно. Костюм купи. В «Хуторе» загудим на три дня.
Я мстительно заметил:
– У меня школа.
Олег ушел в избу. Я лег на лавку и смотрел, как между кронами появляются бледные звезды, потом они стали желтее, ярче, с дороги засигналила машина, я прошел вдоль оград, барабаня по ним пальцами, там был Олег с моей сменкой, я сел на заднее сиденье, переоделся, и мы полетели под мистера Кредо. В следующий раз я окажусь на этом кладбище через много лет, когда умрет мой дедушка.
На кладбище я не вернулся не потому, что истек август, до конца была неделя, просто я не могу так – наполовинку, мне либо все, либо ничего. Краешком души я чувствовал, что Олег меня вытурил. Наверное, из-за убийства, может, он подумал, что я какой-то ненормальный, сумасшедший? Я не умел носить в себе такое, поэтому, едва сформулировав, вылил на Олега. Олег убавил «Чудную долину».
– Слушай, если б я думал, что ты двинутый, я бы так и сказал. А я тебя на свадьбу позвал.
Я сидел, насупившись. Аргумент показался мне слабым. Олег воспрял:
– О! Приходи на мальчишник. Там будет проститутка, девственность потеряешь. Хочешь?
От былой хандры не осталось и следа.
– Хочу! Когда?
– В субботу, в бараке. В шесть.
Стоит появиться женщине, пусть и гипотетической, что куда девается?!
Дома я объявил о своем решении идти в десятый класс. Это было на кухне. Отец пробурчал: лишь бы не работать, – взял три бутерброда и ушел смотреть «Спартак». Сестра прилежно упражнялась на пианино в соседней комнате. Мама решение одобрила, сказав, что я обязательно поступлю в вуз, поцеловала в щеку и ушла к сестре. Я съел ложку варенья, допил папин чай и пошел на пятак. Там были пацаны, я встал в круг, и на сердце потеплело.
Не все в нашей семье было так холодно. Отец часто брал меня на рыбалку, он рыбачил на спиннинг – ловил крупняк вроде жереха, щуки, судака. Я обычно бросал на окуня гирлянду твистеров – маленьких силиконовых рыбок. На рыбалку он зачастил пару лет назад. Первые разы брал с собой маму, но ей не понравились ранний подъем, комары, вода и рыба, короче говоря – всё. А когда отец привез первый большой улов, мама отказалась чистить «эту вонючую рыбу». Вообще родители являли собой классический мезальянс. Отец вырос в семье вора-рецидивиста и алкоголички, пятым ребенком в семье. Они жили в деревне под Нытвой. Папина мать могла уехать на месяц к сестре в Соликамск, районный центр. А отец сидел. В пять лет папа поймал в силки птицу, убил ее, ощипал, выпотрошил и пожарил на костре. Его научили этому старшие братья. Моя мама, наоборот, была из образованной семьи, ее окружали книжные полки, кинотеатр, «Дерсу Узала» и те манеры, которые свойственны рабочим, стремящимся походить на интеллигентов. Мама не то чтобы была зла к отцу или надменна, как викторианка, просто она была чуть снисходительна, но, главное, она пыталась его переделать, а не полюбить. Как-то мама объясняла мне что-то про Дон Кихота Сервантеса. В комнату зашел отец, уловил краем уха и сказал: «Какой еще сервант, Лена, ставить некуда». Мы с мамой чистосердечно засмеялись, а отец понял, что дурак, и тут же ушел. В этом же году он найдет себе деревенскую женщину, которая не читала Сервантеса и с удовольствием будет чистить его рыбу. С моих пятнадцати до моих двадцати пяти отец станет жить на две семьи. Вторую он будет любить, потому что там любят его и показывают это, первую он будет содержать, прикованный к ней несамостоятельной женой, детьми и чувством долга, которому мог бы позавидовать Дон Кихот.
Как вы понимаете, сам разрыв случится через десять лет, а пока я побрился, надушнялся отцовским одеколоном, надел джинсы и футболку, всунул ноги в туфли, которые продавец на рынке решительно называл мокасинами, и пошел в барак распрощаться с неуместной в моем возрасте девственностью.
Эти бараки только называются бараками. Черные и деревянные снаружи, внутри они напоминают обычные квартиры, есть туалет, горячая и холодная вода, всё, кроме ванной. Почти как мой дом на Кислотных Дачах, но мой был каменным.
В то время многие повадились устанавливать душевые кабины. Тогда они не выглядели как посланцы из дальнего космоса. Просто железное корыто внизу, занавеска и душ. Их ставили в туалет, в уголок.
Дверь мне открыл Олег. Я вошел и услышал громкие капли, падающие на железо. Подумал еще – неужели Дюс нажрался и пошел под холодный душ?
Прошли в комнату. Олег здорово тут все отремонтировал после семьи алкоголиков. Он предложил им дом в деревне вместо квартиры, и они согласились. Мы все вместе их перевозили. Хорошая деревня, коровы ходят, гуси, жизнь какая-то. Нет, я понимаю, что Олег их заставил, но не все ли равно, где спиваться, к тому же их бы все равно обманули, так лучше мы, чем другие.
В комнате за круглым столом сидели Дюс, Миша, Лёша и Ильяз. На столе были виски, коньяк, кола, швепс, но преобладала водка. Я заозирался – если Дюс здесь, кто в душевой? Спросить я не успел – в комнату вошла девушка лет двадцати пяти, завернутая в полотенце. Короткие волосы, полные плечи, большая грудь, соблазнительная и под полотенцем. Я посмотрел на ноги. Чуть иксом и от этого какие-то беззащитные, на ногтях обломки красного лака. Девушка спросила:
– Кто первый?
И кивнула на дальнюю комнату. Пацаны переглянулись и заржали, Олег хлопнул меня по плечу:
– Иди, первопроходец.
Девушка не поняла:
– В смысле – первопроходец?
Олег пояснил:
– Он девственник.
Девушка взвизгнула:
– Круто! У меня еще не было девственника.
Я попытался пошутить:
– У меня вообще никого не было.
Девушка взяла меня за руку, отвела в комнату и закрыла дверь. Потом надвинула темные шторы, но не до конца, получился интимный полумрак.
– Как тебя зовут?
– Паша.
– Меня – Виолетта. Раздевайся и ложись.
Тут я начал жестко тупить:
– На спину ложиться?
– Ну да.
– Трусы снимать?
– Конечно!
Я снял трусы, лег на кровать и зачем-то прикрыл пах. Тут в комнату залетел Дюс и сунул мне полстакана водки:
– Пардон. Махани давай!
Я сел, маханул, Дюс тут же исчез. Виолетта сняла полотенце. У нее была огромная, белая, сочная, чудесная, упругая, грушевидная, невероятная грудь. Без участия головы я положил ладони на эту грудь, робко помял. Виолетта отвела руки.
– Не торопись. Ляг.
Я лег. Виолетта встала на колени между моих ног, сжала член, яйца, потянулась к моему лицу, проведя сосками по телу, я задрожал. Виолетта поцеловала меня в шею, вернулась вниз и обхватила член губами. Стало тесно и влажно. Эрекция была такой сильной, будто головка сейчас лопнет. Виолетта оторвалась и попросила:
– Постони.
Правую руку она завела себе между ног.
– Чё?
– Постони. М-м-м-м, а-а-а-ах.
От ее стона я чуть не кончил. Виолетта крепко сжимала член у самого основания.
– Стони.
Я застонал еле-еле, лишь бы пацаны не услышали. Виолетта приказала:
– Громче.
Я застонал. Мне начинало нравиться стонать. Виолетта неизвестно откуда достала презерватив, вскрыла его зубами и ртом надела на член. Потом села сверху, прижав мои руки к кровати за головой. Ее грудь была над моим лицом, я потянулся губами и взял сосок в рот. Виолетта застонала. Я воодушевился и стал ласкать ее грудь с большим энтузиазмом. Виолетта медленно двигалась на мне, в ней было узко, я балансировал на грани. Вдруг она положила мои руки себе на бедра. Почувствовав опору, уяснив моторику, я сжал бедра и стал двигаться быстро-быстро, как кролик, не выпуская розового соска изо рта.
– Трахай меня! Еби! Еби!
От этого «еби» я кончил. Судорога прошла по всему телу. Виолетта доскакивала, член обмяк, она легла рядом и осторожно сняла презерватив, завязав его узлом. Потом помахала им в воздухе, как елочной игрушкой.
– Смотри, как много!
– Много?
– Очень много! Ты молодец.
Виолетта чмокнула меня в щеку, встала и намотала полотенце:
– Я в душ. Одевайся. И зови следующего.
Я потеребил член и зачем-то понюхал пальцы. Когда до меня дошли ее слова, я сел:
– Какого следующего?
– Меня на пятерых сняли. Еще четверо.
Виолетта объясняла мне это, как придурку. Я кивнул. Она ушла. Я быстро оделся, вышел в комнату и сел за стол. Пацаны слегка окосели. Дюс разлил по фужерам для лимонада коньяк. Его лицо преисполнилось пьяной торжественностью.
– За потерю девственности рядовой Селуков награждается званием «ебарь-террорист» и фужером коньяка! Ура!
Олег улыбался. Все встали. Я принял фужер и зашарашил его до дна, разбив об пол. Олег посмотрел на осколки:
– Потом приберешь.
Я кивнул, сел за стол, без спроса взял пачку «Парламента» Олега и закурил. Я не хотел курить, от сигареты быстро пьянеешь, но тут мне надо было что-нибудь сделать, хоть что-нибудь.
Из душа вернулась Виолетта.
– Кто со мной?
Дюс пошутил:
– Кто в тебя!
Миша и Лёша переглянулись:
– А можно мы тебя в два смычка?
Виолетта посмотрела на них с интересом:
– Братья? Только не в анал.
– Без бэ, по классике.
Миша и Лёша встали. Дюс взвился:
– Не-не, вы ее щас заебете, она потом усталая будет! Я пойду.
Миша с Лёшей уперлись, Виолетта рассеянно улыбалась. Разрулил Олег:
– Пусть Дюс идет. А то нажрется, хоть самого еби.
Дюс завис, то ли обижаться, то ли нет, плюнул и увел Виолетту в комнату. У двери она оглянулась и посмотрела на меня. Может, мне показалось, что она оглянулась и посмотрела на меня, но в ту минуту я был уверен, что она оглянулась и посмотрела на меня. Зачем она оглянулась и посмотрела на меня? Олег заметил мое непраздничное состояние, наклонился и шепнул:
– Влюбился?
Я выпрямился, как от кнута, ничего не ответил, но лицо ответило.
Олег собрал в кулек бутылку водки, колу, пачку «Парламента» и сунул мне.
– Иди погуляй, бухни с кем-нибудь, расскажи, какая она охуенная.
– Да не, я не из-за этого…
Олег повернулся к Мише с Лёшей:
– Пацаны, влюблялись в первых проституток?
Миша с Лёшей расплылись в ностальгических улыбках. Ответил Лёша:
– Конечно. Мы ж не звери.
И подмигнул мне. Я схватил пакет и пулей вылетел из квартиры. Они ее там… А она… Зачем она оглянулась и посмотрела? Это ведь было. Зачем?
Чувства к Виолетте окончательно пройдут на свадьбе, где я буду танцевать и целоваться с Ниной Голубковой – красивой восемнадцатилетней девушкой с дредами. Помню круглую маленькую попу и как она лезла промежностью на мою ногу, как бы садясь на нее, ёрзая. И еще очень длинный нежный сильный язык. Когда она засунула его мне в рот, я даже испугался. Не язык, а маленькая мускулистая змея. Ближе к ночи мы танцевали медляк, Нина отстранилась и спросила:
– Пососешь мой язык?
Мы были пьяны. Я кивнул. Нина приблизилась и высунула язык, посередине был пирсинг. Я обхватил язык губами и стал сосать. Сейчас я бы сравнил это с сосанием члена, а тогда я ни о чем таком не думал, просто наслаждался. Да и так ли уж важно, что ты сосешь – клитор или член? Особенно если вспомнить, что член – это выросший клитор, а клитор – невыросший член.
Во рту друг у друга мы с Ниной оказались не сразу. Сначала я пришел четвертого сентября на пятак возле «Агата» в классическом сером костюме. Я купил его на Центральном рынке. Помню картонку под ногами и хорошенькую продавщицу, подступившую ко мне вплотную, чтобы вдеть ремень.
Было девять утра. Я стоял на пороге необыкновенного. Залитый солнцем асфальт, прозрачное небо, легкий ветерок только усиливали мое чувство, представляясь декорациями, внутри которых разыграется крутой фильм. Я сел на лавку и закурил. Когда мама узнала, что я курю, она понюхала рукава олимпийки – сначала левый, потом правый, тут же прибежала в комнату, где я слушал «Наутилус Помпилиус», прижавшись ухом к единственной колонке магнитофона, и сразу начала меня щипать и шипеть:
– Куришь, куришь, куришь?!
Я сел, зафиксировал ее руки и спросил:
– А чё такого?
Щипки и шипение были такими страстными, будто она хотела компенсировать ими свой педагогический провал длиною в четыре года.
Вырвавшись, мама убежала к отцу. До меня долетело:
– Он курит! Курит! Поговори с ним!
Она выкрикивала это так, словно я ем детей.
Отец позвал:
– Паша, иди сюда!
Я пришел в комнату. Мать стояла у окна с некрасивым лицом. Отец лежал, по телевизору играл «Спартак». Цымбаларь подавал угловой. Отец дождался окончания стандарта и посмотрел на меня:
– Куришь?
Я спокойно ответил:
– Курю.
Отец спокойно подытожил:
– Кури. Только мои не таскай.
Я ушел в комнату, включил Бутусова и лег на колонку. Мать громко выговаривала отцу, тот односложно отбивался. Я положил подушку на свободное ухо и погрузился в песню. «Падал теплый снег, она сняла пальто».
Все детство мама читала мне перед сном книжки: «Эмиля из Лённеберги», «Винни-Пуха», «Мифы Древней Греции», детскую «Библию», ее подарила мне бабушка, с возрастом ставшая в меру религиозной. Я это к тому, что моя мама делала все, чтобы я был счастлив и вырос хорошим человеком. Просто первое, что делает «Е» класс, это отбирает родителей. Дело не только в установке не признавать над собой никакой власти, кроме воровской, в моем случае – пацанской, но и в пубертате, потребности бунтовать, которая как бы оформлялась «понятиями». К седьмому классу родители уже не были для меня авторитетными фигурами, как и государство, еще один источник авторитета. Я слушал, кивал, но поступал по-своему. Родители же, живя в смутное непонятное время, попросту не знали, как этот авторитет вернуть. Да и задумывались они об этом редко, если задумывались, я ведь не шел прямо против них, скорее, перенес свою жизнь на улицу, а дома делал вид. Но чем старше я становился, тем хуже я делал вид, превращаясь дома в того, кем я был на улице. Уличное амплуа пожирало домашнее. Как-то мы с отцом паяли блесны, я загибал крючок плоскогубцами и сломал его. Изо рта вылетело:
– Петушара, сука конченый!
Отец внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь?
В другой раз я варил пельмени, и они прилипли ко дну. Я был красноречив:
– Пидарасы ебаные, блядь!
И тут же застыл. Ощутил, что я на кухне не один. Повернулся. На меня смотрела обомлевшая мама.
Перед разоблачением с сигаретами у меня в олимпийке нашли колоду карт. Мама хотела постирать.
– Не знала, что ты в карты играешь.
– Банчок забиваем иногда.
– Кого?
– Ну, банк. «Очко». Круг-стук. Да это наше, подростковое.
В комнату заглянул отец:
– Это не подростковое, это блатное.
Мне стало приятно, будто меня назвали блатным.
– Ну, блатное. А что такого?
– Ты в блатные метишь?
Отец наливался грозой. Тогда-то я и выдал им новость:
– Пап, мам, меня на кладбище позвали работать на лето. Зарплата пятнадцать тысяч. Это с Олегом Воронцовым, он там бригадир, под присмотром. Отпустите?
Дальше вы знаете.
Куда бы я ни шел, я всегда прихожу на десять минут раньше, мне так спокойнее. Ну, кроме тех случаев, когда я опаздываю. Пацаны постоянно опаздывали. Я просидел на лавке минут двадцать, курил одну за другой и убирал пылинки с пиджака, нервничал. Наконец из подъезда вышел Олег, мама Олега и Иван Петрович. Потом подошли все остальные. Таня, невеста Олега, жила в пятиэтажке за аптекой. К десяти утра там собралось человек, наверное, сто. Перед свадьбой я подстригся – обрил голову наголо. В парикмахерские тогда было не принято ходить, это казалось излишеством. Поэтому меня брила Лена папиным станком «Джиллет». Я сидел на табуретке на кухне у нее дома, а Лена ходила вокруг меня и чиркала бритвой по голове, как птичка лапкой. Она очень боялась меня порезать и, конечно, постоянно резала. До этого она сбрила волосы машинкой без насадки, поэтому бритье казалось делом легким. Посередине операции Лена расплакалась, схватила салфетку и стала нежно стирать кровь с моей головы.
– Паша, прости, прости!
– Лена, все ништяк, мне не больно.
– Столько крови…
– А ты ее размазывай, как шампунь, и брей!
– Не могу!
– Брей! Чё я, как урод, что ли?!
– Не могу!
– Брей!
Лена открыла холодильник, достала бутылку коньяка, отхлебнула и дала мне. Коньяк был отцовский, «Командирский». Я не возражал. Я получал удовольствие от того, что Лена так за меня переживала. Да, она с встречалась с Цаплиным, но мы все равно были друзьями. Самыми лучшими друзьями. Нет, есть еще Аня Дягилева. Мы с ней подружились, когда ей было семь, а мне девять. Гоняли на велосипедах, играли в «сифу» на стройке, вскрывали на Каме солитерного окуня железнодорожным «костылем», жгли шины. Короче, делали всё, что полагалось тогда делать детям. Аня была очаровательной пацанкой. Грубая энергичная красота. Вылитая Риз Уизерспун из фильма «Дикая». Тогда она работала на конюшне возле «Северного». Ей лошади очень нравились. Помню, говорила, лошади не то, что люди, – ерунду всякую не несут. А еще она мне по секрету рассказала, что, когда на лошади без седла ездит, возбуждается. До сих пор иногда представляю ее голой на лошади без седла. Не такая уж она и пацанка, если вдуматься.
С помощью коньяка, слёз и моих уговоров Лена меня добрила. Я протер голову одеколоном и заорал. Лена вздрогнула и начала толкать меня в плечо:
– Все, уходи, я от тебя устала!
– А коньяк?
– Допей с кем-нибудь.
– А отец?
– Он в командировке, через месяц приедет, не вспомнит.
Я поцеловал Лену в щеку и пошел в зону. Напротив Пролетарки есть женская колония, я говорил, а перед ней овощные ямы. Там было модно выпивать, уединившись среди сосен. Я еще редко выпивал, просто надвигалась свадьба, конец лета, и воздух пах, будто что-то удивительное случится, приятное, что разом дух захватит и унесет! Я не знал про Элли из «Изумрудного города», но чувствовал себя, как Элли из «Изумрудного города». Сел на яму, достал коньяк, сигареты и пол-лимона, Лена нарезала в пакетик. Отпил, съел лимон, закурил с довольным видом. Наверное, поэтому алкоголь мне так и понравился – в его присутствии я чувствовал себя классным. Даже не так. Трезвый я все время был собой недоволен – не добежал, не доборолся, не доподтягивался, Лена не любит. А пьяный я себя любил, гордился, алкоголь меня хвалил. Получалось так: чем дольше я жил, тем больше было поводов себя ненавидеть, а чем больше было поводов себя ненавидеть, тем крепче я пил, отчего ненавидел себя с новой силой. В рамках человеческой жизни это похоже на какой-то вечный двигатель.
Через яму сидела бесконвойница. Так называют арестанток, которые исчерпали почти весь срок и их выпускают красить бордюры и подметать тротуары без сопровождения сотрудников ФСИН. Таким осужденным нет смысла сбегать – если их поймают, то исчерпать придется еще три года. Может, я был в таком возрасте, или коньяк настроил оптику, но бесконвойница показалась мне красивой даже в серой робе и такой же косынке. Мы встретились взглядами, и оба улыбнулись. Она подошла к моей яме.
– Угостишь?
– Падай.
Бесконвойница села и уверенно отпила из бутылки. Я предложил, она закусила.
– Ангелина.
– Паша.
– Тебе сколько лет, Паша?
– Сколько есть, все мои.
– Тоже верно.
Я где-то подслушал эту фразу и активно ею пользовался. Тут еще важно понимать, что я был акселератом. К пятнадцати годам мой рост составлял 175 сантиметров, а вес 70 кг. Сейчас это не бог весть какая акселерация, но в 2001 году ее было достаточно, чтобы выглядеть сильно старше своих лет.
Коньяк мы выпили быстро. Я покрутил бутылку на солнце и бросил под дерево. Тут Ангелина меня удивила – достала бутылку коньяка из внутреннего кармана робы.
– Одна не хотела пить.
Выпили. Я лег на спину, Ангелина легла рядом. Лес расступился, перистые облака плыли по небу, в кроне кто-то шебуршал, таял след самолета. Я опьянел и спросил. Диалог я помню смутно, но помню его послевкусие и по этому послевкусию воссоздаю, как повар пытается воссоздать блюдо, попробованное однажды в детстве.
– Энджи, за что отбываешь?
Я был достаточно умен, чтобы не говорить «сидишь», и достаточно глуп, чтобы о таком спрашивать. Но заинтересовало Ангелину не это:
– Энджи?
– Ангелина, Анджелина, Энджи.
Энджи расхохоталась. А меня несло:
– За что отбываешь-то?
– Вот ты вредный. Мужа убила.
Я сел. Ангелина тоже. Выпили. Я пьянел быстрее, чем она, но все же уточнил:
– За что?
– Бил. Изменял. Да за всё.
– А как?
– Ножом кухонным.
– Офигеть! Слушай, я ведь тоже…
Это правда. Я чуть не рассказал Энджи о своем убийстве. Видимо, чтобы она понимала, как я ее понимаю, и понимала, как она может понимать меня.
– Что – тоже?
Я формулировал, чтобы точнее, а потом меня вырвало себе под ноги. Энджи встала, погладила меня по голове и пошла в зону. Я заорал:
– Энджи, не уходи!
– Мне пора. Поспи.
Кажется, я еще побормотал, потом свернулся калачиком на крыше ямы и уснул часа на три. Проснулся я разбитым и злым на свою болтливость. Дошел до Лены, попил, съел полтюбика пасты, прокрался домой и лег спать.
Не скажу, что свадьба Олега Воронцова напоминала фильм «Горько!», но и что не напоминала, не скажу. Олег поднимался по ступенькам, на которых, через одну, были написаны загадки, их надлежало разгадать жениху и его друзьям, иначе путь наверх был закрыт. Загадок я не вспомню, кажется, они были пошлые, стилизованные под народные. Это все называлось «выкуп невесты». Олег действительно время от времени закидывал пачки денег в белый мешок. Выкуп вела красивая, у меня все красивые, рыжая девушка Ирина с кустодиевскими формами. Половины свадьбы я не помню еще и потому, что пялился в ее декольте. Иринина физиология ввела меня в ступор. С одной стороны, она была толстая, а значит, некрасивая. С другой, такая выпуклая, обтекаемая, что только красивой ее и назовешь. А еще она была уверенной, громкой и знала такие слова – например, дебаркадер, – которых никто не знал. Это был один из вопросов: «Жених Тани так умен, что, конечно, знает, что такое дебаркадер?» Жених Тани не знал. Интернет появится через семь лет. Зато Лёша высказал предположение: дебаркадер – это декабрист на латыни. Ясность внес появившийся Иван Петрович. Часть склада, где машины разгружают, сказал он и оказался прав. Добравшись до четвертого этажа и конфузясь не столько от вопросов, сколько из-за того, что все нарядные, а нарядными мы друг друга никогда не видели, и еще, наверное, оттого, что Олег с Таней встречались со школы, спали вместе, а тут такие церемонии, – мы вошли в Танину квартиру и увидели невесту в свадебном платье спиной к нам. Ирина подтолкнула Олега: иди, жених, целуй невесту. Олег было пошел, но вернулся и заявил, что это не его невеста. Все замерли, упершись взглядами в невесту. Вдруг невеста обернулась и подняла фату – под фатой был чернобородый армянин с веселыми глазами. Смеялись истошно, навзрыд. С точки зрения кино это был Чарли Китон и Бастер Чаплин. Вся свадьба была не набором смыслов, чего-то ясного, вербального, а чередой смешных, глупых, пошлых, сентиментальных картинок. Вот мы швыряем бутылки в огромный камень в Курье, и бутылка Ильяза отлетает ему в ногу, как бумеранг. Вот мы стоим у памятника на эспланаде, нас снимают на камеру, а уже напившегося Дюса начинает тошнить, Дюса выталкивают из кадра, и тут на рвоту Дюса слетается стая голубей и начинает ее клевать. Так родилась фраза – пойду голубей покормлю. Я тоже ее произносил, когда напился вдрызг на дне рождения Олега. Покончив с делами городскими, мы поехали на Пролетарку, где оккупировали «Хуторок». Обычно за столиком справа сидят блатные – Андрей Бумага, Свирид, Толян. Сколько раз я туда ни заходил, они постоянно играли в нарды – то короткую, то длинную. У меня даже сложилось впечатление, что у блатных это главное занятие – играть в нарды. В дальнем зале был накрыт огромный стол. Во главу стола усадили Таню и Олега. Я сел поближе к танцполу. На сцену вышел Николай, замечательный баритон, и запел разудалое – Сергея Наговицына, «Дори-дори». Гвалт стоял страшный. Все пили. И пели. Тут появилась Нина Голубкова и села рядом со мной. Через полчаса, как тогда говорили – вкинув, мы сплелись с ней в один организм. Николай запел «Централ», и я пригласил ее на танец. Кроме Нининого феноменального языка, больше ничего не помню. Проснулся я в ванне у бабушки. Без брюк, зато в рубашке, галстуке, пиджаке и носках. Рубашка хранила следы рвоты. Почистившись, я ушел к Олегу. Было восемь утра. Мне даже в голову не пришло, что у него первая брачная ночь. Дюсу тоже не пришло. Когда я зашел, он опохмелялся на кухне. Через десять минут пришли Завьяловы. Они тоже про первую брачную ночь не сообразили. По-моему, Олег и сам про нее не очень-то разобрался. Сели пить. В двенадцать, кто был в строю, пошли в «Хуторок». Второй день был похож на первый, собственно, как и третий. Только, кажется, мы с Ниной заперлись в туалете и туда долго никто не мог попасть. Веселье было исступленным. Всем хватило первого дня, а тут еще два, «Хуторок» оплачен, водки океан. Мы как бы себя взнуздывали – эге-ге-гей, веселись! – гнали рысаками к финишу, чтобы опасть, как озимые, на белые скатерти в разводах вина.
Утром четвертого дня ко мне в комнату залетел отец и велел идти в школу. «Седьмое, блин, сентября, только бухаешь, тебя там в глаза не видели!» Я кивнул и попытался уснуть, в голове жужжала похмельная тревожность. Отец пришел снова и навис. Я понял, покоя мне тут не дадут. Почистил зубы, надел спортивный костюм, кроссовки, спустился, закурил, зашел в «Хазар» – это киоск у дома, взял «Клинского», опохмелился и двинул в школу. Если б я знал, что там случится, ни за что бы не пошел.
В школе посмотрел расписание – 25-й кабинет, литература. Даже сейчас, когда я это пишу, мне повсюду видится символизм, прикосновение рока, чертова «Илиада». Я встретил ее на уроке литературы, стал писателем и т. д. и т. п. Хотел бы я рассказать об этом отстраненно, а лучше отчужденно, отлепившись раз и навсегда от тех событий, но я уже чувствую, что не могу. Отделаться бы телеграфной строкой: влюбился в умную девушку, стал читать книги, был отвергнут, превратился в преступника. Только она вам ничего не объяснит, вернее, объяснит, но не даст почувствовать, а я хочу, чтобы вы почувствовали. Не потому даже, чтобы вы меня поняли и выписали индульгенцию – ах, бедный мальчик, он так ее любил! – а чтобы самому понять: это была банальная подростковая любовь, но какая же она банальная, если такая сильная? Или любовь настоящая, о которой писал Шекспир? Но почему банальное не может быть сильным? Мир держится на банальностях, они довольно сильны. Понимаете, я до сих пор ее люблю. Или мне кажется, что я ее люблю. Я то хочу освободиться от этой любви, она не дает мне любить никого другого, даже жену, то, наоборот, хочу ее лелеять, как дитя. Если б я точно знал, что это любовь Шекспира, я бы не думал о том, как ее растоптать. Но если б я понял, что это заурядная подростковая любовь, пусть и усиленная моей болезнью (о болезни ниже), то я бы нашел в себе силы с нею покончить, по крайней мере я смог бы над ней издеваться, обесценивать. Или мне так кажется.
Я поднялся на второй этаж, вошел в кабинет, повернул голову влево, к ученикам, и увидел ее. Светло-русые локоны обрамляли мраморное лицо, на котором горели голубые глаза. Подбородок, губы, нос, щеки, скулы, лоб – все в этом лице было совершенно и дышало такой гармонией, что кружилась голова. Вдруг весь мир ушел в туман, только это лицо было в фокусе, в каком-то фотоувеличении. В голове пронеслось про ангелов, мама читала мне про ангелов, в Библии есть про ангелов, бабушка купила. Ангела звали Маша. До десятого класса она училась в «А». Может, поэтому я ее не видел, хотя должен был видеть. Не заметил? Я не смог бы ее не заметить. Видимо, у каждой встречи свой час и жребий, а до того мы как невидимки. Стал как пьяный.
Урок вела Вера Павловна, та самая, которой я пересказывал «Тараса Бульбу».
Я надолго застыл перед Машей. Я открыл для себя любовь, будто до меня ее никто не открывал. Сначала ее глаза смеялись, потом стали серьезными, даже какими-то воинственными. В классе посмеивались, но негромко, всем было интересно: а что происходит?
Ко мне подошла Вера Павловна, тронула за плечо, я вздрогнул.
– Паша, урок идет. Садись на место.
С последней парты руку подняла Лена.
– Ромео, иди ко мне!
Я на нее разозлился. Вдруг Маша подумает, что я с ней. Если б я знал, что с Лениной легкой руки меня следующие десять лет будут звать Ромео, я бы разозлился сильнее.
Вера Павловна потянула меня за руку. Я дернулся и снова посмотрел на Машу.
– Как тебя зовут?
– Маша.
– А меня Паша. Ты самая красивая девчонка, которую я видел.
Класс заржал ощутимо. А на меня напала прямота римлянина, я не мог остановиться.
– Пойдешь со мной в «Радугу» на дискотеку?
– Я не хожу в такие места.
– А в какие ходишь?
– В театр.
– Выбирай любой, я куплю билеты.
Я готов был купить театр. Маша смутилась, на щеках появились ямочки. Вера Павловна возвысила голос:
– Селуков! Услышь меня! Сядь к Лене!
Я посмотрел на нее, как на марсианина. Пришла Лена, взяла меня за руку и утащила за парту. Я шел с трудом. Мне казалось, если я потеряю Машу из виду, она исчезнет, как мираж.
Спустя двадцать три года я попаду на прием к врачу-психиатру Муравьеву. Едва я войду, он скажет: у вас гипомания. Так мне поставят диагноз: БАР, биполярное аффективное расстройство второго типа. С Муравьевым я проведу много сеансов, два раза в месяц в течение года буду ездить к нему из Москвы в Петербург. В итоге он предположит, что первый эпизод мании случился со мной в ту минуту, когда я увидел Машу. Я пишу эту книгу, чтобы понять, какие поступки совершил я сам, а какие – под влиянием болезни. Иными словами, я хочу понять, кто прожил эти двадцать три года и в каких пропорциях. Еще проще – я пытаюсь понять, кто я такой. Биполярка – это экстремальная смена настроений. В мании ты полон энергии, чудовищной энергии, ты чувствуешь себя богом, можешь часами заниматься сексом, драться, как Ахиллес, не зная усталости. Но потом мания уходит, а ей на смену приходит подавленность, депрессия, бесконечное лежание в кровати, неспособность совершить простейшее волевое усилие. Состояния эти то менялись у меня каждые три дня, то держались по месяцу. Я не знал, что это расстройство, в советское время его называли маниакально-депрессивным психозом, думал, что это я такой особенный.
Смешно, биполярка вылила изрядно воды на мельницу моей исключительности. Я ведь видел, что другие люди не такие, как я, и трактовал это к собственной выгоде. Первые годы биполярка не сильно мне докучала. Если представить, что я качаюсь на качелях: вперед – мания, назад – депрессия, то в те времена качели раскачивались слабо, правда, сам того не ведая, с каждым годом я раскачивал их все сильнее. Если до откровения про биполярку я думал о Маше в разрезах банальной любви и любви Шекспира, то теперь появился третий разрез – я маньяк и привязался к ней, как маньяк. Или мания усилила банальную любовь? Или усилила любовь Шекспира? Или мания тут ни при чем? Я хочу знать, ради чего прожил свою жизнь. Ради чего читал книги, совершал преступления, спивался, скалывался, лечился в рехабах, искал себя, стал писателем и сценаристом. В своей голове я жил ради Маши, она есть во всех моих женских героинях, в каждой книге. Я хочу понять: меня вела великая любовь или жалкий психический недуг, когда неважно, кто на том конце – Маша, Оля, Света, Аня. На кого пришелся эпизод мании, тот там и оказался. Но ведь именно Маша пробудила во мне манию, стала катализатором. Или катализатором могла стать любая девушка? Я сотворил себе идола и поклонялся ему, или это Бог послал мне Машу, чтобы я смог пройти этот путь. Вот до таких метаний я иногда дохожу.
Лена усадила меня за парту и воззрилась. Она умела так воззриться, что слова не нужны. Меня потряхивало.
– Что с тобой?
– Хуй его знает.
Лена удивилась, обычно я при ней не матерился. Сматерился я, видимо, чтобы отодвинуть от себя огромное чувство, которое меня поглощало. Но чувство не отодвигалось, тогда я достал тетрадку, раскрыл на последней странице и стал черкаться. А потом аккуратно вывел «МАША» и заштриховал. Упражнение в прекрасном заметила Лена и деловито заговорила:
– Маша Рублёва, пятнадцать лет, натуральная блондинка, хорошистка, очень правильная, не пьет, не курит, по дискотекам, как ты уже знаешь, не ходит.
– У нее есть парень?
– Насколько я знаю – нет.
На следующем уроке я отнес сумку Машиной соседки на заднюю парту, а сам сел на ее место. Соседка смирилась. Весь урок я пытался шепотом поговорить с Машей, предлагал театры, проводить ее до дома. В конце урока она не выдержала и сказала:
– Отстань, пожалуйста, от меня. После уроков я в библиотеке читаю.
– Что читаешь?
– «Анну Каренину»
– Любишь читать?
– Селуков, Рублёва!
Мы притихли. Это был Яков Владимирович, полноватый учитель истории лет пятидесяти в смешной вязаной жилетке. Он носил такие толстые очки, что ими запросто сожжешь муравья. Помню, я смотрел на него и думал – никогда таким не стану, лучше смерть через макатуки. Был такой анекдот – попал мужик в плен к дикарям, а те спрашивают – смерть или макатуки? Тот говорит – макатуки, не смерть же выбирать. Они его и залюбили до смерти.
После школы я пошел в библиотеку. Впервые за два года Лена тащила портфель домой сама. Я взял первую попавшуюся книжку и сел в читальном зале. Минут через двадцать пришла Маша, увидела меня, как-то выпрямилась, взяла «Каренину» и села за другой стол. Я получал острое наслаждение просто от того, как она двигалась, поводила плечами, отодвигала стул. В голове гремели трубы. Я хотел умереть за нее в бою, оберегать всю жизнь, слушать по ночам, как она дышит, млел от каждой ее подробности.
Схватив книжку, я сел напротив Маши. Она делала вид, что читает. Я положил ладонь поверх страниц.
– Маша, ты мне очень нравишься. Давай мутить.
Спортивный костюм, лысая голова в царапинах, шалые глаза. Плюс – репутация. Я тогда этого не понимал, думал, интересничает, корчит недотрогу, а она просто меня боялась.
– Паша, я не хочу с тобой мутить. Я ни с кем не хочу. Оставь меня в покое.
– Да как не хочешь? Не симпотный?
– Не в этом дело.
– А в чем? Я в порядке, бабки есть. Я «воронцовский». С Олегом в близких.
По моему расчету, этот аргумент должен был сразить ее наповал. Конечно, она испугалась еще больше, схватила книгу и ушла.
На следующий день я снова отнес сумку соседки на заднюю парту, но Маша не пришла – она заболела и взяла больничный. Я тосковал. Мне было плохо. Вечерами я пораньше уходил домой, когда пацаны еще гоготали на пятаке, чтобы лечь в ванну и предаться грезам, где я выталкиваю Машу из-под машины, а сам весь поломанный лежу в больнице, а она сидит рядом и кормит меня куриным супом с ложечки. При этом, представляя Машу, я никогда не мастурбировал, даже не прикасался, хоть и лежал в ванне. Но стоило мне представить Виолетту, как рука бралась за дело. На Лену, кстати, я тоже никогда не мог. Стремно на друга.
Прошла неделя. Я перестал есть. Точнее, заталкивал в себя. Первым уроком была история. Я сел на первую парту и уставился на дверь. Не может она болеть дольше недели. А если у нее что-то серьезное? Порок сердца? Я бы мог отдать ей свое! От мысли, что я отдам ей свое сердце, в груди потеплело. Сложно объяснить. Знаете, будто я перестал существовать, будто без нее меня не было. Прозвенел звонок. Яков Владимирович где-то гулял. В кабинет вошла Лена, села рядом со мной.
– Паша, только спокойно. У меня новости.
– Она умерла?
Лена обалдела.
– Да ты что?! Перевелась в «Б» класс.
Я застыл. Мелькнуло – лучше б умерла. Потом встал и пошел в «Б» класс. Лена бросилась за мной. И, кажется, еще кучка одноклассников, которые слышали наш разговор. Я спустился вниз, чтобы посмотреть расписание. Лена протестовала:
– Не ходи туда. Какой смысл?
– Почему она перевелась?
– Достал ты ее, вот и перевелась!
Я заорал:
– Чё я не так сделал?!
– Откуда я знаю.
– Вот я у нее и спрошу!
Лена выложила козырь:
– Я щас Воронцову позвоню. Не позорься!
Мне было наплевать.
– Звони кому хочешь.
Звонить она собиралась из учительской, она постоянно оттуда звонила, учителя ее обожали. Наверное, они хотя бы денек хотели побыть ею – молодой, веселой, беззаботной.
«Б» класс был на математике. Вела ее Сухова. Я зашел в кабинет и подошел к Маше, она сидела за первой партой. Урок оборвался.
– Почему ты перевелась?
Маша покраснела.
– Ты мне проходу не даешь.
Я говорил в полный голос. Лена стояла рядом. Группа поддержки окопалась в дверях. Класс молчал. Сухова, наконец, очнулась.
– Селуков, ты в своем уме, урок идет!
Я посмотрел на Машу, пытаясь вложить всего себя в этот взгляд.