Читать онлайн Заложники любви. Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов бесплатно
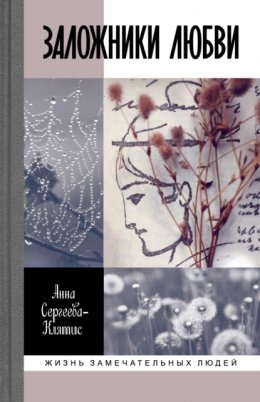
© Сергеева-Клятис А. Ю., 2019
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019
От автора
«Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье».
Геннадий Шпаликов
Страницы книги с таким интригующим названием содержат пятнадцать (а точнее, шестнадцать) любовных историй. Почти все они – за единственным исключением – не вымышленные, а реальные. И заимствованы из отечественной культуры, вернее сказать – поэзии. Говоря проще, перед читателем биографическая книга особого рода, дающая возможность взглянуть на судьбы русских поэтов с неожиданного угла зрения. Биографической ее позволяет назвать строгое следование фактам, которое автор вменяет себе в профессиональную обязанность. При этом очевидно, что традиционный биографический сюжет не выдерживается, распадается благодаря фрагментарности повествования и подмене хронологического принципа тематическим. Всё это не столь важно, потому что каждая из представленных историй, с одной стороны, претендует на статус небольшого романа, с другой – существует по поэтическим законам: и сама по себе как вполне законченное произведение, и внутри цикла, и как часть большой вселенной, в которую разворачивается вся книга. Писать ее было иногда интересно и занимательно, а иногда – мучительно грустно.
Когда эта книга задумывалась, она выглядела иначе. По замыслу она должна была описывать любовь в соответствии с определением Бернара де Фонтенеля – как «самое утреннее из наших чувств», как источник вдохновения, высшую точку реализации творческой энергии, смысл и цель любой поэтической вселенной, да и всей человеческой жизни. Герои этой книги, люди самой тонкой душевной организации, живущие в непрерывном эмоциональном напряжении, обладающие страстным темпераментом, были способны не только в полной мере испытать, но и воспеть силу и красоту вечного чувства, зафиксировать в стихах ускользающие «свойства страсти», поймать неуловимую гармонию. О ней и замышлялось рассказывать.
Но за время работы над книгой ее содержание изменилось до неузнаваемости – не только жизнь, но и сам материал продиктовал эту перемену. В творческом восприятии мира, наряду с перечисленными, есть и еще одно родовое свойство – болезненность, дисгармоничность. И чем глубже и значительнее внутренний мир поэта, тем больше его раскачивает «у бездны мрачной на краю», тем меньше у него шансов на личное счастье. Противопоставляя поверхностному бездуховному здоровью всегда обращенную вглубь человеческого существа болезнь, Томас Манн писал в «Волшебной горе»: «…В духе, в болезни заложены достоинство человека и его благородство; иными словами: в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек». Что уж говорить о поэтах! Прибавим к этому неминуемый эгоизм, без которого невозможно представить жизнь творческой личности, естественную и очень понятную сосредоточенность на себе, острое ощущение вектора своего пути, которое почти всегда расходится с практическими и разумными представлениями близких, – и станет очевидным, что любовь в жизни поэта носит скорее трагический оттенок и редко бывает окрашена в радужные цвета. Как и любовная лирика, которая зачастую вмещает страшный душевный опыт.
Обывательские восторги, как правило, сопровождающие легендарные романы, лишены реальной почвы; не имеющие отношения к действительности формулы («Какая красивая любовь!») нисколько не описывают происходящего; представления о счастливых развязках лишены фактического основания. Не вызывает сомнений, что Блок всю жизнь с самой юности, почти с детства, любил Любовь Дмитриевну Менделееву и был любим ею взаимно. Но можно ли назвать счастьем их рано заключенный брак? Конечно, Ходасевич был страстно влюблен в красавицу Нину Берберову, сломал из-за этого жизнь нежно ему преданной жене, но сделал ли он счастливой свою возлюбленную и был ли сам счастлив? Очевидно, что Ахматова сильно и глубоко любила Николая Пунина, пожертвовала ради этой любви своей независимостью, смирилась с унизительным положением полужены-полулюбовницы – и получила, по крайней мере, десятилетие поэтической немоты и испытала острую радость в момент разрыва. Да и трудно подыскать примеры иного рода.
Такой и получилась эта книга. Она рассказывает не о «бесконечном счастье» любви, а о ее «муке жалящей», не о воплощенных надеждах, а о их полном провале, не о гармонии и спокойствии, а о вечном стремлении к новому поэтического духа, о его болезненной двойственности, о его катастрофической ненасытности. Любовь в ней идет рука об руку с предательством, изменой, распадом, внутренней несвободой, тяжелым разочарованием, трагическим исходом. Умиротворенных взаимным счастьем пар, так уж получилось, здесь нельзя отыскать. Но зато речь пойдет о чувствах такой невероятной интенсивности, о таком высоком накале страсти, что порой можно содрогнуться: «Когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный». Те мучения, которым творческие личности умеют подвергать своих близких, совсем иного рода, чем те, что сопровождают романы обычных людей. Самолюбование идет здесь об руку с вечной неудовлетворенностью собой, беззастенчивая ложь лишь оттеняет убийственную правдивость, и во всем видно искреннее, а не театральное стремление выпрыгнуть за пределы скудного земного существования и удержать в руке вечность. На короткий период это кое-кому удавалось.
Структура книги очень проста. Истории тех, кто волею автора попал в число ее героев, объединены между собой по некоторому сходству. Из них составляются главы. Каждая глава включает три любовных эпизода: два из них близки по времени, часто связаны между собой событийно или психологически и представляют легко предсказуемую пару. Третий намеренно выбирается из другой, более поздней эпохи, иного миросозерцания, подсвечивая описанное ранее почти точным сюжетным повтором. Меняются времена, меняется социальный строй, меняются запросы личности, но трагедия любви и смерти остается неизменной. И только в одной главе ситуация «двое в присутствии третьего» оказывается размыта (или, может быть, подтверждена) включением четвертого эпизода, литературного. Уж очень велик был соблазн соединить с жизненным материалом историю вымышленного персонажа, героя большого романа, тоже поэта. Этот очевидный композиционный перекос читатель будет вынужден простить автору, вполне сознающему собственное несовершенство. Но поскольку несовершенство человеческой личности и есть главная тема этой книги, то каким образом она сама могла оказаться совершенной? Дисгармоничность содержания естественно отражается в ее структуре.
Есть в книге и совсем другие фрагменты: это включенные в виде приложений к каждому сюжету (опять-таки за одним исключением) поэтические или прозаические тексты, имеющие непосредственное отношение к описанным событиям и лицам. В отличие от обстоятельств своих собственных биографий, с которыми поэты никак не могли сладить и в которых зачастую совсем не чувствуется музыки высших сфер, они умудрялись создавать совершенные и гармоничные произведения, отчасти примиряющие нас с трагическими надрывами их реальных судеб. Такому преображающему жизнь свойству искусства будет посвящено несколько слов в главе о любви Юрия Живаго.
Я благодарю издательство «Молодая гвардия» за идею и предложение написать эту книгу.
P.S. О названии
Метаморфоза, которую претерпело за время работы над книгой ее содержание, повлекла за собой и еще одну, очень существенную, перемену. О ней необходимо сказать несколько слов. Первоначальный вариант названия, записанный даже в договоре между автором и издательством, звучал совсем иначе. Книгу планировалось назвать известной строчкой из песни Окуджавы: «Часовые любви». Под этим именем книга существовала всё то время, пока вынашивалась и рождалась. В каком-то смысле речь здесь действительно пойдет о «смене часовых»: уходят времена, приходят новые, меняются культурные коды, способы выражения мыслей, виды деятельности, а любовь существует всё в том же обличье, бесконечно призывая новобранцев, требуя честной и беспорочной службы. Однако романтический мотив, который, благодаря голосу Булата Шалвовича, невольно слышится в сочетании «часовые любви», по мере написания текста стал восприниматься не только избыточно, но даже фальшиво. Так книга сама потребовала переименования, и автору пришлось пойти у нее на поводу.
Глава первая
Добровольный отказ
Я не держу. Иди, благотвори.
Борис Пастернак
Эту главу можно было бы назвать иначе – «Отказ во благо» или «В вертеровском духе». Речь в ней пойдет о совершенно особом типе сознания, рожденном сентименталистской эпохой и именно тогда укоренившемся в литературе. Глубоко чувствующий поэт, которому на роду написано жить только своей любовью и ради своей любви, отрекается от нее во имя высшей цели, например, гипотетического счастья возлюбленной или спасения ее от предполагаемого несчастья. Однако литература и жизнь – разные вещи, и опасность перенесения в реальность литературных образов и схем была очевидна уже в пушкинскую эпоху. Сам Пушкин предостерегал против «олитературивания» жизни в «Евгении Онегине» и в «Повестях Белкина». Ясно, что счастье, равно как и несчастье – понятия на редкость шаткие, индивидуально понимаемые, и далеко не всегда дальнейшая судьба облагодетельствованной возлюбленной складывалась так, как предполагалось, например, как у Лотты из «Страданий юного Вертера» Гёте или Юлии д’Этанж из «Новой Элоизы» Руссо. И личное страдание, на которое поэт обрекал себя добровольным отказом от любви, ни в какой мере не облегчало ситуации, наоборот – делало ее трагически безысходной. Так, часто расходятся желаемое и действительное, не позволяя реализоваться самым благим намерениям. По истечении исторического срока, отпущенного на господство сентименталистских идей, способ устроить жизнь любимого человека, а заодно и свою собственную, наотрез отказавшись от общего счастья, не канул в Лету. Им эффективно пользовались и в более поздние эпохи, правда, с некоторыми поправками, свойственными времени. Добровольный уход, добровольное принятие страданий, добровольное изгнание из рая – запоздалое раскаяние, пожизненное сожаление, вечная тема для творчества. В таком заколдованном кругу вращаются сюжеты этой главы.
Голос с того света
Василий Жуковский и Мария Протасова
F. Schiller
- Wo ich sei, und wo mich hingewendet,
- Als mein flüchtiger Schatten dir entschwebt?
- Hab` ich nicht beschlossen und geendet,
- Hab` ich nicht geliebet und gelebt?[1]
В марте 1815 года Василий Андреевич Жуковский написал Марии Андреевне Протасовой, одно за другим, несколько бесконечных, исполненных драматизма писем. Стоит внимательно вчитаться в их строки, для того чтобы представить себе душевное состояние писавшего, услышать его голос, погрузиться в атмосферу сложного семейного конфликта, из которого не было и не могло быть выхода. Письма Жуковского, конечно, литературны – бросаются в глаза риторические приемы и стилистические ходы, характерные для эпистолярной прозы той эпохи, к которой принадлежит их автор. Но эти особенности языка не отменяют ни глубины его переживаний, ни искренности чувств, которые то и дело выплескиваются в его страстных признаниях и призывах. Поэт сообщал своей возлюбленной, что ради ее счастья отказывается от дальнейших притязаний на нее, и предлагал отныне новую, идеальную форму отношений. Он приносил в жертву ее благополучию и спокойствию свою годами взлелеянную любовь, для которой больше не оставалось никаких надежд. И сам то находил в себе недюжинные нравственные силы для исполнения этого решения, то падал духом и ощупью продвигался дальше по той дороге, по которой, казалось, уже некуда было идти.
Мария Андреевна Протасова, адресат многих писем Жуковского, приходилась поэту близкой родней. Она была дочерью его единокровной сестры Екатерины Афанасьевны Буниной (в замужестве – Протасовой), то есть фактически его племянницей. О происхождении Жуковского рассказывать подробно, вероятно, не стоит – широко известен тот факт, что, как и у его младшего современника А. С. Пушкина, оно было экзотическим. Отец Жуковского – русский помещик из дворянского рода Буниных, мать – пленная турчанка Сальха, которая при крещении была наречена православным именем Елизавета, а потом получила и русскую фамилию – Турчанинова. История детства, взросления и обретения под ногами почвы мальчиком, испытавшим на опыте разнообразные последствия этой далеко не романтической ситуации, довольно драматична, запутанна и пересказана здесь быть не может. Стоит, вероятно, только отметить, что Жуковскому жилось не очень сладко. В семье Бунина «он был как свой, но чувствовал, что не свой»[2]. Первоначальное обучение его складывалось не весьма удачно – учителя не видели в нем способностей, рос и воспитывался будущий поэт преимущественно на чужих руках, ни титул, ни состояние не были им, по понятным причинам, унаследованы. Судьбу его решил удачный выбор учебного заведения, в котором Жуковский нашел близких друзей, круг которых если и не сформировал его, то во всяком случае заложил основание будущей личности и будущего призвания. В 1797 году Жуковский был принят в одно из лучших учебных заведений России – Благородный пансион при Московском университете.
Так случилось, что после блестящего окончания Пансиона, уже осознав неизбежность поэзии как главного дела жизни, пережив крах на государственной службе, которая никак не соответствовала интересам и устремлениям юного поэта, Жуковский покинул Москву и оказался в одном имении со своей единокровной сестрой Екатериной Афанасьевной Протасовой. Не имея возможности после смерти мужа нанять своим двум малолетним дочерям домашних учителей, она попросила брата выступить в этой роли. Он не получал никакого жалованья, но сам выбирал предметы для занятий и составлял программы. Деятельность эта захватила Жуковского. Много позже станет очевидным, что он обладал подлинным педагогическим даром, сравнимым разве что с поэтическим.
В 1802 году, когда Жуковский впервые приступил к занятиям с двумя девочками – девятилетней Марией и семилетней Александрой, – ему не было еще и двадцати. Потом последовал перерыв, длившийся несколько лет, занятия были возобновлены тогда, когда можно было всерьез говорить о развитии подрастающих племянниц, формировании их вкуса и нравственности. Он занимался с ними историей – читал Геродота и Тацита, а также философией, словесностью, эстетикой, натуральной историей. Сам Жуковский учился вместе с племянницами тому, что не успел освоить раньше. Отношения между ними были родственными и очень демократическими. Девочки обращались к нему на «ты». Это положение дяди, по возрасту вполне походившего на старшего брата, гувернера, учителя, духовного наставника, необыкновенно сблизило их. В дневнике Жуковского по поводу уехавшей ненадолго Марии читаем: «Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве! Вижу ее не такою, какова она теперь, но такою, какова она будет тогда, и с некоторым нетерпением это себе представляю. Это чувство родилось вдруг, от чего – не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, воображать будущее с некоторым волнением; если оно усилится, то сделает меня лучшим, надежда или желание получить это счастие заставит меня думать о усовершенствовании своего характера; мысль о том, что меня ожидает дома, будет поддерживать и веселить меня во время моего путешествия. Я был бы с нею счастлив конечно! Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастия и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть?»[3] Этот вопрос начинает мучить Жуковского фактически одновременно с возникновением его чувства к Марии Протасовой. Главным препятствием уже тогда ему представляется К. А. (сестра Катерина Афанасьевна), внутреннее сопротивление которой он предугадывает. И – не напрасно.
Следуя своей программе – а Жуковский был человеком чрезвычайно последовательным, – он впервые переговорил с сестрой на волнующую его тему в 1807 году. Маше в это время шел 15-й год, и речь велась скорее о будущем, но отпор, который он встретил, был вполне настоящим. Близкое родство представлялось Екатерине Афанасьевне непреодолимой преградой. Она была религиозна и тоже весьма последовательна. Возможно, ее резкий и не терпящий возражений отказ предопределили и другие, более прозаические причины, но они во всяком случае не назывались. Жуковский тоже был человеком религиозным, более того – сосредоточенным на нравственных и этических вопросах, отчаянно рефлексирующим, находящимся в непрерывном процессе самосовершенствования. Эту науку он усвоил еще в Пансионе – университетское сообщество было преимущественно масонским, к масонскому миру принадлежали и ближайшие друзья Жуковского, братья Тургеневы, сыновья директора Московского университета, человека из круга знаменитого просветителя и масона Н. И. Новикова. Стремление планомерно изменять себя к лучшему, становиться достойным будущего счастья, в случае неудачи смиряться с ударами судьбы и стойко переносить лишения, принимая тяжесть и страдание как благо – все это тоже входило в программу его жизни, замечательно точно выраженную в одной из его хрестоматийных баллад:
- С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
- И жизнь мне земная священна;
- При мысли великой, что я человек,
- Всегда возвышаюсь душою.
Стремление «возвышаться душою», что бы ни посылал рок, и возвышать близких, прежде всего возлюбленную ученицу, никогда Жуковского не покидало. И если бы его намерения жениться на Маше хоть на секунду показались бы ему грешными и не соответствующими «великой мысли», он бы от них незамедлительно отказался. Но вся беда и состояла в том, что он нисколько этого не ощущал, наоборот, был абсолютно уверен в правильности своего выбора и неотменимости будущего счастья, если бы только оно было реализуемым. Укрепляла его в этом убеждении и сама Маша, которая ответила на его чувство глубокой и серьезной взаимностью. Екатерина Афанасьевна пыталась представить дело в ином свете, утверждая, что любовь эта – выдумка брата, которому как поэту необходимо черпать откуда-то вдохновение, а дочь вовсе свободна от всякого чувства. В этой позиции был, вероятно, и спасительный самообман: какая мать захочет делать свою дочь заведомо несчастной?
Летом 1810 года начался новый период во взаимоотношениях Жуковского с семьей Протасовых. Они стали соседями. Екатерина Афанасьевна с дочерьми переехали в село Муратово, в котором дом для нее построил по собственному плану и на собственные средства Жуковский. Сам он поселился в деревне Холх, неподалеку от сестры. Тогда же, судя по всему, Маша впервые узнала о любви своего наставника и его планах на их общее будущее. В начале 1812 года поэт сделал первое официальное предложение Маше и получил официальный категоричный отказ ее матери. Однако не сдался. И даже во время военной кампании 1812 года, участником которой он стал, помнил, что ему требуется сломить сопротивление сестры, и работал над этим: использовал личные связи, заручался поддержкой влиятельных лиц, в том числе и лиц духовного звания, сосредоточенно и целеустремленно боролся за исполнение своего плана. Несколько позже согласие на брак Жуковского с Марией Протасовой дал сам митрополит Московский Филарет (Дроздов), что, правда, никоим образом не повлияло на решение Екатерины Афанасьевны. Рамки ее православных убеждений были куда более узкими, чем митрополитовы.
Начавший войну в московском ополчении, Жуковский вскоре оказался в канцелярии штаба Кутузова. Как раз тогда он и стяжал не столько воинскую, сколько поэтическую славу: во время похода было написано стихотворение «Певец во стане русских воинов», которое сделало его первым русским поэтом. Среди прочего есть в этом обширном тексте фрагмент, посвященный любви. С очевидностью можно предположить, что он писался с мыслью о Маше:
- Ах! мысль о той, кто все для нас,
- Нам спутник неизменный;
- Везде знакомый слышим глас,
- Зрим образ незабвенный;
- Она на бранных знаменах,
- Она в пылу сраженья;
- И в шуме стана, и в мечтах
- Веселых сновиденья.
- Отведай, враг, исторгнуть щит,
- Рукою данный милой;
- Святой обет на нем горит:
- Твоя и за могилой!
- О сладость тайныя мечты!
- Там, там, за синей далью, —
- Твой ангел, дева красоты,
- Одна с своей печалью,
- Грустит, о друге слезы льет;
- Душа ее в молитве,
- Боится вести, вести ждет:
- «Увы! не пал ли в битве?»
- И мыслит: «Скоро ль, дружний глас,
- Твои мне слышать звуки?
- Лети, лети, свиданья час,
- Сменить тоску разлуки».
- Друзья! блаженнейшая часть:
- Любезных быть спасеньем.
- Когда ж предел наш в битве пасть —
- Погибнем с наслажденьем;
- Святое имя призовем
- В минуты смертной муки;
- Кем мы дышали в мире сем,
- С той нет и там разлуки:
- Туда душа перенесет
- Любовь и образ милой…
- О други, смерть не все возьмет;
- Есть жизнь и за могилой.
Понятно, что образы этого стихотворения тесно связаны с военной темой, отсюда нагнетание предчувствия смерти и рассуждения о любви, продолжающейся и за могилой. Было в этом стихотворении и обычное для Жуковского размышление об отношении жизни земной к жизни небесной, которые неотделимы друг от друга. Но, зная, как сложилась в дальнейшем судьба Маши Протасовой, невольно чувствуешь в них пророческие ноты. Поэт словно готовит себя к вечной разлуке.
В 1813 году в эту историю вторгается человек, которому, по замыслу Жуковского, предстояло сыграть в ней свою благотворную роль. Это соученик поэта по Благородному пансиону, друг и единомышленник, тоже поэт Александр Воейков. Воейков, посетивший Жуковского в Холхе и познакомившийся с семейством Протасовых, проявил живейшее участие к жизненной коллизии друга и предложил свою посредническую помощь. Помощь эта должна была стать особенно действенной после женитьбы Воейкова на младшей сестре Маши – Александре. В отличие от Маши, восемнадцатилетняя Александра Протасова была очень хороша собой и без труда пленила тридцатипятилетнего Воейкова. Удивительно то, что сама она тоже им пленилась. Впоследствии об этой семейной паре писал их современник Ф. Ф. Вигель: «Совершенная разница в наружности, чувствах, обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблагороден; она же настоящая Сильфида, ундина, существо неземное…»[4] Пленилась им не только Александра, но и ее мать, Екатерина Афанасьевна, с радостью принявшая сделанное ее дочери предложение руки и сердца. Обе впоследствии «дорого, горем целой жизни»[5] поплатились за свое ослепление. Поплатился и легковерный Жуковский, против которого Воейков стал интриговать, как только вошел в семью Протасовых. Ситуация осложнилась еще больше.
В 1814 году Жуковский снова сделал предложение Маше и снова получил категорический отказ ее матери. Вскоре Протасовы вместе с Воейковым, получившим место ординарного профессора в Дерптском университете, перебрались в Дерпт. Жуковский с разрешения сестры тоже отправился вслед за ними. Но не прошло и месяца, как Екатерина Афанасьевна потребовала от него скорейшего отъезда и прекращения всяких сношений с Машей. На этот раз аргументом было стремление сохранить незапятнанной репутацию дочери. Жуковский этим доводам не верил. Он тянул еще месяц перед тем, как решился покинуть Дерпт, куда приехал вслед за своей возлюбленной и где намеревался жить рядом с ней, где ему понравилось и казалось естественным остаться и работать, пользуясь богатствами университетских библиотек. Здесь он собирался начать совершенно новую жизнь, полную тихого труда и семейных радостей, отложив на неопределенное время свои надежды на счастье, довольствуясь ролью брата или, как он сам говорил, «отца» Маши. Теперь всем этим надеждам был положен конец.
На прощанье они обручились – тайно обменялись кольцами в знак вечной любви. Разлученные влюбленные переписывались, передавали друг другу письма через общую конфидентку и родственницу Авдотью Киреевскую, которой каждый писал о своих переживаниях; кроме того, они вели дневники для самих себя и друг для друга, и эти дневники отражали их повседневность, не столько бытовую, сколько духовную. Мысли, воспоминания, надежды на будущее, планы, сиюминутные впечатления, философские и этические размышления наполняли эти записи, предназначенные для глаз alter ego, человека, не просто близкого, но слепленного из того же теста. Это фактически так и было: Маша во многом была созданием Жуковского, его Галатеей. Она поддерживала его в письмах примерно теми же самыми доводами сердца и рассудка, которые использовал и он: «Ein einziger Augenblick kann alles umgestalten[6]. Это так верно, и я так уверена, что это будет, что смотрю на теперешнюю жизнь, как на срок, который мне дан, чтобы приготовиться к счастию, чтобы иметь возможность сказать: теперь я его достойна! и достойна делать счастие ангела! О! моя жизнь мне драгоценна – и я берегу ее как твою принадлежность, которую некогда должна буду тебе возвратить! Базиль, чего нам бояться!»[7] Сама Маша больше всего боится за творческие возможности своего суженого. У Жуковского, действительно, способность к творчеству как будто напрямую зависела от душевного состояния: если он впадал в отчаяние, что, видимо, случалось в эту пору нередко, то писать совсем не мог. Как только появлялась надежда на благополучный исход, стихи лились из-под его пера. Маша беспокоилась: «Я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отымает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего, кроме слез. – Итак, занятия! непременно занятия. В одной книжке ты сказал, что оно будет для тебя драгоценно, потому что твоя слава будет моя; я надеюсь на твои обещания»[8].
Перед отъездом Жуковского из Дерпта между ним и Екатериной Афанасьевной произошел еще один важный разговор. Мать Маши заговорила о необходимости выдать ее замуж. «Я прибавил: надобно, чтобы ты была счастлива», – пишет Жуковский Маше. Осознав в полной мере бесполезность уговоров, ощутив в глубине души холодок безнадежности, Жуковский хотя все еще говорит о своих будущих планах, но на самом деле уже готовит себя к худшему. Это худшее – возможное Машино замужество. Развивая эту мысль как философ, Жуковский очень рассудителен: «Послушай, друг! Нет ничего лучше семейственного счастия, и ты должна его иметь. Я одного только боюсь, именно, чтобы не случилось то, от чего я своим пожертвованием тебя хотел избавить. Если тебе сделают насилие и ты выйдешь замуж не только без склонности, но еще и сохранив противное чувство, – и если я еще должен буду этого быть свидетелем – тебе должно освободить сердце для счастливого замужества; отдать себя другому с надеждою, что будешь с ним счастлива, – одним словом, сделать из себя всё то, чтобы быть готовою для семейного счастия, но никак не жертвовать собою!» В программу жизни, выстроенную для себя Жуковским, это поучение хорошо вписывается. Однако для того, чтобы его выполнить, Маше нужно сделать над собой последнее усилие: «Чтобы иметь эту готовность быть счастливою с другим, ты должна приучить себя смотреть на меня другими глазами, видеть во мне брата, друга, который этого же счастия за тебя желает, но для меня же и из уважения к своей должности ты должна стараться, чтобы замужество было для тебя счастием драгоценным, а не бедствием, с которым ничего на свете не сравнится»[9]. Это – в теории. На практике всё получилось совсем иначе.
Жуковский приехал в Петербург в мае 1815 года и был встречен там шумно и радостно; его слава уже дала ростки, и репутация первого поэта России утвердилась, его ждали друзья, его окружали единомышленники, он уже был авторитетом в своем кругу. Вскоре Жуковский был принят императрицей. Появилась возможность издать собрание собственных сочинений. Но никакие творческие, карьерные и светские успехи не могли удержать его в столице, при первой же оказии (Александра Воейкова родила дочь) он сорвался и уехал в Дерпт, где провел больше месяца, вернулся в Петербург в расстроенном состоянии. Что-то на глазах разлаживалось, он чувствовал, что теряет Машу. Осенью 1815 года Жуковский получил от нее письмо о предстоящем замужестве. Предполагаемый жених, И. Ф. Мойер, хирург, ординарный профессор медицины Дерптского университета, человек очень положительный и достойный, уже не первый раз сватавшийся за нее, был избран ею добровольно, и Маша «как у отца» просила благословения Жуковского на этот брак, следуя его собственному завету: «Я имела случай видеть его благородство и возвышенность его чувств и надеюсь, что найду с ним совершенное успокоение. Я не закрываю глаза на то, чем я жертвую, поступая таким образом; но я вижу и все то, что выигрываю. Прежде всего я уверена, что доставлю счастье моей доброй маменьке, доставив ей двух друзей. Милый друг, то, что тебя с ней разлучает, не будет более существовать. В тебе она найдет утешителя, друга, брата. Милый Базиль! Ты будешь жить с ней, а я получу право иметь и показывать тебе самую нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает. Не думай, ради Бога, чтобы меня кто-нибудь принуждал на это решиться…»[10] На это простое и наивное признание она получает многостраничный ответ, который датируется сразу несколькими днями – Жуковский писал и не мог остановиться. Он решительно не хочет верить Маше, убежден в насильственности принимаемого ею решения и благословения своего не дает: «…Ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! а я вслед за тобою, как твой отец, говорить то же! Нет! как твой отец, я не могу на это теперь согласиться». И далее: «Если замужеством своим ты надеешься дать мне семейное счастие и возвратить меня в свою семью – эта надежда совершенно пустая. <…> Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга – этим не заманишь меня в ее семью! Скорей соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье! Какими глазами буду смотреть на нее! Какое чувство буду иметь к ней в своем сердце! Я не постигаю, как могла придти тебе в голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мне, чего она боится? За что хочет убить тебя? Неужели надеется найти в аптеках лекарство от твоих болезней, которые сама производит?» Поразительно, сколько страсти в этих строках, сколько отчаяния, сколько неутолимой обиды, ревности и горячего стремления отговорить, уговорить Машу, любыми способами отменить готовящийся брак, отстоять свое право быть женихом, братом, отцом, кем угодно, но только имеющим власть сказать свое последнее слово: «Я не могу согласиться на замужество твое, теперь не могу!»[11] Всё это, кажется, совершенно не похоже на Жуковского, на его прежние письма, исполненные иногда меланхолической грусти, иногда светлой надежды, но всегда сохраняющие равновесие между осознанием тяжести испытания и внутренней необходимостью его достойно перенести.
Состояние Жуковского в это время хорошо отражает стихотворение «Голос с того света» – вольный перевод Шиллера. Хотя главная мысль Шиллера (Eine Geisterstimme[12]) и заимствована Жуковским, но в целом он меняет содержание и привносит много своего личного, что легко отделить от общелитературного:
- Не узнавай, куда я путь склонила,
- В какой предел из мира перешла…
- О друг, я все земное совершила;
- Я на земле любила и жила.
- Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
- Без страха верь; обмана сердцу нет;
- Сбылося все; я в стороне свиданья;
- И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
- Друг, на земле великое не тщетно;
- Будь тверд, а здесь тебе не изменят;
- О милый, здесь не будет безответно
- Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.
- Не унывай: минувшее с тобою;
- Незрима я, но в мире мы одном;
- Будь верен мне прекрасною душою;
- Сверши один начатое вдвоем.
В этом стихотворении Жуковский пытается примирить непримиримое: земной страдальческий удел с небесным блаженством. Это стремление, обозначающее для поэта высшее совершенство человеческого духа, всегда в нем было. Трагический разлад, восприятие земной жизни как юдоли страданий он считал греховным и пытался в себе преодолеть – то более, то менее успешно. В этом стихотворении, однако, есть и другой мотив: разлука с возлюбленной теперь для Жуковского равносильна смерти, он осознает безвозвратность утраченного. Собственно равносильным смерти в этот момент чрезвычайного душевного напряжения поэт ощущает предстоящий брак Маши. Но как удивительно эта элегия предвосхитила дальнейшее! Мотив могилы, характерный для унылой поэзии начала XIX века, у Жуковского устойчиво связывается с женским образом, с утратой возлюбленной, с мотивом ее непременного оплакивания и необходимостью смириться с ее преждевременной смертью и одному совершать дальше свое земное поприще. Приведенное стихотворение не единственное в этом ряду. Знаменитая элегия «Теон и Эсхин», написанная в 1814 году, описывает совершенно аналогичную ситуацию:
- Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,
- Уже одиноким не будет…
- Ах! свет, где она предо мною цвела, —
- Он тот же: все ею он полон.
- По той же дороге стремлюся один
- И к той же возвышенной цели,
- К которой так бодро стремился вдвоем —
- Сих уз не разрушит могила,
- Сей мыслью высокой украшена жизнь…
Всякий истинный поэт обладает печальным провидческим даром, и образ ранней могилы в стихах Жуковского приобрел с течением времени вполне реалистическую окраску.
С момента получения письма Маши, в котором она испросила его благословение на свой брак с Мойером, Жуковский не знает покоя. Он не верит, что его возлюбленная могла так быстро забыть прошедшее, подчиниться обстоятельствам, отказаться от любви, которая, казалось, вечно будет соединять их. С одной стороны, он склонен думать, что мать или Воейков принуждают Машу к этому браку. С другой – мысль о действительной перемене Машиных чувств не дает ему покоя. В конце концов, искать согласия с самим собой Жуковский отправился в Дерпт в январе 1816 года, желая лично разобраться в ситуации и познакомиться с предполагаемым женихом Маши, с которым пока он неистово боролся заочно. И тут произошло чудо: Мойер понравился Жуковскому. Стало очевидно, что Маша не обманывала его, она и вправду привязалась к своему жениху, человеку не просто порядочному, но близкому ей по духу, напоминающему ей Жуковского. Кроме того, она всей душой стремилась вырваться из-под деспотической власти своего зятя А. Ф. Воейкова, который постепенно превратил жизнь семьи Протасовых в кромешный ад. Особенно страдала сестра Александра, в том числе и от поведения мужа в отношении Марии. Хотя определенно трудно сказать, кто страдал больше: доставалось всем, и матери, и дочерям. Замужество Маши должно было хотя бы отчасти положить конец этой тирании. Говорить о радикальной перемене чувств Маши к Жуковскому не приходится, что будет отчетливо видно из дальнейших событий. Однако в этой ситуации ему нужно было отойти в сторону, и Жуковский постарался сделать это так, чтобы не разрушить ни собственных отношений с Машей, ни ее хрупкого покоя, которым дорожил.
В апреле 1816 года Жуковский снова приехал в Дерпт и за исключением нескольких отлучек в Петербург пробыл там целый год. «Ему хотелось вдвоем с Мойером состряпать счастье Маши, пожить утопией платонического “ménage en trois”[13], напоминающего отношения Гёте к Шарлотте и Кестнеру. Гёте освободился от них поэтическим актом, создав “Вертера”; для Жуковского они были испытанием, страдой воли»[14].
14 января 1817 года Мария Андреевна Протасова и Иоганн (Иван) Филиппович Мойер обвенчались. Жуковский был на свадьбе и еще некоторое время после нее провел в Дерпте. Оттуда писал А. И. Тургеневу: «Свадьба кончена, и душа совсем утихла. Думаю только об одной работе»[15]. Однако на самом деле это не было успокоением. Нужно было заново учиться жить, а вернее, выжить и не потерять себя. «“Шагни, и еще раз”, – твердил мне инстинкт…» – скажет о подобном состоянии поэт иного века. В марте Жуковский с горечью признается: «Старое все миновалось, а новое никуда не годится. С тех пор, как мы расстались, я не оживал. Душа как будто деревянная. Что из меня будет, не знаю. А часто, часто хотелось бы и совсем не быть. Поэзия молчит. Для нее еще нет у меня души. Прежняя вся истрепалась, а новой я еще не нажил. Мыкаюсь, как кегля»[16]. Не так давно была написана Жуковским песня «Кольцо души-девицы…». Словом «песня» обозначался в то время легкий стихотворный жанр, но в этом случае при всей простоте исполнения содержанием она очень походила на печальную элегию. Герой теряет в море кольцо возлюбленной и утрачивает ее любовь. Теперь ему остается только лить слезы по невозвратному счастью:
- Вчера ей жалко стало:
- Нашла меня в слезах
- И что-то, как бывало,
- Зажглось у ней в глазах.
- Ко мне подсела с лаской,
- Мне руку подала,
- И что-то ей хотелось
- Сказать, но не могла.
- На что твоя мне ласка,
- На что мне твой привет?
- Любви, любви хочу я…
- Любви-то мне и нет.
Этот незатейливый финал, стилизованный под фольклорный стих, сильно воздействует на читателя, привыкшего совсем к иной стилистике и к иной риторике. Однако всё оказывается трагически просто и не требует тщательного подбора слов, как в лермонтовском «Завещании»: «Пускай она поплачет… / Ей ничего не значит!»
Надо сказать, что и с течением времени полного и окончательного примирения с обстоятельствами в душе Жуковского не наступило. Он, конечно, старался жить так, как это ему предписывал долг христианина, он трепетно относился к семейному счастью Маши (если согласиться с тем, что счастье это было), но боль утраты его не оставляла, равно как и ревность, равно как и тяжелое ощущение безнадежности. В 1819 году он посвящает своему сопернику стихотворное послание:
- Счастливец! ею ты любим,
- Но будет ли она любима так тобою,
- Как сердцем искренним моим,
- Как пламенной моей душою?
- Возьми ж их от меня и страстию своей
- Достоин будь судьбы своей прекрасной!
- Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и всё напрасно,
- Когда нельзя всего отдать на жертву ей.
Примерно через год после замужества Маши в Дерпте побывал приятель Жуковского Ф. Ф. Вигель, который посетил семейство Мойера и оставил об этом посещении любопытное воспоминание, возможно, немного пристрастное.
«Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на меня Мария Андреевна Мойер <…>. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же, мимоездом, в продолжении немногих часов, влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна, но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенные скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал; а находясь с такими, как она, в сердечном умилении, все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего. “Как в один день все это мог ты рассмотреть?” – скажут мне. Я выгодным образом был предупрежден насчет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нем не преувеличение, а ослабление истины. И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неравный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так рассуждал я сам с собой: “Кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее? Впрочем, кто знает, были, вероятно, какие-нибудь препятствия, и тут кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман?” Она не долго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их»[17]. Вигель, конечно, преувеличивает размеры бедствия. Мойер не был «дюжим немцем» с инстинктом хищника, каким его хочет изобразить мемуарист, он был образованным человеком, хорошим музыкантом и ценителем музыки, благотворителем, как это написано на роду у всех лучших русских врачей. И он, несомненно, любил свою жену и всеми силами старался сделать ее счастливой.
Совершенно другую картину семейной жизни представляет Екатерина Ивановна Мойер, дочь Маши: «Брак матери моей был очень счастлив, она всем сердцем любила и уважала мужа своего, который вместе с нею всю жизнь свою посвятил добру. Состояния их едва хватало на содержание семьи, и у них всегда жило в доме много бездомных молодых людей; отец взял к себе племянника своего Тидебеля, родившегося за несколько дней до смерти отца своего, и воспитывал его, как сына. Кроме него жил у нас в доме Зейдлиц, еще племянник отца Штоппельберг и многие другие еще, которые сменялись. Все эти домочадцы звали мою мать своею матерью и любили ее, как мать. Бабушка тоже переселилась к старшей дочери своей. Для всех мать моя была готова на всякого рода услугу, на всякое лишение. Всякая минута жизни ее была занята, и не было такой работы, которую она считала бы для себя унизительной. Ей случалось и стряпать, и гладить белье, и шить его, и рубить капусту, и мерить овес, и перевязывать раны. На ее печатке был пчелиный улей с надписью: “Activité dans un petit cercle”[18]»[19]. Не будем особенно доверять и этому свидетельству: мемуаристка, конечно, не могла помнить, как жили ее родители вместе, она скорее воспроизводит семейные легенды.
О деятельном участии М. А. Мойер в судьбах других людей есть и иные воспоминания. Но о степени близости между супругами и о семейном счастье Маши судить очень трудно, тем более что ее письма Жуковскому после 1817 года полны самого горячего чувства: «Милый ангел! какая у меня дочь! что бы дала я за то, чтобы положить ее на твои руки»[20]; «Ангел мой, Жуковский! Где же ты? все сердце по тебе изныло. Ах, друг милый! неужели ты не отгадываешь моего мученья? Бог знает, что бы дала за то, чтоб видеть одно слово, написанное твоей рукой, или знать, что ты не страдаешь. Ты мое первое счастие на свете. – Катька мне дорога, мила, но не так, как ты. Теперь я это живо чувствую! <…> Ах, не обрекай меня! Это естественно, бояться до глупости, когда любишь так, как люблю тебя я. <…> Не вижу, что пишу, но эти слезы уже не помогают! – Я вчера ночью изорвала и сожгла все письма, которые тебе написала в течение этого года. Многое пускай остается неразделенным! Я хочу только быть спокойна на твой счет – отдаю с радостью наслаждение. Ах, Боже! дай мне моего Жуковского! Брат мой! твоя сестра желала бы отдать не только жизнь, но и дочь, за то, чтоб знать, что ты ее еще не покинул на этом свете!»[21] «Ангел мой Жуковский! Вот ты уже и проехал! Кончилось счастье, которым сердце полтора года жило – теперь нечего ждать»[22]. Имело ли смысл самопожертвование Жуковского, осчастливила ли покорность судьбе его возлюбленную, был ли, действительно, отказ от борьбы – единственным достойным способом улаживания семейного конфликта, – судить чрезвычайно трудно и, наверное, не нужно. Жуковский, несомненно, действовал из самых лучших побуждений.
Дальнейшая биография Марии Мойер была короткой и очень трагичной. Через год после свадьбы она родила дочь Екатерину, которую ей удалось, как она мечтала, положить на руки Жуковскому, побывавшему в Дерпте после ее родин. В начале 1822 года Маша приехала из Дерпта, чтобы посетить родные места. В Муратове, которое было овеяно воспоминаниями о невозвратимом прошлом, ее посетило странное предчувствие: «Стадо паслось на берегу, солнце начало всходить, и ветер приносил волны к ногам моим. Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни, – но это чувство доставит мне счастие и там. Я окончила свои счеты с судьбой, ничего не ожидаю более для себя». А. Н. Веселовский упоминает о ее тетрадке, последнем дневнике[23], на заглавном листе которого была воспроизведена шиллеровская цитата из того самого стихотворения, которое переложил в свое время Жуковский – «Eine Geisterstimme»:
- Я все земное совершила.
- Habe ich nicht beschlossen und geendet,
- Habe ich nicht geliebt und gelebt![24]
Маша словно готовила себя к скорой смерти.
В феврале 1823 года в Дерпт вместе с Александрой Воейковой из Петербурга приехал Жуковский. Близился к концу срок второй беременности Маши, которую она переносила тяжело, была нездорова. Видимо, общее недомогание, связанное с семейной болезнью, чахоткой, которая вскоре сведет в могилу и ее сестру, мучило ее. Жуковский не подозревал, что видит Машу в последний раз. 8 марта он должен был уезжать, в письме А. П. Елагиной он описывал свой отъезд, впоследствии обернувшийся вечным прощанием: «Долго ждал лошадей, всех клонил сон. Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до ее дома… Возвратясь, проводил Машу до ее горницы; они взяли с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса все готово к отъезду. Встаю, подхожу к ее лестнице, думаю – идти ли, хотел даже не идти, но пошел. Она спала, но мой приход ее разбудил; хотела встать, но я ее удержал. Мы простились; она просила, чтоб я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку…»[25] Жуковский вернулся в Петербург и через несколько дней узнал о смерти Маши. «18-го марта скончалась родами Мойер, и Жуковский опять поскакал туда в прошедшую среду. Потеря ужасная: робенка вынули мертвого. Подробностей мы еще и по сие время не знаем. Я потерял в ней нежнейшего, истинного друга. Хотя ни разу не видел ее в этой жизни, но почти всякую почту переписывался. Какой прелестный ангел! She was too pure, on earth to dwell[26]! Ничего нельзя было придумать ужаснее для семейства»[27]. Жуковский снова полетел в Дерпт, но на похороны не успел и посетил только свежую могилу Маши. На смерть возлюбленной он написал трогательное стихотворение, говорящее о полном примирении с несовершенством земного бытия. Собственно, эту ситуацию Жуковский уже много раз проигрывал в поэзии, и теперь оставалось только пережить ее в реальности.
- Ты предо мною
- Стояла тихо,
- Твой взор унылый
- Был полон чувства.
- Он мне напомнил
- О милом прошлом;
- Он был последний
- На этом свете.
- Ты удалилась,
- Как тихий ангел,
- Твоя могила,
- Как рай, спокойна.
- Там все земные
- Воспоминанья,
- Там все святые
- О небе мысли;
- Звезды небес!
- Тихая ночь!
Жуковский женился очень поздно, когда ему шел уже пятьдесят восьмой год, на юной дочери своего давнего знакомца и душевного друга, немецкого художника Герхарда (в русской транскрипции – Евграфа) Рейтерна, когда-то состоявшего на российской службе и участвовавшего в антинаполеоновских войнах. В Битве народов под Лейпцигом он потерял правую руку и с тех пор работал левой. С Рейтерном знакомство Жуковского состоялось в 1826 году, когда старшей дочери художника, Елизавете, шел пятый год. В 1841-м Жуковский сделает ей предложение. Обратим внимание на сходство сюжетов: маленькая девочка, подрастая, пленяет воображение ее старшего друга, постепенно превращаясь из робкой ученицы в самовластную хозяйку его сердца. Елизавета Рейтерн не была ученицей Жуковского в том прямом смысле, в каком была ею Мария Протасова, но друга отца она видела в своей жизни не раз, иногда подолгу, поскольку поездки Жуковского за границу с годами становились всё более продолжительными как в силу исполняемых им служебных обязанностей, так и в силу личного стремления к покою и воле. Видимо, Елизавета привыкла любить и уважать поэта и смотрела на него с тем особым восхищением, которое он невольно сумел вызвать в ее душе. В 1839 году, в один из таких приездов, Жуковский отметил для себя разительные перемены, произошедшие с дочерью друга, которой теперь он присваивает самые возвышенные эпитеты: «райское видение», «светлый призрак»… Сделав через два года предложение, он получил согласие. Испросив у императора разрешение и пообещав воспитывать своих будущих детей в православной вере, Жуковский поселился с молодой женой в Германии. Они венчались дважды, сначала в православной церкви, затем в лютеранской. Говорили между собой на немецком и французском языках, русского Елизавета Евграфовна не знала.
Идиллическая жизнь с возлюбленной, начавшаяся в маленьком домике ее отца в окрестностях Дюссельдорфа, обернулась, однако, серьезным испытанием для Жуковского. Постоянные болезни жены, нервные состояния, затяжные депрессии, которые угрожали ее хрупкому душевному здоровью, терзали его. Необходимость зарабатывать на жизнь, осложнившиеся отношения с императорской семьей, пошатнувшееся собственное здоровье – всё это сделало последние десять лет жизни Жуковского тяжелыми, если не сказать трагическими. В семье Жуковского и Рейтерн родилось двое детей, так что «испытать семейного счастия» поэту все-таки привелось, правда, было оно довольно-таки горьким. Супруги ушли из жизни друг за другом. Жуковский – в 1852 году, ослепнув на один глаз, практически обезножев, сломленный сердечной болезнью, не дожив до своего семидесятилетия. Елизавета – в 1856-м, в возрасте тридцати пяти лет. Жизнь потребовала от всех участников своей драмы поистине титанической силы духа и христианского терпения. Утешаться можно было только одним – тем, чем Жуковский в совершенстве умел утешаться и раньше:
- При мысли великой, что я человек,
- Всегда возвышаюсь душою.
Из писем В. А. Жуковского М. А. Протасовой
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой, февраль – март 1815
Милая Маша, нам надобно объясниться. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились. Дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верным. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне должно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я ей говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски – я хотел только свободы и доверенности. Это нас рознило с нею. Теперь, когда все, и самое чувство, пожертвовано, когда оно переменилось в другое лучшее, в нежнейшее, нас с нею ничто не будет рознить. Но, милый друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером и подпорою; хочу знать и слышать твои мысли. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою! Право, для меня все равно – твое счастие или наше счастие. Поставь себе за правило все ограничить одной собою, поверь, что будешь тогда все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на деле – смотря на тебя, я уже не то думаю, что прежде; если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда с своим дурным старым товарищем, грустью; стоит уйти к себе, чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно; а это еще теперь, когда я от маменьки ничего не имею, когда я еще ей не брат – что ж тогда, когда и она с своей стороны все для меня сделает. Я уверен, что грустные минуты пропадут и место их заступят ясные, тихие, полные чистою к тебе привязанностью. Вчера за ужином прежнее немножко что-то зацепило меня за сердце – но воротясь к себе, я начал думать о твоем счастии, как о моей теперешней заботе. Боже мой, как это меня утешило! Как еще много мне осталось! Не лиши же меня этого счастия! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, все делай для себя – чего для меня болеет. Я буду знать, что я участник в этом милом счастии! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель – работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать? Все пойдет из сердца и все будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли – я уверен, что они и возвысят и утвердят все мои чувства и намерения.
Я сейчас отдал письмо маменьке. Не знаю, что будет. В обоих случаях – Perseverance! Меня зовут! Чудо – сердце не очень бьется. Это значит, что я решился твердо…
Мы говорили – этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала, чтоб я до июля остался в Петербурге – потом увидит. Одним словом, той сестры нет для меня, которой я желаю и которая бы сделала мое счастие. Еще она сказала: дай время мне опять сблизиться с Машей; ты нас совсем разлучил. Признаюсь, против этого нет возраженья, и если это так, то мне нет оправдания; и я поступаю, как эгоист, желая с вами остаться! В самом деле! Чего я хочу? Опять только своего счастия? Надобно совсем забыть об нем! Словами и объяснениями его не сделаешь! Маша, чтобы иметь полное спокойствие, не должно ли тебе возвратить мне всех писем моих? Ты знаешь теперь нашу общую цель. Твое счастие! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон и твое сердце. Довольно! Твердость и спокойствие, а все прочее Промыслу.
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой, март 1815
Расположение, в каком к тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать все своему другу. Я должен непременно тебе открыть настоящий образ своих мыслей. Маша моя (теперь моя более, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня решительно от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного – нет! Я никогда не переменю на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив, и что Бог благословил бы нашу жизнь! Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену! твое собственное счастие и спокойствие! Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца. Другая, нежнейшая связь! право, эта минута была для меня божественная; если можно слышать на земле голос Божий, то конечно в эту минуту он мне послышался! С этим чувством все для меня переменилось, все отношения к тебе сделались другие, я почувствовал в душе необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имел в жизни, вдруг сделалось моим; я увидел возле себя сестру и сделался другом, покровителем, товарищем ее детей; я готов был глядеть на маменьку другими глазами и, право, восхищался тем чувством, с каким бы называл ее сестрою – ничего еще подобного не бывало у меня в жизни! Имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готов был ее обожать, ни в ком, ни в ком (даже и в вас) не имела бы она такого неизменного друга, как во мне; до сих пор имя сестры только меня пугало, оно казалось мне разрушителем моего счастия; после совершенного пожертвования собою оно показалось мне самым лучшим утешением, совершенною всего заменою; боже мой, какая прекрасная жизнь мне представилась! Самое деятельное, самое ясное усовершенствование себя во всем добром! Можно ли, милый друг, изменить великому чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною! Если прежде, когда моя привязанность к тебе была непозволенною, я имел в иные минуты счастие, – что же теперь, когда душа от всякого бремени облегчилась и когда я имею право быть довольным собою! Раз испытав прелесть пожертвования, можно ли разрушить самому эту прелесть! С этим великим чувством – как бы счастливы шли мои минуты! Вместо своего частного счастия – иметь в виду общее, жить для него и находить все оправдание в своем сердце и в вашем уважении; быть вашим отцом (брат вашей матери имеет на это имя право), называть вас своими и заботиться о вашем счастии – чем для этого не пожертвуешь! И для этого я всем пожертвовал! Так, что и следу бы не осталось скоро в душе моей! Даже в первую минуту я почувствовал, что над собою работать нечего – стоило только понять меня; подать мне руку сестры! стоило ей только вообразить, что брат ее встал из гроба и просится опять в ее дом. Или, лучше, вообразить, что ваш отец жив и что он с полною к вам любовию хочет с вами быть опять на свете. С этими счастливыми, скажу смело, добродетельными чувствами соединялась и надежда вести самый прекрасный образ жизни. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать – никакого рассеяния, тьма пособий и ни малейшей заботы о том, чем бы прожить день, и при всем этом первое, единственное мое счастие – семья. С таким чувством пошел я к ней, к моей сестре. Что же в ответ? – «Расстаться!» Она уверяет меня, что не от недоверчивости – а для сохранения твоей и ее репутации! Милая, эта последняя причина должна бы удержать ее еще в Муратове. Там можно было того же бояться, чего и здесь. Но в Муратове она решилась возвратить меня, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую. Нет! эта причина не справедливая! или должно было меня еще остановить в Москве! И теперь в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, все для меня разрушено! Я не раскаиваюсь в своем пожертвовании – можно ли раскаяться когда-нибудь в том, что возвышает душу! Но я надеялся им заплатить за счастие, и я был бы истинно счастлив.
…Трудиться для денег! Прощай энтузиазм! единственное, что оставалось! Ремесленничество не сходно ни с каким энтузиазмом, но и без него рассеяние погубило бы энтузиазм! все разом вдребезги – и счастие, которое вдруг представилось бы мне столь ясным, и труд свободный, замена за счастие! Нет, милая! Голос брата не дошел до ее сердца! Чтобы тронуть его, я, видно, не имею никакого языка! Я сделаюсь дорог тогда разве, когда меня не будет на свете! Этот страх расстроить репутацию есть только придирка! Почему же он теперь именно, когда все причины к недоверчивости совершенно разрушились, пришел в голову! Для чего вырвать меня из Долбина? Само по себе разумеется, что против этой причины я не мог ничего сказать! Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою – но надобно, чтобы жертва была необходима! Здесь – каких толков бояться? Кто подаст к ним повод? А прежние толки пропадут сами собою! Да я первый все усилия употреблю, чтобы все привести в порядок! Между тем мы были бы счастливы, счастливы в своей семье, и свидетель был бы у нас Бог! О! как бы весело было помогать друг другу вести жизнь добродетельную! Я чувствую, я уверен, что было бы легко и что мне даже и усилий никаких не было бы нужно делать над собою! Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости и за каким счастием гнаться? Так и быть! Все в жизни к прекрасному средство! Но сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили.
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой, 29 марта 1815
Милый друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смирная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только войти в себя, поговорить с добрым, нельстивым другом, и все, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона. Теперь чтение для тебя – не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всем добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностию к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование тобою – опыт самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты из жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно – я все потеряю. Я сохраню его, как свою лучшую драгоценность. Я вверяю себя этому воспоминанию и, право, не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня собственно? во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства – дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах – вот все, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. В прочем останемся беззаботны. Все в жизни к прекрасному средство! Я прошу от тебя только одного: не позволяй тобою жертвовать и заботься о своем счастии. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты более имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в день для чтения, в этом чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального – терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного – везде сестра. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он, во все минуты жизни, если не живет, то по крайней мере желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более нежели когда-нибудь чистая и сильная.
Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту. Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть счастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего…
…В этом письме мне не должно бы было говорить о Воейкове. Но должно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято. Нет! меня хотят лишить всякого счастия! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты унылости и сомнения, все прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе. У меня есть семья друзей и твое уважение. Я богат. Остальное Провидению. Дурного быть не может, если сам не будешь дурей. А у меня есть верная защита от всего: воспоминание и perseverance!
Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее. Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради Бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял.
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой, 27 ноября 1815
Ты хочешь говорить с мною как с отцом. Если это имя не пустое слово, написанное без всякого особенного смысла, то это значит, что мое мнение для тебя так же важно, как мнение отца. Милый друг, ты мне поверишь, когда скажу тебе, что могу без всякого эгоизма думать о твоем счастии и желать его. Итак, я буду говорить как отец, которому все то известно, что делается в сердце у дочери, который на этот счет не хочет обманывать ни себя, ни других, который желает счастия своей дочери для нее, который, думая об ее счастии, не разумеет под ним одного собственного спокойствия. Послушай, мой милый друг, если бы твое письмо написано было хотя полгодом позже, я бы подумал, что время что-нибудь сделало над твоим сердцем и что привязанность к Мойеру, произведенная свычкою, помогла времени; я бы поверил тебе и подумал бы, что ты действуешь по собственному, свободному побуждению; я бы поверил твоему счастию. Но давно ли мы расстались? Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке! Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала – могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг? Мойеру уже было один раз отказано! Он, вероятно, не делал новых предложений! С чего же пришла тебе самой мысль за него идти? тебе, которая говорила, что для тебя никакого другого счастия не надобно, кроме свободы, неразлучности с маменькой и спокойствия в семье твоей? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили с одной стороны требования и упреки, с другой – грубости и жестокое притеснение! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастием, и даже не принимая его за пожертвование! Ты пишешь ко мне точно такую же правду, какую ты написала к Павлу Ивановичу; основываясь на письме твоем, скажут, что ты всего сама желала, что сделали тебе угодное, и до того, что у тебя в сердце, нет дела. Это видит один Бог, а не люди! Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! а я вслед за тобою, как твой отец, говорить то же! Нет! как твой отец, я не могу на это теперь согласиться. Если бы я был твой отец не на словах, а на деле, если бы это имя не было мне дано, как самое оскорбительное доказательство совершенного бессилия сделать что-нибудь для твоего счастия, я бы поступил иначе; зная твое состояние, я бы прежде всего старался дать тебе время успокоить свое сердце, я бы не стал, как самовластный деспот, располагать всею судьбою твоей жизни; не пожертвовал бы ею своему спокойствию, своей прихоти; зная в своей совести, что я сам причиною всего, что с тобою было, я не вздумал бы к твоему несчастию, мною самим сделанному, прибавить другого, совершенно неизгладимого; я бы заменил для тебя то, что у тебя отнял, произвольно или принужденно, до того нет дела; подле меня нашла бы ты все вознаграждения за потерянное; я не дал бы в семье своей делать тебе жестоких неприятностей, принуждающих тебя все забыть, на все решиться, чтобы после во всем раскаиваться: одним словом, я был бы твой отец, утешитель, товарищ! Не думал бы об одном себе! Ты была бы свободна, спокойна; время все бы исправило! Тогда без принуждения, без всякого упрека совести, ты выбрала бы для себя счастие верное, то есть хорошее променяла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я был бы счастлив, потому что был бы тогда уверен в твоем счастии! Так бы я поступил, если бы был твой отец или твоя мать. Но теперь кто уверит меня, что ты поступаешь свободно? То, что ты написала к Павлу Ивановичу, может быть удовлетворительно для Павла Ивановича, но не для меня. Я знаю постоянное расположение твоего сердца, и маменька знает его – как же могу поверить, чтобы, с таким расположением, писанное тобою было язык твой.
Не бойся моей встречи с Воейковым и успокой на этот счет Сашу – если мы увидимся, то никаких объяснений между нами не будет! Они не нужны! Что ты называешь с ним помириться? желать ему добра и всякое, какое в моей власти, сделать – это само по себе разумеется! Любить его и простить ему твои огорчения – это невозможно!
28-го ноября
Одно место твоего письма изумило меня. Воейков, которого я сейчас видел, подтвердил мое изумление: en vous sacrifiant comme vous le faites, vous croyez donner a votre mere deux amis[28]. Ты хочешь дать мне свое место в семье твоей матери. Нет, Маша! я просил тебя тысячу раз: не думай обо мне, заботясь о своем счастии! Будь счастлива для себя, тогда и все мое желание исполнится. Мне занять твое место! Прошу на этот счет не обманываться! Заставив написать Павла Ивановича письмо, я хотел воспользоваться последним способом – он не удался, и для меня все теперь навсегда решено! Я совершенно отказался от невозможного. И твоей матери нечего бояться! Если она думает, что я жду смерти ее, чтобы возобновить все – этот страх напрасен! Для ее успокоения ты можешь дать ей какую хочешь клятву, а я не захочу никогда взять руки твоей на гробе твоей матери. Она сделала из меня какое-то чудовище, которого боится, и этот страх даже ее самое приводит к преступлению. Если замужеством своим ты надеешься дать мне семейное счастие и возвратить меня в свою семью – эта надежда совершенно пустая. Я был бы истинным другом, истинным братом твоей матери и еще остался бы ей благодарен (и эта благодарность не кончилась бы и по смерти ее), когда бы видел, что она, разделив и твое и мое горе, облегчила бы его всем, что от нее зависит – думая единственно, как бы утешить тебя и тебе дать совершенное спокойствие. Твое счастие было бы величайшим ее благодеянием и мне. Мы были бы розно (ибо вместе быть нельзя), но это розно не разорвало бы дружбы; у нас было бы одно – твое счастие! И как легко его сделать – быть просто матерью, другом и утешителем, а не притеснителем, который всем готов жертвовать своему эгоизму. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга – этим не заманишь меня в ее семью! Скорей соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье! Какими глазами буду смотреть на нее! Какое чувство буду иметь к ней в своем сердце! Я не постигаю, как могла придти тебе в голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мне, чего она боится? За что хочет убить тебя? Неужели надеется найти в аптеках лекарство от твоих болезней, которые сама производит?
Одним словом, чтобы все кончить, я могу только согласиться на твое счастие – в этом пожертвовании я не вижу его; я не вижу его для тебя в замужестве, по крайней мере теперь его для тебя в замужестве быть не может. Разве забыла она своих двух сестер и своего брата? Разве забыла, что ты в начале этого месяца была при смерти? А что смерть пред тою жизнью, которую она тебе готовит! Она могла бы тебя счастливить, а она тебя гонит от себя! Я не могу согласиться на замужество твое, теперь не могу!
«Не худое подражание»
Константин Батюшков и Анна Фурман
«…И того довольно, что любовь была;
<…> Даже память не обязательна для любви».
Т. Уайлдер
В письме своему задушевному другу А. И. Тургеневу 22 марта 1815 года П. А. Вяземский сетовал на неустроенность В. А. Жуковского, связанную как с невозможностью обретения личного счастья, так и с проблемами сугубо материального свойства: «С вами ли Жуковский? Поручаю его тебе. Изнасильничай его и назло ему сделай ему добро. <…> Друзьям его надобно подумать о его счастии…»[29] Смысл этого пассажа очевиден – сам Жуковский делает все возможное, чтобы быть несчастливым. Нужно облагодетельствовать его, даже вопреки его воле. Мы знаем уже, какие обстоятельства жизни Жуковского подразумевает автор письма: март 1815 года был ознаменован категорическим отказом Е. А. Протасовой и последовавшим отлучением от дома. Жуковский, с излишней поспешностью, смирился с этой ситуацией, что у его друзей вызывало некоторое недоумение.
Вслед за предложением насильно сделать Жуковского счастливым, раз сам он уклоняется от счастья, в письме Вяземского следует рассказ о другом поэте, близком приятеле всех названных, – Константине Николаевиче Батюшкове: «Обними Батюшкова: и этот шалун, кажется, дурачится и просится охотою в горемыки. Что с ними делается? Я, право, их не понимаю…»[30]