Читать онлайн Старший трубач полка бесплатно
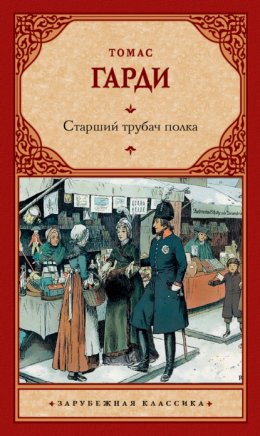
© Перевод. Т. Озерская, наследники, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Томас Гарди (1840–1928) – классик мировой литературы, автор романов «Вдали от безумия», «Джуд Незаметный», «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и других произведений, в которых он выступил как достойный последователь британского критического реализма, заложенных Диккенсом и Теккереем. Произведения Гарди, драматичные, полные ярких образов и неожиданных сюжетных поворотов и пронизанные античным ощущением власти всемогущего рока над человеческой судьбой, по-прежнему пользуются огромной популярностью у читателей.
Вступление
Это повествование в большей мере, чем все другие произведения уэссекского цикла, опирается на свидетельства современников – как письменные, так и устные. В ходе его развития воспроизведены без прикрас почти исключительно подлинные события тех лет, сохранившиеся в памяти очевидцев-старожилов, ныне уже усопших, но хорошо знакомых автору в дни его детства. Если бы эти воспоминания были использованы полностью, они составили бы книгу, втрое более объемистую, нежели история «Старшего трубача драгунского полка».
До середины нынешнего столетия и даже несколько позднее в местностях, более или менее отчетливо обозначенных в повествовании, не было недостатка в различного рода напоминаниях о тех событиях, на фоне которых оно протекает, – я имею в виду наши приготовления к обороне перед угрозой вторжения в Англию Бонапарта. Изрешеченная пулями дверь сарая, превращенная каким-нибудь одиноким воякой в импровизированную мишень для упражнения по стрельбе в цель из кремневого ружья в дни, когда с часу на час ожидалась высадка на наших берегах чужеземных войск; груда кирпичей и комья глины на вершине холма – остатки очага и стен глинобитной хижины, жилища смотрителя маяка; изъеденные червем древки и металлические наконечники пик – доспехи тех, кому не досталось лучших; земляные насыпи на холмах, еще сохранившиеся от лагерных укреплений; части военного обмундирования ополченцев и прочие пережившие свое время реликвии столь живо возрождали в моем детском воображении перипетии военных лет, что никакие многотомные исторические фолианты не могли бы их заменить.
Тот, кто когда-либо пытался сложить в связное повествование отрывочные сообщения очевидцев, знает, как трудно восстановить истинную последовательность событий по таким случайным свидетельствам. Газеты того времени оказывают в этом случае неоценимую услугу. Для успокоения тех, кто любит правду без вымысла, я хочу еще упомянуть, что «Обращение ко всем англичанам без различия положения и звания» было, наряду с прочими использованными мною документами, скопировано с оригинала, хранящегося в местном музее, а карикатурный портрет Наполеона можно обнаружить и сейчас в виде печатного оттиска в доме одной старой женщины, проживающей неподалеку от Оверкомба; некоторые же подробности времяпрепровождения короля во время его пребывания на излюбленном им курорте подтверждаются письменными свидетельствами тех лет. Сцена обучения новобранцев местного ополчения получила кое-какие дополнения в соответствии с сообщением, извлеченным мною из столь солидного труда, как «История войн эпохи французской революции» Гиффорда (Лондон, 1817). Однако, обратившись к этому историческому труду, я впал в ошибку, ибо предположил, что упомянутое сообщение претендует на достоверность или имеет какое-либо отношение к сельским местностям Англии. Тем не менее оно вполне в духе тех традиций, которые нашли свое отражение в подобного рода сценах, а их описания мне доводилось слышать неисчислимое количество раз; к тому же вся система обучения ополченцев была проверена мною по Военному уставу 1801 года и другим специальным военным справочникам. Что же касается предполагаемой высадки в нашей бухте французов, то, как уже упоминалось выше, здесь я основывался почти целиком на устных рассказах очевидцев. Других подтверждений достоверности изложенных в этой хронике событий память мне не сохранила.
Т. Г.
Октябрь, 1895 г.
Глава 1
Что можно было наблюдать из окна, выходившего в долину
В те дни, когда женщины носили муслиновые платья с высокой талией, а великое множество лиц военного звания, наводнявших грады и веси, служили причиной немалых треволнений среди представительниц прекрасного пола, в одной из приморских деревень Уэссекса проживали две дамы, обладавшие самой безупречной репутацией, но весьма ограниченными, как это ни прискорбно, средствами. Старшая из них была миссис Марта Гарленд – вдова художника-пейзажиста, вторая – ее единственная дочь Энн.
Энн была златокудра, златокудра в самом высоком, поэтическом смысле этого понятия, но цвет лица у нее был того неуловимого оттенка – более смуглого, нежели у блондинок, и более светлого, нежели у брюнеток, – для которого, к великому нашему затруднению, еще не придумано названия. Глаза ее смотрели открыто и пытливо, линия рта была безупречна, хотя ее и нельзя было назвать классической, верхняя губка едва-едва достигала требуемой длины и при самомалейшей приятной мысли, не говоря уже об улыбке, вольно или невольно обнажала краешек двух-трех белоснежных зубов. Кое-кто находил это весьма привлекательным. Энн была стройна и грациозна, и при невысоком росте – чуть больше пяти футов – благодаря своей осанке умела казаться высокой. Во всех ее движениях, манерах и повадке, в том, как она говорила: «Я пойду туда», – или: «Я сделаю это», – было столько достоинства в сочетании с мягкой женственностью, что ни одна девушка не могла бы с ней тут потягаться, а любой впечатлительный юнец, случайно попадавший в ее общество, испытывал неодолимое желание услышать от нее хоть словцо и вместе с тем отчетливо сознавал, что ему этого не добиться. Словом, под очаровательной непосредственностью и простодушием этой молодой особы угадывалась неприметная на первый взгляд твердость характера, подобно тому как в сердцевине самого скромного полевого цветка, скрытые от глаз, золотятся тычинки. Свою белую шейку Энн прикрывала белым платком, а голову – шляпкой с розовой лентой, завязанной бантом под подбородком. Лент этих у нее было несметное количество: молодым людям чрезвычайно нравилось посылать ей их в виде презента до тех пор, пока каждый из них не находил себе подружки по сердцу где-нибудь в другом месте, после чего презенты прекращались. На лбу из-под шляпки – словно ласточкино гнездо из-под застрехи – выглядывал ряд золотистых завитков.
Энн со своей овдовевшей матерью занимала часть старинного усадебного здания – бывшего господского дома, превращенного ныне в мельницу: мельник, находя помещение слишком просторным для своих собственных нужд, почел возможным разделить его на две половины и сдать одну из них сим весьма почтенным постояльцам. В этом жилище слух миссис Гарленд и Энн денно и нощно услаждала музыка мельничных колес, которые, будучи сделаны из дерева, должны были хотя бы отдаленно напоминать приглушенные регистры органа. Временами, когда на мельнице начинал работать грохот, к этим привычным звукам присоединялось веселое постукивание, которое не слишком нарушало покой постояльцев, если, конечно, не длилось до рассвета. А в добавление ко всему дамы имели удовольствие замечать, что через каждую щель, дверь или окно, как бы плотно их ни законопачивать, к ним в жилище из мукомольни заползает легкий туман тончайшей мучной пыли, совершенно неуловимый для глаз, но с течением времени наглядно заявлявший о своем присутствии сероватым налетом, придававшим призрачный вид самой первосортной мебели. Мельник не раз приносил своим постояльцам извинения за непрошеное вторжение этого коварного сухого тумана, но вдова, будучи нрава приятного и дружелюбного, отвечала, что туман этот ей нисколько не мешает, ибо это не гадкая грязь, а пыль от благословенных злаков господних.
Проявлением такого рода доброты и великодушия и разными иными путями миссис Гарленд завоевала расположение мельника, и мало-помалу между соседями укрепилась такая дружба, о которой вдова и не помышляла, когда, соблазнившись дешевой платой, перебралась после смерти супруга на мельницу из более просторного дома на другом краю деревни. Те, кому доводилось жить в глухих углах, где, что называется, «нет общества», знают, как могут постепенно рушиться социальные перегородки, – процесс, который в описываемом случае происходил за счет некоторого опрощения одного из семейств. Вдова иной раз огорчалась, видя, с какой легкостью Энн перенимала простонародный говор и словечки у мельника и его приятелей, однако мельник был так добр и простосердечен, а вдова так покладиста и не тщеславна, что она не захотела быть слишком разборчивой, дабы не оказаться в положении затворницы. К тому же у нее имелись довольно веские основания полагать, что мельник к ней втайне неравнодушен, и это придавало ситуации известную пикантность.
Как-то прекрасным летним утром, когда листву уже пригрели солнечные лучи, а наиболее прилежные пчелы устремились в луга и сады, ныряя в каждую голубую или красную чашечку, которую можно было принять за цветок, Энн на своей половине сидела у окна, выходившего на задний двор, и отматывала шерсть для мохнатого коврика с бахромой; она вязала его уже не первый день, и, на три четверти готовый, он лежал у ее ног. Работа эта, хотя и замысловато-пестрая, была скучна; каминный коврик – вещь, над которой никто не трудится от зари до зари: за него берутся и его откладывают; он лежит то на стуле, то на полу, то свешивается с перил лестницы, то выглядывает из-под кровати; его запихивают то туда, то сюда, прячут, скатав, в чулан и снова извлекают на свет божий, и так далее в таком же духе, обращаясь с ним с большей бесцеремонностью, чем, пожалуй, с любым другим предметом домашнего обихода. Никто никогда не предполагает, что каминный коврик можно закончить к какому-то определенному сроку, и шерстяные нитки, употребленные вначале, блекнут и приобретают доисторический вид, прежде чем работа бывает доведена до конца. И не столько лень, сколько сознание особенностей, присущих этому домашнему рукоделию, заставляли Энн то и дело поглядывать в растворенное окно.
Прямо перед ее взором простиралась широкая гладь мельничного пруда, полноводная, вторгавшаяся в пределы живой изгороди и дороги. Вода с плавающими на ней листьями и пузырьками пены неудержимо, как время, убегала под темный свод, чтобы обрушиться там на огромное скользкое колесо. Местность по ту сторону запруды называлась «Развилок» и на три четверти соответствовала этому наименованию, так как здесь сходились два проселка и тропа, по которой гоняли скот. Это было местом всех свиданий и ареной наиболее интересных событий для жителей близлежащей деревеньки. За ним прямо к небу вздымался крутой уступ, переходивший в просторное плато, где сейчас паслось довольно много только что остриженных овец. Высокое нагорье защищало мельницу и деревеньку от северных ветров, превращая весну в лето, умеряя зимнюю стужу, смягчая осеннюю прохладу и позволяя миртам цвести под открытым небом.
Все утопало в полуденном зное, даже овцы перестали пощипывать траву. Развилок в этот час был безлюден: немногочисленное население деревни обедало. На плато тоже не было ни единого человеческого существа, и, если не считать Энн, оно в эту минуту не привлекало к себе ничей взор и ничье внимание. Только пчелы трудились по-прежнему да бабочки не переставая порхали взад и вперед, словно их ничтожная величина служила им спасением от того губительного воздействия, которое этот поворотный час дня оказывал на живые существа более крупных размеров. Все остальное оцепенело в неподвижности.
Энн без всякой особой причины поглядывала на плато и на овец. Крутой, усеянный маргаритками склон нагорья, поднимавшийся над кровлями, печными трубами, верхушками яблонь и деревенской колокольней, ограничивал поле ее зрения, а отрываясь от работы, нужно же куда-нибудь смотреть. И вот когда она то трудилась, то бросала взгляд в окно, ее внимание привлекли к себе отдыхавшие на плато овцы: внезапно вскочив, они бросились врассыпную, а с покинутого ими плато донесся тяжелый, сопровождаемый металлическим звоном топот копыт о твердую землю. Устремив взгляд еще дальше, Энн увидела, что по левому, более пологому склону нагорья взбираются два кавалериста – оба в полном вооружении, оба на широкогрудых серых конях. Начищенные до блеска уздечки, бляшки и прочие металлические части сбруи сверкали в лучах солнца как маленькие зеркальца, а все то синее, красное, белое, во что были облачены всадники, еще не потускнело от времени или непогоды.
Оба всадника столь горделиво поднимались по склону, словно ничто менее значительное, нежели интересы корон и тронов, никогда не занимало их возвышенных умов. Достигнув той части плато, которая находилась как раз напротив окошка Энн, всадники остановились. И тотчас же следом за ними показалось еще с полдюжины почти таких же точно всадников. Они тоже поднялись на плато, осадили коней и спешились.
Затем двое военных прошли немного вперед, после чего один остановился, а другой зашагал дальше, причем за ним тащилась белая тесьма рулетки. Еще двое направились куда-то в сторону и стали делать какие-то отметки на земле. Так они расхаживали по плато и что-то отмеряли, несомненно преследуя какую-то ранее намеченную цель.
В завершение всех этих продуманных действий какой-то всадник – офицер, насколько возможно было, учитывая дальность расстояния, судить по его мундиру, – поднялся на плато, объехал его, поглядел на то, что проделали остальные, и, как видно, остался доволен. Тут до слуха Энн долетел еще более громкий топот и звон, и она увидела, что на плато тем же путем походным маршем поднимается целая колонна всадников. А за ней, сверкая оружием и амуницией, выступают из облаков пыли все новые и новые колонны войск, и за пылевой завесой вспыхивают на солнце то огненные звездочки, то змейки, и все это войско медленно направляется к плато.
Энн отбросила работу и, не сводя глаз с приближающейся кавалерии и не обращая внимания на перепутавшуюся шерсть, позвала:
– Маменька, маменька, подите-ка сюда! Какое красивое зрелище! Что тут происходит? Для чего понадобилось им взбираться туда, наверх?
Мать, привлеченная этими возгласами, взбежала по лестнице и подошла к окну. Это была женщина приятной наружности, простая в обращении, с открытым взглядом и веселой улыбкой; рядом с Энн цвет лица вдовы казался чуть поблекшим, но изяществом фигуры она не уступала дочери.
Мысли вдовы Гарленд находились в полном соответствии с эпохой, в которую она жила.
– Неужто французы? – проговорила она, уже готовая изобразить крайнюю степень испуга. – Неужто этот враг рода человеческого высадился на нашу землю?
Надобно заметить, что в описываемый момент на земле существовало два врага рода человеческого: Сатана, как во все времена, и Буонапарте, который возник внезапно и значительно позже, но начисто затмил своего соперника. Слова миссис Гарленд относились, разумеется, к младшему из джентльменов.
– Этого не может быть, это не он, – заявила Энн. – А, вон идет Симон Берден, смотритель маяка. Он, верно, знает!
И она замахала рукой престарелому созданию, только что появившемуся на дороге, огибающей мельничную запруду, и почти столь же тусклому, как эта дорога, по которой оно довольно бодро продвигалось вперед, невзирая на то, что согнутая в три погибели спина его, казалось, служила живым укором любому обладателю нормального позвоночника. Появление солдат извлекло его из паба «Герцог Йоркский» и оторвало от кружки пива, совершенно так же как Энн – от ее коврика. Заметив, что его подзывают, старик пересек запруду и направился к окну.
Энн пожелала узнать, что такое происходит на плато, однако Симон Берден ничего не ответил и продолжал двигаться в прежнем направлении, разинув рот и по собственному почину тараща глаза на кавалерию, как это часто бывает с людьми при виде преходящих явлений, которые могут, хотя и на краткий срок, отразиться на их судьбе.
– Вы сейчас свалитесь в пруд! – воскликнула Энн. – Что они там делают? Вы же когда-то сами были солдатом и должны знать.
– Не спрашивайте меня, мисс Энн, – отвечал этот обломок военной славы, приваливаясь к стене дома то одним боком, то другим. – Я, вы знаете, был только в пехоте и не больно-то разбираюсь в кавалерии. Да куда уж мне, старику, что я теперь смыслю.
Однако дальнейший энергичный нажим заставил его порыться в запасе своих изъеденных молью воспоминаний и извлечь оттуда кое-какие смутные обрывки малонадежных сведений. Солдаты, как видно, раскинули здесь лагерь. Те, что пришли раньше других, – это, верно, топографы. Они прибыли первыми, чтобы измерить площадку. А тот, что с ними, – это, видать, квартирмейстер.
– И вот, глядите, полк подошел, а у них уже все готово, – добавил старик. – А потом они… Ну и дела! Кто бы мог подумать, что наш Оверкомб доживет до этакого дня!
– А что потом?
– А потом… О чем это я… Ну вот, вылетело из головы, – вздохнул Симон. – Ах да! Потом они поставят, понимаете ли, палатки и стреножат лошадей. Да-да, так. Правильно.
Тем временем колонна походным порядком уже поднялась на холм, являя взору весьма живописное зрелище на этом возвышенном месте, на фоне бледно-голубого неба, под теплым солнцем. Белые лосины, высокие сапоги, блестящие кивера, отделанные галуном, – форма всадников была яркой и красивой… Да к тому же еще усики, нафабренные так, что кончики их торчали острые, как иголки… Но, конечно, особенно великолепны были прославленные синие ментики, накинутые на одно плечо, неотразимые для женщин и чрезвычайно неудобные для их обладателей.
– Так это же йоркские гусары! – воскликнул Симон Берден, оживая, словно тлеющий уголек под дуновением ветерка. – Все как есть чужеземцы, и все призывались, когда я уже отслужил. Однако, говорят, это самые славные ребята во всей королевской армии.
– А вон еще… это какие-то другие, – сказала миссис Гарленд.
Новые колонны войск уже миновали дальний холм и теперь подходили ближе. Новоприбывшие отличались сложением от предыдущих: были легче, стройнее, в касках с белыми перьями.
– Не знаю, право, какие мне больше нравятся, – сказала Энн. – Пожалуй, все же эти.
Симон, напряженно вглядывавшийся в последнюю колонну, заявил вдруг, что это… драгуны.
– Англичане – все до единого, – продолжал старик. – Года два-три назад они стояли в бедмутских казармах.
– Верно. Я тоже помню, – сказала миссис Гарленд.
– И у нас тут много парней записалось тогда в армию, – сказал Симон. – Помнится, был тут… О чем это я… Ну, вот опять вылетело… Впрочем, оно и не важно…
Драгуны так же, как и прочие, продефилировали на виду у наших наблюдателей, и их веселые плюмажи, лениво ниспадавшие при подъеме на взгорье, достигнув плато, все, как один, распластались в воздухе кончиками к северу, свидетельствуя о том, что на возвышенности дул свежий ветерок.
– Поглядите-ка туда, – сказала Энн.
Несколько батальонов пехоты в белых кашемировых штанах и обмотках взбиралось на холм с противоположной стороны. Вид у пехотинцев был усталый, как после большого перехода, черные башмаки и обмотки стали бурыми от пыли. А за пехотой показались уже и войсковые обозы с конвоирами и – позади всех – тележки маркитанток.
На берегу перед мельничной запрудой собралось теперь почти все население деревни: сбежалось из домов в тревоге и застряло здесь для собственного удовольствия; горящими от любопытства глазами все наблюдали за происходящим на плато. Ведь если для города мундиры, плюмажи, кони и всадники – просто развлечение, то для деревни – это уже нечто из ряда вон выходящее.
Всадники построились, спешились, быстро освободились от своего походного снаряжения, расседлали и стреножили коней и уже готовы были поставить палатки, лишь только их можно будет снять с обозов и доставить на место. И вот прозвучал сигнал, и полотнища палаток поднялись над землей, и каждому воину было уже где приклонить голову.
Хотя с первого взгляда и могло показаться, что за прибытием войска наблюдают только те, что столпились у окна да собрались на улице, однако в действительности множество глаз было приковано к происходящему на возвышенности, не говоря уже о глазах многочисленных птиц и прочих обитателей лесов и полей. Мужчины на огородах, женщины в садах или на пороге своих домиков, пастухи на отдаленных пастбищах, батраки на голубовато-зеленых плантациях турнепса где-то там, за несколько миль от холма, капитаны с подзорной трубой на своих судах – все с острым интересом созерцали эту картину. Три-четыре тысячи солдат, действующих как один огромный механизм: одни головорезы по натуре, другие, несомненно, более склонные к спокойной сидячей жизни и нежданно-негаданно облачившиеся в мундиры, – явились вдруг невесть откуда, возбуждая огромное любопытство. Они казались существами какого-то иного порядка, совершенно непохожими на жителей долины. Обосновываясь на жительство на облюбованном ими пустынном холме, они целиком были погружены в свои живописные, на сторонний взгляд, хлопоты, словно весь остальной мир для них не существовал.
Миссис Гарленд, будучи женщиной сангвинического склада, легко приходила в восторг и впадала в уныние, и появление войска чрезвычайно ее взволновало. Она подумала, не надеть ли нарядную шляпку, но решила, что, пожалуй, не стоит; вознамерилась было поторопиться с обедом, чтобы потом пойти прогуляться, и подумала, что ничего особенного, собственно, не произошло и она не станет проявлять какое-то дурацкое любопытство, которое совершенно не к лицу матери и вдове. Так, умеряя свои порывы, пока они не были приведены в соответствие с возрастом и положением степенной сорокалетней дамы, миссис Гарленд следом за дочерью спустилась в столовую обедать, говоря:
– Надо будет поскорее наведаться к мистеру Лавде и узнать, что он обо всем этом думает.
Глава 2
Стук в дверь, и кто-то входит в дом
Мельник Лавде принадлежал к весьма древнему роду потомственных мукомолов, истоки которого терялись где-то в тумане седой старины. Предки его были современниками де Роса, Хоуарда и де ла Зуша, но из-за какой-то дурацкой оплошности имена представителей дома Лавде и заключаемые ими браки не вносились в Средние века в родословные книги, и, таким образом, история их личной жизни на протяжении этих столетий оставалась покрытой тайной. Однако было достоверно известно, что некоторые отпрыски этого рода соединились брачными узами с весьма видными представителями фермерства, и однажды был даже зарегистрирован брак с неким джентльменом – дубильщиком кож, который много лет кряду скупал у высокопоставленной знати околевших лошадей, причем все это были самые что ни на есть чистопородные скакуны, которые в зените своей славы оценивались не в одну сотню гиней за голову.
Было также установлено, что у мистера Лавде насчитывалось восемь прапрародителей и шестнадцать прапрапрародителей, и каждый из них доживал лет до шестидесяти, и каждое предыдущее поколение насчитывало этих почтенных старух и старцев все больше и больше и, в конце концов, достигало размеров весьма многочисленного клана готских кавалеров и дам, принадлежавших к сословию кэрлов или вилланов, игравшему немаловажную роль в стране и прославившемуся разнообразными подвигами на протяжении всей неписаной истории Англии. Папаша же мистера Лавде значительно повысил стоимость родового поместья, поставив новую печную трубу и прибавив парочку жерновов.
Если поглядеть на оверкомбскую мельницу с одного бока, она являла глазу самую что ни на есть деловую постройку, сползающую прямо в реку; с другого же бока это было праздное, легкомысленное сооружение, почти сплошь увитое в это время года вьюнком и не имевшее с виду ни малейшего касательства к какой-то там муке. Здание было увенчано шатровой, а не щипцовой, крышей, что придавало ему приятно округлые формы, и имело четыре печных трубы, над коими редко вился дымок; две зигзагообразные трещины в стене; несколько открытых окон, в которые прохожим видны были развешанные тут и там по стенам зеркала, отражавшие отдельные уголки дома в обратной перспективе; белоснежные кисейные занавески, развевающиеся от сквозняка; две ведущие на мельницу и расположенные одна над другой двери, из коих верхняя давала любому желающему возможность шагнуть через порог на высоте десяти футов над землей прямо в пустоту; зияющую арку, изрыгающую водяной поток, и тощего длинноносого малого, подручного мельника, выглядывавшего из дверей мельницы в тех случаях, когда это место не занимала громоздкая фигура около ста килограммов весом, то есть сам хозяин мельницы.
На внутренней стороне мельничной двери, незримые для тех, кто не заходил в дом, были нацарапаны мелом арифметические действия сложения и вычитания, первоначально почти все исчисленные с ошибками, полустертые и исправленные, с нулями, переделанными в девятки, и единицами, переправленными на двойки. Вычисления сии являлись плодом трудов самого мельника. Рядом, на той же двери, виднелись длинные ряды палочек, похожие на частокол, и нацарапанные мелом уже рукой не мельника, а его помощника, который, обучаясь в детстве счету, не успел добраться до арабских цифр.
Во дворе перед мельницей лежали два вышедших из употребления жернова, коим нашли применение, врыв их в землю. На них стояли в дождливую погоду, чтобы покурить и потолковать о делах, а в летний зной на их гладкой поверхности любила располагаться кошка. В углу сада к корявому дереву был привязан еловый шест, приобретенный мельником наряду с прочими нужными предметами на рождественской распродаже мелкого строительного материала в Деймерс-Вуде. Один конец этого шеста был прикреплен к дереву на высоте нижних веток, другой возносился примерно на высоту мачты рыбачьей шхуны, а на вершине его помещался флюгер в форме матроса с простертой вперед рукой. Когда лучи солнца освещали фигуру матроса, становилось заметно, что у него не хватает примерно трех четвертей лица, краски же с его одежды смыли дожди, сделав очевидным, что прежде, чем превратиться в матроса в синей куртке, он был солдатом в красном мундире. Фигурка эта должна была первоначально олицетворять собой Джона – одного из будущих героев нашего повествования, а затем ее преобразили в Роберта – другого нашего персонажа. Сия вращающаяся вокруг своей оси фигурка не могла, однако, надежно исполнять роль флюгера из-за близости холма, создававшего разнообразные завихрения воздуха.
Увитое зеленью и более тихое крыло дома находилось в распоряжении миссис Гарленд с дочерью, которые в летнее время вознаграждали себя за некоторую тесноту своих апартаментов, перемещаясь из дома в сад вместе со столами и стульями. В гостиной – или, если угодно, столовой – пол был каменный; обстоятельство сие вдова тщательно старалась скрыть с помощью двух постеленных друг на друга ковров, дабы не уронить достоинства семьи в посторонних глазах. Сейчас здесь протекала легкая – кусочек того, кусочек этого – трапеза, как обычно бывает, когда за столом нет ни одного плотоядного мужчины, которому только подавай да подавай, да и она уже близилась к концу, когда кто-то вошел в прихожую и, остановившись перед неплотно прикрытой дверью столовой, постучал. Это действие, вероятно, было продиктовано деликатным стремлением не обеспокоить Сьюзен – розовощекую дочку соседа, помогавшую миссис Гарленд по утрам, а сейчас стоявшую на берегу у самой воды и взиравшую на солдат, вытаращив глаза и разинув рот.
В маленькой столовой все пришло в легкое волнение – ведь самый неправдоподобный ничтожный повод может заставить учащенно биться привыкшие к уединению сердца, а их обладательниц теряться в догадках: кто бы это мог быть? Неужели какой-нибудь военный из лагеря? Нет, это невозможно. Священник, быть может? Нет, он бы не пришел в обеденный час. Верно, это глашатай моды, который путешествует с запасом мануфактуры и лучших бирмингемских серег? Нет, ни в коем случае. Он не появится раньше трех часов пополудни, да и то лишь в четверг. Но прежде чем дамы успели высказать новые догадки, посетитель сделал еще шаг вперед, и его фигура стала обозримой через ту же самую благословенную щелку, которая дала ему возможность увидеть семейство Гарленд за обеденным столом.
– О! Так это же всего-навсего сосед Лавде!
Это «всего-навсего» предстало в обличье цветущего мужчины лет шестидесяти – цветущего не только с виду или под воздействием доброй еды и горячительных напитков, хотя последние отнюдь не находились у него в пренебрежении, но вследствие несокрушимого здоровья, коим отличались многие в те времена. Словом, это был не кто иной, как уже упоминавшийся выше мельник. Сейчас его лицо было даже скорее бледным, ибо он пришел прямо с мельницы. Подвижность была самой существенной особенностью этого чрезвычайно изменчивого лица. Мясистые утолщения с двух сторон защищали подступы к его носу, глубокая борозда клала рубеж между нижней губой и торчащим вперед подбородком, и все эти бугристые неровности, словно по собственному почину и независимо одна от другой, приходили в движение по самомалейшему поводу.
Едва глаза мельника обежали покрытый скатертью стол, тарелки и блюда с едой, как им овладела неловкость, вполне естественная в человеке скромном, всегда избегавшем появляться в неуказанное время перед такой очаровательной и деликатной девушкой, как Энн Гарленд, в руках которой обыкновенные яблоки выглядели как персики, а шиллинги, получаемые от нее в уплату за муку, сверкали, как гинеи.
– Мы уже отобедали, сосед Лавде, заходите, пожалуйста, – сказала вдова, угадав причину его замешательства.
Мельник пробормотал было, что заглянет попозже, но Энн заставила его остаться одним движением губ, готовых вот-вот сложиться в благосклонную улыбку, что у нее всегда получалось как бы совсем невзначай.
Лавде стащил с головы шляпу с плоской тульей и приблизился к дамам. Не поросята и не домашняя птица, пояснил он, привели его к ним на сей раз.
– Небось вы, миссис Гарленд, как и все мы, грешные, тоже смотрели из окна на это великое множество солдат там, на холме? Так вот, один кавалерийский полк там – это энские драгуны… И мой сын Джон служит, понимаете ли, в этом полку.
Это сообщение заинтересовало дам, хотя и не произвело того впечатления, на которое, по-видимому, рассчитывал отец вышеназванного Джона. Впрочем, Энн, любившая говорить людям приятное, заметила:
– Драгуны выглядят красивее, чем пехотинцы или немецкая кавалерия.
– Да, славные ребята, – притворно равнодушным тоном произнес мельник. – Подумать только, я и не знал, что они сюда придут, а небось было во всех газетах. Да ведь старик Дерримен так долго держит у себя эти газеты, что мы узнаем новости, когда они уже у всех на языке.
Упомянутый Дерримен был проживающий неподалеку мелкопоместный помещик, прославивший себя в это тревожное военное время тем, что его племянник находился в рядах территориальной конницы.
– Мы слышали, что конница проходила вчера здесь по дороге, – сказала Энн. – Говорят, красивое было зрелище, и вид у них очень бравый.
– Э! Все же это регулярные войска, – сказал мельник Лавде, оставляя при себе более суровую критику как явно неуместную. Однако его мозг, воспламененный появлением драгун, послуживших целью его неожиданного визита, никак не хотел переключиться на разговор о территориальной коннице.
– Вот уже пять лет, как Джон не был дома, – сказал мельник.
– А в каком он теперь чине? – спросила вдова.
– Он старший трубач драгунского полка, сударыня. Он у меня хороший музыкант.
И мельник, который был добрым отцом, принялся рассказывать, что Джону пришлось-таки понюхать пороху. Он пошел и записался в армию одиннадцать лет назад, когда тут по соседству был расквартирован полк, и здорово рассердил этим отца – ведь тому хотелось, чтобы сын продолжал его дело на мельнице. Но так как парень сделал это не очертя голову – он с малолетства твердил, что хочет быть военным, – мельник решил не мешать ему идти своим путем.
У мельника Лавде было два сына, и теперь припомнили и второго: Энн заметила, что ни один из его сыновей, как видно, не был расположен продолжать дело отца.
– Да, – произнес Лавде уже менее лучезарным тоном. – Роберту, видите ли, вынь да положь, захотелось стать моряком.
– Он много моложе своего брата? – осведомилась миссис Гарленд.
Почти на четыре года, объяснил мельник. Старшему сыну, солдату, тридцать два, а младшему, моряку, двадцать восемь. Когда Боб вернется из плавания, надо будет уговорить его остаться на мельнице помогать отцу и не уходить больше в море.
– Мельник-моряк! – промолвила Энн.
– Ну, он разбирается в нашем деле не хуже меня, – сказал Лавде. – Я ведь его тоже, как и Джона, прочил на свое место. Да что это я так разболтался, – спохватился он вдруг. – Пришел-то я вот зачем – попросить вас, сударыня, и вас, Энн, голубушка, отужинать со мной и с моими друзьями чем Бог послал. Хочется мне сделать приятное моему сыночку теперь, когда он опять попал в наши края. Нельзя же, как говорится, не отметить, что сынок вернулся домой цел и невредим.
Миссис Гарленд почувствовала себя в некотором затруднении, не зная, какой ей надлежит дать ответ, и попыталась перехватить взгляд дочери, но Энн отвела глаза в сторону, ибо терпеть не могла всякого рода намеки, экивоки и подмигивания там, где следовало действовать, не размышляя, и почтенная дама, в конце концов, сказала:
– Мы постараемся прийти, ежели сможем. Вы сообщите нам, когда это у вас будет?
Конечно, он не преминет им сообщить, как только повидается с Джоном.
– Малость грязновато у нас, признаться… женщины-то ведь, вы знаете, в доме нет, а этот малый, Дэвид, тупица порядочная: разве он понимает, как надо принять гостей. Да и зрение у бедняги слабовато, нечего греха таить, и все же он отлично стелит постели и полирует ножки у стульев и у разной прочей мебели, а не то я бы уже давным-давно спровадил его отсюда.
– Вам нужна женщина, чтобы навести в доме порядок, сосед Лавде, – сказала вдова.
– Да, я бы… Да, конечно, только… видите ли… Ну и хороший же выдался денек, соседушки. Что это – слышите? Похоже, в лагере загремели горшками и сковородками. До чего ж небось они, бедняги, проголодались! Мое почтение, сударыни. – И мельник удалился.
Весь день до позднего вечера деревушка Оверкомб находилась в состоянии неописуемого волнения, вызванного появлением войск, которое было не менее увлекательно, чем вторжение иноземцев, но не сопровождалось неприятностями. Внешний вид и предполагаемые достоинства солдат подвергались горячему обсуждению. Событие это открывало для каждой девушки неограниченные возможности обожать и стать предметом обожания, а для молодых людей – возможность таких ошеломительных знакомств, перед которыми меркла потребность влюбляться. Тринадцать таких молодых людей через пятнадцать минут не задумываясь заявили, что нет ничего на свете лучше, как пойти в солдаты. Молодые дамы делали мало заявлений, но, возможно, в мыслях шли еще дальше, хотя справедливости ради следует отметить, что поглядывали в сторону военного лагеря только краешком своих голубых или карих глаз и притом с таким скромным и застенчивым видом, что большего благонравия и пожелать было невозможно.
Вечером над деревней разнеслись голоса солдатских жен. Гомон скворцов в ветвях деревьев был просто ничто по сравнению с щебетом, который они подняли. Дамы ослепляли своими нарядами, потому что отдали предпочтение яркости и пестроте перед добротностью материала. Количество красных, синих и пурпурных чепчиков, разукрашенных пучками петушиных перьев, не поддавалось исчислению. Одна дама появилась в пастушеской шляпке из зеленого подкладочного шелка с отогнутыми спереди полями, чтобы был виден также и чепчик, надетый под шляпку. Шляпка эта принадлежала когда-то жене офицера и сохранилась в общем неплохо, если не считать довольно причудливых подтеков в виде зеленых островов и полуостровов, образовавшихся в результате дождей – неизбежных спутников кочевой жизни воина. Некоторым наиболее привлекательным из этих похожих на мотыльков дам посчастливилось найти приют в деревне, и они были таким образом избавлены от необходимости жить на холме в шалашах и палатках. Это отнюдь не смягчило сердец их сестер по оружию, оказавшихся менее удачливыми: бранные слова были пущены в ход по адресу счастливиц, и те, в свою очередь, не остались в долгу. Окончания этой перебранки можно было, по-видимому, ожидать к заходу солнца.
Одну из этих пришелиц, обладательницу розового нога и сиплого голоса – в чем она, бедняжка, была, по замечанию Энн, никак не повинна, – побывавшую во многих походах и немало повидавшую на своем веку, Энн хотела даже пригласить к себе в дом, дабы поближе познакомиться с живой историей Англии и приобрести те познания, которые нельзя почерпнуть из книг и которыми эта дама, по-видимому, обладала в полной мере. Но скромные размеры помещения, занимаемого миссис Гарленд, помешали этому осуществиться, и бездомная сокровищница житейского опыта вынуждена была искать убежища в другом месте.
В этот вечер Энн легла спать пораньше. События дня, хотя и веселые, были весьма необычными, и у Энн разболелась голова. Уже собравшись лечь в постель, она подошла к окну и откинула закрывавшую его кисейную занавеску. Всходила луна. Ее лучи еще не проникли в долину, но, выглянув из-за края холма, она мягко посеребрила конусообразные вершины белых палаток. Сторожевые посты и передние палатки лагеря отчетливо выступали из темноты, но весь остальной лагерь – офицерские палатки, походные кухни, войсковые лавки и склады – еще тонул в тени, отбрасываемой холмом. Энн увидела, как на фоне светлого диска луны то появлялись, то исчезали фигурки мерно шагавших часовых. Она слышала, как пофыркивают и отряхиваются лошади у коновязей и как далеко-далеко в другой стороне рокочет море, громче поднимая свой голос в те секунды, когда волны в мерном приливе или отливе наталкиваются на выдающийся в море мыс или выступающую из воды группу валунов. Внезапно более громкие звуки ворвались в затихающую ночь: сперва они долетели из лагеря драгун, затем послышались справа – в лагере ганноверских частей, и еще дальше – на стоянке пехотинцев. Это играли вечернюю зорю. Энн не клонило ко сну, и она еще долго прислушивалась к этим звукам, глядела на созвездие Большой Медведицы, повисшее над деревенской колокольней, на луну, поднимавшуюся все выше и выше над рядами палаток, где шум и движение сменились сном и похрапыванием усталых солдат, расположившихся на ночлег каждый в своей палатке, торчавшие вверх шесты которых сверкали, словно шпили при лунном свете.
Наконец Энн, утомившись от дум, тоже улеглась в постель. Ночь текла своим чередом, все стихло в лагере, все стихло и в деревушке у подножия холма, и лишь протяжная перекличка часовых: – «Все спокойно!» – нарушала время от времени тишину.
Глава 3
Мельница становится важным центром военных операций
Мисс Гарленд пробудилась поутру со смутным ощущением, что происходит что-то необычное, и как только ей удалось стряхнуть с себя дремоту, поняла, что все это происходит – что именно, было еще не ясно – где-то неподалеку от ее окна. Доносились звуки, напоминавшие удары кирки или лопаты. Она встала с постели и, чуть-чуть приподняв занавески, глянула в окно.
Множество солдат усердно прокладывали зигзагообразную дорогу по склону холма – из лагеря на его вершине к речке за мельницей – и, судя по уже проделанной работе, принялись за нее ни свет ни заря. Солдаты работали группами – каждая прокладывала дорогу на своем участке, – и пока Энн одевалась, каждый участок уже соединился с тем, что был выше его, и с тем, что ниже, образовав зигзагообразную тропу, полого сбегавшую с вершины холма к его подножию.
Травянистый покров холма покоился на меловых отложениях, и вырубленная солдатами тропа белой лентой вилась по склону.
Вскоре отряды солдат, прокладывавших дорогу, исчезли, а на возвышенности появились драгуны и стали спускаться вниз по только что проложенному пути. Спускаясь, они все ближе подходили к мельнице, и собрались, наконец, прямо под самым окном Энн на небольшом лужке около пруда. Некоторые лошади уже, войдя в пруд в неглубоком месте пили воду, мотая головами и рассыпая брызги. По меньшей мере три десятка лошадей – часть из них с всадниками, – оказались в пруду одновременно. Животные пили жадно, поднимали голову, отряхивались и опять пили; капли холодной воды обильно стекали с их морд. Мельник Лавде поглядывал на них из-за живой изгороди своего сада, и вокруг уже собирались любопытные поселяне.
Посмотрев вверх, Энн увидела новые отряды, спускавшиеся по тропе с холма; утолившие жажду уступали им место и кружным путем, через деревню, возвращались к себе в лагерь.
Внезапно мельник, ожидания которого, как видно, наконец сбылись, воскликнул:
– Эй, Джон, сынок, доброе утро!
– Доброе утро, папаша! – прозвучало в ответ из уст ладно сидевшего на лошади драгуна, еще не спустившегося к водопою.
Лица его Энн не могла хорошенько рассмотреть, но не сомневалась, что это был Джон Лавде.
Какие-то нотки его голоса заставили ее вспомнить далекие времена, те детские годы, когда Джон Лавде был первым учеником в сельской школе и хотел учиться живописи у ее отца. Мели и омуты пруда были ему, разумеется, известны лучше, чем всякому другому в лагере, что, по-видимому, и привело его сюда, и теперь он предостерегал товарищей, чтобы они не пускали лошадей слишком близко к запруде.
Джон ушел в солдаты, когда Энн была еще подростком, и с тех пор она видела его лишь однажды, и то мельком, во время его короткой побывки. Внешне он, казалось ей, изменился мало. Солнце не раз совершило свой круг, превратив ее из подростка в девушку, Джон же за это время лишь несколько утратил свою прежнюю угловатость да лицо его покрылось загаром, который придавал ему вид чужеземца. И все же годы службы в армии не проходят даром, и мало кто догадывался, что белая куртка мельника принадлежит отцу драгуна в синем мундире.
Мельник Лавде все еще стоял в своем садике, простиравшемся за мельничной запрудой вдоль ручья и подступавшем к самой воде, и приветствовал драгун, пока не прошел последний отряд. Вишни уже поспели и пышными гроздьями висели под темной листвой. Драгуны, придерживая коней, перекликались с мельником через ручей, а он, нарвав полные пригоршни вишен, протягивал их за ограду – бери каждый, кому не лень. Солдаты въезжали в ручей там, где он, размыв берег, вплотную подступал к ограде сада, и, осадив коней, подставляли кивера или ловили пучки вишен, подцепляя их на кончик хлыста, и снисходительно посмеивались, как и подобает суровым воинам, позволившим себе принять участие в детской забаве. Беззаботно и весело протекли эти не предусмотренные военным распорядком минуты, чтобы, быть может, подобно знакомому аромату цветка, всплыть когда-нибудь, много лет спустя, в памяти раненого солдата, лежащего на поле боя в чужом краю.
Но вот и драгуны покинули пруд, а на их месте появился немецкий легион и торжественной процессией продефилировал перед Энн, словно отдавая ей должное. Эти воины отличались особенно пышными усами, а также косичками, туго заплетенными коричневыми лентами и достигавшими своими кончиками широких солдатских лопаток. И они, так же как и их предшественники, были очарованы появлением головы и плеч мисс Гарленд в маленьком квадратном окошке, как раз над самым местом их операций, и послали ей свои почтительные чужеземные приветствия в таком ошеломляющем количестве, что сия скромная девица поспешно отошла от окна и залилась румянцем в спасительном уединении между комодом и умывальником.
Когда она спустилась вниз, ее мать сказала:
– Я вот думаю: что мне надеть сегодня вечером, когда мы пойдем к соседу Лавде.
– К соседу Лавде? – переспросила Энн.
– Ну да. У него праздник сегодня. Он заходил утром: сказал, что видел сына, и они условились собраться сегодня вечером.
– Вы полагаете, что нам следует пойти, маменька? – раздумчиво спросила Энн и перевела взгляд на цветы в горшках на подоконнике.
– А почему бы и нет? – осведомилась миссис Гарленд.
– Кроме нас там ведь будут одни только мужчины, не так ли? Пристало ли нам появляться среди них?
Энн еще не оправилась от впечатления, произведенного на нее пылкими взглядами галантных гусар. А те перекликались сейчас с мельником Лавде, и голоса их долетали до ее ушей.
– Ах, что это ты так загордилась, Энн! – воскликнула вдова Гарленд. – В конце концов, мельник наш ближайший сосед и домохозяин. И разве он не таскает нам вязанки хвороста из леса и не снабжает нас овощами из своего огорода почитай что задаром?
– Это верно, – заметила Энн.
– Значит, нам негоже его гнушаться. А если неприятель высадится здесь осенью, как все предсказывают, так нам тогда одна надежда на мельника с его повозкой и лошадью. Других друзей у нас нет.
– Да, все это так, – сказала Энн. – Вот вы и пойдите к нему, маменька, а я останусь дома. Там будут одни мужчины, и мне не хочется идти туда.
Миссис Гарленд призадумалась.
– Нет, если ты не пойдешь, то и я не пойду. Ты уже подросла, стала совсем взрослой девушкой… может быть, и правда лучше на этот раз посидеть дома… Отец твой, конечно, был не из простых… – Но, высказавшись так, по-матерински, она тут же вздохнула чисто по-женски.
– Почему вы вздыхаете, маменька?
– Очень уж ты строга и непреклонна во всем, Энн.
– Что ж… давайте пойдем.
– Ну нет. Я и сама думаю, что, пожалуй, не стоит. Я, в конце концов, твердо не обещала, и мы вполне можем уклониться.
Энн же, по-видимому, и сама не вполне понимала, чего ей хочется; она не высказала своего одобрения, но не стала и возражать, а лишь в задумчивости опустила глаза, прижав руки к груди и соединив кончики пальцев.
По мере приближения вечера обе дамы стали замечать, что в крыле дома, занимаемом мельником, идут большие приготовления к пиру. Перегородку, отделявшую жилище мельника от покоев, занимаемых вдовой, отнюдь нельзя было назвать солидным сооружением: кое-где это была просто дощатая стена с прорезанными в ней проемами для дверей, – так что всякий раз, когда мельница начинала работать, это тотчас заявляло о себе и в другой, более уединенной половине дома. Как только по вечерам мельник Лавде закуривал трубку, запах дыма с завидной пунктуальностью проникал по дымоходу в комнату миссис Гарленд. И всякий раз, когда мельник разгребал угли в своем очаге, мать и дочь могли безошибочно определить состояние его духа в зависимости от того, помешивал ли он угли медленно и осторожно или орудовал кочергой что есть мочи, а когда в субботу вечером он принимался заводить часы, жужжание этого прибора служило вдове напоминанием, что ей следует завести свои. Это проникновение звуков совершалось особенно беспрепятственно там, где прихожая Лавде соседствовала с кладовой миссис Гарленд, и когда хозяйственные заботы привели Энн в это помещение, она получила полную возможность услышать, как к мельнику прибывают все новые и новые посетители и как хозяин разговаривает со своими гостями, и даже уловила обрывки фраз, не уловив их смысла – чрезвычайно забавного, судя по доносившимся раскатам хохота. Затем гости вышли из дома в сад, где расположились пить чай в большой беседке… Теперь в густой листве порой мелькало что-то пестрое, и больше из окон миссис Гарленд ничего не было видно. Когда же стало темнеть, Энн услышала, как гости направляются обратно в дом – заканчивать вечер в гостиной.
После этого шумное веселье возобновилось с удвоенной силой: громкие голоса, смех, беготня вверх-вниз по лестнице, хлопанье дверьми, звон чашек и бокалов, – пока у наиболее неприступной из соседок, лишенной общества друзей по эту сторону перегородки, не возникло искушения проникнуть в это обиталище веселья хотя бы для того, чтобы выяснить причину таких взрывов ликования и самолично убедиться, действительно ли сборище столь многочисленно, а шутки столь забавны, как это кажется со стороны.
Теперь на половине Гарлендов жизнь, казалось, совсем замерла, что по контрасту действовало особенно угнетающе. Когда примерно в половине десятого еще один дразнящий взрыв хохота не смолкал особенно долго, Энн промолвила:
– Мне кажется, маменька, вы жалеете, что не пошли.
– Скажу по чести, нам, конечно, было бы веселее, присоединись мы к ним, – ответила миссис Гарленд обиженно. – Зря я тебя послушалась и не пошла. Священник и тот заглядывает к нам лишь по обязанности. Старик Дерримен не слишком-то галантен, а больше здесь не с кем даже словом перемолвиться. Когда люди одиноки, им приходится довольствоваться тем обществом, какое у них есть.
– Или обходиться совсем без общества.
– Это противно природе, Энн, и мне просто странно слышать подобные речи из уст такой молодой девушки, как ты. Нельзя же насиловать природу… – (За перегородкой кто-то затянул песню, мощный хор подхватил припев.) – Право, у них там веселятся, как в раю, а у нас тут…
– Мама, вы сущее дитя, – покровительственным тоном заметила Энн. – Бога ради, кто вам мешает, ступайте, присоединитесь к ним.
– О нет… Теперь уже нет! – ответила мать, решительно тряхнув головой. – Теперь уже слишком поздно. Надо было идти, когда приглашали. Теперь все будут глазеть на меня как на незваную гостью, а мельник скажет, как всегда ухмыляясь во весь рот: «А! Все-таки вы решили навестить нас!»
Пока общительная, но не предприимчивая вдова продолжала таким образом коротать вечер в двух местах зараз: телом – в своем собственном дому, а душой – в гостиной мельника, – кто-то постучал в дверь, и перед миссис Гарленд предстал Лавде-старший собственной персоной. На нем был костюм, который он всегда надевал в подобных случаях: нечто, отчасти подобающее для парада, а отчасти для веселой пирушки, – и его синий кафтан, желтый в красную крапинку жилет с тремя расстегнутыми нижними пуговками, башмаки с металлическими пряжками и пестрые чулки были, на взгляд миссис Марты Гарленд, чрезвычайно ему к лицу.
– Мое почтение, сударыня, – сказал мельник, применяя более высокий образец учтивости, сообразно большей пышности своего костюма. – Только этого я никак, с позволения сказать, не потерплю. Куда ж это годится – чтобы две дамы сидели тут одни-одинешеньки, а мы под той же самой крышей веселились без них. Ваш покойный супруг, бедняга – и до чего ж красивые картинки он, бывало, рисовал! – уже давно пировал бы с нами, будь он на вашем месте. И слушать ничего не стану, вот ей-богу! Хоть на полчасика, а вы и мисс Энн должны к нам пожаловать. Джон и его приятели получили увольнительные до полуночи, и у нас там по чину все не ниже капрала, а капрал куда какой любезный и воспитанный немец… Ну и еще кое-кто из наших, из деревенских. А ежели вы, сударыня, сумлеваетесь насчет компании, так мы можем тех, кто попроще, отправить на кухню.
После такого настойчивого призыва вдова Гарленд и Энн переглянулись, уведомляя друг друга о своем согласии.
– Мы сейчас придем, через несколько минут, – улыбаясь, сказала старшая дама, и обе встали, чтобы подняться наверх.
– Ну нет, я буду дожидаться вас здесь, – сказал мельник упрямо. – А то вы еще передумаете.
Пока мамаша и дочка переодевались наверху и смеясь говорили друг другу: «Ну, теперь-то уж нам нельзя не пойти», – хотя они только к этому и стремились весь вечер, в прихожей снова раздались шаги, и мельник крикнул снизу:
– Прошу прощенья, миссис Гарленд, но тут мой сын Джон тоже явился за вами. Можно ему зайти подождать, пока вы оденетесь?
– Ну конечно, я сейчас! – прозвучал в пролете лестницы звонкий голос вдовы.
Спустившись вниз, она увидела, что где-то в глубине прихожей маячит фигура драгуна-трубача.
– Это Джон, – сказал мельник просто. – Джон, ты небось отлично помнишь миссис Марту Гарленд?
– Ну конечно, отлично помню, – ответил драгун, немного приблизившись. – Я бы непременно зашел проведать вас в прошлый приезд, да ведь у меня отпуск был всего на неделю. Как здоровье вашей маленькой дочурки, сударыня?
Миссис Гарленд ответила, что Энн чувствует себя превосходно.
– Она подросла теперь. Сейчас спустится.
В коридоре послышался стук сапог, и драгун-трубач тотчас шагнул к двери, приотворил ее, просунул голову в щель и доложил:
– Все в порядке… Они сейчас придут! – в ответ на что из темноты послышалось:
– Ничего, мы подождем.
– Это ваши приятели? – спросила миссис Гарленд.
– Да, это Бак и Джонс пришли за мной, – ответил Джон. – Можно им зайти к вам на минутку, миссис Гарленд?
– Да, разумеется, – сказала вдова, и две живописные фигуры – трубача Бака и седельного мастера сержанта Джонса – выступили вперед с самым учтиво-дружелюбным видом, после чего в прихожей почти тотчас снова послышались шаги, и выяснилось, что там каптенармус сержант Брет и старший ковач-коновал Джонсон пришли за господами Баком и Джонсом, которые пришли за трубачом Джоном.
Возникла опасность, что маленькая прихожая миссис Гарленд окажется забитой до отказа совсем незнакомыми людьми, но тут она с облегчением услышала, что Энн спускается по лестнице.
– А вот и моя дочурка, – сказала миссис Гарленд, и драгун-трубач с благоговейным страхом уставился на возникшее перед ним воздушное видение в муслиновом платье, да так и застыл онемев. Энн тотчас узнала в нем драгуна, которого видела однажды из своего окна, и приветливо ему кивнула. Его открытый честный взгляд сразу расположил ее к себе.
Непринужденность ее обхождения заставила Джона Лавде, который отнюдь не был дамским угодником, залиться краской, переступить с ноги на ногу, начать какую-то фразу без всякой надежды ее окончить и смутиться как школьника. Кое-как оправившись от замешательства, он учтиво предложил Энн руку, она приняла ее с присущей ей милой грацией, и он повел ее мимо своих товарищей по оружию, которые в строго вертикальном положении распластались вдоль стены, чтобы дать им дорогу. Когда эта пара вышла за дверь, за нею последовала миссис Гарленд под руку с мельником, а за ними и все прочие, шагая, как и подобало кавалеристам, так, словно их бедра были им не по росту. В таком порядке все один за другим переступили порог жилища мельника и направились дальше по коридору, в каменных плитах которого прилив и отлив посетителей, начавшийся еще во времена Тюдоров, проложил нечто вроде колеи.
Глава 4
О тех, кто присутствовал на скромном празднике мельника
Когда процессия вступила в гостиную, среди собравшихся произошла некоторая заминка в беседе, вызванная появлением новых гостей и (само собой разумеется) очаровательным обликом Энн. Затем почтенные отцы семейств, имеющие дочерей на выданье, разглядев, что перед ними едва сформировавшаяся девушка, перестали обращать на нее внимание и вернулись к прерванной беседе и к своим кружкам с пивом.
Мельник Лавде успел за эти дни сдружиться с половиной солдат из лагеря, что самым наглядным образом проявилось в посетившей его в этот вечер компании – как в смысле ее пестроты, так и во многих других смыслах. Среди присутствующих прежде всего бросались в глаза сержанты и старшие сержанты полка, в котором служил Джон Лавде: все молодцы, как на подбор, они сидели, освещаемые пламенем свечей, и, как видно, отдыхали и душой и телом; кроме них было еще несколько унтер-офицеров и кое-кто из иностранного гусарского полка: один немец, два венгра и один швед. Лица их были овеяны печалью – казалось, юноши тосковали по дому. Все они вполне пристойно изъяснялись по-английски. Самое старшее поколение было представлено Симоном Берденом, пенсионером, а почтенный возраст между пятым и шестым десятками – закадычным другом и соседом Симона капралом Тьюлиджем, который был туг на ухо и сидел в шляпе, надетой поверх красного бумажного платка, обмотанного вокруг головы. Оба эти ветерана несли сторожевую службу на ближайшем маяке, недавно воздвигнутом по приказу командующего гарнизоном, дабы не прозевать высадку неприятеля и вовремя зажечь сигнальные костры. Старики жили в крохотной хибарке на холме, возле куч хвороста, но на этот вечер нашли добровольцев, согласившихся подежурить вместо них.
За ними, в соответствии с более низким общественным положением и меньшим жизненным опытом, следовало назвать их соседа Джеймса Комфорта, служившего когда-то добровольцем, солдата по своей охоте и кузнеца по роду занятий, а также представителей местного ополчения: Уильяма Тремлета и Энтони Крипплстроу. Оба эти воина были в обычной крестьянской одежде и, скромно притулившись в уголке, с почтением поглядывали на солдат регулярной армии. Остальная компания состояла из соседей-фермеров с женами, приглашенных мельником, как с облегчением отметила про себя Энн, дабы они с матерью не оказались единственными женщинами на пирушке.
Лавде-старший шепотом принес миссис Гарленд свои извинения по поводу того, что ей придется разделить общество простых крестьян.
– Ведь они теперь, сударыня, овладевают военным искусством: готовятся встать на защиту родины и своего очага, да к тому же столько лет работали у меня, – ну я и решил пригласить их: подумал, что вы не будете на меня за это в обиде.
– Разумеется, нет, сосед Лавде, – сказала вдова.
– Вот тоже и старики Берден и Тьюлидж. Они немало и с честью послужили в пехоте, да и сейчас еще им иной раз куда как несладко приходится там, на маяке, в непогоду. Так что я сначала покормил их на кухне, а потом пригласил сюда, послушать пение. А они мне зато слово дали, что прибегут к нам, как только покажутся неприятельские суда с пушками; зажгут сигнал на маяке – и прямо сюда. А то ведь мы сами-то можем и проглядеть. Так что, понимаете, они тоже пригодятся, хоть и чудаковаты малость.
– Вы совершенно правы, сосед, – согласилась вдова.
Энн была очень смущена при виде лиц военного звания, представленных в таком внушительном количестве, и поначалу вела беседу только со знакомыми женами фермеров да с двумя стариками солдатами – жителями деревушки.
– А почему ты вчерась не захотела перекинуться со мной словечком, девушка? – спросил капрал Тьюлидж, старик помоложе, сидевший в шляпе. Энн в это время беседовала со стариком Симоном Берденом. – Ты встрелась мне на тропке и даже не взглянула на меня, – добавил он с укором.
– Простите, я очень сожалею, – сказала Энн, но слова ее пропали даром, так как она не решалась кричать во все горло в таком большом обществе, и капрал не услышал ни звука.
– Небось шла и мечтала невесть о чем, – продолжал громко разглагольствовать безжалостный капрал. – Да, стариков теперь не замечают, все смотрят на молодых! А ведь я не забыл, как младший-то Лавде, Боб Лавде, подкарауливал, бывало, тебя повсюду.
Щеки Энн вспыхнули, и она положила конец этому чрезмерному углублению в прошлое, поспешно заявив, что неизменно с большим почтением относится к таким пожилым людям, как он. Капралу же показалось, что она осведомилась, почему он сидит в шляпе, и он пояснил, что был ранен в голову в битве при Валансьенне в июле девяносто третьего года.
– Мы вели орудийный обстрел крепости, и осколок снаряда угодил мне в голову. Двое суток я был почитай что мертвец. Если б не эта рана да раздробленная рука, я бы, отслужив двадцать пять лет в армии, вернулся домой целехонек.
– Говорят, у тебя в череп вставлена серебряная пластинка, верно, капрал? – спросил Энтони Крипплстроу, придвигаясь поближе. – Говорят, это прямо чудо искусства – так ловко они починили тебе башку. Может, барышня хочет посмотреть, где она вставлена? Любопытная штука, мисс Энн, такое не каждый день увидишь.
– Нет-нет, спасибо, – торопливо сказала Энн, страшась, как все молодые девушки Оверкомба, увидеть капрала с непокрытой головой.
С тех пор как он вернулся из армии в девяносто четвертом году, его никто не видел без шляпы и носового платка, повязанного вокруг головы, и по деревне шли толки, что вид его без этого головного убора настолько страшен, что довел до судорог маленького мальчика, случайно увидевшего капрала, когда тот, сняв шляпу, ложился спать.
– Ладно, коли уж барышня не хочет поглядеть на твою голову, может, захочет послушать твою руку? – не унимался Крипплстроу, которому очень хотелось угодить Энн.
– Чего? – переспросил капрал.
– Рука у вас тоже повреждена? – выкрикнула Энн.
– Раздавило в лепешку тогда же, когда и голову, – равнодушно сообщил Тьюлидж.
– Погреми рукой, капрал, дай ей послушать, – сказал Крипплстроу.
– Ага, сейчас, – сказал капрал, не спеша поднимая поврежденную конечность и всем своим видом показывая, что, хотя демонстрация этого чуда уже утратила для него прелесть новизны, готов сделать одолжение. И принялся безжалостно вертеть правой рукой левую, вызывая в последней громкий треск костей и доставляя этим жутким звуком чрезвычайное удовольствие Крипплстроу.
– Какой ужас! – пробормотала Энп, мучительно желая, чтобы эта пытка прекратилась.
– Господь с вами, да ему совсем не больно. Верно, капрал? – сказал Крипплстроу.
– Нисколечко, – подтвердил капрал, продолжая с большим усердием крутить одной рукой другую.
– Кости-то совсем мертвые, совсем мертвые – я же ей говорю, капрал.
– Совсем мертвые.
– Все равно как мешок с кеглями, – продолжал свои пояснения Крипплстроу. – Они все хорошо прощупываются, барышня. Если пожелаете, он сейчас вмиг закатает для вас рукав.
– О нет, нет, не нужно, пожалуйста, не нужно. Я и так верю, – сказала девушка.
– Ну так что? Хочет она еще смотреть и слушать или не хочет? – спросил капрал, давая понять, что не желает терять время даром.
Энн заверила его, что не хочет ни под каким видом, и ловко выскользнула из своего угла.
Глава 5
Непрошеный гость появляется с песней
Драгуну-трубачу тем временем удалось пробраться поближе к Энн; он явно получал большое удовольствие от ее общества с первой же минуты ее появления. Энн держалась с ним непринужденно, спрашивала, полагает ли он, что Бонапарт в самом деле пожалует сюда этим летом, и задавала еще множество других вопросов, на которые храбрый драгун не мог дать ответа, но которые тем но менее ему было приятно выслушивать. Уильям Тремлет, начисто лишившийся сна, как только прошел слух, что первый консул может появиться в их краях, навострил уши, едва разговор коснулся этой темы, и спросил, видел ли уже кто-нибудь своими глазами страшные плоскодонные лодки, на которых собирается высадиться неприятель.
– Мой брат Роберт видел их недалеко от берега, когда последний раз пересекал Па-де-Кале, – сказал трубач и еще больше ошеломил собравшихся, добавив, что лодок этих, как предполагают, около полутора тысяч и каждая может принять на борт до сотни солдат. Так что высадку десанта в сто пятьдесят тысяч солдат можно ожидать в любой день, стоит только Бонапартишке привести в исполнение свой план.
– Господи, помилуй нас и спаси! – воскликнул Уильям Тремлет.
– Если они и рискнут, то только ночью, – уверенно заявил старик Тьюлидж, полагавший, как нечто само собой разумеющееся, что его ночные бдения на маяке позволяют ему лучше провидеть надвигающиеся события. – Я так считаю, что для высадки десанта они, понятно, изберут вон то местечко, – продолжал он, равнодушно кивнув в сторону берега, находящегося в пугающей близости от дома, где происходило сборище, причем представители местною ополчения Тремлет и Крипплстроу постарались сделать вид, что это соображение нисколько их не пугает.
– И когда, по-вашему, должно это произойти? – спросил воин-доброволец кузнец Комфорт.
– День указать не могу, – отвечал капрал, – но, уж конечно, они воспользуются приливом и, вместо того чтобы выгребать против течения, попросту дадут ему нести лодки и попадут прямехонько в Бедмутскую бухту. Это будет очень красивая военная операция, если ее ловко провести!
– Красивая! – проворчал Крипплстроу, беспокойно ворочаясь внутри своей одежды. – А что, если мы все будем в это время в постелях, капрал? Когда человек в одной сорочке, от него трудно ждать чудес храбрости, а в особенности от нас, от местных ополченцев, – ведь мы пока освоили только один прием: «ружье на плечо».
– Он не высадится этим летом. Он вообще никогда не высадится, – решительно заявил высоченный старший сержант.
Солдат же Лавде был всецело поглощен Энн и ее мамашей и не принимал участия в этих прогнозах; все его усилия были сейчас направлены на то, чтобы раздобыть для своих дам самое лучшее вино, из того, что имелось в доме, которое, к слову сказать, так незаметно пересекло Ла-Манш и темной ночью было выгружено на скалистом берегу, что Бонапарт со своим войском мог только позавидовать такой удаче. Затем трубач попросил Энн спеть, однако девушка, хотя и обладала очень милым голоском для домашнего, так сказать, употребления, отклонила его просьбу и перевела разговор на другое, не без некоторого замешательства осведомившись о его брате Роберте, который был только что упомянут.
– Роберт жив-здоров. Благодарю вас, мисс Гарленд, – ответил трубач. – Он сейчас плавает подшкипером на бриге «Черная чайка». Хотя по годам ему бы еще рановато на такую должность, да хозяин судна очень ему доверяет. – И, мысленно углубляя портрет описываемого персонажа, трубач добавил: – Боб влюблен.
Энн, казалось, была заинтересована и приготовилась внимательно слушать, но трубач ограничился этим сообщением.
– И сильно он влюблен?
– Не берусь сказать. Но вот что чудно – он никому не говорит, кто эта дама. Никто этого не знает.
– Ну, ведь когда-нибудь он об этом поведает, – подчеркнуто равнодушно заметила Энн, давая понять, что вопросы плотской любви лишены для нее интереса.
Трубач с сомнением покачал головой, и их уединенной беседе был положен конец одним из сержантов, который внезапно затянул песню; ее подхватили другие солдаты, причем каждый по очереди исполнял свой куплет, встав из-за стола, вытянувшись во весь рост и до отказа задрав кверху подбородок, словно задавшись целью натянуть кожу на шее как можно туже, так, чтобы не осталось ни единой складки. Когда с пением было покончено, один из гусар-иноземцев – «очень любезный, воспитанный», по словам мельника Лавде, немец, отрекомендовавший себя венгром, а по сути дела, не имевший принадлежности к какой-либо одной стране, исполнил по просьбе трубача – «чтобы мисс Энн поглядела, какие он откалывает штуки», – несколько довольно необычных телодвижений, названных им национальным танцем. Украшением компании была мисс Гарленд. Солдаты все, как один – и англичане и иноземцы, – были, по-видимому, совершенно очарованы ею, как оно и должно было быть, принимая во внимание, насколько редко доводилось им бывать в обществе такой дамы.
Энн и ее мамаша уже подумывали удалиться на свою половину, когда сержант Станнер из энского пехотного, призывавшийся в армию в Бедмуте, затянул шутливую песенку:
- Когда меж двух соседей спор
- Уладит миром крючкотвор,
- Тогда своих солдат в поход
- На Лондон Бони поведет.
Хор подхватил припев:
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм,
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
- Когда не будет плут в чести,
- А суд начнет закон блюсти,
- Тогда своих солдат в поход
- На Лондон Бони поведет.
Хор:
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм,
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
- Когда, проклявши серебро,
- Богач раздаст свое добро,
- Тогда своих солдат в поход
- На Лондон Бони поведет
Хор:
- Рол-ли-кэм ро-рэм…[1]
Бедняга Станнер! Не помогли ему его сатирические куплеты. Через несколько лет после столь приятно проведенного лета вблизи морского курорта – резиденции короля Георга – он пал на поле кровавой битвы при Альбуэре, смертельно раненный и растоптанный конем французского гусара, в тот момент, когда бригада под командованием Бересфорда перестраивалась для атаки.
И вот по окончании тринадцатого и, по-видимому, последнего куплета, едва мельник Лавде успел сказать: «Здорово, мистер Станнер!» – а мистер Станнер скромно выразить сожаление по поводу того, что не мог спеть лучше, как за ставнями раздался громовый голос, повторивший снова:
- Рол-ли-кэм мο-рэм, тол-лол-ло-рэм,
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
При столь неожиданном подкреплении извне среди собравшихся на мгновение воцарилась тишина, и только представители военного сословия постарались сделать вид, что их ничем не удивишь. Пока все раздумывали, кто бы это мог быть, на крыльце раздались шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой человек в форме кавалериста территориальной конницы, ростом и сложением напоминавший Геркулеса Фарнезе.
– Это молодой эсквайр Дерримен, племянник старого мистера Дерримена, – зашептались в глубине комнаты.
Не тратя времени на приветствие, а быть может, уже уяснив себе, кого он здесь перед собой видит, молодой гигант взмахнул шляпой над головой и грянул снова, да так, что стекла задребезжали в окнах:
- Когда болтать и день и ночь
- Вдруг станет женщинам невмочь,
- Тогда своих солдат в поход
- На Лондон Бони поведет.
Хор подхватил:
- Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм…
Куплет этот был опущен галантным Станнером из уважительности к дамам.
Новоприбывший был рыжеволос, румян и, по-видимому, твердо убежден в том, что, явившись сюда по собственному почину, доставил собравшимся немалое удовольствие, что, впрочем, не противоречило действительности.
– Без церемоний, друзья мои, – сказал он. – Проходил мимо, и мои уши уловили ваше пение. Я люблю песни – душу согревают и веселят, ими не следует пренебрегать. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я не прав.
– Милости прошу, мистер Дерримен, – сказал мельник, наполняя стакан и протягивая молодцу. – Вы, значит, прямо из казармы? А ведь я вас не узнал спервоначалу – в военной-то форме. Как-то привычней видеть вас с лопатой в руках, сэр. Я бы нипочем вас не признал, если бы не слышал, что вы уже записались.
– С лопатой привычней? Думай, что говоришь, мельник! – сказал гигант, багровея еще пуще. – Я не люблю гневаться, но… но… честь мундира, знаете ли!
В глубине комнаты среди солдат послышались смешки, и доблестный кавалерист только тут заметил, что он не единственный представитель военного сословия в этой компании. Какую-то секунду он пребывал в замешательстве, но тут же обрел обычную уверенность в себе.
– Ничего, ничего, мистер Дерримен, не обижайтесь – я просто пошутил, – сказал добродушный мельник. – Теперь все стали солдатами. Хлебните-ка этого успокоительного и не придавайте значения моим словам.
Молодой человек незамедлительно хлебнул и сказал:
– Да, мельник, меня призвали в армию. И время сейчас беспокойное для нас, солдат. Наша жизнь в наших собственных руках. Чего эти молодцы там, за столом, скалят зубы? Я повторяю: наша жизнь в наших руках!
– Приехали погостить денек-другой на ферме у вашего дядюшки, мистер Дерримен?
– Нет-нет. Я же сказал – мы в шести милях отсюда. Нас расквартировали в Кастербридже. Но я должен проведать старого… старого…
– Старого господина?
– Господина! Старого скрягу. Он питается опилками. Ха-ха! – Ровные белые зубы его сверкнули, как первый снег на кочане красной капусты. – Впрочем, ремесло воина делает нечувствительным к таким мелочам, и я довольствуюсь малым.
– Вы совершенно правы, мистер Дерримен. Еще стаканчик?
– Нет-нет. Я никогда не пью лишнего. И никто не должен. Так что не искушайте меня.
Тут он увидел Энн, и какая-то непонятная сила повлекла его туда, где сидели женщины. По дороге он бросил Джону Лавде:
– А, это ты, Лавде! Я слышал, что ты здесь. Признаться, я пришел тебя проведать. Рад видеть тебя снова в добром здравии под отчим кровом.
Трубач ответил на приветствие вежливо, хотя, быть может, несколько угрюмо: продвижение Дерримена в сторону Энн, по-видимому, пришлось ему не по душе.
– Так это же дочка вдовы Гарленд! Ну конечно, это она! Вы меня помните? Я бывал здесь когда-то, Фестус Дерримен, из территориальной конницы.
Энн слегка присела.
– Я помню только, что вас зовут Фестус…
– Да-да, меня все знают… особенно теперь. – Он доверительно понизил голос. – Я вижу, ваши приятели обескуражены моим появлением: что-то примолкли. Я никак не намерен нарушать ваше веселье, однако часто замечаю, что все приходят в замешательство при моем появлении, особенно когда я в мундире.
– Вот как! Все приходят в замешательство?
– Да. Что-то во мне есть. – Он еще больше понизил голос, словно они с Энн знали друг друга чуть не с пеленок, хотя на самом деле он видел ее не больше двух-трех раз в жизни. – А вы как тут очутились? Мне это совсем не нравится, разрази меня гром! Такая приятная молодая леди – и в такой компании. Вам бы побывать на одной из наших вечеринок в Кастербридже или в Шоттсфорд-Форуме, где собираются йемены. И дамы, дамы бывают тоже! У нас; там все почтенные люди, все из хороших, солидных фамилий, многие даже землевладельцы, и все до единого имеют своих собственных коней, что этим мужланам, конечно, не по карману. – И он кивком указал на драгун.
– Тише, тише! Ведь это же все приятели и соседи мельника Лавде, а он наш большой друг… самый лучший наш друг! – с жаром проговорила Энн, краснея от возмущения при этих несправедливых и обидных для хозяина словах. – Как можно так говорить! Это неблагородно!
– Ха-ха! Вы оскорбились. Это зря, мой прекрасный ангел, моя прекрасная… как это говорится… прекрасная весталка. Хотел бы я видеть вас в своем доме – вот где бы вам был оказан должный прием! Но сейчас честь должна стоять на первом месте, галантность – на втором. О-ля-ля! Прошу прощения, моя прелесть, вы мне нравитесь! Может, я и роняю себя, ведь я как-никак землевладелец, но все равно вы мне нравитесь.
– Сэр, прошу вас, уймитесь, – в полном смущении и расстройстве проговорила Энн.
– Хорошо-хорошо. Ну, капрал Тьюлидж, как ваша голова? – вопросил Дерримен, направляясь в другой конец комнаты и предоставив Энн самой себе.
Компания снова мало-помалу развеселилась, и прошло немало времени, прежде чем сей хвастливый Руфус нашел в себе силы покинуть это приятное общество и доброе вино, хотя последним он уже успел основательно накачаться еще прежде, чем переступил порог. Местные жители знали этому молодчику цену, а солдаты из лагеря, сидевшие за столом, посасывали свои трубки, скрывая усмешку, и не без добродушной иронии подмигивали друг другу, и Джон Лавде не отставал от прочих. Однако и он, и его приятели были слишком хорошо воспитаны, чтобы обращать внимание на пространные излияния этого молодца, и охотно позволяли ему поучать их и давать им разнообразные советы по части жизни воина в походе и на бивуаке. Драгунам, казалось, было совершенно все равно, кто и что на этот счет думает, лишь бы им самим не докучали этими разговорами, и как ни странно, но военное искусство, по-видимому, интересовало их меньше всего. А вот искусство хорошо попировать в доброй компании на оверкомбской мельнице да различные хозяйственные заботы мельника, количество его кур, состояние его пчелиных роев, откорм его свиней – все эти предметы представляли для них куда больший интерес.
Автор этих строк, коему вышеозначенное пиршество было описано несчетное количество раз многими представителями фамилии Лавде и другими почтенными лицами, ныне уже отошедшими в мир иной, не может переступить порога старой гостиной на оверкомбской мельнице без того, чтобы веселая эта сцена не возникла у него перед глазами, слегка затуманенная дымкой семи-восьми десятилетий, минувших с той поры. Прежде всего взор его ослепляют огни дюжины свечей, расставленных повсюду, без всякой оглядки на их стоимость, и заботливо очищаемых от нагара самим хозяином, который каждые пять минут обходит всю комнату с щипцами в руке и отщипывает кончики фитилей с такой старательностью и с таким решительным видом, словно орудует не щипцами для снятия нагара, а ножом гильотины. Далее глаз начинает различать красные и синие мундиры и белые лосины солдат, которых собралось тут десятка два, не считая величественного Дерримена, чья голова, как, впрочем, и головы всех, кто не сидит, а стоит, находится в опасном соседстве с закопченными балками потолка. Никому, ни единому человеку из присутствующих здесь, еще не известно значение слова «Витория», и ни для кого еще слово «Ватерлоо» не звучит предвестником его грядущей смерти или славы. И, наконец, перед автором возникает сдержанная и невинная Энн, нимало не помышляющая о том, что готовит ей судьба в самом недалеком будущем. Вот она с тревожной улыбкой поглядывает искоса на Дерримена, который, звеня портупеей, топчется по комнате; она горячо надеется, что он уже не почтит ее больше своим вниманием, заведя приватный разговор, а он именно это и делает, ибо фигурка в белом муслине неудержимо влечет его к себе. Она же на сей раз вынуждена быть с ним более любезной, дабы он из сентиментального ухажера не превратился снова в грубияна, – превращение, как подсказывает ей наблюдательность, отнюдь не являющееся недостижимым для этого воина.
– Ну ладно, эти пустые забавы не по мне, друзья, – заявил он наконец, к большому облегчению Энн. – Говоря по чести, мне вообще не следовало сюда заходить, но я услышал, как вы развлекаетесь, и решил: надо поглядеть, что тут такое. А мне до ночи предстоит отмахать еще не одну милю. – С этими словами он потянулся, раскинув руки и задрав кверху подбородок, отряхнулся с таким видом, словно хотел не оставить на своей персоне ни одной неподобающей складки или морщинки, небрежно пожелал всем доброй ночи и удалился.
– Жаль, что ты не подразнил его еще малость, отец, – без улыбки заметил трубач. – Еще немного, и он рассвирепел бы как медведь.
– А зачем мне его раздражать – ни к чему это. Он в общем-то пришел к нам по-хорошему, – возрозил добряк мельник, не поднимая глаз.
– Ну да! По-моему, он был не слишком-то дружелюбен, – возразил Джон.
– С соседями нужно жить в ладу, разве уж что терпежу не станет, – добродушно заметил отец, снимая пиджак, чтобы пойти нацедить еще пива; эта необходимость периодически разоблачаться до рубашки объяснялась малыми размерами погреба и постоянной угрозой, что на парадную одежду налипнет паутина.
Кто-то из гостей заметил, что Фес Дерримен не такой уж скверный малый, нужно только уметь с ним обращаться и потрафлять ему; другие заявили, что он, в сущности, никому не причиняет вреда, кроме самого себя, а дамы постарше оживленно упомянули о том, что после дядюшкиной смерти он должен получить немалую толику денег. Только один человек не сказал ничего в его пользу – это был тот, кто знал его лучше других, кто много лет рос с ним вместе, когда он жил в большей близости от Оверкомба, чем ныне. Этим единственным человеком, воздержавшимся от всяких похвал по его адресу, был трубач.
Глава 6
Старый мистер Дерримен, владелец Оксуэлл-холла
В описываемый нами период истории Оверкомба какая-нибудь случайная газета нет-нет да и попадала в деревню. Бедмутский почтмейстер (который благодаря своим служебным связям каким-то таинственным путем приобретал эту газету совершенно бесплатно) одалживал ее мистеру Дерримену из Оксуэлл-холла, а тот, прежде чем газета становилась двухнедельной давности, передавал ее миссис Гарленд. Все, кто хоть немного помнит старика эсквайра, отлично, разумеется, понимают, что эта восхитительная привилегия: узнавать о событиях, происшедших в мире, из газетных столбцов – не была предоставлена вдове Гарленд за здорово живешь. Таким бесхитростным способом старик эсквайр расплачивался с вдовой за те услуги, которые ее дочь время от времени ему оказывала: читала вслух и вела его счета, – ибо сам эсквайр, чей капитал, исчисляемый в гинеях, уже достигал, как поговаривали, пятизначного, а по утверждению некоторых – и шестизначного числа, был не особенно силен в этих делах.
Почтенная вдова миссис Марта Гарленд занимала некое промежуточное положение между погрязшими в невежестве односельчанами, с одной стороны, и хорошо осведомленным джентри – с другой, и любезно помогала первым в написании и чтении писем и переводе с печатного языка на обычный. Нельзя сказать, чтобы она не получала известного удовольствия, когда, стоя вечером на пороге своего дома с газетой в руке в окружении кое-кого из соседей и с удовлетворением поглядывая на их разинутые рты, преподносила им какое-нибудь наиболее захватывающее сообщение, выбранное ею по своему усмотрению из вороха текущих событий. Покончив с газетой, миссис Гарленд передавала ее мельнику, мельник – своему помощнику, а помощник – своему сыну, в руках которого она начинала делиться на половинки, четвертушки и неравносторонние треугольники и заканчивала дни свои в форме бумажного колпака, затычки для фляги или упаковки для хлеба с сыром.
Несмотря на свое деловое соглашение с миссис Гарленд, старик Дерримен задерживал у себя газету так долго и так жалел тратить время своего слуги на поручения чисто интеллектуального порядка, что газета редко попадала в руки вдовы, если она за ней не посылала. Посыльным всегда была Энн. Прибытие в их местность солдат побудило миссис Гарленд послать дочь за газетой на следующий же день после вечеринки у мельника, и Энн, надев шляпку и накинув пелеринку, отправилась прямо в противоположную от военного лагеря сторону.
Пройдя лугом мили две, Энн отворила калитку в ограде и вышла на большую дорогу. По другую сторону дороги лежало какое-то заброшенное пастбище с поломанными жердями ограды, валявшимися по обе стороны ворот, и с полусгнившими воротами, потерявшими нижнюю перекладину. На сухой утрамбованной земле вырубки виднелись следы лошадиных и коровьих копыт, уже слабо различимые от наслоившихся на них отметин бесчисленных овечьих копыт, поверх которых прошлись еще ноги людей и собак. Среди всех этих геологических напластований вилась колея, почти заросшая травой, и по этой дороге Энн продолжала свой путь. Дорога спустилась по отлогому склону, нырнула под сень каштанов и старого, с потемневшей корой вяза и, когда впереди стал слышен шум водопада и морского прибоя, круто свернула в сторону, огибая болотце, заросшее жерухой и водяным крессом и бывшее когда-то рыбным садком. Тут из-за деревьев выглянул угол серого обветшалого здания. Это был Оксуэлл-холл – усадьба угасшего рода, обращенная ныне в ферму.
Бенжамен Дерримен, теперешний владелец этого разрушенного гнезда, был некогда всего лишь фермером-арендатором окрестных земель. Его жена принесла ему в приданое небольшое состояние, и когда его единственный сын был еще подростком, произошел раздел поместья Оксуэллов, и фермер, к тому времени уже вдовец, получил возможность приобрести дом с небольшим прилегающим к нему участком земли за баснословно низкую цену. Но два года спустя он потерял и сына, и с той минуты жизнь как бы остановилась для него. Поговаривали, что после этого печального события Дерримен завещал дом и землю какой-то своей дальней родственнице, дабы ничего не попало в руки его племянника, которого он терпеть не мог; впрочем, достоверно ничего известно не было.
Дом этот был весьма интересен, как всякая пришедшая в упадок усадьба, что очень убедительно показывает некий великолепный труд по истории графства. В этом знаменитом сочинении, изданном ин-фолио, имелась старинная гравюра, выполненная по заказу последнего отпрыска исконных владельцев поместья, и из этого произведения искусства явствовало, что в 1750 году, сиречь в год его публикации, окна этого здания были покрыты мелкими царапинами, напоминавшими зигзаги черных молний, над каждой печной трубой завихрялся крутой завиток дыма, похожий на охотничий рог, на газоне в напряженной позе застыла нарядная дама, прогуливающая комнатную собачку, а над деревьями с северо-восточной стороны повисло грузное облако и девять птиц неизвестной породы, распластавших крылья по небу.
Это запущенное и разрушающееся жилище обладало всеми романтическими достоинствами и практическими недостатками, присущими любым замшелым местам подобного рода, таким как пещеры, утесы, пустоши, ущелья и прочие поэтические уголки, в которых люди с возвышенной душой жаждут жить и умереть. На стенах, покрытых плесенью на три фута от земли, с успехом можно было бы выращивать горчицу или кресс-салат, а в кладовой между каменными плитами пола росли грибы на изысканно тонких ножках. Что же касается наружного вида дома, то здесь природа постаралась за этот щедро отпущенный ей срок размыть, стереть и уничтожить то, что не было приведено в негодность человеком, и потому подчас было нелегко определить, кто же из них явился причиной того или иного разрушения. Лепные украшения у входа утратили отчетливость своих форм, но произошло ли это от бесчисленного прикосновения чьих-то плеч и втаскивания и вытаскивания громоздкой мебели или то были следы времени в более величественной и абстрактной форме – решить не представлялось возможным. Железные прутья оконных решеток, изъеденные ржавчиной от дыхания многих поколений, оседавшего на них, словно роса, сделались у своего каменного основания тонкими, как проволока; стекла же либо помутнели совершенно, либо стали радужными, как павлиний хвост. Над входом сохранились солнечные часы; их расшатавшийся гномон свободно покачивался на ветру, отбрасывая свою тень то туда, то сюда и словно говоря: «Вот вам ваши прекрасные точные часы; вот вам любое время на любой вкус; это старые солнечные часы; неустойчивость – лучшая политика на свете».
Энн вошла в сводчатый портик главного входа, откуда винтовая лесенка вела в комнату привратника. Расположенная вдоль дома галерея с аркадами была перегорожена в нескольких местах, и Энн отворила первую загородку и закрыла ее за собой. Необходимость этих загородок стала очевидной, едва она за нее ступила. Грязь и навоз толстым слоем покрывали старинные плиты галереи, в которой обитали телята, гуси, утки и на удивление огромные свиньи с поразительно крошечными поросятами. Под крестовым сводом несколько телок, вытянув шеи, с довольным видом лизали лепную капитель, поддерживавшую свод. Энн направилась ко второй арке, в которую также была вделана перегородка, дабы скот не мог находиться в постоянном общении с обитателями дома. Дверного молотка не было, и Энн постучала небольшой палкой, которая была оставлена у стены для этой цели, но так как на стук никто не откликнулся, Энн вошла в холл и снова постучала – в дверь, ведущую во внутренние покои.
Послышался легкий шорох, дверь приоткрылась примерно на дюйм, и в образовавшейся щелке показалась часть увядшего лица – один глаз в окружении сетки морщин.
– Простите, пожалуйста, я пришла за газетой, – сказала Энн.
– А, это ты, милая Энн? – жалобно проскулил обитатель этого жилища, чуть-чуть увеличивая щелку. – Я так ослаб, что едва-едва добрался до двери.
Слова эти принадлежали старому, высохшему джентльмену в куртке того цвета, который являлся преобладающим на его скотном дворе, в панталонах того же оттенка, расстегнутых у колен, где над чулком виднелся кусок голой ноги, однако ослепительно белое жабо словно стремилось возместить небрежность нижней части туалета. Сквозь прозрачную кожу лба над глазными впадинами просвечивали кости черепа, а углы тонкого рта по самомалейшему поводу растягивались до ушей. Старик тяжело заковылял обратно в глубь комнаты, и Энн последовала за ним.
– Хорошо, ты можешь получить газету, если хочешь, только вы никогда не оставляете мне времени, чтобы поглядеть, что там написано! Вот, получай. – Он протянул Энн газету, но прежде чем она успела ее взять, отдернул руку. – Мне, можно сказать, так и не досталась газета, зрение у меня слабое, а тут не успеешь оглянуться, как за ней приходят! Меня обвели вокруг пальца с этой газетой. Ну что ж, уносите. У меня останется сознание, что я исполнил свой долг перед людьми. – И в полном изнеможении он утонул в кресле.
Энн сказала, что не хочет брать газету, если он ее еще не прочел, но ведь она пришла на этот раз даже позже, чем обычно, – из-за солдат.
– Солдаты. Да будь они прокляты, эти солдаты! Теперь все живые изгороди поломают, и все курятники обворуют, и всех молочных поросят украдут, и мало ли что еще может случиться! А кто будет за это платить, хотел бы я знать? Верно, из-за этих солдат, которые сюда препожаловали, ты уже не соблаговолишь остаться и почитать мне то, что я еще не успел прочесть сам?
Энн сказала, что почитает, если ему этого хочется, она никуда не спешит. И, опустившись на стул, развернула газету:
– «Обед в Карлтон-Хаусе».
– Нет-нет! Что мне до этого.
– «Оборона страны»?
– Можешь прочесть, если хочешь. Бог даст, в нашем приходе не будут ставить солдат на постой или устраивать еще какие-нибудь безобразия в этом роде. Ведь что делать такому несчастному, убогому калеке, как я, если в этот дом нагонят солдат? Мне же их нечем кормить.
Энн принялась читать, но уже минут через десять ее занятие было прервано появлением на болотистой равнине за окном колоссальной фигуры в мундире территориальной конницы.
– Что это ты там увидала? – с испугом спросил старик фермер, когда Энн запнулась и слегка покраснела.
– Там солдат… Из территориальной конницы, – сказала девушка, чувствуя себя не в своей тарелке.
– Провалиться мне, если это не мой племянник! – воскликнул старик, задрожав всем телом, словно в предчувствии неисчислимых бедствий, и фосфорическая бледность разлилась по его лицу, в то время как он пытался изобразить вымученно-радостную улыбку, дабы приветствовать прибывшего к нему родственника. – Покорнейше прошу: читайте дальше, мисс Гарленд.
Но долго Энн читать не пришлось: посетитель, перешагнув через загородку в галерее, появился в комнате.
– Ну, дядюшка, как поживаете? – спросил гигант, тряся руку старика с такой силой, словно дергал веревку большого колокола. – Рад вас видеть.
– Плоховато, Фестус, слабею все, – выдавил старик, продолжая дрожать всем телом от внезапно полученного им сотрясения. – Ой, полегче, прошу тебя, дорогой племянничек, помилосердствуй! У меня рука слабая, как паутинка.
– Ах вы, бедняга!
– Да, от меня уже один скелет остался. Со мной надо обращаться бережно.
– Весьма огорчен и постараюсь не забывать о вашем бедственном состоянии. Да что вы так дрожите, дядюшка Бенджи?
– А это все от радости, – ответил старик. – Меня всегда начинает трясти как в лихорадке, когда ко мне нежданно-негаданно приезжают мои любимые родственнички.
– А, вот оно что! – воскликнул племянник, так громко хлопнув ладонью по спинке кресла дядюшки, что тот испуганно подпрыгнул фута на три и плюхнулся обратно. – Прошу прощенья, что напугал вас, дядюшка. Но это у нас в полку такой обычай, а я позабыл, что вы больно пугливый. Вы небось совсем не ожидали меня увидеть, а я тут как тут.
– Я рад тебя видеть. Ты, верно, к нам ненадолго?
– Совсем напротив. Я намерен пробыть здесь как можно дольше.
– О, вот как! Очень, очень рад, дорогой Фестус. Как можно дольше, ты сказал?
– Да, как можно дольше, – заявил молодой человек, усаживаясь на покатую крышку бюро и вытягивая ноги, чтобы упереться ими в пол. – Пока наша часть стоит тут, я буду заглядывать сюда, как в родной дом, всякий раз, как получу отпуск. А потом, осенью, когда война закончится, совсем приеду и буду жить с вами, и буду вам заместо родного сына, и помогу управляться с вашими землями и с фермой – словом, буду, так сказать, баюкать вашу старость.
– Ах как приятно это слышать! – промолвил старик, криво улыбаясь и судорожно сжимая подлокотники кресла, дабы не рухнуть на пол.
– Да-да. Я уже давно подумывал приехать к вам, дядюшка Бенджи, – знал ведь, как вам этого хочется, ну и просто не хватило духу не ублажить вас.
– Ты в этом смысле всегда был очень добр.
– Да. Я всегда был добр. Но должен с ходу предупредить вас, чтобы вы потом не слишком огорчались: я не смогу находиться при вас неотлучно, я хочу сказать – весь день: служба в коннице налагает, понимаете ли, известные обязательства.
– Ах, так не весь день? Какая жалость! – воскликнул старик фермер, и тусклый взгляд его оживился.
– Я знал, что вы это скажете. И ночевать я здесь буду тоже не всегда – по той же причине.
– Не будешь оставаться на ночь? – проговорил старик с еще большим облегчением в голосе. – Но ты должен ночевать здесь… Ну конечно, ты должен. Нет, ты просто обязан! Но ты не можешь!
– Пока я в действующей армии – никак не могу. Но как только все это кончится, на следующий же день я буду с вами неотлучно и ночевать буду, чтобы доставить вам удовольствие, раз вы так горячо меня об этом просите.
– Спа… спасибо тебе, это будет очень приятно! – сказал дядюшка Бенджи.
– Да, я знаю, вам будет поспокойнее со мной. – И он снисходительно погладил дядюшку по голове, а старик при этом проявлении родственной нежности выразил свое удовольствие, скорчив чудовищную гримасу. – Мне бы следовало завернуть к вам еще прошлой ночью, когда я был тут неподалеку, – продолжал Фестус. – Но я и так слишком задержался и не мог дать такого крюка. Вы не обижаетесь на меня?
– Нисколечко, раз ты не мог. Я никогда не буду обижаться на тебя, если никак не сможешь ко мне заглянуть. Понимаешь, Фести?
Оба умолкли, и так как племянник продолжал хранить молчание, дядюшка Бенджи прибавил:
– Жаль, что и я не мог припасти для тебя подарочка. Как на беду, у нас пало много скотины в этом году, и у меня страх какие расходы.
– Ах вы, бедняга… Да я знаю, знаю. Может, одолжить вам семь шиллингов, дядя Бенджи?
– Ха-ха! Ах ты, шутник! Ну что ж, я подумаю. Говорят, Бонапарт должен высадить свои войска точнехонько здесь, на нашем берегу? А территориальная конница должна будет дать ему отпор и стоять насмерть.
– Кто это говорит? – вопросил румяный сын Марса, выцветая на глазах.
– Малый, который разносит газеты.
– А, пустая болтовня! – храбро заявил Фестус. – Правительство одно время так полагало, да что оно знает! – Тут Фестус обернулся и воскликнул: – Кого я вижу! Никак это наша малютка Энн!
Энн при его появлении спряталась за газету, а потом потихоньку отошла в глубь комнаты, и он только сейчас ее заметил.
– Скажите мне, мисс Энн, вы с матушкой намерены вечно торчать на этой мельнице, глазея на рыбешек в пруду?
Энн заставила себя поднять на Фестуса глаза и ответила, что будущее ей неизвестно, таким серьезным и искренним тоном, какого едва ли заслуживал заданный вопрос. При этом лицо ее вспыхнуло, порозовели даже плечи и шея, однако не потому, что огромные сапоги, устрашающего вида шпоры и прочие воинственные атрибуты кавалериста поразили ее воображение, как это подумалось Фестусу, а просто она не ожидала повстречаться с ним здесь.
– Надеюсь, что не вечно, и это в моих интересах, – сказал Фестус, не сводя глаз с округлой щечки.
Тут Энн приняла позу оскорбленного достоинства и холодно отвела взгляд, однако молодой человек, заметив ее недовольство, продолжал разговаривать с ней так вежливо и почтительно, что она невольно смягчилась, хотя и постаралась это скрыть. При каком-то особенно забавном замечании Фестуса ротик ее дрогнул, верхняя губка несмело обнажила краешек белых зубов, застыла на миг в этом состоянии… и обнажила их совсем в невольной улыбке, но тут же приняла первоначальное положение. Так улыбка порхала по лицу Энн словно бабочка, в то время как приятное желание улыбнуться, не скрывая своего удовольствия, боролось с желанием проявить степенность и невозмутимость. Энн хотелось показать Фестусу, что она не желает слушать его комплименты, и в то же время дать понять, что не настолько бесчувственна, чтобы ему нужно было подавлять в себе все искренние чувства, которые ему хотелось бы выразить.
– Почитать вам еще, мистер Дерримен? – спросила она, прерывая излияния Фестуса. – Если нет, так я пойду домой.
– Прогоните меня, чтобы я вам больше не мешал, – сказал Фестус. – Через две минуты, как только ваш слуга почистит мне сапоги, меня здесь не будет.
– Мы не задерживаем тебя, племянник. Эта барышня должна получить газету. Сегодня ее черед. Но она может почитать мне немножко, ведь я с этой газетой почти что и не познакомился. Ну что же ты примолкла, моя милая? Будешь ты читать или нет?
– Буду, но только не двоим, – ответила Энн.
– Хо-хо! Я, значит, должен удалиться, черт побери! – со смехом воскликнул Фестус, и, так как Энн не удостоила его больше ни единым взглядом, покинул комнату и, бряцая шпорами, направился на задний двор, где увидел слугу и, помахав ему рукой, крикнул:
– Энтони Крипплстроу!
Крипплстроу рысцой приблизился к нему, откинул со лба клок волос, водворил его на место и произнес:
– Да, сударь?
Он работал у старика Дерримена, помогая в чем придется по саду и огороду, и так же, как его хозяин, не претендовал на мужественную внешность и привлекательность вследствие сильно искривленного позвоночника и необыкновенного устройства рта, который растягивался только в одну сторону, отчего улыбка получалась какой-то треугольной.
– Ну, Крипплстроу, как дела? – покровительственно спросил его Фестус.
– Помаленьку, сударь, не так чтоб очень плохо. А как вы поживаете?
– Отлично. Давай-ка почисть мне сапоги: видишь, это военные сапоги, – я поставлю ногу на скамейку. Этот свиной хлев моего дядюшки не место для порядочного солдата.
– Хорошо, сударь, мистер Дерримен, я почищу. Да, конечно, это не место, сударь.
– Какая скотина пала в этом году у моего дядюшки, Крипплстроу?
– Сейчас скажу, сударь. Помнится, мы потеряли трех цыплят, одного голубя и одного недельного молочного поросеночка, а всего она их принесла десять штук. А больше я что-то ничего не припомню, сударь.
– Да, огромный падеж скота, ничего не скажешь! Вот старый мошенник!
– Нет, не очень много скота, сударь. Старый… как вы изволили сказать, сударь?
– Так, ничего. Он там сейчас. – Фестус мотнул головой в сторону дома. – Вонючий скряга.
– Хи-хи! Ай-ай-ай, мистер Дерримен! – сказал Крипплстроу, с восторженным осуждением покачивая головой. – Образованные господа не должны говорить такое. А вы еще и офицер к тому же, мистер Дерримен! Вы там у себя в коннице не должны забывать, что в ваших жилах течет кровь прославленных предков и вам не след дурно отзываться о них.
– Он скупая скотина.
– Верно, сударь: признаться, он малость скуповат. Это уж так повелось – многие старые, почтенные господа скуповаты. Ну, Бог даст, он не забудет вас в своем завещании, сударь.
– Надеюсь, не забудет. А что, здешний народ говорит что-нибудь обо мне? – спросил молодой человек, в то время как Крипплстроу продолжал возиться с его сапогами.
– Да, сударь, случается, что и говорят иной раз. Говорят, что наша добрая матушка-землица вырастила хороший кусок мяса и костей для нашей территориальной конницы… словом, все сходятся на том, что вы очень красивый малый, сударь. Хотелось бы мне так же мало бояться французов, как вы. Я ведь состою в местном ополчении, мистер Дерримен, и, поверите ли, каждую ночь вижу во сне, что защищаю родину от неприятеля, и этот сон совсем не доставляет мне удовольствия.
– А ты смотри на это веселее, как я, тогда мало-помалу привыкнешь и совсем перестанешь думать. Красивый мужчина – это еще не все, понимаешь ли. Да-да. В армии найдется кое-кто не хуже меня, а может, и лучше.
– И потом, еще говорят, что вы сумеете умереть как настоящий мужчина, когда падете на поле брани этим летом.
– Когда паду на поле брани?
– Ну да, да, так точно, сударь. Ох и горемычная ж судьбина! Ежечасно буду я молиться за упокой вашей души, когда вы будете гнить в своей солдатской могиле!
– Постой, – сказал наш воин, проявляя некоторое беспокойство. – Почему это они решили, что я должен погибнуть?
– Ну как же, сударь: по всему видно, что конница будет пущена вперед.
– Вперед? Вот и дядюшка говорил то же самое!
– Ну да, по всему видно, что так. И, уж конечно, ее скосят под корень, как былинку. И вас, бедняжку, такого молодого, такого храброго, заодно с остальными!
– Послушай, Крипплстроу, это же просто дурацкая болтовня. Как может конница быть пущена вперед? Да никто не будет пущен вперед. Какое нам, коннице, дело до высадки Бонапарта? Мы будем находиться в каком-нибудь безопасном месте, охраняя ценности и драгоценности. Ну, послушай, Крипплстроу, видишь ты хоть какой-нибудь резон в том, чтобы пускать конницу вперед? Ты думаешь, они и в самом деле могут это сделать?
– Да, сударь, боюсь, что могут, – сказал жизнерадостный Крипплстроу. – И я знаю, что такой храбрый воин, как вы, будет только рад случаю показать себя. Это же такое почетное дело – смерть в ореоле славы! Я, по чести, желаю вам этого от всей души, да и всем так говорю… Правду сказать, я даже молюсь об этом по ночам.
– О! Черт бы тебя побрал! Никто тебя об этом не просит.
– Нет, сударь, никто, я сам.
– Конечно, мой меч выполнит свой воинский долг. Но хватит болтать! Убирайся отсюда.
Угрюмо насупившись, Фестус возвратился в комнату дядюшки и увидел, что Энн собирается уходить. Он хотел было тотчас же отправиться вместе с ней, но она уклонилась от его предложения, и он подошел к окну и, барабаня пальцами по ставне, наблюдал, как она пересекает двор.
– А, ты еще не ушел, племянник? – спросил старик фермер, с опаской косясь на Фестуса одним глазом. – Ты видишь, в каком я плачевном положении. И хоть бы чуть полегчало. Потому и не могу я принять тебя так, как бы мне хотелось.
– Не можете, дядюшка, не можете. Но я не нахожу, чтобы вам было хуже, нет, будь я проклят! Вам еще не раз представится случай оказать мне хороший прием, когда вы поправитесь. А если вам кажется, что вы начали сдавать, почему бы не развеяться, не пожить где-нибудь в другом месте? Здесь у вас такая сырая, мрачная дыра.
– Верно, Фестус. Я и сам подумываю о том, чтобы перебраться в другое место.
– Вот как! И куда же? – с любопытством спросил удивленный Фестус.
– В мансарду, что в северной части дома. Там, правда, нет камина, да на что он такому горемыке, как я.
– Недалеко же вы собрались.
– Недалеко. Так ведь у меня нет ни единой родной души на десять миль в округе, а ты сам знаешь, что я не могу позволить себе арендовать помещение, за которое придется платить.
– Знаю, знаю, дядюшка Бенджи! Ладно, не расстраивайтесь. Как только эта суматоха с Бонапартишкой уляжется, я вернусь и позабочусь о вас. Но когда родина призывает к оружию, надобно повиноваться, если ты настоящий мужчина.
– Какой высокий боевой дух! – восхищенно заметил дядюшка Бенджи, придавая соответственное выражение своему лицу. – Я вот никогда этим не отличался. И откуда только это у тебя, мальчик?
– С материнской стороны, должно быть.
– Верно, так. Ну, береги себя, племянник, – сказал старик фермер, внушительно грозя пальцем. – Береги себя! В наше воинственное время твой боевой пыл может увлечь тебя прямо противнику в пасть, а ведь ты последний в нашем роду. Помни об этом и не позволяй своей отваге завлечь тебя слишком далеко.
– Не тревожьтесь, дядюшка, я буду держать себя в руках, – самодовольно заявил Фестус, раззадоренный против воли словами старика. – Разумеется, я буду бороться с собой сколько смогу, но рано или поздно натура должна взять верх. Ну, я пошел. – И, мурлыча себе под нос «Лагерь “Брайтон”», пообещав в самом непродолжительном времени наведаться снова, Фестус удалился, исполненный уверенности в себе, и чем дальше его уносили ноги, тем больше оживлялся старик дядюшка.
Когда же массивная фигура молодого кавалериста скрылась за дверью прихожей, дядюшка Бенджи проявил живость, противоестественную в человеке, столь обремененном недугами: стремительно вскочив с кресла без помощи палки, несколько раз подряд широко и беззвучно разинул рот, словно умирающая от жажды лягушка, – обычный для него способ дать выход своему веселью. Затем, словно шустрая старая белка, взбежал вверх по лестнице на чердак и припал к слуховому окну, из которого открывался вид на равнину за оградой фермы и тропинку, ведущую к деревне.
– Так-так! – воскликнул старик, подавляя визгливый смешок и приплясывая на месте. – Он побежал за ней. Она его зацепила!
На тропинке действительно появилась Энн Гарленд, а позади на некотором расстоянии размашисто шагал, спеша догнать ее, Фестус. Заметив его приближение, Энн пошла быстрее, но и Фестус прибавил шагу и догнал ее. По-видимому, он окликнул ее, потому что она обернулась, и он, поравнявшись с ней, зашагал бок о бок, после чего оба скрылись с глаз. Старик фермер еще с минуту производил какие-то телодвижения, словно на радостях водил по воображаемой скрипке смычком, а затем, внезапно посерьезнев, снова спустился вниз.
Глава 7
О чем они говорили, когда шли полем
– Вы часто ходите этой дорогой? – спросил Фестус, лишь только поравнялся с Энн.
– Я прихожу за газетой или когда еще что-нибудь понадобится, – ответила Энн в растерянности, стараясь угадать, случайно или намеренно он здесь появился.
Несколько шагов они шли молча, только Фестус с победоносным видом щелкал хлыстом по траве.
– Вы что-то сказали, мисс Энн?
– Нет, – ответила девушка.
– Тысячу извинений. Мне показалось, вы что-то сказали. Зачем вы сходите с тропинки, – я могу идти и по траве, эти лютики не зажелтят мои сапоги, а вот ваши чулочки испортят. Ну, что вы скажете по поводу того, что по соседству с вашей деревней появилось столько военных?
– Мне кажется, это внесло большое оживление и приятное разнообразие в нашу жизнь, – подчеркнуто сдержанно отвечала Энн.
– Быть может, вы вообще не жалуете наше военное сословие?
Энн улыбнулась и ничего не ответила.
– Почему вы смеетесь? – воскликнул молодой фермер, испытующе заглядывая ей в лицо и багровея от гнева. – Что вы увидели смешного?
– Разве я смеюсь? – сказала Энн, испуганная его неожиданной обидчивостью.
– Ну конечно, вы смеетесь и сами прекрасно это знаете, вы насмешница! – сказал он тоном капризного ребенка. – Вы смеетесь надо мной – вот ведь над кем вы смеетесь! А хотел бы я знать, что вы будете без нас делать, когда в любую ночь французы могут свалиться на вас как снег на голову.
– А вы можете отразить их нападение?
– Что за вопрос! А иначе зачем мы здесь? Да вы, я вижу, совсем не цените военных!
Вовсе нет, ей нравятся военные, сказала Энн. И особенно, когда они, увенчанные славой, возвращаются домой с войны, хотя стоит ей подумать о том, как досталась им эта слава, и они уже нравятся ей гораздо меньше. Доблестный кавалерист, почувствовав себя умиротворенным, заявил, что она, должно быть, имеет в виду то обстоятельство, что на войне рубят головы, раскалывают черепа и проделывают еще многое в том же духе, и он находит вполне естественным, если подобные действия немного пугают такое нежное мягкосердечное создание. Ну а он совсем не прочь принять этим летом участие в каком-нибудь сражении вроде битвы при Бленхейме, которая произошла сто лет назад или что-то около того… Да, черт побери, совсем не прочь.
– Эй! Да вы опять смеетесь! Да-да, я же видел! – И вспыльчивый Фестус повернул к Энн побагровевшее лицо и так и впился в нее своими голубыми глазами, словно стремясь прочесть ее мысли. Энн попыталась храбро встретить его взгляд, но веки ее дрогнули и она опустила глаза.
– Ну конечно, вы смеялись! – повторил Фестус.
– Ну, право же, совсем чуть-чуть, – пробормотала она.
– Ага! Я же видел, что вы смеетесь! – загремел он. – Над чем же это вы смеялись, позвольте вас спросить?
– Просто… просто я подумала, что вы… что вы ведь служите в территориальной коннице, – лукаво промолвила Энн.
– И что же отсюда следует?
– А эта конница… говорят, там все больше фермеры, у которых мозги набекрень.
– Ну да, я так и думал: вы просто слушаете чужие шуточки, милейшая Энн. Верно, такая уж у вас, женщин, привычка, и я не придаю этому значения. Конечно, я готов признать, что среди нас есть не очень храбрые вояки, но я-то умею обнажить саблю, разве не так? Ну, попробуйте скажите, что это не так, попробуйте – чтоб раздразнить меня.
– Я уверена, что это так, – мягко сказала Энн. – Если на вас нападет француз, мистер Дерримен, вы разобьете его наголову или обратите в бегство.
– А, теперь вы мне льстите, – сказал Фестус, расплываясь в улыбке и сверкая белыми зубами. – Ну, разумеется, я прежде всего обнажу свою саблю. То есть я хочу сказать, что сабля моя будет уже наголо, и я пришпорю мою лошадь, то есть, выражаясь военным языком, моего боевого коня и, подскакав к неприятелю, скажу… Впрочем, нет, я, разумеется, ничего не скажу – мужчины в битве слов не тратят. Я займу третью оборонительную позицию – сабля клинком вниз, – затем перейду во вторую оборонительную…
– Этак вы будете не столько поражать неприятеля, сколько обороняться от него.
– Что такое! – вскричал Фестус, и сиявшее самодовольством лицо его сразу потемнело как туча. – Что вы понимаете в языке военных – вы же никогда не держали сабли в руке! Я вовсе не собираюсь рубить его саблей. – И, насупившись еще пуще, он продолжил: – Я сражу его пулей. Я стащу с правой руки перчатку, скину с плеч козью шкуру, достану пороховницу, засыплю порох на полку и… Нет, не так, не годится. Я выхвачу пистолет, что висит у меня с правого бока, заряжу его и, когда раздастся команда: «Взвести курки!» – я…
– Значит, в разгар битвы еще остается время отдавать такие команды? – с невинным видом спросила Энн.
– Вовсе нет! – сказал кавалерист, снова вспыхивая как порох. – Я ведь объясняю вам только, какая должна была бы последовать команда, если бы… Ну вот! Вы опять сме…
– Я не смеялась. Право же, право, я не смеялась!
– Верно, я и сам вижу, что не смеялись. Мне показалось. Ну, затем я ловко прицеливаюсь – смотрю все время вдоль ствола… только вдоль ствола… и стреляю. Не беспокоитесь, я отлично знаю, как открывать огонь по врагу. Но, кажется, мой дядюшка восстановил вас против меня.
– Он не обмолвился о вас ни единым словом, – сказала Энн. – Но я уже, конечно, слышала о вас.
– А что вы слышали? Уж, верно, ничего хорошего. Ух, во мне все кипит!
– Нет, ничего плохого, – успокоила его Энн. – Просто вспоминали вас разок-другой.
– Ну скажите же, что обо мне говорили, будьте умницей. Я не терплю, когда мне противоречат. Ну же! Я никому не скажу, клянусь!
Энн принужденно улыбнулась, пребывая в замешательстве, наконец решилась:
– Нет, не скажу!
– Ну вот опять! – мгновенно впадая в отчаяние, воскликнул кавалерист. – Я начинаю подозревать, что меня просто здесь ни во что не ставят!
– Но о вас не говорилось ничего худого, – повторила Энн.
– Тогда, значит, что-то, может быть, говорилось хорошее, – тотчас успокоившись, промолвил Фестус. – Что ж, хотя у меня, не скрою, довольно много недостатков, кто-нибудь может меня и похвалить. Так это была похвала?
– Да, похвала.
– Я, конечно, не очень-то смыслю в земледелии, и не слишком умею занимать разговором, и не так силен в цифрах, но должен признаться, раз уж меня к этому вынуждают, что на эспланаде выгляжу не хуже других молодцев из нашей конницы.
– Безусловно! – сказала Энн. Хоть вспыльчивость этого воина и нагоняла на девушку такой страх, что мурашки бегали по спине, все же отказать себе в опасном удовольствии слегка его подзадорить она не могла. – Выглядите вы превосходно, и кое-кто говорит, что вы…
– Что же такое они говорят? Ну, понятно: говорят, что я красив. Только это не мне в похвалу, поскольку я не сам себя создал. Эй! Что вы там увидели?
– Ничего, просто какая-то птичка вспорхнула с дерева, – сказала Энн.
– Что такое? Просто какая-то птичка? – загремел кавалерист, мгновенно выходя из себя. – Я же вижу, как трясутся ваши плечи, сударыня. Берегитесь, не дразните меня этим вашим хихиканьем! Клянусь Богом, вам это даром не пройдет!
– Тогда ступайте своей дорогой! – сказала Энн. Она была так возмущена его неучтивостью, что у нее пропала охота над ним потешаться. – Я не желаю с вами разговаривать, хвастун вы этакий! Вы, Фестус, просто ужасный, противный невежа и такой обидчивый, что с вами невозможно иметь дело. Ступайте, оставьте меня!
– Нет-нет, Энн. Я не должен был так разговаривать с вами. За это я позволяю вам говорить мне все, что вам только заблагорассудится. Скажите, что никакой я не воин, или еще что-нибудь такое. Выбраните меня, ну пожалуйста, будьте умницей. Я дурак, пустомеля, просто мусор, меня нужно вымести на свалку!
– Я ничего не намерена говорить вам, сударь. Оставайтесь здесь и дайте мне уйти.
– Ваш взгляд невольно заставляет меня повиноваться, и я не в силах ослушаться вас. А завтра вы снова будете проходить здесь в это время? Ну скажите, не будьте же так нелюбезны.
Энн была слишком великодушна по натуре, чтобы не простить Фестуса, но, упрямо поджав короткую верхнюю губку, пробормотала только, что вовсе не собирается приходить сюда завтра.
– Значит, в воскресенье?
– И в воскресенье нет.
– Тогда в понедельник?.. Или во вторник?.. В среду, наконец? – продолжал допытываться он.
Энн ответила, что не предполагает встречаться с ним когда-либо еще, и, не обращая внимания на его протесты, прошла в калитку и направилась через поле. Фестус постоял, глядя ей вслед, а когда ее стройная фигурка скрылась из глаз, бросил размышлять и повернул в противоположную сторону, негромко что-то напевая.
Глава 8
Энн совершает обзор лагеря
Уже приближаясь к околице, Энн заметила, что к ей навстречу идет какая-то сморщенная старушонка, взиравшая на мир и его обитателей сквозь заключенные в медную оправу стекла очков. Глядя на девушку и покачивая головой, отчего стекла очков поблескивали словно две луны, старуха сказала:
– Ага! Я видела тебя! Если б на мне были другие очки, короткие, в которых я читаю Евангелие и молитвенник, я бы тебя не увидела. А я, как пошла со двора, подумала: дай-ка надену эти, длинные. А разве я знала, что в них увижу. Да, в этих я узнаю всякого вдали как вблизи. Лучше этих очков, когда выходишь из дому, не найти, а вот короткие, те хороши для всякой домашней работы: чулки штопать, блох ловить, – это уж верно.
– Что же вы увидели, бабушка Симор? – спросила Энн.
– Ай, ай, мисс Нэнси, будто вы не знаете! – сказала бабушка Симор, все так же покачивая головой. – Он красивый малый и после смерти дядюшки получит все его денежки.
Энн ничего не ответила и с легкой улыбкой на губах прошла мимо бабушки Симор, глядя прямо перед собой.
Фестусу Дерримену, к которому относились слова бабушки Симор, шел в это время двадцать третий год, и он был весьма недурен собой, если принять во внимание его гренадерский рост и необычайно яркий цвет лица и волос. Признаки бороды и усов обнаружились у него в самом раннем возрасте вследствие настойчивого употребления бритвы, когда в этом орудии не было еще ни малейшей необходимости. Храбрый мальчик скреб свой подбородок украдкой в беседке и в погребе, в дровяном сарае и в конюшне, в парадной гостиной и в коровнике, в амбаре и везде, где только мог, не будучи замеченным, пристроить треугольный осколок зеркала или воспользоваться импровизированным его подобием, прижав шляпу к наружной стороне оконного стекла. Теперь же, в результате этих усилий, стоило ему хотя бы один день не брать в руки вышеозначенный инструмент, с которым он так неосторожно шутил когда-то, и лицо его тотчас покрывалось как бы тонким слоем ржавчины, на второй день проступало нечто вроде золотистого лишайника, а на третий – огненно-рыжая щетина принимала уже такие угрожающие размеры, что позволять ей расти дальше было совершенно невозможно.
Две основные врожденные черты составляли его характер: хвастливость и сварливость. Когда Фестус, что называется, напускал на себя важность, то был заранее уверен, что его поведение и манера себя держать должны казаться окружающим забавными, но если его начинала мучить зависть и он становился придирчив и сварлив, у него хватало ума на то, чтобы довольно ловко поддеть и высмеять собеседника. Он нравился девушкам, но вместе с тем вызывал у них желание поддразнить его, и хотя знаки внимания этого колосса были им приятны, они никогда не упускали случая посмеяться над ним за спиной. Во хмелю (несмотря на свои юные годы, Фестус был не прочь приложиться к бутылке) он сначала становился очень шумлив, затем чрезмерно общителен и, в конце концов, неизменно нарывался на ссору. В детстве он был хорошо известен своей милой привычкой задирать ребятишек победнее и послабее его, отнимать у них птичьи гнезда, опрокидывать их тележки с яблоками или наливать им за шиворот воды, но его воинственное поведение мгновенно и разительно менялось, как только мать обиженного мальчика, размахивая метлой, сковородкой, шумовкой или любым иным подвернувшимся под руку орудием, появлялась на сцене. Тут он пускался наутек и прятался где-нибудь под кустом, или за вязанкой хвороста, или в канаве и ждал, пока опасность минует, а однажды даже залез в барсучью нору и с большим упорством и решимостью пробыл в этом положении почти три часа. Ни один другой мальчишка в приходе, кроме Фестуса, не мог принудить язык почтенных отцов и матерей изрекать такое количество бранных слов. Когда остальные подростки закидывали его снежками, он прятался в каком-нибудь укромном уголке, лепил снежок с камнем в середке и пользовался этим предательским снарядом для ответа на их любезности. Не раз он бывал крепко бит своими приятелями однолетками; при этом он орал благим матом, но все же, обливаясь слезами и кровью, надрываясь от крика, продолжал драться.
Он рано начал влюбляться, и к тому времени, когда ведется наш рассказ, успел испытать жестокие муки неразделенной страсти по меньшей мере тринадцать раз. Любить легко и беспечно ему было не дано: в любви он был суров, придирчив и даже неистов. Ни малейшей насмешки от предмета своего обожания он перенести не мог, испытывая подлинные муки, и впадал в ярость, если насмешки не прекращались. Он был тираном тех, кто смиренно склонял перед ним голову, нагл с теми, кто не желал признавать его превосходство, и становился вполне славным малым, когда у кого-нибудь хватало духу обращаться с ним как со скотом.
Прошла неделя, прежде чем пути Энн Гарленд и этого геркулеса скрестились вновь. Но вот однажды вдова снова начала поговаривать насчет газеты, и хотя это поручение было Энн очень не по душе, она согласилась выполнить его, так как миссис Гарленд настаивала на сей раз с необычным упорством. Почему мать стала придавать такое значение этим пустякам, было Энн совершенно непонятно, но она надела шляпку и отправилась за газетой.
Как она и ожидала, около перелаза через ограду, которым она пользовалась иногда, чтобы сократить путь, маячил Фестус, всем своим видом показывая, что дожидается ее. Увидав его, Энн пошла прямо, словно и не собиралась вовсе переходить за ограду.
– Разве вы не тут ходите? – спросил Фестус.
– Я решила пойти кругом, по дороге, – ответила Энн.
– Отчего же?
Энн промолчала, показывая, что не расположена к разговорам.
– Я хожу по дороге, когда роса, – промолвила она наконец.
– Сейчас нет росы, – упрямо сказал Фестус. – Солнце сушит траву вот уже часов девять кряду. – Секрет заключался в том, что тропинка была более пустынной и укромной, чем дорога, и Фестусу хотелось прогуляться с Энн без помех. – Но мне, конечно, нет до этого дела, ходите где вам нравится. – И, спрыгнув с перелаза, он направился в сторону усадьбы.
Энн, подумав, что ему и в самом деле безразлично, где она пойдет, избрала тот же путь, что и он, но тут Фестус обернулся и с победоносной улыбкой стал ее поджидать.
– Я не могу идти с вами, – непреклонно заявила Энн.
– Вздор, глупенькая вы девочка! Я провожу вас до поворота.
– Нет, прошу вас, мистер Дерримен! Нас могут увидеть.
– Ну-ну, к чему такая стыдливость! – сказал он игриво.
– Нет, вы знаете, что я не могу позволить вам идти со мной.
– А я должен.
– А я не позволяю.
– Позволяйте или не позволяйте, а я пойду.
– Значит, вы крайне неучтивы, и мне придется подчиниться, – сказала Энн, и в глазах ее блеснули слезы.
– Ой, ой! Стыд мне и позор! Клянусь честью, ни за что на свете больше этого не сделаю! – полный раскаяния, воскликнул молодой фермер. – Ну, полно, полно, ведь я же думал, что ваше «ступайте прочь», означает «пойдите сюда», как у всех прочих женщин, особенно вашего сословия. Откуда мне знать, что вы, черт побери, говорили всерьез?
Так как Фестус не трогался с места, Энн тоже стояла и молчала.
– Вижу, что вы чересчур уж осторожны и совсем не так добродушны, как я думал, – в сердцах проговорил Фестус.
– Право, сэр, я вовсе не хотела вас обидеть, – сказала Энн серьезно. – Но мне кажется, вы и сами понимаете, что я поставлю себя в ложное положение, если пойду вместе с вами в усадьбу.
– Ну да, так я и знал, так я и знал. Конечно, я простой малый из территориальной конницы, рядовой, так сказать, солдат, и нам известно, что думают о нас женщины: что мы дрянной народ, что с нами нельзя и поговорить, чтобы не потерять своего доброго имени, что с такими, как мы, опасно повстречаться на дороге, что мы, словно буйволы, вламываемся в дом, пачкаем на лестнице сапогами, обливаем столы и стулья вином и пивом, заигрываем со служанками, поносим все, что есть высокого и священного, и если до сих пор еще не провалились в тартарары, то только потому, что можем все же пригодиться бить Бонапарта.
– Право же, я не знала, что вы пользуетесь такой дурной славой, – сказала Энн просто.
– Вот как! Разве мой дядюшка не жаловался вам на меня? Вы же любимица этого славного благообразного дряхлого старикашки, мне это известно.
– Никогда не жаловался.
– Ладно, а что вы думаете о нашем славном трубаче?
Энн поджала губы, всем своим видом давая понять, что не намерена отвечать на этот вопрос.
– Ну ладно, ладно, я серьезно вас спрашиваю: правда ведь, Лавде славный малый, да и папаша его тоже?
– Не знаю.
– Ну и скрытная же вы, плутовка! Слова из вас не вытянешь! Что ни спроси, на все, верно, будет один ответ: «Не знаю». Уж больно вы скромны. Ей-же-ей, сдается мне, что некоторые девушки, даже если их спросить: «Согласны вы стать моей женой?» – тоже ответят: «Не знаю».
Яркий румянец, заигравший на щечках Энн при этих словах, и блеск глаз свидетельствовали о том, что под внешней сдержанностью, на которую так сетовал Фестус, скрывается весьма живая натура. Выразив свое мнение, Фестус шагнул в сторону, давая Энн пройти, и отвесил ей низкий поклон. Энн церемонно наклонила голову и проследовала мимо него.
Его поведение вызывало в ней сильнейшую досаду, так как она не могла освободиться от неприятного ощущения, что он никогда не позволил бы себе столь вольно обращаться с ней, будь у нее богатые и влиятельные родственники мужского пола, которые могли бы поставить не в меру пылкого поклонника на место. Вместе с тем и на этот раз, так же как и при прежних встречах с ним, она не могла не ощутить своей власти над ним, видя, как легко удается ей приводить его в раздражение или повергать в состояние благодушного самодовольства, и это сознание, что она может играть на нем, как на послушном инструменте, заставляло ее относиться к нему с насмешливой снисходительностью даже в те минуты, когда она давала ему резкий отпор.
Когда Энн пришла в усадьбу, старик фермер, как обычно, стал просить, чтобы она прочла ему то, что ему еще не удалось прочесть самому, и крепко сжимал газету в своей костлявой руке до тех пор, пока Энн не согласилась. Он усадил ее на самый твердый стул – сиди она на нем двенадцать месяцев кряду, и то ей, верно, не удалось бы нанести ему ущерба больше, чем на пенни, – и все время, пока сидела, склонившись над газетой, пытливо приглядывался к ней краешком глаза, и во взгляде его сквозило участие. Быть может, это было вызвано воспоминанием о той сцене, которую он наблюдал из слухового окна, когда Энн приходила за газетой прошлый раз. Племянник внушал старику ужас, повергал в трепет не только душу его, но и тело, и теперь Энн сделалась в его глазах такой же, как он, жертвой этого тирана. Поглядев на нее с лукавым любопытством минуту-другую, он отвел глаза, и когда Энн случайно посмотрела в его сторону, то, как всегда, увидела только его заострившийся синеватый профиль.
Она дочитала газету примерно до половины, когда за спиной у нее послышались шаги и дверь отворилась. Старик фермер съежился в своем кресле и, казалось, уменьшился на глазах; он был явно испуган, хотя и делал вид, что весь обратился в слух и не замечает появления непрошеного гостя. Энн же, почувствовав гнетущее присутствие Фестуса, умолкла.
– Прошу вас, продолжайте, мисс Энн, – сказал Фестус. – Я буду нем как рыба. – И, отойдя к камину, устроился поудобнее, привалившись к нему плечом.
– Читайте, читайте, душечка Энн, – сказал дядюшка Бенджи, делая сверхъестественное усилие, чтобы хоть наполовину унять охватившую его дрожь.
Теперь, когда у Энн появился второй слушатель, ее голос звучал гораздо тише: скромность не позволяла ей в присутствии Фестуса читать столь же выразительно, как прежде, когда ее ничто не смущало, а газета вызывала живой интерес, и тем не менее, сколь ни было это для нее тягостно, она продолжала читать, чтобы он не подумал, будто его появление ее взволновало. Она знала, что молодой фермер, стоя у нее за спиной, разглядывает ее: чувствовала, как его беспокойный взгляд скользит по ее рукам, плечам, шее. Чувствовал на себе его взгляд и дядюшка Бенджи, и после нескольких разнообразных попыток украдкой взглянуть на племянника потерял терпение и дрожащим голосом спросил:
– Ты хочешь мне что-нибудь сказать, племянничек?
– Нет, дядюшка, благодарю вас, ничего, – благодушно ответствовал Фестус, – Мне просто приятно стоять здесь, думать о вас и смотреть на волосы на вашей макушке.
Почувствовав себя при этих словах кроликом под ножом вивисектора, испуганный старик совсем сник в своем кресле, а Энн продолжала читать до тех пор, пока, к облегчению их обоих, бравому вояке не надоело это развлечение и он не покинул комнату. Скоро Энн дочитала статью до конца и поднялась со стула, твердо решив не приходить сюда больше, пока Фестус обретается в этих местах. Щеки ее запылали при одной только мысли, что он, уж конечно, будет подстерегать ее где-нибудь по дороге домой.
По этой причине, покинув дом, она не пошла обычным путем, а проворно обогнула дом с другой стороны, проскользнула между кустами у садовой ограды и, отворив калитку, вышла на старую проселочную дорогу, которая когда-то, в дни процветания усадьбы, представляла собой красивую, усыпанную гравием подъездную аллею. Когда окна старого дома скрылись из виду, Энн припустилась бежать что было духу и выбралась из парка со стороны, противоположной той, где пролегала дорога, ведущая на мельницу. Она и сама не могла бы объяснить, что заставило ее обратиться в бегство: просто стремление бежать было непреодолимо.
Теперь ей не оставалось ничего другого, кроме как взобраться на взгорье слева от лагеря и обойти весь лагерь кругом, все его расположения: пехоту, кавалерию, палатки маркитанток и фуражиров, – и спуститься к мельнице с другой стороны холма. Это огромное путешествие Энн проделала быстрым шагом, ни разу не обернувшись и стараясь избегать проторенных тропинок, чтобы не повстречаться с солдатами. И только спустившись в долину, она приостановилась, чтобы немного передохнуть, и пробормотала:
– Почему я так его боюсь, в конце-то концов? Он же мне ничего не сделает.
Когда она уже приближалась к мельнице, впереди нее на склоне холма появилась статная фигура в синем мундире и белых лосинах и, спустившись вниз, к деревне, и обогнув мельницу, остановилась у перелаза, которым всегда пользовалась Энн, когда возвращалась домой обычным путем. Подойдя ближе, Энн увидела, что это трубач Лавде, но в эту минуту ей не хотелось встречаться ни с кем, и она, быстро пройдя через садовую калитку, скрылась в доме.
– Энн, дорогая, как долго ты ходила! – воскликнула ее мать.
– Да, мама, я вернулась другой дорогой – вокруг холма.
– Зачем это?
Энн ответила не сразу: причина этого поступка и самой ей казалась слишком несущественной, чтобы в ней можно было признаться.
– Просто я хотела избежать встречи с одним человеком, который постоянно старается попадаться мне на пути, вот и все.
Ее мамаша выглянула в окно и, увидев Джона Лавде, сказала:
– А вот и он идет, должно быть.
Молодому человеку прискучило ждать Энн у перелаза, и он решил проведать отца, а проходя мимо дома, не удержался, чтобы не заглянуть в окно, и, увидав Энн и миссис Гарленд, улыбнулся им.
Энн так не хотелось упоминать Фестуса, что она позволила матери пребывать в заблуждении, а та продолжала:
– Что ж, ты права, дорогая. Держись с ним учтиво, но не больше. Я кое-что слышала о твоем другом знакомом, и полагаю, что ты сделаешь очень разумный выбор. От души буду рада, если дело у вас пойдет на лад.
– О ком вы говорите? – спросила изумленная Энн.
– О тебе и мистере Фестусе Дерримене, конечно. Тебе нечего от меня таиться, мне уже давно все известно. Бабушка Симор заходила к нам в прошлую субботу и сказала, что видела, как он провожал тебя через Парк-Клоус на прошлой неделе, когда я посылала тебя за газетой. Вот я и решила отправить тебя туда сегодня опять, чтобы вы могли встретиться.
– Так значит, вам вовсе не нужна была газета и вы только за этим гоняете меня к старику Дерримену?
– Его племянник очень красивый молодой человек и вроде не из тех, кто даст девушку в обиду.
– Да, вид у него бравый, – сказала Энн.
– Он сдал в аренду фригольдерскую ферму своего отца в Питстоке и живет вполне припеваючи на доходы от нее. А после смерти старика Дерримена к племяннику, конечно, отойдут и все его угодья. Он получит никак не меньше десяти тысяч фунтов одними только деньгами да еще шестнадцать лошадей, экипаж и тележку, пятьдесят молочных коров и штук пятьсот овец, никак не меньше.
Энн отвернулась и, вместо того чтобы сообщить матери, что бежала, словно испуганная серна, дабы уклониться от встречи именно с этим предполагаемым наследником, о котором она говорила, сказала только:
– Мама, мне все это совсем не по душе.
Глава 9
Трубач-драгун оказывает Энн любезность
С того дня никакая сила не могла заставить Энн сделать хоть шаг в сторону усадьбы: слишком велик был ее страх при мысли о возможной встрече с молодым Деррименом, – а через несколько дней по деревне прошел слух, что старик фермер, дабы переменить обстановку и с недельку отдохнуть, отправился по настоянию своего племянника на расположенный неподалеку морской курорт, ежегодно посещаемый королем. Это был в высшей степени неожиданный поступок со стороны дядюшки Бенджи, который уже долгие годы ни днем, ни ночью не покидал усадьбы, и Энн без труда вообразила, как надо было застращать старика, чтобы подвигнуть его на такой шаг. Она представляла себе, как тяжко будет несчастному старику в сутолоке шумного морского курорта, и от души надеялась, что с ним не случится там никакой беды.
Теперь Энн почти все время проводила дома или в саду. Порой из лагеря до нее доносились звуки трубы: «Та-та-та-та-а!» Это трубачи посылали свои разнообразные и хитроумные приказы: «Седлать!», «Задать корму!», «В стойла!», «На плац!» – и она дивилась тому, как ловко старший трубач Лавде обучил своих солдат выводить эти коротенькие красивые сигналы.
Как-то утром, на третий день после отъезда дядюшки Бенджи, Энн, совершая свой туалет, услышала, как обычно, топот копыт: конница спускалась к водопою у мельницы, – затем среди ставших уже привычными для ее слуха плеска и шума различила легкий стук в окно, словно бы по стеклу провели прутиком или хлыстом. Энн прислушалась, и стук повторился.
Так как из всех драгун полка один только Джон Лавде мог знать, в какой комнате она спит, Энн решила, что эти сигналы исходят от него, и была несколько удивлена, что он позволил себе столь фамильярную выходку.
Накинув на плечи красную шаль, она подошла к окну, тихонько приподняла край занавески и выглянула наружу, как делала это уже много раз. Она знала, что, только стоя под самым окном, кто-нибудь мог увидеть ее, но случилось так, что на этот раз кто-то действительно стоял под самым окном. Шум, услышанный Энн, произвел не драгунский полк, в котором служил Джон Лавде, а эскадрон йоркских гусар, совершенно не подозревавших о ее существовании. Напоив лошадей, они все уже проследовали дальше, и вместо них Энн увидела Фестуса Дерримена: он был в штатской одежде и верхом; конь его стоял по брюхо в воде. Спасаясь от стремительного потока, грозившего отнести его вместе с конем к глубокой мельничной запруде, Фестус сидел, задрав пятки на седло. Не могло быть сомнения в том, что именно он, и никто другой, постучал в ее окно, ибо в эту минуту он поднял глаза и их взгляды встретились. Фестус громко расхохотался и снова стукнул хлыстом по стеклу. В эту минуту появились драгуны и начали, гарцуя, строем спускаться по склону. Энн невольно задержалась на минутку у окна, чтобы поглядеть, как они пройдут, но тут же внезапно отпрянула назад, уронила занавеску и, стоя посреди пустой комнаты, залилась румянцем. Ее увидел не один только Фестус Дерримен: Джон Лавде, спускавшийся верхом с холма, с трубой через плечо, обернулся и, увидев Фестуса под самым окном спальни Энн, был, по-видимому, немало поражен этим зрелищем.
Такое нечаянное стечение обстоятельств чрезвычайно раздосадовало Энн, и она не подошла больше к окну, пока драгуны не отъехали на большое расстояние; тут она услышала, что и конь Фестуса выбирается на берег. Когда Энн снова взглянула в окно, там уже не было никого, кроме мельника Лавде, который в эти утренние часы обычно выходил в сад, чтобы перекинуться словечком с солдатами, из коих многие были уже ему знакомы, причем круг знакомств день ото дня расширялся, так как мельник весьма щедро раздавал кружки веселого доброго эля всем воинам, проезжавшим или проходившим мимо.
После обеда Энн пошла в соседний, Спрингхемский, приход на крестины, рассчитывая возвратиться домой засветло, однако к вечеру начал накрапывать дождь, и хозяева уговорили ее остаться у них переночевать. Поколебавшись немного, она приняла их радушное предложение, но в десять часов вечера, когда все уже собирались отправиться на боковую, раздался легкий стук в дверь. Засовы были сняты, дверь отворилась, и все увидели в полумраке мужскую фигуру.
– Не здесь ли мисс Гарленд? – спросил нежданный посетитель, и Энн затаила дыхание.
– Здесь, – настороженно ответил хозяин.
– Ее матушка очень беспокоится, не случилось ли с ней чего. Мисс Энн обещала ведь вернуться домой.
У Энн отлегло от сердца: то был не Фестус Дерримен – она узнала голос Джона Лавде.
– Да-да, мистер Лавде, я обещала, – сказала она, подходя ближе, – но пошел дождь и я решила, что мама догадается, почему я не вернулась.
На это Лавде как-то не совсем уверенно ответил, что в лагере и на мельнице так только – покрапало самую малость, а дождя по-настоящему не было, и потому миссис Гарленд порядком встревожилась.
– И она попросила вас пойти за мной? – спросила Энн.
Именно этого вопроса и страшился трубач всю дорогу, пока шел сюда.
– Да нет, она не то чтобы прямо так попросила, – ответил он с запинкой, но все же давая понять, что миссис Гарленд некоторым образом выразила такое желание.
На самом же деле миссис Гарленд ни словом с ним не обмолвилась. Когда дочь не вернулась домой, она поделилась своим беспокойством с мельником, а тот постарался ее уверить, что бесценная ее дочка, вне всякого сомнения, цела и невредима. Джон слышал этот разговор и решил на свой страх и риск попытаться рассеять страхи миссис Гарленд, благо его отпустили из лагеря на весь вечер. С той минуты, когда увидел утром под окном у Энн Фестуса Дерримена, Джон больше не знал покоя и сейчас горячо желал только одного: чтобы девушка разрешила проводить ее домой.
Смущенно переминаясь с ноги на ногу, он высказал это смелое предложение, и Энн тотчас решила, что так и сделает. Пожалуй, Джон Лавде был единственным человеком на свете, от которого она охотно готова была принять услугу такого рода. Он был сыном их ближайшего соседа, и его бесхитростное простодушие с первой же минуты расположило Энн к нему.
Когда они уже шли рядом, она сказала деловым тоном, давая понять, что, принимая предложение Джона, не руководствовалась никакими романтическими побуждениями:
– Мама, верно, очень беспокоилась обо мне?
– Да, она была немного встревожена, – ответил Джон, однако совесть заговорила в нем и он тут же выложил все начистоту – Я знаю, что она беспокоилась, потому что мне сказал отец. Сам-то я ее не видел. Правду сказать, она и не знает, что я пошел за вами.
Теперь Энн все поняла, но не рассердилась на Джона. Да и какую женщину могло бы это рассердить? Они продолжали идти молча; старший трубач почтительно держался на ярд справа от Энн, сохраняя эту дистанцию с такой скрупулезной точностью, словно какая-то невидимая преграда мешала ему приблизиться. Энн, чувствуя в этот вечер особенное к нему расположение, заговорила снова:
– Я часто слышу, как ваши трубачи дают сигналы. Мне очень нравится, как они трубят.
– Ничего трубят, но могли бы и лучше, – сказал Джон, считая неприличным слишком расхваливать то, к чему сам приложил руку.
– Это вы научили их?
– Да, обучал их я.
– Должно быть, очень, очень трудно добиться, чтобы они начинали и заканчивали одновременно, секунда в секунду. Кажется, будто это один человек трубит. Как случилось, что вы стали трубачом, мистер Лавде?
– Да как-то так вышло, само собой. Началось, когда я был еще мальчишкой, – ответил Джон, в котором этот трогательный интерес к его особе вызвал неудержимое желание излить душу. – Я вечно делал дудки из бумаги, из бузины и даже не поверите, из стеблей жгучей крапивы. У отца было небольшое ячменное поле, и вот он, отправив меня стеречь его от птиц, как-то раз дал мне старый рожок, чтобы их отпугивать, а я научился так дудеть в этот рожок, что меня было слышно за милю. Тогда отец купил мне кларнет, а когда я научился на нем играть, взял напрокат серпент. Потом я довольно сносно научился играть и на бас-трубе. Так что, когда попал в армию, меня тут же определили учиться на трубача.
– Ну разумеется.
– Но иной раз я все-таки жалею, что попал в армию. Отец дал мне возможность учиться, а ваш отец научил рисовать лошадей – на грифельной доске. В общем, мне кажется, я мог бы достичь большего.
– Как? Вы знали моего отца? – удивилась Энн, осознав, что Джон пробуждает в ней все больший интерес.
– Да, я хорошо его знал. Вы были совсем крошка тогда и плакали, бывало, когда мальчишки постарше глядели на вас и, как водится, делали страшные глаза. А сколько раз стоял я возле вашего папаши и смотрел, как он работает. Вы, верно, совсем его не помните, а я помню!
Энн молчала задумавшись. Луна выглянула из-за туч и заиграла на влажной листве, а шпоры трубача и пуговицы на его мундире засверкали, как маленькие звездочки.
Когда они подошли к ограде оксуэллского парка, Джон спросил:
– Хотите пройти через усадьбу, или обойдем кругом?
– Мы можем пройти здесь, тут ближе.
Они вступили в парк, подошли по заросшей травой аллее почти к самому дому, свернули на тропинку, ведущую в деревню, и тут услыхали шум, голоса, громкие восклицания, которые доносились из темного здания, мимо которого проходили.
– Что там такое? – встревожилась Энн.
– Не знаю, – ответил ее спутник. – Пойду посмотрю.
Он обошел высохший, заросший кресс-салатом и сорняками пруд, который служил когда-то рыбным садком, по дренажной трубе переправился через едва заметный, но еще сочившийся ручеек и приблизился к дому. Оттуда несся нестройный шум, и любопытство заставило Джона обогнуть угол дома с той стороны, где окна были расположены ниже, и сквозь щель в ставнях заглянуть внутрь.
Он увидел комнату, в которой всегда обедал хозяин дома и которая по обычаю называлась парадной гостиной; там за столом сидело около дюжины молодых людей в форме территориальной конницы, и среди них – Фестус. Они пили, хохотали, пели, стучали кулаками по столу – словом, веселились вовсю, производя дикий шум. В неплотно прикрытое окно порывами задувал ветер, колыхая пламя свечей, и они оплывали, одеваясь в причудливые струящиеся одежды, словно в саван, и горели коптящим желтым пламенем, тускнея от нагара своих толстых черных фитилей. Один из бражников, видимо, сильно захмелев, заливался пьяными слезами, обхватив за шею соседа. Другой произносил какую-то бессвязную речь, которой никто не слушал. У одних лица побагровели, у других казались желтыми, как воск; одни клевали носом, другие были чрезмерно возбуждены. Только Фестус пребывал в обычном для него состоянии и, сидя во главе стола, огромный, грузный, с выражением довольства и превосходства наблюдал за своими захмелевшими приятелями и, казалось, торжествовал. Джон услышал, как один из пирующих кликнул служанку дядюшки Бенджи – молодую женщину, племянницу Энтони Крипплстроу; в руки ей насильно сунули скрипку и заставили извлекать из этого инструмента какие-то нестройные звуки.
Видимо, молодой Дерримен ухитрился выжить из дому своего дядюшку для того, чтобы распоряжаться там по своему усмотрению. Присматривать за домом было поручено Крипплстроу, и для Фестуса не составило особого труда отобрать у этого преданного слуги все ключи, какие ему потребовались.
Джон Лавде отвернулся от окна и поглядел на залитую лунным светом дорожку, где стояла, поджидая его, Энн. Затем он снова заглянул в окно и снова перевел глаза на Энн. Сейчас ему явно представлялся случай, действуя в своих интересах, разоблачить перед Энн Фестуса, к которому он начинал испытывать довольно сильную неприязнь.
«Нет, не могу я так поступить, – сказал он самому себе. – Низко это – действовать за его спиной. Пусть все идет своим чередом».
Он отошел от окна и увидел, что Энн, которой прискучило ждать, тоже переправившись через ручей, идет к нему.
– Что там за шум? – спросила она.
– У них гости, – ответил Лавде.
– Гости? Но ведь старика Дерримена нет дома, – возразила Энн и, пройдя мимо молчавшего Джона, направилась к окну, из которого струился свет.
Он увидел ее лицо в узкой полосе света; девушка на мгновение замерла на месте и тотчас поспешно отступила от окна, а через минуту вернулась к нему.
– Пойдемте.
Тон, каким это было сказано, заставил Джона подумать, что Энн неравнодушна к Дерримену, и он печально заметил:
– Вы сердитесь на меня за то, что я подошел к окну и будто предложил последовать моему примеру?
– Вот уж нисколько, – сказала Энн, сразу поняв его ошибку и досадуя на него за то, что так плохо читает в ее сердце. – По-моему, всякий бы это сделал, услыхав такой шум.
Снова наступило молчание.
– Дерримен трезв как стеклышко, – заметил Джон, когда они пошли дальше. – Это остальные шумят.
– Трезв он или пьян, меня это нисколько не интересует, – сказала Энн.
– Да, конечно. Я понимаю, – сказал трубач, расстроенный ее несколько резким тоном, и в голове его прозвучало невольное сомнение в правдивости ее слов.
Они еще стояли в тени дома, когда на дороге появились какие-то люди. Джон хотел было, не обращая на них внимания, продолжить путь, но Энн, смущенная тем, что ее могут увидеть наедине с мужчиной, который не является ее нареченным, сказала:
– Мистер Лавде, обождем здесь минутку: пусть они пройдут.
Вскоре стало видно, что приближаются двое: один ехал верхом на пегой лошади, другой шагал рядом. Возле дома они остановились, всадник слез с лошади и стал препираться со своим спутником – по-видимому, из-за денег.
– Так это же старый мистер Дерримен вернулся домой! – воскликнула Энн. – Он, верно, взял напрокат эту лошадь – она на курорте таскает купальную будку. Подумать только!
Джон и Энн не успели отойти далеко от дома, когда фермер и его спутник закончили свой спор, после чего последний взобрался на лошадь и легким галопом поскакал прочь, а дядюшка Бенджи весьма проворно направился к дому; впрочем, едва он заметил Джона и Энн, как шаги его замедлились. Они подошли ближе, и он узнал Энн.
– Как же это вы так быстро расстались с эспланадой короля Георга, мистер Дерримен? – спросила Энн.
– Быстро? Еще бы! Разве я могу жить в таком разорительном месте, – ответил фермер. – Там ежеминутно приходится запускать руку в кошелек: шиллинг за это, полкроны за то. Съешь одно-единственное яйцо или какое-то несчастное яблочко-падалицу, и уже, пожалуйста, плати! Пучок редиски – полпенни, а кварта сидра – добрых два пенни три фартинга, никак не меньше. Даром – ничего! Даже за то, чтобы добраться домой на этой кляче, пришлось заплатить шиллинг, а ведь сколько во мне веса? Не больше чем на пенни. Это животное меня и не почувствовало. Ну, на подметках я, скажем, пенни сэкономил, пусть так, да зато седло оказалось такое твердое, что мои самые лучшие панталоны протерлись на заду по меньшей мере пенни на два. Нет, пребывание здесь короля Георга погубило этот город для всего прочего населения. Да к тому же еще мой племянничек обещался приехать туда завтра проведать меня – значит, останься я там, пришлось бы мне его принимать. Эй, что это там такое?
Из дома донеслись крики, и Джон сказал:
– Тут ваш племянник, и у него гости.
– Мой племянник здесь? – ахнул старик. – Дорогие мои, проводите меня хотя бы до дверей… Я хочу сказать… Хи… хи… Ну, просто составьте мне компанию! Ах ты, господи, а я-то думал, что у меня дома тихо-мирно, как в церкви!
Они подошли к дому, и, когда старик фермер заглянул в окно, у него отвисла челюсть и рот принял квадратную форму, а пальцы от ужаса растопырились.
– Они пьют из моих лучших серебряных кубков, которыми я никогда не пользовался! Они пьют мое крепкое пиво! И толстые свечи оплывают совершенно зря, а я вот уже полгода не зажигал никаких, кроме самых тоненьких!
– Так вы, значит, не знали, что он здесь? – спросил Джон.
– Да нет же! – сказал фермер, покачивая головой. – Ничего я, горемыка, не знал! Слышите, как они там звенят самыми лучшими моими кубками, словно это оловянные кружки! И стол небось исцарапали, и стулья расшатали! Гляньте, как они раскачиваются на задних ножках стульев, – ведь для стула это гибель! Вот когда я помру, интересно, где он найдет другого старика, который бы ему все это позволил, и дал бы ломать свое добро, и напускать полный дом головорезов, и ставить им даровую выпивку!
– Товарищи и однополчане! – говорил между тем Фестус, обращаясь к захмелевшим фермерам и йеменам, которых потчевал. – Мы с вами поклялись дружно смотреть опасности и смерти в глаза, а теперь так же дружно разделим ложе мира и покоя. Вы останетесь здесь на ночь, ибо час уже поздний. Эта старая скупая ворона – мой дядюшка – позаботился о том, чтобы в его доме нельзя было отдохнуть с удобством, но, в конце концов, вы как-нибудь устроитесь на диванах и креслах, если нам не хватит кроватей. А мне уж не до сна. Я предаюсь меланхолии! Одна дама, признаюсь вам, завладела моим сердцем, а я завладел сердцем этой дамы. Это самая обыкновенная девушка… я хочу сказать – в глазах других, но для меня она – все. Эта крошка явилась предо мной и покорила меня. Мне полюбилась эта простая девушка! Я, понятное дело, должен был бы искать себе подругу в более высоких сферах, но что с того? Значит, такова судьба, это случалось и с самыми великими людьми.
– Как же ее имя? – спросил один из бравых вояк (проще говоря, Стаб из Дудл-Холла), чья голова время от времени склонялась то на один эполет, то на другой, а глаза скашивались к носу, как это бывает у сильно переутомленных солдат.
– Ее имя… оно начинается на букву «Э», потом следует «Н»… Нет, черт побери, я не открою вам ее имени! Скажу только, что она живет не за тридевять земель отсюда, и таких красивых лент, как у нее на шляпках, вам еще никогда не доводилось видеть. Что говорить, я проявляю слабость! Она бедна, а я богат. Но все равно: я не могу совладать с собой, я обожаю эту девушку!
– Пойдемте отсюда, – сказала Энн.
– Прошу вас, не покидайте бедного старика, не уходите, пока я не войду в дом! – взмолился дядюшка Бенджи. – Или хотя бы не отходите далеко, чтобы можно было вас кликнуть. Станьте вон за теми деревьями, а я постараюсь не обеспокоить вас.
– Я могу побыть с вами еще полчаса, сэр, – сказал Джон. – А потом должен поспешить в лагерь.
– Очень хорошо, спрячьтесь за деревьями, – сказал дядюшка Бенджи. – Я не хочу злить этих молодчиков!
– Вы можете обождать минутку, пока он войдет в дом? – спросил трубач, когда они с Энн отошли от старика.
– Я бы хотела вернуться домой, – взволнованно сказала Энн.
Когда же они укрылись за деревьями и дядюшка Бенджи остался один, он, к немалому их изумлению, испустил отчаянный вопль, значительно, казалось бы, превосходящий возможности его легких.
– Караул, на помощь! Караул, на помощь!.. – завопил он, а затем быстро юркнул за угол дома.
Дверь отворилась, и вся компания вместе с Фестусом высыпала на лужайку.
– Наш долг – помогать попавшим в беду, – сказал Фестус. – Кто тут звал на помощь?
– Крик доносился с той стороны, – сказал один из гостей.
– Нет, отсюда, – сказал другой.
Тем временем дядюшка Бенджи выглянул из-за своего укрытия, проворно, словно шустрый мальчонка, подскочил к открытой двери и скользнул внутрь. В ту же секунду дверь захлопнулась, и Энн услышала, как он запирает ее изнутри и задвигает болты и засовы. Однако никто из бражников ничего не заметил, и, помедлив немного, они направились прямо туда, где стояли Джон и Энн.
– Помощь не заставила себя ждать, друзья, – сказал Фестус. – Вы нас не бойтесь, мы все – слуги короля.
– Благодарю вас, – сказал Джон, – мы тоже никому не делаем зла. – Он коротко объяснил, что на помощь звали не они, а какой-то попавший в беду путник, и повернулся, чтобы вместе с Энн продолжать свой путь.
– Так это же она! Клянусь жизнью, это она! – воскликнул Фестус, только теперь узнав Энн. – Моя красавица, я не расстанусь с вами, пока не доставлю вас благополучно к порогу вашего драгоценного жилища.
– Благодарю вас, этого не требуется, – учтиво, но твердо сказал Лавде, – она доверилась мне.
– Эй, ты! Будь моя сабля при мне, я бы тебе…
– Бросьте, – сказал Джон, – я не хочу с вами ссориться. Пусть дама решит сама. Кто ей больше по душе, тот и проводит ее домой. Кому идти с вами, мисс Энн?
Энн предпочла бы отправиться домой одна, но, взглянув на этих молодцов, едва державшихся на ногах, решила, что лучше все-таки иметь возле себя защитника, однако была в затруднении, как отдать предпочтение одному, не обидев другого и не вызвав ссоры.
– Вы оба должны проводить меня, – искусно вышла она из положения. – Пойдете, как два телохранителя, у меня по бокам, но если поведете себя неучтиво по отношению друг к другу, я никогда больше не скажу с вами ни единого слова.
Оба приняли ее условие, а остальные бражники, которые в это время подошли ближе, заявили, что пойдут тоже – сзади, в виде арьергарда.
– Отлично, – сказала Энн. – А теперь ступайте, наденьте ваши шляпы и не заставляйте себя долго ждать.
– Ах да, наши шляпы… – пробормотали эти молодцы, чьи разгоряченные головы не ощущали ночной прохлады.
– Только не уходите, пока мы не вернемся, мы живо! – озабоченно проговорил Фестус.
Энн и Джон заявили, что не уйдут, и Фестус вместе с оравой своих гостей поспешил обратно в дом.
– Ну а теперь бежим отсюда, – сказала Энн, когда кавалеристы уже не могли ее услышать.
– Но мы же обещали подождать! – удивленно сказал трубач.
– Обещали подождать! – негодующе воскликнула Энн. – Кто это станет держать слово, данное такой пьяной ораве! Поступайте как знаете, а я ухожу.
– Все-таки как-то нечестно обманывать этих ребят, – неуверенно проговорил Джон и оглянулся, но Энн его больше не слушала и, выйдя из-за деревьев, вскоре скрылась во мраке.
А Фестус и его приятели подошли тем временем к двери, которая, к их удивлению и досаде, оказалась запертой изнутри, и принялись стучать кулаками и колотить ногами в почтенное старинное здание, пока в одном из верхних окон не показалась голова старика, увенчанная ночным колпаком с кисточкой на макушке, а вслед за головой – и плечи, прикрытые чем-то белым – по-видимому, ночной рубашкой (в действительности это была простыня, наброшенная поверх кафтана).
– Ай-ай-ай, как же вам не стыдно поднимать такой шум и гвалт под дверью старика, – притворно зевая, произнес дядюшка Бенджи. – Что это на вас напало, зачем вы поднимаете честных людей с постели среди ночи?
– Пусть меня повесят!.. Да это же дядюшка Бенджи! – воскликнул Фестус. – Хо-хо-хо! Дядюшка, что за чертовщина! Это я, Фестус, впустите меня в дом.
– Э, нет, шалишь, больно ты хитер, братец, не знаю, кто ты такой есть, – самым невинным тоном воскликнул дядюшка Бенджи. – Мой дорогой племянничек, дорогой мой мальчик находится сейчас за много миль отсюда у себя в казарме и крепко спит, как и положено доброму солдату в такой поздний час. Нет, дружище, сегодня этот номер у тебя не пройдет, нет-нет.
– Да клянусь спасением души, это же я! – вскричал Фестус.
– Нет-нет, сегодня этот номер не пройдет, братец, нет, сегодня не пройдет! Энтони, подай-ка мне мой мушкетон, – сказал старик, отвернувшись от окна и адресуясь к пустой комнате.
– Давайте ломать ставни! Полезем через окно! – предложил один из гостей.
– Клянусь честью, мы это сделаем! – воскликнул Фестус. – Ну и сыграл же с нами старик шутку?
– Надо найти камень потяжелее, – пробормотал другой бражник, шаря возле стены дома.
– Нет, постой, постой, – сказал Фестус, напуганный этой воинственностью, которую сам же и породил. – Я совсем позабыл про его припадки. Если мы доведем его до умоисступления – а ему это раз плюнуть, – он еще, чего доброго, возьмет и отправится на тот свет, и тогда уж получится вроде как убийство. Друзья, нам придется удалиться! Впрочем, нет, мы можем обосноваться на сеновале. Положитесь на меня, я это мигом устрою. На карту поставлена наша честь. А теперь идемте, проводим мою красотку домой.
– Мы не можем, у нас нет шляп, – заметил один из солдат, известный у себя на ферме в Макл-Форде под именем Джейкоба Ноакса.
– Да, это верно: без шляп нельзя, – подтвердил Фестус, сразу впадая в уныние. – Но я должен пойти объяснить ей причину. Она влечет меня к себе, невзирая ни на что.
– Она ушла. Я видел, как она бежала через парк, когда мы колотили в дверь, – сказал еще кто-то.
– Ушла! – воскликнул Фестус, мгновенно стряхивая с себя меланхолию и скрежеща зубами. – Это он, мой противник, увлек ее за собой! Но я богат и езжу на собственном коне, а он беден и ездит на лошади короля! Ну, попадись мне только этот малый, этот рядовой солдатишка, этот простолюдин, я ему…
– Что? Продолжайте! – сказал трубач, выступая вперед из-за его спины.
– Я… – вздрогнув и оборачиваясь назад, проговорил Фестус, – я пожму ему руку и скажу: «Храни ее! Если ты мне друг, храни ее от беды!»
– Доброе пожелание. И я его исполню, – с жаром сказал Джон.
– А теперь – на сеновал, – объявил Фестус своим приятелям.
Тут все они без лишних церемоний покинули Джона, даже не пожелав доброй ночи, и направились к сеновалу. А Джон выбрался из парка и стал подниматься по тропе, ведущей к лагерю, глубоко опечаленный, что дал Энн повод к неудовольствию, и уверенный, что рядом со своим состоятельным соперником немногого стоит в ее глазах.
Глава 10
Бракопобудительные свойства неразгороженных садовых владений
Энн была так взволнована различными происшествиями с участием представителей военного сословия, приключившимися с ней на пути домой, что почти не решалась выходить одна за пределы своего участка. Многочисленные военные – как солдаты, так и офицеры, – наводнявшие теперь деревушку Оверкомб и ее окрестности, с каждым днем все ближе знакомились с поселянами и почти бессменно торчали у калиток, прогуливались в палисадниках или сидели и болтали в сенях возле самых дверей, высунув из соображений учтивости руку с зажатой в ней трубкой за дверь, дабы не отравлять воздух в помещении. Будучи людьми добросердечными, приветливого нрава и любезного обхождения, они, естественно, оглядывались на любую хорошенькую девушку, проходившую мимо, и улыбались ей, чем приводили в смущение многих девиц, не привыкших к светским манерам. Каждая деревенская красотка вскоре обзавелась возлюбленным, а когда всех красоток расхватали, подошла очередь и тех, кто не мог претендовать на столь лестное звание, ибо большинство воинов не придавали никакого значения слишком длинному или слишком курносому носику, или небольшому изъяну по части зубов, или обилию веснушек, превышающему обычный стандарт англосаксонской расы. Так в селении Оверкомб начали завязываться многочисленные романы, а молодые люди, уроженцы сих мест, оставшись не у дел, были предоставлены самим себе и в своих одиноких прогулках, вместо того чтобы постигать величие природы, погружались в мрачные мечты о страшных способах мести, которую они уготовят храбрецам, почтившим своим любезным вниманием их деревню.
Энн с немалым интересом наблюдала за этими романтическими событиями из окна своей спальни, и когда замечала, с каким торжествующим видом та или другая сельская красотка разгуливает под руку с лейтенантом Нокхилменом, корнетом Флитценхартом или капитаном Класпенкисоеном, облаченным в умопомрачительную форму йоркских гусар и необычайно цветисто изъяснявшимся на иностранном языке, да к тому же являвшимся обладателем сказочно прекрасных имений или какой-то иной собственности, именуемой «фатерланд», у себя, на своей заморской родине, ее охватывало горькое чувство одиночества. Тогда она невольно начинала думать о том, что прежде стремилась забыть, и заглядывала в маленькую шкатулочку, где в тонкой папиросной бумажке хранилось нечто шелковистое, каштановое и свернутое колечком. Однажды, почувствовав, что терпеть больше нет сил, она спустилась вниз.
– Куда ты идешь? – спросила миссис Гарленд.
– Поболтать с кем-нибудь в деревне – меня тоска заела!
– Но не сейчас же, Энн!
– А почему не сейчас, мама? – пробормотала Энн, краснея от смутного ощущения собственной безнравственности.
– Потому что это не годится. Я давно собиралась тебе сказать, чтобы ты не выходила на улицу в эти часы. Отчего бы не погулять утром? Молодой мистер Дерримен будет очень рад…
– Не говорите мне о нем, мама, не говорите!
– Ну хорошо, дорогая, тогда погуляй в садике.
И вот бедняжке Энн, которая вовсе и не собиралась швырнуть свое сердце под ноги какому-нибудь солдату, а хотела всего-навсего сменить увядшие мечты на более свежие, пришлось изо дня в день по нескольку часов кряду ограничиваться прогулкой в саду, где щебетуньи-пташки насвистывали ей свои песенки, легкокрылые бабочки садились на шляпку, а отвратительные муравьи ползали по чулкам.
Садовый участок вдовы не был отгорожен от сада мельника Лавде, ибо когда-то это был один большой сад, представлявший собой единое владение. Сад был очень стар, очень красив и обнесен колючей живой изгородью, такой густой и ровной от бесконечных подрезаний, что мальчишка, прислуживавший мельнику, ухитрялся бегать по ней, не проваливаясь внутрь, и не раз проделывал этот фокус при исполнении своих обязанностей. Земля в саду была такая черная и жирная, какая бывает, только если ее упорно обрабатывают на протяжении целого столетия, а дорожки настолько заросли травой, что по ним можно было ступать совершенно бесшумно. Трава давала приют многочисленным улиткам, и поэтому мельник все собирался, когда выдастся свободная минутка, замостить дорожки гравием. Но так как он уже тридцать лет высказывал это намерение и никогда не приводил его в исполнение, и траве и улиткам, по-видимому, ничто не угрожало.
Работник, который ухаживал за садом мельника, присматривал и за маленьким участком вдовы: копал, сажал и полол как тут, так и там, – ибо мельник вполне резонно полагал, что ни к чему одинокой беззащитной вдове нанимать садовника для обработки такого маленького садика, в то время как этот малый, работая тут под боком, может заодно возделать и ее участок, не слишком себя обременяя. Таким образом, эти два хозяйства соприкасались в саду еще теснее, чем под кровлей дома. Здесь они уже являли как бы одну семью, и оба старших ее представителя, стоя каждый на своем участке, с превеликим жаром и интересом беседовали друг с другом, чего миссис Гарленд никак не могла предположить, когда въезжала сюда после кончины своего супруга.
Нижняя часть сада, отдаленная от дороги, представляла собой наиболее уединенный и уютный уголок этого уединенного и уютного творения природы, и так же обильно орошалась водой, как земля Лота. Три ручейка, не больше ярда шириной, с серебристым журчанием струились между возделанными участками, пересекали тропинку под деревянными горбылями, уложенными в виде мостков, и покидали сад через маленькие туннели, проделанные в живой изгороди. Ручейки эти так заросли по краям травой и прочей садовой растительностью, что только неумолчный лепет выдавал их присутствие. Именно здесь любила проводить свой досуг Энн, после того как ее прогулки ограничились пределами сада, а трубач-драгун облюбовал в отцовском саду местечко для своих прогулок, находившееся совсем рядом.
Как музыкант, он был освобожден от ухода за лошадьми и почти ежедневно наведывался на мельницу. Энн, замечая, что он появляется в отцовском саду всякий раз, когда она гуляет в своем, не могла не улыбнуться и не поболтать с ним. Таким образом, синий мундир и эполеты трубача и желтую цыганскую шляпку Энн нередко можно было наблюдать в одно и то же время в различных, но не слишком отдаленных друг от друга частях сада, однако Джон Лавде никогда не позволял себе вторгаться в соседское владение, Энн тоже не переступала разделявшей эти владения воображаемой черты. Увидав Джона в саду, она обычно обращалась к нему с каким-нибудь вопросом, и он отвечал ей густым мужественным басом, выглядывая из-за куста крыжовника или высокой стены душистого горошка – в зависимости от обстоятельств. Так, стоя в пятнадцати шагах от нее, он рассказывал о своей жизни в казармах и в лагерях Фландрии и прочих других стран, объяснял разницу между шеренгой и колонной, между форсированным маршем и развернутым строем и многое другое, а также делился своими надеждами на повышение в чине. Вначале Энн слушала его довольно рассеянно, но мало-помалу ее интерес к нему возрос: она не знала никого, кто бы так много повидал на своем веку и был так добр и прямодушен; она чувствовала к Джону расположение как к брату, а его галуны, пряжки и шпоры, потеряв в ее глазах свою необычность, стали казаться ей такими же обыденными, как ее собственные наряды.
Мало-помалу и миссис Гарленд начала замечать крепнувшую между молодыми людьми дружбу, а вместе с этим и терять надежду, что ее материнские мечты выдать Энн за богача Фестуса могут когда-либо осуществиться. Если она не предпринимала решительных шагов, чтобы пресечь эту дружбу, мешавшую осуществлению ее планов, то по двоякой причине: объяснялось это отчасти особенностями ее мягкой натуры, никак не склонной командовать, отчасти же ее личными переживаниями, трудно совместимыми с таким образом действий. Тесное соседство, способствовавшее дружескому сближению Энн и Джона Лавде, мало-помалу порождало еще более горячую симпатию между ее матерью и его отцом.
Прошел июль. Дважды в день, в точно установленное время, всадники спускались с холма к водопою под окном Энн; дни стояли знойные, и лошади брыкались и бешено мотали головами, спасаясь от нестерпимых укусов слепней. Листва в саду пожухла, крыжовник налился соком, а три ручейка высохли почти наполовину.
Но вот однажды миссис Гарленд приняла почтительное предложение трубача посетить вместе с дочерью их лагерь, жизнь которого им доводилось наблюдать только из окон своего дома, и как-то после обеда они отправились туда; мельник составил им компанию. Деревня уже давно вела бойкую торговлю с лагерем: солдаты, не рядясь, покупали решительно все, что произрастало в садах, а также молоко, масло и яйца, и деревенские маркитанты, нагруженные своими товарами, взбирались, словно муравьи, по склону холма туда, где на краю лагеря на зеленой лужайке образовалось нечто вроде рынка.
Трубач провел миссис Гарленд, Энн и отца по всему лагерю из конца в конец; побывали они и в той его части, где разместились жены солдат, не нашедшие себе пристанища в поселке. Им отвели самое тенистое место на холме, и мужья построили для них славные маленькие хижины из хвороста, глины, соломы и прочих материалов, какие оказались под рукой. Затем трубач повел своих гостей к большому сараю, оборудованному под госпиталь, а оттуда – к строению с заложенными кирпичами окнами, служившему складом боеприпасов. После этого им было предложено поглядеть на выхоленных коней темной масти (каждый из которых оценивался в крупную по тем временам сумму в двадцать две гинеи), спокойно стоявших возле натянутых между двумя сторожевыми постами канатов за невысокой земляной насыпью, ограждавшей их от опасности в ночное время. Отсюда они направились в расположение солдат немецкого легиона, чей высокий рост, щеголеватость и мечтательное выражение лица делали их особо неотразимыми в глазах дам. Здесь были и саксонцы, и пруссаки, и шведы, и венгры, и ганноверцы, а также представители других национальностей. Сейчас все они были заняты чисткой своих ружей, которые затем бережно ставили в козлы.