Читать онлайн С волками жить бесплатно
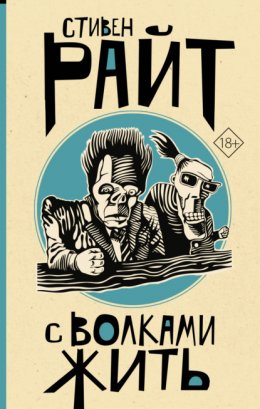
© Stephen Wright, 1994
© Перевод. М. Немцов, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Один
500 Комаров в час
Ро у кухонной мойки яростно чистит морковку – и тут пускает первую за день кровь, и та, конечно, не метафора, а ее собственная. Внезапный цветок краски в унылом сюжете обычного дня. И вот она смотрит, как льется поперек дрожащего указательного пальца, словно бы никуда не спеша, гулкое красное стаккато в ведерко ее раковины из матированной нержавейки. Какое-то время вся она – просто пара зачарованных глаз, растерянная среди фактов мгновения, и, как ни странно, уже не присутствующая для себя самой. Но чары развеиваются, порез погружается в аэрированный поток ее крана «Пьюрафло», палец оборачивается в голубое бумажное полотенце в цветочек. Концерт окончен.
Стоит поздняя пятница позднего лета в жилмассиве «Уэйкфилд», где тени длинны, а свет совершенен, и небо – фантазия кинооператора об абсолютной синеве, какая обыкновенно задерживается лишь на пленке, синяя до того, что не выситься ей сводом в нечеловеческом величии над этой спроектированной общиной пастельных домов и больших приветливых деревьев.
Внутри надраенной кухни мягкий северный свет обустраивается ровно, демократично, среди приборов и приспособлений, снастей и снеди, от всякого отдельного предмета – собственное пригашенное отражение уютной прочности, зачарованной легкости, изысканной гавани. Хорошо тут быть. Вновь помаргивает овощечистка, металлическое лезвие – в вихре строгальщика, полоски оранжевого овощного вещества прилипли к окну над раковиной случайными крестами, словно целая коробка отчаянно наклеенных «Бэнд-эйдов». За спиной у нее обыденный перестук свежих кубиков льда, падающих в «Келвинатор», а на стойке из «Формайки» у ее локтя портативный «Сони» бесстрастно облучает ее тело неурядицами сегодняшних женщин: «МЕГЕРЫ ЗА РЕШЕТКОЙ: ДЕВУШКИ, УБИВШИЕ СВОИХ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ». Ро едва замечает, так уж поглощена физической задачей буквально под рукой и мысленно беспощадными выводами о тщетной погоне за самоуважением, каковая составляет бо́льшую часть ее так называемого «рабочего дня». Она чуть не бросила все снова. Уже вторично за этот месяц. Что тут происходило? Накопление, думает она, и только, всего-навсего с-девяти-до-пяти обескураживающий прирост мелочных предательств, мелких сарказмов, пренебрежений, несправедливостей и откровенных грубостей, что собираются, как отходы, под гниющим пирсом, пока однажды гибельным утром вся рыба не дохнет, купаться больше негде, и если бы Лу не признала снайперского сужения ее глаз и не проволокла мимо ухмылки у Мики и мимо растерянной управленческой команды, она б могла попросту испустить подборку слов, медленно и тайно выросших, словно грибок за профессиональным экстерьером, который ей последние девять месяцев приходилось ретушировать чуть ли не ежечасно. То были слова разоблачения, такие побуждают к жуткому раскрытию второго «я». Они с Лу сбежали в угол кафетерия за страждущей симарубой, скверной шуткой всей компании. Чуть теплый кофе отдавал хлоркой, а абстрактная неоавангардистская литография на стене напротив отчего-то все время отчетливо неприятно напоминала Ро о физической мерзости тела. Такую мысль иметь не полагалось – она жалела, что приходится это признавать, – но, возможно, ей просто не нравится женское начальство. И Лу, недавнейшим посланием чьего парня у нее на автоответчике было: «Ненавидь я тебя больше, я бы не просто тебя бросил», – мгновенно согласилась, сказав, я, дескать, тоже, раз в месяц они совершенно переходят на «Песенки с приветом»[1]. Поэтому случилась хотя бы разрядка смехом. Слезы хлынули позже, когда осталась одна в кабинке дамской комнаты, единственной, как выяснилось, где нет бумаги.
Затем – опомниться, бравым солдатиком двинуться к после-пяти, к обязательной дорожной пробке, загрязненным легким и уму, к охоте за съестными припасами в местном супермаркете, где среди бойни того дня, какую она действительно переживала, катая шаткую тележку по широким надраенным проходам, – крохотная детонация чистейшего счастья. Необъяснимо откуда ни возьмись – и пропала, когда она вернулась домой, физическая комета на эллиптической орбите из той параллельной вселенной, где, похоже, обитает ее подлинная эмоциональная жизнь – та, которая хорошая. Хоть когда-нибудь начнет ли она собирать время и волю в кулак, ведь это необходимо, чтобы составить мерзейшую часть той головоломки, какую представляет собой ее существование в этом мире? Что, к черту, трудного в постижении среднего дохода, середины дороги, средненькой усредненности?
Овощи выстроились, как храбрые солдатики, на разделочной доске, хотя перцы слегка пожухли, латук бурее, чем ей помнилось, а стоит ей только попробовать нарезать помидор – пораненный палец неловко держится на весу, подальше от брызжущих соков, – как волосы спадают вперед ей прямо на лицо, загораживая обзор; она заправляет их за ухо, те выбиваются снова, слева в прошлую субботу их грубо откромсал сам Силвестер из знаменитого «Силвестера», с каждым поворотом головы напоминание о некоторой фундаментальной асимметрии. В «Сони» рентгеновская лаборантка из Бедфорд-Фоллз описывает, как ее муж возвращается домой со своей сантехнической работы, уписывает стейк из пашины с вареной картошкой и устраивается перед ящиком в шифоновом платьице для коктейлей, черных нейлоновых чулках и туфельках на шпильках. В рекламной паузе Ро обнаруживает, что огурцы в глубине холодильника замерзли накрепко. Есть ли время быстренько сгонять в «Еда-и-Топливо»? Часы на стене, причудливая закорючка проволоки и латуни, в какой большинство гостей даже не опознают хронометр, сообщают ей, что если она выскочит сию же минуту… но знаменитая актриса, признающаяся в том, что ее знаменитая мать постоянно лупила ее английским стеком, отправляет Ро в незапланированную экскурсию по Музею настроения, на всех экспонатах муки совести осели густо, как пыль, даже в новейшем крыле здания, где еще не высохла краска, а таблички с описаниями безнадежно не соответствуют, и смотритель – все та же жуткая фигура в черном, которой нравилось таиться под ее колыбелькой и нашептывать ужасы на языке, которого больше никто не мог понять… поэтому никаких огурцов в салате не будет, и она уверена, что Хэнны не станут возражать.
Ро поднимает взгляд проверить близнецов, и там, сразу за обляпанным морковью оконным стеклом, примечательным крупным планом – здоровенная яркая лимонно-желтая птица примостилась на кормушке в царственном уединении, и Ро смотрит, глядит на нее в упор, она не моргает, но птица пропала, трюк скверного монтажа. Поразительно. Так быстро, что дети не увидели, ну и ладно, наверное. Неизбежный раунд вопросов о домашних любимцах и клетках, свободе и смерти. Брат и сестра сидят бок о бок на корточках в песочнице, которую Уайли сколотил тем летом, когда все они ездили в Ниццу, в то место, что как на рекламе «Америкэн Экспресса», в год большого повышения, в сказочный период семейной хроники. Неотличимые светловолосые головы склонились в совещании по важному обустройству пластмассовых кубиков. Дэфни сидит, наблюдая с ближайших качелей, юношески тощее тело болтается между цепями, баскетбольные кеды на ногах у нее ослепительно белы и, очевидно, на несколько размеров больше нужного. Ее длинные темные волосы – капюшон темного пламени в продольном солнце. Она – дочка Эвери аж с Термит-террэс и, несмотря на банки, из которых арахисовая паста черпается пальцами, на пепельницы из крышечек от бутылок, скромненько засунутые под тахту, и Ро, и Уайли она нравится, оба ей доверяют, Дэфни они знают с шести лет, и совсем недавно она прошла двухнедельный курс, в котором сознательную детскую няньку учат выполнению таких необходимых задач, как купать младенца, как готовить простую еду и не устроить при этом пожар и как находить цифры 911 на дисковом либо кнопочном телефоне. И к тому же девочка, по крайней мере для Ро, – трогательная факсимильная копия ее собственного таинственного отрочества, расстояние до которого у нее меняется чуть ли не ежедневно, тех яростных пегих деньков, что она предпочитает – вопреки всем размышлениям – сберечь как исключительно зачарованные.
Вот Чип, видит она, отыскал треснувший водяной пистолет, который, она может поклясться, уже выбрасывала дважды, и держит розовое оружие у виска, словно стараясь расслышать нежное тиканье или рев моря. Его сестренка, вытянув руку, колотит плоской ладошкой по дну песочницы, меся свое песочное тесто в печеньки, как делает мамочка. Мгновенье, обрамленное, даже пока оно происходит, нимбом будущей ностальгии.
Она знает, что это Уайли, за миг до того, как звонит телефон. Она знает, почему он звонит. Встреча затянулась. Клиент не явился. На дорогах пробки. Ей хочется все высказать ему напрямую, но от возможности любых эмоциональных трат Ро сдувается, по-настоящему ощущает, как тело ее проседает в стену. Прихвати огурец, говорит ему она. Свежий. И лаймов, побольше лаймов. И в кои-то веки не забудь угли. Я тебя люблю.
Пора осмотреть дом. Ну, растения нужно полить, а также стереть трехдневную поросль пыли с нескольких телевизионных экранов. На неприбранную постель Ро накидывает плед, меняет в ванной полотенца, собирает журналы Уайли – «Беспечные ездоки», «Форбс», «На наших спинах»[2] – ей никак не угнаться за его интересами, каковы б те ни были. Гостиная бела от черной мебели, и Ро никак не может решить, нравится ли это ей в той мере, в какой вроде бы должно. Когда ушли декораторы, Уайли весь остаток дня валялся на кремовой тахте, не снимая зловещих темных очков. Даже после того, как она рассмеялась, – и дольше, нежели того требовала шутка, – и настала ночь, он их отказывался снимать. Вечно он не понимает, когда стоит остановиться. Младенчески розовый – только что из-под душа, с него текло ручьями, – он как-то раз гонялся за нею, щелкая мокрым полотенцем, по всему дому, поскользнулся в одной своей же лужице и вырубился, стукнувшись о дверцу духовки. Пришлось же тогда с ним повозиться, чтоб натянуть на него трусы до приезда санитаров.
Когда телефон звонит снова, Ро снимает трубку в свободной спальне, воздух там все еще чуть пахнет лекарствами, чуть напоминает о самой Маме. Звонит Бетти, которая сидела с нею в одном загончике во «Фляйшере и Фляйшере», пока с год назад Ро оттуда не ушла на те свежие с виду пажити ныне обезлиственной удачи. Сколько они друг дружку знали, Бетти неизменно пребывала в поиске самоопределения, которое бы не сводилось к ее знаменитым серебряным сережкам. Сегодня она хочет изменить правописание своего имени на Бэтт, но ее беспокоят неловкие ошибочные произношения. Ро предлагает заменить последнюю и на е. Бетти отвечает, что поразмыслит над этим. Кстати, слыхала ли Ро, что Наташа уволилась наконец-то, как и собиралась, как слухи ходили, безо всяких сбережений, без парашюта, единственная страховочная сетка у этой девчонки в жизни – та, какую натягивает она на свои каштановые локоны, когда стоит у жарочного аппарата для картошки в «Макдоналдсе». Под шутливой манерой звенит неподдельная струна изумления и тревоги. Ро хочет рассказать Бетти, что и она сегодня чуть все не бросила, но колеблется, миг упущен, и Бетти уже сбилась на путаный каталог других Наташиных горестей: любовничек с лошадиными зубами, который спит с кем ни попадя, а перед приходом домой к ней даже помыться не удосуживается, синяки на руках и лице у Наташи, не такие уж и тонкие намеки на то, что Наташа и сама не прочь навещать чужие постели в других комнатах. Потому-то Бетти и работает. Встает, тащится в контору одно угрюмое утро за другим – лишь бы не терять нить своих баек. Возможно, однажды ее коллегам по бухгалтерии будет что рассказать друг дружке и о ней. Вероятно, о Ро какую-нибудь байку уже гоняют. Она отказывается воображать подробности.
Повесив трубку, Ро остается сидеть на краешке высокой антикварной кровати – той, на которой и родилась. Из золотой рамки на облезлом бюро наблюдает Мама, глаза, как и на любом ее цветном снимке, когда-либо сделанном, – пара пылающих красных камней, незримых для обычного взгляда: лишь безжизненный фотоаппарат способен ясно и последовательно выявлять ее истинную бесовскую природу. На поцарапанном столе из красного дерева под окном присел на корточках грубый павлин, вырезанный из дешевой сосны неверной рукой, а к перегоревшей лампе прислонена незаконченная раскраска по номерам: холст с пучеглазой коровой, который Мама купила в «Кей-Марте» в Мейсоне, Кентукки, в свое последнее – во всех смыслах – посещение кузена Дьюи. «Знаешь, – жаловалась она, – по-моему, они в эту коробку положили не все какие надо краски». Неделю спустя она перестала ориентироваться. Ее пугало движение ее ума. В самую темную пору ночи она раздирала себя когтями, стараясь пробудиться от удушающих видений потных стен и железных дверей. Под конец она уже ела «Клинекс», а свои сухие бесцветные волосы скручивала в пучки рептильных дредов. Походила она на старую и обезумевшую белую растафару.
Но Ро дурные мысли сегодня думать не полагается. Она себе слово дала. На работе тоже не ждали, что она – Злая Зелейница Запада[3] – заявляется на рабочее место, а у самой нервы пришпорены переизбытком кофе и смутное раздражение, какое лучше всего ей удавалось списать на «видеомагнитофонное похмелье». Накануне вечером они с Уайли посмотрели – по причинам, уже безнадежно невосстановимым, – три взятых в прокате фильма подряд, выбирал, разумеется, он, все соответствуют нынешнему циклу пуляй/гони/круши его строго ограниченных зрительских привычек. В первом – славные парни поймали гадких, но при поимке ужасно заразились гадостью, во втором – гадким парням удалось начисто оторваться, а в третьем – славные парни на самом деле с самого начала оказались гадами. Это визуальное буйство увенчалось грезой, которая портила ей сон и прилипла ко дну дня, словно комок чьей-то засохшей жвачки. Вот дом, и в доме – гостиная, в точности похожая на их комнату, мебель, украшения, суровое отсутствие цвета, неиспользуемые пепельницы во всех положенных местах, вот только дом, похоже, располагается где-то на живописнейшем пляже, дынный свет напоминает ей Калифорнию, хотя она там ни разу не бывала. Сама Ро – наверху, лежит в черных атласных простынях на кровати королевского размера, дремлет, и снится ей другой сон… про эту вот жизнь, быть может. Внизу темным силуэтом в стеклянной двери, выходящей на их террасу из секвойи и – по крайней мере, в этой вселенной, – на белый пустынный пляж, на пустой синий океан, стоит высокий мужчина, голый по пояс и в белых штанах. Мужчина этот – Уайли? Не разобрать. И все внимание ее то и дело отвлекается на стеклянный столик, в точности как у них, и все же нет, и на темный предмет, размещенный на нем с таким уменьем выстраивать композицию: неизбежный, непременный пистолет. Это заряженный автоматический, 45-го калибра, военного образца – таким знанием техники в бодрствующей жизни она не располагала. Ничто не движется. Это самая одинокая комната на свете. Сцена в ней сейчас начнется или только что закончилась? Кто этот человек, безразлично отвернувшийся от нашего пристального взгляда? Чей пистолет? Что здесь происходит? Почему ей не дают покоя все эти вопросы? Волосы спадают ей на лицо. Она решает начать вечеринку пораньше.
На кухне Ро смешивает себе дайкири по особому рецепту. Стоит у мойки, одной рукой тихо стискивая стойку, смакует выпивку. Сознание пропускает такт, и умственное пространство мгновенно обновляется, углы и края начинают обретать набивку, мысли убредают от вечеринки и оказываются в тупиках коридоров и затхлых комнатах без дверей, закидывают арахис один за другим себе в беззубые рты, бормочут солецизмы жизнеподобным очертаниям на обоях. Жуть берет. Уайли только пожал бы плечами, а вот она, как он утверждает, из нервных. Все говорили так и о Маме.
Недопитый стакан она жестко ставит на столешницу, как будто подзывая бармена. Телеэкран неистовствует насыщенной яростью послеобеденных мультиков. Она отодвигает заднюю дверь, и это – как выйти в теплицу. Дэф тут же принимается засовывать что-то в задний карман своих несусветно узких джинсов. Газон влажен и порист от тропического ливня среди дня. Весь месяц мокрый и надоедливый. Лето заканчивается паршиво.
– Мамуля! – Через весь двор на крепких кривых ножках бросается Дейл[4] – буквально швыряет себя в объятия Ро. Ее дочь особенна на ощупь, ее даже с завязанными глазами невозможно перепутать с равно особенным на ощупь ее братом-близнецом. Это – опознание старого, старого порядка. Хорошенечко обнявшись, Дейл отстраняется, вся уже деловая – промерить серьезные глубины материных глаз, ритуал, необходимый в ее нынешней фазе, следующий за любой разлукой, сколь коротка б та ни была. Ро нравится подчиняться этой малышовой проверке безопасности, этому пересмотру верительных грамот, как бы говорящей: дай-ка я погляжу, где ты была, дай-ка погляжу, где ты сейчас. Удостоверив личность, Дейл отталкивается и уносится обратно к своему брату, в ком процесс разлуки родителя с ребенком уже производит зримое брожение: он занят довольно изощренными и песчанистыми похоронами Солдата Джо[5] и нескольких бойцов его отряда, которые попали в засаду, когда отправились за пончиками в нехорошем районе. Его назойливая мамаша все равно его обнимает.
– Здрасьте, миссис Джоунз, – чирикает Дэфни, изо всех сил делая голосом вид, мол я-умею-говорить-как-любая-дура-из-взрослых.
– Привет, Дэф, как оно?
Девчонка жмет плечами.
– Нормально. – Глаза у нее серые и зеленые – и пугающе ясные.
– Хлопоты были?
– Не-а.
– Кто-нибудь звонил?
– Не-а.
Девочку эту в любую погоду определяет досадная стена изоляции: достаточно прозрачная, позволяет распознать, что Дэф что-то скрывает, и достаточно мутная – не разглядеть, что же именно это может быть. Ее семья – скандал всего района: родители – нераскаявшиеся хиппи, ездят на громком (зрительно и акустически) грузовичке, отказываются стричь свой «естественный» газон даже под угрозой многочисленных судебных предписаний и разгуливают в немодных тряпках и с длинными свалявшимися волосами (как мать, так и отец). Из их освещенного цокольного этажа в неурочное время ночи исходит хамский шум молотков и пил. Ро даже близко не может догадаться, чем они зарабатывают. Тем, что Дэфни получает за пригляд за детьми? Она искренне надеется, что у девочки в заднем кармане не пакетик с наркотиками.
Ро устраивается на других качелях, осмеливается на крохотное движение-другое. Ребенком она обожала взмывать так быстро, так высоко, как только ее могли раскачать ноги, но сомневается, что сегодня ее взрослый желудок сумел бы выдержать такую деятельность; хватит и просто поболтаться на раме с параллельными цепями, наслаждаясь солнышком на лице, дети ее играют, ее искаженная тень елозит по вытоптанному карману земли у нее под ногами. Она упорно допрашивает Дэфни, пока результирующие хрюки и слоги – ничего угрюмого в этом на деле нет, она догадывается, что Дэф считает себя безупречно учтивой и разговорчивой, – не складываются во взаимоприемлемую версию сегодняшних событий. Затем они с Дэфни замолкают и просто висят бок о бок, деля пространство, не разговаривая, и никого это особо не заботит. Дэфни – из тех подростков Новой эры[6], кто не робеет от близости или странности взрослых и на кого те не производят впечатления. Как единственный ребенок, она понимает местность после многих лет ее непосредственного изучения. Ро благодарна за такие случаи – прорехи в дне, когда можно верить, будто все леса пронизаны тропинками, неизъяснимыми выходами, но она не может подолгу обуздывать сосущее осознание другого пространства между нею и Дэфни, покрупней, того весомого накопления незримого, что, в общем и целом, и отвечает за качество самого этого просвета и поворота к следующему, за то внутреннее, что бурлит себе в темном уединении, едва-едва всплывая на поверхность неуемным бегом слов, встревоженным кроем мины на лице, беспечными жестами тела. Ро вздрагивает, покрепче хватается за цепи, чтобы не упасть. Так. Опять всполошилась. Жизнь – навязчивый призрак, часто заявляет Уайли, и Ро частенько с ним соглашается, хоть никогда вполне и не уверена, что он имеет в виду.
В вышине над расходящимся рядом неотличимо очерченных и черепичных крыш в чистую текстуру неба вкрадывается намек на тень, как будто поперек неистовой синевы легко, но настойчиво трется мягкий кончик тупого карандаша. Бывали вечера, когда ей хотелось, чтобы ночь настала полным накатом, а вечера, когда затянуты сумерки, это серое обгладывание всего вокруг, эта затененная одинаковость просто не приемлемы. Лучше б она уволилась.
– Мамуля! – Дочь требует внимания особенно пронзительным детским голоском. – Мамуля! Улитки едят людей?
Нет, заверяет ее она, искоса бросив взгляд на бесстрастную маску совершенно невозмутимого лица Дэфни. Улитки – наши друзья. Нет, не как пауки. Улитки не кусаются.
За головой ее дочери двумя домами дальше по улице, замечает она, мельком на самую малость над высотою сетчатых оград, разделяющих дворы, на виду показывается луковица рыла, пара черных глаз-маслин, затем пауза, потом глаза возникают вновь, и так снова и снова. Это Элмер, прыгучая собака Клэмпеттов, кому только дай хорошенечко рассмотреть веселье. А полукварталом дальше единство сетчатых изгородей нарушается двенадцатифутовой стеной из непроницаемого мамонтова дерева. Причудливый участок Маккимзона. Он – телевизионный продюсер «Активных новостей»[7]; она – затворница со скверным характером. Уайли представляет, как они загорают нагишом, трахаются в лунном свете между крокетными воротцами. Это, с томленьем сознает она, первая мысль о сексе (даже применительно к весьма отдаленным телам), что возникла у нее за много недель. Что ж, она устала, расстроена, на нее вечно кто-нибудь глядит, в данном случае – неимоверно скучающая Дэфни, которая изучает ее лицо с антропологическим интересом. Ро надеется, что не поддастся какому-нибудь своему «приступу» прямо тут, в незащищенном псевдоуединении бог знает скольких любопытных глаз. В предместьях задний двор – это сцена. А иногда и кухня тоже сцена, а также гостиная и спальня.
Она украдкой косится на часы – дамский «Ролекс», приобретенный по себестоимости при посредстве бывшей подруги, но тем не менее «Ролекс» все равно, – и ее вновь изумляет скорость и неуловимость времени (недавняя ее одержимость, которую Ро намерена хорошенько обмусолить, как только окажется не чересчур занята). Она соскакивает с качелей, наставляет Дэфни в распорядке сегодняшнего вечернего кормления и укладывания. Каждого ребенка целует в щеку, губы у нее остаются припудренными песком.
Она маринует экологически чистую говядину и размышляет о втором стаканчике, когда дверные бубенцы разражаются атональным, но узнаваемым исполнением первых четырех нот темы старого телесериала «Облава»[8] – идиосинкразии прежнего владельца, которую они так и не удосужились сменить, потому что теперь уже ни она, ни Уайли ее даже не «слышат». Ро спешит открыть дверь. Хотя Хэнн она знает дольше собственных детей, все равно не вполне может подавить, вновь оказавшись перед ними, сдержанной оторопи от прочной природы их отношений; она принимает сигналы, не умея засечь источник или смысл; тут не какое-то очевидное несоответствие в физической внешности или поведении, а нечто глубже, под кожей, рябь какая-то, колебания, магнитные помехи в заряженных полях личности. Но, следует признать, она никогда не видела или не слышала ни намека на серьезную размолвку.
– Здрасьте-здрасьте, – кричит она глупо-напевно, к чему прибегает всякий раз, когда ей нервно.
– Милый причесон, – замечает Томми.
Джерри подается к ней поцеловаться.
– Просто обожаю эти совершенно шикарные стены, – бушует она, размахивая своими пластиковыми ногтями. – В этой комнате я всегда чувствую себя жучком в лаборатории. – Она смотрит прямо в глаза Ро. – Очень особенным жучком.
Томми посверкивает ухмылкой, которую и та и другая женщины могли бы истолковать благоприятно. Он просто отбывает срок на своей нынешней копирайтерской работе, пока дожидается начала истинной карьеры. В чем именно та состоит, он толком не уверен, но поймет, когда увидит воочию. Усы его – густая чрезмерная щетка – возникают и исчезают с такой частотой, что Ро частенько смущает его внешний вид, пусть она и сама не понимает чем. Эта капризная волосяная поросль на лице связана с неуверенностью Томми насчет его собственного носа (он его считает слишком крупным), который он грозится подправить хирургически. Сегодня вечером он чисто выбрит.
Джерри – агент по недвижимости и совладелица компании ресторанного обслуживания «Только для вас», а также профессиональный сборщик средств и член общинного совета, и еще она долгие годы училась каждый семестр в колледже на вечернем. Степени так и не получила. Сейчас она на своем третьем дипломе – по восточной философии. Однажды за сдобренным выпивкой обедом она попробовала объяснить Ро «пустотность», и последовавшее за этим веселье было так необузданно, что Ро потеряла линзу. Они с Джерри познакомились, работая вместе в копировальном бюро торгового центра, пока Джерри не выяснила, что беременна, и не ушла с работы. Через пять недель ребенка она потеряла, и с тех пор угрюмые представители современной медицины сообщают ей, что другого ей нельзя. Это не беда. Она всем говорит, что это не беда. Брови у нее имеют склонность всползать вверх к своему воображаемому перекрестку посередине лба, отчего вид у нее делается постоянно озадаченный, и она им пользуется к своей выгоде, вызывая сочувствие и подписи на договоры от колеблющейся клиентуры. Когда Джерри смеется, лицо у нее распадается, и она уже не похожа на саму себя. На лацкане носит брошку – серебряного омара. У нее кольцо на большом пальце. С Томми у них, должно быть, все хорошо. О деньгах от них не услышишь ни единой жалобы.
Извиняясь за опоздание Уайли, Ро проводит гостей по дому и на террасу, где они устраиваются на новой дворовой мебели и принимаются за первый раунд дайкири. Смотрят на детей. Смотрят на Дэфни, которая не желает смотреть в ответ. Смотрят на пустые окна соседских домов. Томми замечает клочок жухлой травы у гаража. Ро не стоит оборачиваться – этот жуткий выбеленный лоскут выжжен на внутренней стороне ее головы. Серьезные химикаты вылил туда Уайли как-то странной ночью. Сказал, что бензин. Ей кажется, там самой почве кранты, она теперь так же плодородна, как лунка на Луне.
– Любопытно, – отмечает Томми. – Практически идеальный круг.
Джерри высказывается, что ее уже тошнит слушать про химикаты. Сегодня они в воздухе, завтра – в воде, послезавтра – в калифорнийской брокколи или… или в жевательной резинке. Можно подумать, что мы – всего-навсего хворые губки, которые днем и ночью впитывают отраву.
– И? – спрашивает Томми.
– Я не желаю об этом слышать.
Ро припоминает, как в гостиной каждую посудину без крышки Мама наполняла до краев сладким ассорти «Бракс»[9], которое никто не ел, а шоколадная глазурь со временем зацветала и белела. Ро извиняется и возвращается в кухню подогреть сыр для начо. Ей не полагается думать скверные мысли.
Дэфни вводит детей в боковую дверь – те усталые, голодные, громкие, им с некоторым успехом удается царапать руки друг дружке. Ро эту игру знает, она отказывается втягиваться.
– Мамочка придет чуть позже и поцелует вас обоих на сон грядущий, – спокойно объявляет она. Гладит их по зардевшимся головам.
– Можно мне «Хай-Си»?[10] – вдруг визжит Дейл. – Можно? Можно? – Она скачет по комнате на комически сердитых ногах.
– Да, конечно, можно.
Далее – голоском поспокойнее, коварнее:
– Весь «Хай-Си»?
– Идите пока с Дэфни. Пожалуйста, мамочка занята. – Она близка к тому месту, где живет черная дрянь, ближе, чем ей хочется, к тому, чтобы сильно шлепнуть дочь по лицу. Она готова отправить их обоих в преисподнюю «Фишер-Прайс»[11] и тут улавливает еще один внутренний взгляд: Мама одета в тряпье, сношенное и прогнившее, как взлохмаченные пряди обмотки мумии, и сидит она, наподобие Шекспирова короля, на троне, сработанном из ободранных от коры веток деревьев и подвешенном в пылающем цилиндре бело-голубого света. На голове у нее либо рога, либо телевизионная антенна. Она поднимает ссохшееся свое тело, вот-вот заговорит… Виденье это чересчур ужасно, нельзя его созерцать. Ро откручивает оба крана и дает воде омыть ей руки.
Когда она возвращается к обществу, неуклюже задвигая дверь и ничего не расплескав на груженом подносе, беседа вдруг смолкает. Историю она читает у Джерри по лицу. Ладно, хочется выпалить ей, у меня дети. Что с того? Она передает кукурузные чипсы. Томми спрашивает, кто такая Дэфни. Джерри изучает меловые каракули и мазки стиралки, оставшиеся на синей доске, а неповоротливое солнце бредет домой после уроков. Ро погромыхивает игровыми кубиками льда в своей выпивке, печально смотрит в стакан.
– По-моему, эти дайкири слишком сладкие.
– О нет, – возражает Джерри, – отличные они. Все как надо.
– Джерри любит сахар, – говорит Томми. – У нее от него приходы.
– Воистину. – Запрокинув голову, она демонстрирует это долгим театральным глотком.
Ро созерцает Джерри с чрезмерно внимательным выражением того, кто на самом деле не слушает. Ее скрутило завистью, она воображает, как присваивает красоту этой другой женщины и прилагающиеся к ней силы, воображает, как ходит в ее латах день, неделю, сновидческое время упоительного возмездия. Она воображает, как воспримут на работе. Новую и улучшенную. Она воображает свою жизнь. Жизнь ее изменится. Целиком и полностью.
– Мммммм. – Томми раскусывает начо, с которого каплет, рука подставлена чашкой под подбородок. – Это фальшивый сыр?
Ро не знает, что ответить.
– Чтоб такое сделать, нужно брать только фальшивки, – поясняет он. – Настоящий никогда таким вкусным не бывает.
– Я честно не знаю, – отвечает она. – Что-то в банке, ставишь в микроволновку.
– Фальшивка, – одобрительно объявляет он. – Очень здорово. – Томми тянется еще за кусочком, откидывается на стуле так, чтобы открылся вид на максимально оголенные ноги Роды. Об этих ногах он думал, ведя сюда машину, и полагает, что еще долго и прибыльно может на них медитировать.
– Томми что угодно съест, – провозглашает Джерри, – если только оно привязано.
– Ну, – быстро говорит Ро, – может, лучше бы соус сделать самой, но, если честно, у меня не было времени.
– Ой нет, я не в том смысле… Прости, Ро, я совсем не это имела в виду. Они на самом деле очень даже. Такие мы и дома едим. – Она сует образчик себе в зубы и одобрительно жует.
– Не обращай внимания на даму с заиканием, – говорит Томми. – Она следующая в очереди за новым мозгом.
– Ладно, сладенький, варежку закрой.
Томми салютует своей жене влажным стаканом. Под столом смещаются и вытягиваются ноги. В молчании громкость фонового шума вздымается заметнее, где-то в поле слышимости воют и громыхают далекие гитары и барабаны.
– Детки-металлюги, – объясняет Ро, – новенькие у нас в квартале.
– Отпад, – говорит Томми.
Взгляд Джерри подчеркнуто смещается от ближайшего белого дома справа к ближайшему белому дому слева.
– Соседи! – восклицает она. – Не знаю, смогу ли я когда-нибудь к этому привыкнуть.
– Да, – соглашается Ро, – иной день и впрямь это непереносимая клаустрофобия.
– Должно быть, это как жить в аквариуме. – Джерри понижает голос. – Подумать только, сколько народу может наблюдать за нами в эту минуту.
– Стараюсь не думать.
– А у нас там по ночам даже ничьих огоньков не видать.
– И никто не услышит, как ты кричишь, – нараспев произносит Томми голосом из фильма ужасов[12].
Джерри кривится и снова поворачивается к Ро.
– Вам с Уайли нужно скоро опять к нам выбраться – посмо́трите, что мы сделали с кухней.
– И с амбаром.
– И с садом. В грязи на коленках ползали все чертово лето.
Ро колеблется принять приглашение. В последний раз, когда они с Уайли ездили туда в гости, – играли в разнузданный бадминтон, ходили на экскурсию по саду, восхищались капустой, ездили на озеро Виста, гребли на каноэ, дивились на прыгучую рыбу, сидели за обугленным столом для пикников на холме Саккоташ посреди смуглого роя голодных букашек и смотрели, как умирающее солнце зрелищно истекает кровью на чистую синюю промокашку, вспоминали студенчество: простыню из окна, зажигательную жидкость под дверь, волейбол нагишом, наполненный презерватив, привязанный к дверной ручке полицейской машины; они улыбались, они соприкасались, делились – и все было чудесно наперекосяк. У того дня имелись подводные течения, и были они холодны; Ро чуяла, что на нее направлено подразумеваемое и строгое недовольство почти всем, что б ни сказала она, почти всем, что она делала, почти всем, что думала. Уайли, разумеется, отмахивался от ее опасений как от преувеличенных; если Хэнны устали и слегка ворчали, то и Джоунзы тоже – долгий день, короткое терпение, к чему втолковывать очевидное? – но она все равно обиделась, визит оставил в ней ощущение смутной светской тошноты и неотступный вопрос: я нравлюсь Джерри или нет? Ответ на него она до сих пор не получила. Так как же знать ей наверняка, искренне их приглашают или же это извращенная эмоциональная игра? (При последнем своем посещении дома престарелых «Зачарованные сосны» Ро привезла матери коробку черепашек – ее любимых конфет, и номер ее любимого журнала – «ТВ-гид»[13] за ту неделю, где содержалось много-много телепередач, которые, как ей неоткуда было узнать, она никогда не увидит.)
– Почти ни на что уже не остается времени, – жалуется Джерри. – Ты заметила? Похоже, что доступный запас его – меньше, чем бывало раньше. Может, в нашей посуде времени образовалась медленная течь. Может, это всё черные дыры. Просто бесцельно всасывают в себя наши жизни, как пылесос.
– Не зря в колледже училась, – говорит Томми.
– В чердаке никаких дыр, – подтверждает Ро.
– Ну, ребята.
– Она такая, что жуть берет. Может, слыхала – есть такой тип людей, что книжки читают. Вечно в какую-нибудь нос уткнут.
– О боже мой! – восклицает Джерри, возбужденно привскакивая. – Ро, ты уже прочла «Блондинок в черном»? Томми, сладенький, кинь мне мою сумку рядом с твоим стулом. – Роется, извлекает затасканную книжку в мягкой обложке, где изображен ряд не отличимых друг от дружки манекенщиц в больших солнечных очках, выстроившихся для полицейского опознания. Она листает страницы. – Слушай. – Читает: – «Симбелин танцует. Жарко. Огни вспыхивают, вращаются, стробируют. Вздымается толпа. Жгут краски. Она танцует. На безупречном лбу ее сверкают брильянты пота. Многочисленные крохотные бусинки. Музыка рябит, как радуга, над ее мозгом. Она не танцует, танцуют ее. Она сбрасывает кожу. Та маленькая девочка по имени Бобби Джейн, некогда позировавшая на тракторе (тот был красный) в таком месте, что отсюда слишком далеко, оно, может, и не существует вовсе, – мусор под ее туфлями-лодочками седьмого размера. Локти и тела толкаются и трутся, но она не признаёт больше ничьего присутствия. Сегодня вечером звезда – она. Пушка фотографа взрывается у нее перед носом, и она попалась с разлетающимися волосами, руки чувственно взметнулись над головой, ее подтянутое аэробизированное «я» совершенно отдалось ритму жизни, о которой она мечтала. Она обнажает безупречные зубы. Губы ее полны. Она в экстазе.
Когда она и Джонни Сент-Джон возвращаются к своему столику, Безик отбрасывает волосы и тычет острым серебряным ногтем.
– Что это у тебя на платье?
Симбелин трогает пятно пальцем. Оно влажное.
– Ой, – говорит она.
Это была «сгущенка».
Джерри закрывает книжку с понимающей ухмылкой.
– Здорово, а? Про Нью-Йорк. Знаешь, про тамошнюю тусовку.
– Как она это пишет? – спрашивает ее муж.
– Что пишет?
– Спущенку.
– Не знаю. Господи ты боже мой. – Она опять листает книжку. – Вот, – говорит она. – Сгу-щен-ка.
– Так зачем нам хоть как-то доверять автору, который очевидно ни хера не смыслит в том, о чем пишет?
– Томми не читает, – поясняет Джерри.
– Я смотрю, – говорит он и, не успевают его остановить, пускается в один из своих нескончаемых конспектов кинофильмов, на сей раз – недавнего кабельного произведения неведомого урожая, это нечто отчасти неизвестное, отчасти странноватое, что, по сути, и есть ключевые определяющие характеристики любимого кино Томми. Названия он тоже не знает, потому что пропустил начальные титры и первые десять минут ввиду «рассуждений», которыми занимались они с Джерри относительно того, в какой оттенок красить свободную спальню (будет ли там приемный младенец или нет?), но поскольку киношку эту, вероятно, покажут еще раз десять-двадцать до конца месяца, он им звякнет. В общем, Шон Пенн – такой накачанный подонок, никуда не едет в никчемном городишке нигде, пока однажды не находит своего давно потерявшегося папашу, Кристофера Уокена, который играет даже зловещее обычного, это такой клевый криминальный тип, на кого в самом деле можно равняться, потому что что ж еще ему остается делать с образованием восемь классов и походкой, как будто у него запор, да и эти нелепые бицепсы выпирают из футболки, словно воскресные окорока? Только он не понимает всей глубины зла, что засело в папочке, он не знает, что мы делаем, а это…[14]
Тело Джерри на миг беспомощно содрогается, стул гремит. Вбок откатывается стеклянная дверь.
– Ох, Уайли, – ахает она, рука верхом на галопирующем сердце. – Ты меня испугал.
На террасу выходит Уайли, на нем – популярный послерабочий вид, который громко объявляет: даже не спрашивайте.
– Приветствую, люди. – Он нагибается поцеловать жену в блестящий лоб.
– Ой-ой, – замечает Ро. – Похоже, у кого-то был скверный день.
– Убийственный, – отвечает Уайли.
– Я разглядела только, что сразу за дверью стоит эта кошмарная фигура, – объясняет Джерри. Она подскакивает размазанно отпечатать свои губы на зернистой щеке Уайли.
Томми, еще не вполне в целости и сохранности вернувшись к некинематографической действительности, машет открытой ладонью.
Уайли опирается на стекло, руки шарят в карманах, проказливое лицо милостиво сияет всем. Ро видит, что он старается изо всех сил.
– Так, – спрашивает он, – что я пропустил?
– Всего лишь навсего – всё, – отвечает Джерри.
– Отменную кухню, – говорит Томми.
– Остроумный ответ, – добавляет Джерри.
– У меня ноги отваливаются, так натанцевалась, – говорит Ро.
– Ну. – Он внимательно оглядывает их озаренные лица. – Наверно, мне нужно выпить. – Он ускользает обратно в кухню с кондиционированным воздухом.
– Такой пупсик, – говорит Джерри.
– При правильном свете, – отвечает Ро и осведомляется о той младшей сестре с тремя маленькими детьми, которая пряталась от своего бывшего в тайном приюте для женщин на западной стороне. История у них была коротка, жестока и бессмысленна, как любая другая, какую хотелось бы пережить.
– С ней все хорошо. Ей лучше. Вообще-то в конце месяца она уезжает. И она, и дети – все перебираются в Санта-Монику.
– Должно быть, очень сильная она.
Томми рассеянно глазеет в загроможденный зев гаража, а Ро любуется очерком его голой шеи, той изящной линией, что крепким склоном опускается в воротник шотландки «Пол Стюарт».
– Делай, что должен, – отвечает Джерри. В культуре, любящей суровые штампы, она – адепт умелый.
Ро часто жалеет, что не знает, о чем думают другие. Человеческий мозг, прочла она во «Времени»[15], функционирует как посредственная передающая станция, поэтому теоретически с нормальным приемником мысли можно перехватывать, как телевизионные волны. Некоторые умы – приемники от природы. Ясновидящая ли Джерри? Уединение – заблуждение. Мы не одни.
Уайли вновь вливается в компанию, переодевшись в свои обычные брюки-хаки и темно-синюю рубашку поло, в руке он несет солидный стаканчик водки с тоником. Садится верхом на оставшийся стул – дефективный, с гнутой ножкой.
– Так, – начинает он, – о чем мы сегодня говорим?
– Дети внизу, – говорит Ро. – С Дэфни.
– Я знаю. Потискал уже всех и каждого.
Попроси у Ро кто-нибудь посторонний описать ее мужа, она не уверена, как бы откликнулась. За исключением глаз, тех волнующих лун пыльно-серого цвета, ничего мгновенно выразительного в нем не наблюдается, никаких утесов или ущелий, никаких потешных пучков волос, за которые можно зацепиться словом. Средний, пришлось бы согласиться ей, признавая тем самым собственную неудачу, поскольку избранные отличительные черты, те, какие невозможно было объяснить сразу, бежали определений – именно их она и любила.
– Мы охватили весь земной шар, – заявляет Томми. – Токсичная преступность, дефицит наркотиков, терроризм знаменитостей. Это был вечер макрообзора.
– Вечер макарон, – поправляет Джерри. Ее интригуют руки Уайли – в его пальцах видится нечто положительно благородное.
– Спаси планету, – объявляет Томми. – Своди кита пообедать.
– Нам нравится сюда приезжать, – произносит Джерри, шумно хлюпая через соломинку. – Столько других наших друзей бросили пить.
– Да, – говорит Ро. – Эковек.
– Лично я себя чувствую экоотбросом, – шутит Томми.
– Ты когда-нибудь пробовала черимойю? – спрашивает Джерри.
– Это что такое?
– Фрукт, вообще-то какая-то причудливая помесь яблока, груши и дерева коки, насколько мы знаем. Перуанский. Очень ням-ням.
Томми тихонько фыркает носом.
– Ага, поскольку Гран-тур[16] пришлось временно отложить до поступления к нам второго миллиона, Джерри тут кругосветно питается.
Его тон ее раздражает.
– Ну а зачем и дальше пробовать все те же старые скучные вкусы, делать все ту же старую скукотищу?
– Не знаю, – отвечает Томми. – Зачем?
– Ох ты ж. – Она пинает его под столом.
– Ты уголь не забыл? – осведомляется Ро. – Стакан Уайли замирает в воздухе. – Черт бы драл, Уайли, я же попросила тебя не забыть. Ну давай, только недолго. Мы тут уже проголодались.
– С тобой Томми может съездить, – объявляет Джерри.
– Намек ясен, – говорит Томми.
По пути наружу Уайли загребает горсть чипсов.
– Ммммммм, – бормочет он через плечо, – хорошие начо какие.
Транспортное средство – «Джип-Чероки» 87-го года.
– А бейсболки нам не полагается надевать? – бородатая шуточка Томми. Ему трудно представить себя в такой машине, и он не может понять, почему Уайли, которого он знает не хуже других, хочется, чтобы его в такой видели, почему он очевидно такой радуется, а иногда и готов ездить на этой штуковине на работу, ради всего святого. Курьез, да и только.
Проезжаемые улицы тихи, ухожены, как и газоны, жилища, люди. Радио настроено на популярную ФМ-станцию: классический рок, непрерывный час «Жара в жестянке»[17]. Уайли невозмутим за черными солнечными очками. Томми развертывает другой захватывающий сценарий: на сей раз – Тони Пёркинз в роли сумасбродного доктора Губилла, который случайно обнаруживает крэк, курит его, естественно, затем бросается бесчинствовать в порнографическом уличном буйстве траха и рубки, какие редко увидишь что в околотках, что в категории Р[18].
– Но он же уже спятил, – отмечает Уайли. – Даже когда нормальных играет. Только в глаза ему глянешь – и любой, кроме полного идиота, определит, что там живет и кто-то другой.
– Допускаю, – признает Томми, – поэтому, возможно, элемент напряженности немного прокис. Но все равно занятное произведение.
Уайли это кино не смотрел, не знает, станет ли, он в последнее время старается снизить дозу.
– Ага, ага, – говорит Томми, – не думай, что я раньше не слышал всего этого, это гадкая привычка, ну да, трата времени, ну еще б, но тут либо сидишь перед ящиком, либо разговариваешь с Джерри весь вечер.
– С Джерри можно и кое-что другое делать.
– Да, но по ящику-то у них куда лучше получается.
Стоянка «Еды-и-Топлива» – бешеный рык легавых, машин и вращающихся мигалок, и страх любопытного притянут, как водится, к центру, где б ни возник он, сборище наших дней на ободе ужасного, удовлетворенный взглядец украдкой в дымящийся кратер, удивительно, что такое может быть настолько великолепным – и так близко. Полицейские патрульные крейсера сидят, брошенные в противоположных углах, дверцы висят нараспашку, рации кудахчут, как птицы в клетках. Между исцарапанными мусорными контейнерами желтая лента, трепеща вверх тормашками в отпечатанном повторении «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОХОДА НЕТ», расчищает участок вокруг входа в магазин. Посреди этой росчисти довольно небрежно на заляпанном газировкой цементе с лепниной жвачки – очевидно хорошо попользованный художницкий брезент. Под тканью – тот зуд, который тесный полукруг глаз никак не может расчесать вволю, – покоится тело, его присутствие подтверждено высовывающейся парой потертых «найков», носки прискорбно воткнуты в землю, толстые зеленые шнурки вольно болтаются и не завязаны, камешки серого гравия впились в резьбу подошв, подробность эта увеличена до откровения близости, с каким Томми вдруг становится неуютно. Чувства его в этот миг слишком уж запутаны и пристальной экзаменовки не выдержат. Уверен он только в одном: должно быть, выглядит он до невероятия глупо, оказавшись в капкане этой толпы, разинувши рот, как турист только что с автобуса. Он придвигается поближе к Уайли.
– Это кровь? – шепчет он.
– Где?
– Возле его головы.
Легавый, который на вид был по крайней мере на десятилетие моложе Томми и щеголял с такими бачками, каких тот не видал на живом человеке лет двадцать, перехватывает его взгляд и смотрит прямо внутрь так же легко, как будто проверяет содержимое кипящей кастрюльки; отворачивается, очевидно развлекшись тем, что обнаружил там. Томми заливается стыдным румянцем.
В магазине полицейские в мундирах и следователи убойного отдела в модельных костюмах погружены в угрюмую беседу с отягощенным прыщами мальчишкой в красном фартуке и бумажном колпачке. На лице его напоказ выставлены потусторонние черты того, кого только что неожиданно сфотографировали со здоровенной вспышкой.
– Что случилось? – громко осведомляется Томми.
– Не знаю, – отвечает соломенновласая женщина в футболке «Металлики», прижимая к себе двоих маленьких детишек. Она не удосуживается обернуться. – Кого-то застрелили.
Томми налегает Уайли на ухо.
– Как думаешь, он черный? – Из-под покрывала не высовывается никаких зримых участков кожи.
Уайли просто пожимает плечами.
В воздухе застрял некий зловещий запашок… как бы озона? Наверняка же вредно для здоровья валандаться по этому участку, поглощать отчетливо неполезные флюиды незапрограммированного события в прямом эфире. Он толкает Уайли под локоть.
– Готов?
Уайли не отвечает.
– Никто не заходит. Ты чего хочешь? Дождаться труповозки?
Уайли оборачивается поглядеть ему прямо в лицо.
– Ну да.
В магазине, держа шляпу в руке, легавый говорит что-то другим и смеется, являя полный рот ошеломляюще белых зубов. Один следователь сосет пинту шоколадного молока, другой жует из драного пакета картофельные чипсы «Игл».
– Гляди-ка, – бормочет голос в толпе. – Они себе, к черту, вечеринку устроили.
Кто-то еще говорит:
– Получил по заслугам.
– Жалко, меня тут не было, – отвечает другой, – помог бы его грохнуть.
Кто-то просит легавого с бачками приподнять покрывало, чтоб он мог посмотреть на лицо «негодяя».
– Проходим, не задерживаемся, – говорит легавый.
Томми и Уайли переезжают к «7-Илевен» на бульваре Мелодик, где не нужно переступать через труп, чтоб купить себе древесного угля. По пути домой Уайли молчит. Томми нервно трещит о том, как это бедствие в магазине шагового доступа созвучно событиям по телевизору прошлым вечером, вот только в передаче нелепые публичные убийства не связанных друг с другом незнакомцев оказываются гнусными проделками бригады бунтарей-пришельцев.
Уайли передачу эту пропустил, он вообще не видит связи. Сворачивая на Сансет, он едва не задевает мальчишку-газетчика на велосипеде и винит Томми в том, что тот его отвлек. Когда они заезжают на дорожку к дому, женщины улюлюкают и машут, как сумасшедшие, со своих возвышенных сидений на террасе, неистовствуя, словно болельщицы на трибунах под конец второй игры долгого двойного матча. Томми выбирается из машины.
– Угадайте, что мы видели? – вопит он. За ним широкая спина Уайли скрывается в гараже.
О, викторина. Женщины подтягиваются, принимают преувеличенные позы внимательных конкурсанток.
– Парад, – гадает Джерри.
– Плохую аварию, – кричит Ро.
Томми качает головой.
– Голых людей!
– Клоунов! Чокнутых клоунов!
– Мертвое тело, – нараспев произносит он.
– Да ладно, – говорит Джерри.
– Да.
– Да ладно, – говорит Ро.
– Прямо перед чертовым «Едой-и-Топливом». Вы б видели. Нас там чуть не убили, точно, Уайли?
Уайли выворачивает из-за угла, волоча на газон ржавый гриль на одном колесике.
– Ну, – соглашается он. – Чуть.
– Уайли? – Ро уже смутно не по себе, несколько минут назад она поделилась с Джерри невозможным умопомешательством своего первого курса в Северо-западном, безудержным мальчишкой по кличке Шустрый и концовкой меж акушерских стремян в таком ужасе, всех подробностей которого не знает даже ее муж, преподнеся этот неограненный отрывок своего прошлого как таинство сестринскому доброму духу мгновенья, и теперь ее мутит от мук измены: она распотрошила свое сердце ради женщины, которая, как выяснилось посреди рассказа, ей, кажется, даже не очень нравится, поэтому… – Уайли?
Тот подходит, замирает под террасой, уставившись снизу на нее.
– У нас все в порядке. – Рука его тянется дотронуться до ее голой ноги. – Похоже было на ограбление или попытку чего-то такого. Что б там ни произошло, сейчас кто-то определенно очень мертв.
– О боже мой.
– Парой минут бы раньше, – поясняет Томми, – кто знает, что б мы увидели. Или во что бы впутались.
– Современный мир, – замечает Джерри. – В пяти кварталах отсюда.
– Видели б вы этот труп – лежит себе на мостовой тише некуда. Такой настоящий, что выглядит фальшивкой.
– Да, – заявляет Джерри, – именно такое мне и нужно увидеть – еще одного покойника. Меня и так смертельно тошнит от покойников – слышать о них, глядеть на них, жалеть их; они каждый час по телевизору, в газетах каждое утро и всю меня заляпали кровищей из каждого журнала. Сегодня можно подумать, что жизнь только в этом и состоит – в мертвецах.
– Коль скоро они – не мы, – тянет Томми.
За спинами у них – внезапный свист, биение гигантских крыльев; они разворачиваются на стульях к пугающему зрелищу столба пламени, сердито взметнувшегося в тусклый воздух.
– Ой, смотрите, – замечает Ро, – Уайли огонь развел.
Кувшин дайкири опорожняется и наполняется, и опустошается вновь. Зажигают свечи с цитронеллой. Наружу, ковыляя, выбирается мистер Фреленг, электрик на пенсии в соседнем доме, и поправляет шланг – он преданно обслуживает неизменные нужды бога газонов. Ведет он себя при этом так, будто совершенно один, слеп и глух к публике в бельэтаже, завороженной каждым его суетливым усилием. Наверху дети наконец-то уснули. С Дэфни расплачиваются, и она уходит домой. Появляется темная летучая мышка, тревожно трепещет в мягких сумерках – хилый реквизит на неумело управляемых проволоках.
– Пятьсот комаров в час, – сообщает Томми. – Уму непостижимо.
– Полагаю, – говорит Джерри, – тот радар, который у них вроде как есть, вызывает рак.
– Прямо сейчас.
– Хотя должно воодушевлять, – продолжает она, завороженная стробоскопическим полетом существа, – жрать то, что жрет тебя.
– Ну, я не думаю…
– Но вообрази – быть таким свободным, уметь летать, носиться в ночи в некоем эротическом ступоре.
Томми протягивает сжатый кулак.
– Стало быть, миссис Хэнна, переродись вы в любое животное, предпочитаемой тварью стало бы…
– Да, Джин, летучая мышь, определенно – летучая мышь[19].
Если от Ро и ждут какого-то замечания, она пропускает свою очередь. Разнообразные требования и непредвиденные всплески дня в совокупности с повышенными за сегодняшний вечер уровнями содержания алкоголя в крови вогнали ее проводку в состояние потрескивающей статики, близкое к частичному короткому замыканию или даже хуже, она причудливо включается и выключается, внимание ее временно и яростно намагничивается страннейшими осколками то одного, то другого отдельного факта, поэтому пока Джерри болбочет: от летучих мышей, секса и перерождения к – изо всех сил стараясь развлечь свою публику – прокисшим кассовым темам похоти и неотесанности среди ее зажиточной клиентуры, – Ро приятно настроена на звучное шипенье мяса. Наблюдает, как в неясности заднего двора ядовитыми розовыми яйцами в металлическом гнезде тлеют уголья, искрит и плюется желтое пламя, когда на брикеты попадает жир, словно коротит саму ночь: зрелище скромное, но щедро занимательное. Часы ее дня проходят обзорно на почтительном расстоянии, она ничего не чувствует, простейшая формулировка (моя жизнь, эта вот конкретная точка на графике, она + или —?) превышает истощившиеся способности Ро, она устала, она погружается в глубокое таинство тщетного выздоровления, в котором, к собственному облегчению, признаёт не просто одну частную невротическую дилемму – все ее друзья до единого проявляют в какой-то степени симптоматическое расстройство, – но от чего же именно мы выздоравливаем? Она без малейшего понятия. Мне нужно хорошенько выспаться ночью. Нужно хорошенько провести ночь без сна. Над головой громоздящаяся тьма усеяна звездами, поблескивают шляпки гвоздей, поддерживающих большую крышу. Внезапный свет из спальни Эвери отбрасывает долгую желтую трапецию на шипастую траву. Дальше по кварталу детки-металлюги с грохотом прожигают себе путь сквозь легко запоминающийся номер, чье название она, кажется, чуть ли не припоминает. Вокруг нас ничего нет, да и глубоко внутри тоже.
Стейки зажариваются идеально, и хотя в тусклом свете фитилька трудно различить, что именно лежит у каждого на тарелке, либо выбрать из картошки окалину, трапезе присуждаются четыре звезды и она признается успешной. Томми подымает стакан, чтобы произнести тост настолько напыщенный и натянутый, что он, должно быть, призван вызвать в памяти манеру если не того, то другого медийного андроида.
– Покажи Де Ниро, – приказывает Ро мужу. – Знаете, какой у него Де Ниро. У него все пародии баснословные, но Де Ниро такой, что прям жуть берет.
Он утомленно улыбается.
– Ладно тебе, Уайли, выдай гостям.
Улыбка гаснет.
– Погнали уже, давайте поддадим газу вечеринке. – Сдержанность мужа раздражает ее. По горло сыта она множеством его настроений и загадок в нем. – Я тут веселиться хочу, – требует она, – и прям сейчас.
– Ты пьяна, – говорит он.
– А я нет, – объявляет Джерри с агрессивной беспрекословностью. За столом переговоров она гнет жесткую линию. В понедельник решила на работу не идти. Пусть ее коллеги насладятся, заново оценив ее значимость в раздумьях о ее отсутствии. Уайли б не пошел, если у него нет настроения. Уайли поступает, как пожелает. Он свободный художник. Утверждает, будто занимается микросистемами, но она-то уж знает, ей мнится, что он должен работать в правительстве, он правитель. Она уже ощущает, как ее руки шарят у Уайли под рубашкой. Она ощущает жар.
Томми поднимается, ему хочется танцевать. Никто не желает присоединиться? Он спотыкается один вниз по ступеням мамонтова дерева и через весь двор, темная фигурка, движущаяся во тьме покрупнее. Он мычит, он танцует.
Ро кажется, будто Томми действительно снял рубашку, и, поскольку хорошая хозяйка услуживает своим гостям, она спешит исполнить свой долг. Рука об руку они танцуют, это ночь для шикарных жестов, щека к щеке скользят они за гараж, где в давке мяты она… он… ну, вообще-то ничего, и рубашка на нем оставалась все это время.
Покинутые за обеденным столом, Уайли и Джерри как-то соскользнули – без очевидного смущенья – в занятную дискуссию о природе души, ее определяющих качествах, о возможности проявления ею конкретной формы, о вероятности ее цельности за пределами формальдегида и цветов, в рассуждения о ее отсутствии у невезучей совокупности смертных тварей, поскольку Бог в миг творенья выпустил в мир конечное число душ, каковым полагалось вернуться в оборот убывающей процентной долей населения, растущего в геометрической прогрессии, отсюда – тела без душ. Кто эти люди? – вопрошает она. Он пожимает плечами. Киношные управленцы? В голосе его шелестит тьма, отчего основание ее позвоночника дребезжит. Ее руки у него на груди.
Когда Томми и Ро, спотыкаясь, сваливаются обратно к лагерному костру, Томми предлагает замысел, большой побег, удрать на целую неделю, все вчетвером, к землям за солнцем. Джерри восторженно визжит и хлопает в ладоши. На остров, где не будет телефонов, никаких телевизоров, никаких газет. Никто не будет носить никакую одежду. Томми знает одного парня в «И́стерне», который знает отменные пляжи (т. е. где мало туристов, некоммерческие) на Карибах, и только вчера он нахваливал девственные чары одного редкого побережья, которое Томми, к сожалению, не может…
– Сент-… – пытается он, – Сент-что-то, – и глядит беспомощно на Ро, кожа ее при свече отшлифована до фотомодельного загара. Он убежден, что понимает содержимое ее лица, всегда так было.
– Все они Сент-что-то, – произносит Джерри, подыгрывая бездвижному наблюдателю за столом напротив. – Те подлые католики вечно первыми везде суются. Во все лучшие места. – Неизменно непослушная приходская школьница, которая также молится у чужих алтарей, в дальних местах, к примеру, где всякий может пировать плодами следующего, не терзаясь муками совести.
Уайли немигающе взирает на Томми.
– Когда поедем? – спрашивает Ро. В яркой бухте вода тепла, как кровь. Белый зад Томми подмигивает на солнечной поверхности. Зубы ее расстегивают молнию у него на ширинке. Она его находит, выманивает из штанов, без рук.
– Осенью, – отвечает он. Затем в гамаке вместе под кокосами, покачиваясь. Воздух в тягости, сладок, набухает для одного, для всех, для него. – Может, в октябре. Устроим это осенью. – Ананасный аромат у нее между ног.
– Что скажешь, милый? – Кожа к коже, словно затяжной прыжок сквозь томмиевость Томми. Ногти туго вокруг его стиснутых ягодиц.
Глаза Джерри тоже на Уайли. Притиснувшись к нему, взбираясь на всю его электрическую длину до темной полости у него под мышкой, где она лижет.
Уайли не знает. Слишком рано еще подтверждать, что позволит ему распорядок на октябрь. Он осушает стакан, переводит взгляд на гаснущее небо.
Тогда ладно. Значит, Ро едет туда одна. В гостиничном лифте между этажами, шокируя туристов. Заросший щетиной подбородок трет ей бедра. В акваланговом бурлении у голубого рифа среди неоновых рыбок.
Затем для всех – золотая путаница рук и ног, сока и жара. Верхи и низы. Пальцы и рты.
Уайли подается вперед, выкладывает руки плоско на стол, отталкивается от него и встает.
– Вы меня извините, я ненадолго?
– Чего б нет, – откликается Томми, наблюдая, как он неуклюже перебирается через его вытянутые ноги.
– Не заблудись, – шутит Ро. Хотя краешки ее губ онемели, стакан у нее в руке чудесным образом отыскивает путь к ее рту, и ей уютно, она вступила в славное состояние инкапсуляции, дайкириевый астронавт, канал связи оборван, системы жизнеобеспечения номинальны, пункт назначения неведом, у нее ни единой заботы.
Уайли входит в кухню, где останавливается окинуть сцену острым взглядом детектива: нервный дневной свет, обеденные обломки, каплющий кран, оставшийся без присмотра телевизор, беззвучно настроенный на вечерний повтор «Совершенных незнакомцев»[20], окровавленное посудное полотенце, лаймы дольками, торчащие выдвижные ящики, раскатившиеся оливки, сальные ножи, а к дверце лязгающего холодильника приклеен детский рисунок карандашом – треугольная шляпа на косой счастливой физиономии поверх красной котлеты туловища с руками-вилами и цыплячьими ножками, с подписью «Палпка». Похоже, он не может найти то, что хочет. Он продолжает двигаться по затененному коридору, кубики льда потрескивают фасолинами в волшебной тыкве стакана, который он держит перед собой, расчищая бесов у себя на пути. Его ноги в «найках» беззвучно падают на постмодернистское серое ковровое покрытие, покуда он тихонько, тихонько восходит по лестнице – войти вором в зачарованное пространство комнаты его единственного сына, пропахшее пузырчатой жвачкой. Спящий мальчик потерялся в коконе простыней с черепашками-ниндзя, из которого доносится равномерный сип его астматического дыхания. Со стен грозят плакаты с трубящими динозаврами и осклабившимися рок-звездами. На книжных полках – скромная охапка книжек и террариум – жилище Черники, ручного хамелеона семьи[21], а также арсенал военных игрушек, достойный Министерства обороны, занимающий все наличные дюймы складского пространства и каскадом спускающийся на пол в запутанном отступлении и восходящий через всю заваленную столешницу письменного стола, из коего хаоса Уайли выбирает сине-желтый детский бинокль из пластмассы. Неподвижно стоит у окна перед исчезнувшим небом, затемненными крышами и стенами своих соседей, перед той жалко чахлой березкой рядом с песочницей в его собственном пустом дворе, а на террасе у него под носом – его жена и ее гости точно в таком же виде, в каком он их оставил. Он подносит бинокль к глазам, настраивает захватанные пальцами окуляры на лицо Ро; смотрит, как она разговаривает, на причудливые движения ее увеличенных губ, на ее ходящую поршнем нижнюю челюсть. Увеличенные и рассматриваемые с этого нового ракурса, ее знакомые черты кажутся искривленными и непропорциональными – яростные наброски современного портрета, какой натурщице вряд ли понравится. Сквозь запечатанное окно своего дома с контролируемой атмосферой он не слышит ни слова, лишь бессмысленные вяки смеха, несмолкающий рокот двигателя баритона Томми. Он наблюдает за Ро, затем переводит бинокль на Джерри. Наблюдает за ней. Видит ее мелькающий язычок. Панорамирует на Томми. Нос с намеком маячит на вежливой повседневной маске. Бинокль перемещается. Он наблюдает за Ро. Наблюдает за Джерри. За Томми. С этой точки он не сдвигается. Диалога нет. Лишь движенье бинокля.
А внизу на террасе любящая повеселиться троица сплетничает о Фрэнки Д., которая предположительно переспала почти со всем средним управленческим звеном «Рибмена и Стоуна». На корпоративные мероприятия она надевает непристойную одежду. Волосы у нее – как трава из пасхальной корзинки. Она считает, что у нее есть подруги.
Любая реплика, произносимая Джерри, топорщится остроумием. Всякий жест Томми очерчен изяществом. Когда он касается ее руки, чтобы подчеркнуть какой-то довод, между ними проскакивает послание совершенной ясности. Это лучшие люди, каких Ро в жизни знала. Лучше ей не бывало много месяцев. Она купается в новом понимании, нежданном даре этого вечера тому ее «я»-Золушке, что слишком уж долго оттирала начисто одни и те же каменные плиты, и понимание это ей говорит: твою жизнь ты же и изобрела, только и всего, вся твоя жизнь – твое изобретение, наивная очевидность этого положительно опьяняет. Ты сама все придумала, ха-ха. Вот она замужем за Уайли, а вот – не замужем. Вот у нее есть дети, а вот – нет детей. В этом ощущение игры, какого ей с самого детства не хватало. Она смотрит на Томми. Вот она склоняется к…
Вот Джерри делится выпивкой, а Томми подвергает деконструкции иронический ужастик с расчлененкой – или это просто затянувшийся анекдот? – и когда Ро переводит взгляд наверх проверить, как там луна, ей на глаза попадается быстрый проблеск Мамы, замершей в окне на втором этаже, но – нет, галлюцинация развеивается, она отказывается поддаваться тем устаревшим эмоциям, всей этой приманке с душком, не сбивай настройку головы с настоящего, зачем этой вечеринке вообще кончаться?
– Черт бы драл этих комаров! – Джерри нетерпеливо шлепает себя по неприкрытым ногам. – Меня эти гады буквально всю искусали.
– Это потому, что ты такая сладенькая, – острит Томми, скребя и себя по руке. – Где же наш летучий мыш-дружочек, когда он так нужен?
– А я ничего не чувствую, – хвалится Ро, вытягивая руки к небу. – Я в зоне, свободной от букашек.
– Ну а меня жрут заживо. – Джерри шлепает себя всей ладонью по щеке. – А эта хрень чертова никогда не помогает. – Вдруг она хватает свечку и мечет стеклянный шар во тьму, как будто это тикающая мина. Перепугавшись от неистовства собственного поведения, она потрясенно смотрит на своих собеседников и разражается хохотом.
– Извини, Ро, вот же ж. Я тебе другую куплю. Сама не знаю, какая муха меня укусила.
– Ладно, ребята. – Ро принимается собирать тарелки. – Идем внутрь.
Кухонный свет кажется болезненно сильным, беспричинно подчеркнутым. Тарелки, сложенные стопкой в мойке и расставленные по всей стойке, похоже, размножились сами по себе в дневном свете этого инкубатора.
– Боже мой, – вопит Джерри. – Мы все это сожрали?
– Может, мы не в том доме, – предполагает Томми с невозмутимым видом.
Ро соскребает коровьи кости в мусорный мешок.
– Где Уайли? – спрашивает она.
Джерри стоит перед открытым холодильником, обыскивая морозилку на предмет той пинты пеканового масла, которую ей обещала Ро.
– Может, в сортире отрубился.
Ро ставит тарелку.
– Уайли? – приглушенно зовет она. – Уайли, ты где? – Она вытирает руки о заляпанное полотенце и убредает в неосвещенный сумрак безмолвного дома.
Томми прислоняется к стойке, ковыряя в деснах зубочисткой, завороженный провокационной бессвязностью того, чем в него пуляет телевизор.
– Гляди-ка, – тянет он, наконец-то осознавая. – «Челюсти»[22]. – Зубы, вода, кровь – это чарующая смесь, такая же мощная, какой была, когда он посмотрел фильм впервые – полдюжины просмотров назад.
Джерри засекает одну ложечку, оставшуюся чистой, и деловито зачерпывает мороженое высочайшего качества в свой напученный ротик, пока…
– Ты что это, к черту, делаешь? – Она с упреком протягивает руку. – Дай сюда.
Брови Томми ходят вверх-вниз. Он роняет влажную зубочистку ей в ладонь, где та исследуется взглядом гадалки и без комментариев швыряется в мусорку.
– Хороший ужин, – осмеливается высказаться Томми.
– По-твоему, – выдыхает она, всасывая воздух в свои остуженные коренные зубы, – Ро сегодня была в себе?
Вопрос еще парит в пространстве между ними, когда Ро возникает в дверях, демонстрируя выражение человека, мысленно делящего в столбик.
– Уайли, – произносит она, и голос у нее вспорот и опорожнен, – Уайли здесь нет.
Томми, еще сосредоточенный на телевизоре, делает вид, что не слышит.
– А? – спрашивает он.
– Есть, конечно, – говорит Джерри. Уж она-то Уайли знает. – Он наверху. Он пошел наверх. За детьми приглядывает.
Ро тщательно качает головой, как будто в ней хранились предметы бесценной хрупкости.
– Там только близнецы.
– Он в сортире.
– Я проверила все комнаты.
Томми перебивает, мыча невыносимые ноты темы старой «Сумеречной зоны»[23].
– А сзади? – предполагает он. – Гриль чистит. Или в гараже? Или у мусорных баков?
Голова Ро не перестает двигаться.
– А он ничего не говорил о том, чтоб в магазин сбегать? – спрашивает Джерри. – Может, лаймы закончились?
– Может, он за сигаретами вышел, – произносит Томми, отлично осведомленный о том, что друг его не курит.
– Посмотри на дорожку, – говорит Ро. Ей хочется кричать. – Обе машины на месте. – Теперь она заново прокручивает пленку: видит, как перемещается из комнаты в комнату, и видит себя, наблюдающую за собой, и, наблюдая, Ро ищущая, кажется, движется все быстрее, а Ро наблюдающая, похоже, становится все неподвижнее. Ничего не случилось. Ничего не происходит. Она осматривает это помещение, в котором оказалась, эту кухню, и не узнает в ней ничего существенного – для того, кто Ро есть, или что здесь происходит. Кастрюли и сковородки ее, похоже, отдраили и вымыли чужие руки; все предметы в доме уже начали откочевывать к другой жизни и прихватывают с собой ее. Она заново прокручивает пленку: видит себя, переходящую из комнаты в…
– Давай я поищу, – предлагает Томми, спеша прочь, в мужском нетерпении что-нибудь сделать.
Джерри тоже не вполне способна осознать условия этой ситуации.
– В смысле, это же шутка, правда? Сейчас Уайли в любую секунду выскочит из чулана и хорошенько нас напугает?
– Уайли не стал бы так поступать. – Тут и обсуждать нечего.
Джерри не знает, что сказать. Она похлопывает Ро по руке. Издает приличествующие звуки:
– Ну, не волнуйся, все обойдется, где б он ни был, далеко не уйдет, никто же просто так не исчезает.
Несколько минут они сидят за столом в неловком молчании, Джерри заинтригована сознанием того, что исчезновение Уайли как-то сущностно связано с нею самой. Затем Ро вскакивает и бросается в коридор через белую гостиную, переднюю дверь, глухая к звуку собственного имени, что преследует ее по сырому газону, и на середину безлюдной дороги, где она останавливается и устремляет взгляд в непроницаемую даль, словно тот, кто добрался до конца долгого пустого пирса. Нигде ни следа Уайли. Джерри уводит ее обратно в дом, весь живой от света, каждое окно – пылающий прямоугольник иллюзорного веселья, напоминающего завистливому прохожему о вечеринке, какую ему нипочем не устроить, о приглашении, что ему ни за что не получить.
Томми расхаживает взад и вперед среди модной строгости гостиной и ковыряет себе лоб. Он признаёт, что события приняли чрезвычайно странный оборот. Он пошарил даже в выдвижных ящиках и чуланах спальни (спасибо, Ро, за твой утонченный вкус к нательному белью), охотясь на признаки недостающей одежды, пропавших чемоданов и т. д. Ничего, похоже, не потревожили.
– Я не понимаю, – говорит Ро.
Томми предлагает быстренько проехаться по округе. Джерри может посидеть пока со спящими детьми. Пустота в глазах Ро сменяется робким выражением надежды, детским облегчением от того, что взрослый все берет в свои руки.
«Прелюдия» Томми ползет на кортежной скорости от одного лиственного квартала к другому. Ро тревожно подается вперед, вздрагивая от каждого малейшего шевеления, подлинного или воображаемого, на темных улицах. В эту пятницу так же тихо, как и в любой другой вечер недели, типичная предместная тишина, лишь время от времени нарушаемая пробегающими трусцой (поодиночке и парами), детворой на великах, мускулистыми подростками, выгуливающими сомнительно прирученную собаку, и каждого из них Ро придирчиво осматривает, голова ее высунута в опущенное окно машины, сквозь голову эту у Ро то и дело проскакивает песенка – та же самая, вообще-то, что играла у нее в уме, когда хоронили Маму, глупенький мотивчик калипсо про ее крышу, в которой дырка, и она может утонуть. Она растирает себе предплечья, ей в эту самую теплую ночь года холодно.
Томми наблюдает за ней, ведя машину, угрюмый узор света и тени театрально скользит по ее совершенному профилю, это одно на двоих ощущение опасности и тайны, и он не может ничего с собой поделать, он сидит за баранкой с эрекцией в штанах.
А меж тем в доме, где Джерри одна, звонит телефон, и когда она снимает трубку, там никого нет. Она не знает, сообщать ей Ро об этом звонке или нет.
Снова в доме все вместе, Томми, Ро и Джерри скучиваются на черной мебели в белой гостиной, допрашивая друг дружку с той настойчивостью, что желает как-то выговорить Уайли, засечь точные слова в точном порядке, что вызовет перед ними его физическое присутствие. Мысль тем не менее описывает круг за кругом, словно колесо по самую ступицу в болотной жиже.
Томми, разумеется, взял на себя роль начальника следователей.
– Еще раз, ты можешь вспомнить хоть какое-нибудь место, сколь угодно далеко, куда Уайли мог бы отправиться. К друзьям? Родственникам? – Он умолкает. – Врагам?
Ро напоминает манекен, который убрали из витрины на ремонт.
Джерри размышляет о том, как Уайли мог стукнуться головой о шкафчик, скажем, пьяно споткнувшись, и теперь бродит по городу, потеряв память.
Томми думает о недавнем репортаже, который смотрел, – о похищениях НЛО. Еще он думает о том, как ее зовут, няньку детей, о ее длинных черных волосах, о ее долгих узких джинсах.
– Пока нет смысла извещать полицию, – говорит он. – Они не станут ни черта делать, пока сутки не пройдут.
Ро. Ро сидит.
По устеленной ковром лестнице изысканно размеренной походкой спускается длинношерстный кот с синеватой шубкой и холодными желтыми глазами. Разбуженный от своих гладких снов об убийстве и эйфории в серых тонах, он спустился проверить, что это за досаждающая суета в его царстве. У подножья лестницы он садится в каменном буддистском спокойствии, истина комнаты отражается в глянцевых выпуклостях его пристального взгляда. Он моргает, и в высшей мере апатичная натяжка его век предполагает целые таксономии скуки, не постижимые для человека. Но поскольку ни взгляд, ни нюх не определяют ни малейшего следа наличной пищи, внимание его угасает, угасло, нет его. Кота зовут Плутон.
В грубом нетерпении Ро трет затененную ямку у себя на виске. Тот пульсирует. Она оглядывает своих дорогих бесполезных друзей. Нет никакого оправдания мукам у нее на лице. Ее платье черно. Волосы у нее темно-русые. Ее ум пуст.
Она спрашивает:
– Что здесь происходит?
Папка пропал пропадом – как и настоящее время.
Два
Полна трупов голова
Тремя кварталами подале, на улице, каких вокруг пруд пруди, в доме, каких вокруг пруд пруди, жили-были…
– Не двигайся, – приказала она, выбрасывая вперед бледную руку с матраса на мели в углу, повседневное огрубление голоса несдержно в его очевидном склонении к безмолвию, теперь скрежещет в мужских регистрах, новизна тона требует послушания; он остановился, замер на месте, его задержанная тень вздымалась исполински по стене, через низкий потолок, глянцевая черная мембрана невысоко над головой подрагивала в угрожающей бесформенности.
Свечные огарки разных длин и оттенков судорожно поблескивали с каждой наличной поверхности, включая сиденье экзерцикла, верха дохлого телевизора и каждой шаткой стопки новых компакт-дисков, поднимающихся сталагмитами по всему жесткому полу без ковра с интервалами полосы препятствий. Стены комнаты светились, как загорелая кожа. Освещенная до романтической чрезмерности живыми оранжевыми и желтыми огоньками другого времени, простая животность тела была неоспорима, мягкая игра огня на округлых членах, глаза возлюбленных, приукрашенные рельефами, порталами, неведомыми электрическому миру. Ни на ком не было никакой одежды.
Шея глубокомысленно выгнута, она оценивала его, ни слова не говоря.
– Что? – закричал он, и терпение и выдержка его уже начинали таять.
– У-у-у, ты шевельнулся. Ты все испортил. – Говорила она с нарочитой капризностью избалованного дитяти.
– Так и что я тут? – спросил он, пытаясь сохранить ту позу, какую ему полагалось выдерживать. – Скажи мне.
– Немножко туда. – Она шевельнула руками, сознавая свою режиссерскую роль. – Сюда, нет, больше так… хорошо, нет, ладно, хорошо, дальше, дальше – стоп!
– Развлекаешься?
– Ну вот так, – объявила она, – погляди на себя, – метнув торжествующий палец в стену на его анатомически правильное теневое «я». – Громадина. Ну и здоровый же ты парень.
– Мистер Гудъйиэр. – Он поюлил бедрами в приятном для глаз соответствии с преувеличенным своим двойником, подскакивавшим на гипсокартонном экране.
– Осторожней, – предупредила она сквозь смех, – не то обожжешься.
– А теперь, дамы и господа, – руками он поманипулировал собой, – говорящий жираф. Благодарю вас. Не уходите, потому что, когда я вернусь – покажу вам свою уточку и своего гусика тоже покажу. – Он переместился к открытому дверному проему и, сократясь до единичных плотских габаритов, свернул с глаз долой.
– Только попади уже в лохань, – крикнула она ему вслед. – Мне надоело наступать в твои ссаки.
Бесшторные окна были широко распахнуты, и голодные комары вплывали с жаром, летним зудом удушающей влажности и долгих бессонных ночей. Воздушный кондиционер – вместе с остальным электричеством – отрубился многими часами раньше в совершенно неподходящий миг: прямо посередине кульминационной сцены «Изверга без лица»[24], последнего натиска на нескольких оставшихся персонажей (нашего делового военного героя, нашего романтического интереса с научной жилкой, нашего среднего корма для чудовищ из обреченных селян и дурней-срочников) мародерствующей армии умственных вампиров, бестелесных мозгов, бегающих на спинномозговых хвостиках, словно исполинские пяденицы, дьявольского отродья экспериментов немощного профессора по материализации мысли. Чего они хотели? Еще мозгов. Как они их добывали? Вскакивали на загривки жертв и всасывались в основание черепа. Кто-то должен был добраться до реактора и отключить их источник энергии! И тут телевизор сказал: «Сверк! Чпок!» – как будто их сфотографировал, и в следующий миг они уже сидели в темноте. Что за херня? Уму непостижимо; она материлась и ныла. Он немного поспотыкался по полуподвалу, напольная грязь поврезалась в его босые стопы, пока он безрезультатно возился с предохранителями.
– Счет ты, блядь, оплатил? – голос у нее – гаже некуда, она постаралась изо всех сил. Он ответил, что да. Она сказала, что возмутительные враки лезут у него изо рта, как из вонючей выгребной ямы. Запрыгнула ему на спину, заколотила ему по плечам кулаками. Он отшвырнул ее на матрас. – Долбаный ты идиот. Жирная говеха. – Спокойно он велел ей заткнуться. – Жаба уродская. – Пауза. – Я не могу так жить. – Пауза. – И заткнусь, когда мне захочется заткнуться. – Потом она не раскрывала рта, пока он бог знает откуда не вытащил коробку сломанных свечей, не расставил их в их нынешней конфигурации и торжественно не поднес к каждому фитильку спичку, нараспев читая насмешливый обет ее чарам. – Ладно, – произнесла она. – Только ты все равно мудло.
Пока он был в ванной, она снова зарядила трубку, торопливо ее выкурила. Любила она этот вкус, полезный-ото-всего-что-б-тя-ни-мучило, экспресс-гидравлику подъема, одновременный видеоряд чего-то ощутимого, вылетающего из макушки. И выдох. Восторгало ее видеть, как из лица ее изливается волшебство, из ее темных глубин, блескучие эльфийские частицы себявости разбрасываются по всему миру, и ей не нужно было делать, не требовалось быть чем-то больше распростертого тела на желтевшем матрасе в жаркой комнате, чтобы все вокруг нее менялось. Сама она уже изменилась и поменяла себе имя, и звук ее перекрещения был: Латиша Шарлемань.
– Чёэт тытам делшь? – прозвучал его голос, невнятный, отвратный, саркастичный раз сосредоточенность у нее нарушилась, она чуть не обломалась. Скакала на одной ноге, стараясь втиснуть свои дурацкие клоунские мослы в пошедшую стрелками пару лосин.
– Пошла на улицу, – логично объяснила она. – На пробежку. – Она не знала, что именно этим и собиралась заниматься, пока не произнесла вслух.
– Черта с два.
Она отвернулась от него, от предъяв его наготы, его неодобрения, его брыластого хуя. В тот же миг у нее на бедрах оказались такелажные руки – и переместилась она в чулан, под мягкий каскад костюмов и рубашек, в перезвяк незанятых плечиков. Там они посражались немного на обуви, сапожный каблук впился ей в спину.
– Слазь… давай, – предостерегла она, вталкивая когти пальцев в податливую массу его лица, пока, ощутив решимость ее – «ладно, ладно», – не отпустил ее, чтоб возобновила она выполнение своей задачи: вставить ножные ушки А в отверстия лосин Б, отказываясь признавать, что увлеклась она тщетной схваткой не подходящих друг к дружке частей.
– Ладно, – сказал он. – Я хочу это видеть. – Он растянулся на полу, напустил на себя выражение благодарного зрителя, готового насладиться замысловатыми «делами» профессионального комедианта. Но после нескольких минут ее балагана он вытянул сдерживающую руку. – Прошу тебя, – взмолился он, – не надо больше. Не смеши меня. А то у меня сердце не выдержит.
Но остановиться она не могла, ибо приметила – в этом она была уверена – очевидное решение временной загвоздки с нестыковкой на физическом плане. Если б ей удалось опереться о стену, вытянув одну ногу прямо, а затем наклониться вперед с лосинами в обеих руках…
– Мне нужна разминка, – стояла на своем она.
– Тебе и в этой комнате разминки хватает. – И тут руки его обхватили ее снова, прицепились к тем славным местам, про какие знали, что она не сможет устоять, и вот уже он был на ней сверху, он и тень его – начинали это взаимное трение, которого ему, кажется, никогда не хватало, расчесывали зуд, натирали то единственное место, какое только и нужно было тереть и тереть, чтоб появился джинн, настоящий джинн, а не фальшивка со стекляшками вместо драгоценностей и желаниями, дающими выхлоп с отдачей, а счастливую душу в тюрбане, что восстает из месива вечности со всеми ответами, хриплое дыханье Латиши щекотало волоски у него в ухе:
– Ох, ты такой большой, такой ты большой, – рвясь из упряжи, да, конечно, это еще и скачки, узкое поле сжимало с обеих сторон, мчал он, как только мог, жестко гнал сердце, которое, надеялся он, не осмелится его предать, гонка вслепую к финишу, что не мог, не желал или не должен был настать. Мистер Компакт-Диск был влюблен. – Ты такой парняга, – заметила она позже, – кому следует пристегнуть к хую поводок и выгуливать его по кварталу.
Он перекатился, и рука его скользила под созревавшими курганами грязной одежды, высаженными, словно экзотические грибы, вдоль его стороны матраса.
– Да где ж этот чертов костыль?
Она сделала вид, будто ищет, затем скользнула трубкой из своей пепельницы и передала.
– Ну, детка, – объявил он, нервно щелкая желтым «биком», – знала б ты меня в те дни, когда я был Мистер Виниловый Альбом.
– Ты был огонь.
– Я был опасен, я весь сгорал.
Тлевшая трубка переходила между ними безволевым скользом, словно предмет при сеансе, каждое повторение – воспроизведение их встречи одним ясным ветренным днем, когда шкворчавшие белые облака клочьями сдувало мимо, а они несли с собою – по крайней мере, в тот единственный день, – ту болезнь конца лета, какой тысячи отпусков должны были избегнуть, когда жизни переходят в расширенный режим, а варианты отвядают сами собой. В последнее время он взялся устраивать себе обеденный перерыв за магазином (крупнейший ассортимент, нижайшие цены во всей округе Ветренного города), уродским бункером из шлакоблоков, который он делил с «Программным обеспечением +», управляющий – Херб Блэр, или Нэйр, или Нёрд, хороший парень, которого ему удавалось избегать, если не считать случайных встреч здесь, возле мусорки, где в тот конкретный день он сидел на пухлом мусорном мешке в своей обычной униформе папаши-доллара: розовая рубашка поло, серые штаны и летчицкие очки с золотым напылением, – освежаясь тонизирующими парами из своей стеклянной трубки, – и тут из-за угла вывернула женщина отчетливо непокупательского типа в кегельбанной рубашке и драных джинсах и застала его за этим занятием. Он попробовал скрыть улику в ладони, но, опасаясь, что она его все равно заметила, рассвирепел, накинулся на нее, сжимая в кулаке доску.
– Остынь, дружок. – Она сунула руку в карман и показала ему свою трубку. Она делала подвод на возможную попытку взлома, и пересечение это удивило ее так же, как и его.
Глаза его елозили вверх и вниз по ее телу. Он пригласил ее к себе за мусорку, и, даже не обеспокоившись обменяться именами, они приступили к серьезному делу – раскочегарили несколько трубок, выехали на личных своих потоках, бессловесно глядя в этот запутанный задник крошащегося кирпича и потрескавшегося асфальта, а одиночество углублялось, как небо в сумерках, – и так же красиво, эта безмолвная совместность обособленных. В нечестивом мире совместный раскур трубки был деянием священным.
Когда вновь захотелось разговаривать, Мистер Компакт произнес:
– Пару лет назад тут труп нашли. Вон там, в помойке. Какая-то баба. Вся порезанная. Лицо и руки почти целиком сожжены.
– Ну?
– Просто вывалили туда где-то посреди ночи. Так ее никогда и не опознали, насколько мне известно. И кто это сделал – тоже не нашли.
– Плохо. – Она пробежалась языком по нутру своего рта, уже в невесть какой раз за последнюю минуту проверяя, на месте ли зубы, которые, как это ни странно, ощущались как десны.
– Вот тут. Прямо здесь, где мы сидим.
– Может, тебе тут мемориальную табличку стоит повесить.
Он взглянул на дерзость у нее на лице, он взглянул на соски, выступавшие у нее на рубашке.
– Ты мне нравишься, – сказал он.
И вот назавтра она встретилась с ним на «обед» за мусором, а потом еще назавтра и опять назавтра, а потом полторы недели назад он перевез ее к себе в холостяцкую берлогу. Они вместе отправлялись на задание.
Теперь она держала в руке пустую коробочку из-под компакт-диска и пялилась в обложку (кулак в перчатке помавает мальчишеской мечтой о сжатой огневой силе, дуло размером с орудийное – зализанная хромированная скульптура голой мультяшной женственности), словно та была карманным зеркальцем. Она открыла коробочку и стала читать аннотацию. Она читала аннотацию. Она читала аннотацию.
Он что-то сказал. Он еще что-то сказал.
– Эй, – окликнул он. – Я с тобой разговариваю.
Она показала ему обложку. «9-миллиметровая любовь» «Жгучей болячки».
– Ты знал, что на этой записи «Склада крови» Эксл Роуз играет на тамбурине?
– На хер Эксла Роуза. Сорок шестой номер с пулькой в первую неделю, и сколько экземпляров мне заказывать?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю.
Она взвесила коробочку на руке.
– Хотелось бы послушать.
– Я стараюсь, как могу, а? Завтра. – Он оглядел скомканные простыни, пощупал у себя под ногами. – Ладно, где этот чертов костыль?
У нее были мысли, и у мыслей ее были мысли, сегодня в старенькой черепушке уж точно родильное неистовство, придушенные вопли и природная пакость, и орда изувеченных младенцев ползет наступающим войском по камням и гвоздям, и по битому стеклу у нее в голове – как вдруг она, похоже, больше не могла уже определить ни с какой уверенностью, что именно из всего этого настырнее всамделишно, эти окровавленные младенцы, рыщущие в поисках выхода, или же осажденный голос, кому тревожнее всего сохранить свое положение верховного «я», которое ищет вход, – дилемма, не признающая ни легкого ответа, ни размеренного шага рассудительного размышления, поскольку в тот миг, когда поставился вопрос, ее охватила волна чистой паники, словно нервы ей скребли стальной расческой; она пережила ощущение, будто ее счищают, как кожицу, проводят к откровению, какого она не способна перенести, словно бы кто-то стоит слишком долго перед зеркалом, и образы смещаются к неузнаваемому, к предельному ужасу простых вещей.
Она вскочила, подбежала к окну, кожа у нее на лице натянулась на кость, словно кошачьи ушки сплюснулись, она воззрилась во тьму, бросая вызов ночи, машинерии ее желанья.
– Что? – закричал Мистер Компакт, испуганно вертясь между окном и дверью. – Что?
– Ты что-нибудь слышал?
– Что? – Он подошел к ней у окна послушать. Услышали они лишь успокаивающих сверчков, терпеливо перепиливающих тюремные прутья. – Сиди тут. – Из-под матраса он вытащил 44-й, и модно вооруженный и опасный настолько, насколько опасным делала его полная обойма, покрался сквозь затемненный дом, словно через вражеский лес. У входа в гостиную остановился, подождал. Когда осмелился выглянуть за угол, глубокий простор, освещенный луной в раме переднего окна, был поразительно пуст: у дверей никого, никого в кустах, никого на улице. Он же, однако, остался на месте, разглядывая подозрительный дуб, удобно высаженный по самому центру лужайки. Либо ствол его двигался сам собой, либо за ним таился кто-то неправильный. Наблюдал он больше часа. Бессознательно массируя мягкую плоть под своим левым соском. Сквозь верхние пределы его носа слышимо посвистывало дыхание. Покуда серебряная трава не рассосалась в распродажную буроватую ширь промышленного ковра, испорченного неумелым пылесосом, неспособностью подростковой прислуги по совместительству осознать простейшее распоряжение: «Вверх и вниз, Дениз, и назад и вперед, видишь, как будто бейсбольную площадку стрижешь», – а не эти бессистемные пучки коротких колющих ударов, разбросанные по всему полу сердитыми каракулями, и радиус каждой отметины ограничен полным протяжением ее ленивой руки от ног, укоренившихся посередине, боже, он терпеть не мог ходить поутру по этому жалкому зрелищу, какое сто́ит десятибалльного всплеска в кровяном давлении. Постепенно он стал осознавать пистолет у себя в руке и спокойную безковровую сцену у себя перед глазами – и резко развернулся и отступил к манящему зареву спальни. – Все чисто, чувырла, снес их всех на хер. – Но поздравлять его там было некому.
Он нашел ее, довольно очевидно, в ванной после необъяснимой экспедиции через весь дом с паузой заново подтвердить положение дуба и напряженного периода в гараже, покуда предвкушал мгновенный удар зарядов достаточно крупных, чтобы их можно было выпускать из конца рукояти газонокосилки. Стало быть, сенсорный аппарат его уже производил странные шумы, когда он толкнул битую дверь ванной и узрел такую вот не то чтоб непредсказуемую сцену: Латиша сидела в дешевой раковине – если не втиснулась в нее, – дополнительный ее вес уже начинал отделять трубы и саму чашу от выгнувшейся стены, сама же она спокойно метала зажженные спички, одну за другой, из книжки, проштампованной «МОТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕУЛКА, ПЬЮЛАСКИ, ТЕНН.» в розовую ванну с лаймовыми пятнами.
Он обезумел. Он не знал, что́ сам орет.
– Мне скучно, – пояснила она. Вообще-то она устроила свою личную игру любит-не-любит, воображая себе мальчика, чьего лица никогда не забудет, а вот имя, к сожалению, стерлось, хотя он не обязательно был тем, о ком она вопрошала спичечного оракула.
Мистер Компакт начинал лепить связные фразы.
– У тебя есть хоть какое-то понятие о том, что происходит, когда вспыхивает занавеска для душа?
Она швырнула еще спичку.
– Тебе какое дело? Вероятно, она вообще не твоя.
– Быстрее бумаги. И жарче. Много черного вонючего дыма, заряженного раком. Весь дом будет им полон через сорок пять секунд.
– Да ну? – Она оторвала последнюю спичку. Он любил ее, поди пойми тут. Кем бы он ни был. – Тебе от него кайфы? Мы можем по нему улететь?
Он собственноручно выдернул ее из раковины, проволок по коридору и втолкнул в спальню, а там швырнул на матрас. Свернутая трубочкой газета, которую он подобрал с пола, служила импровизированной офицерской тросточкой, когда он расхаживал перед нею, неистовствуя, бушуя, шлепая себя по бедру, – масштабный спектакль с едва ли взглядом в публику.
Она сидела, подтянувшись к стене, хмурясь ему, тря себе запястье.
– Мне где-то полсекунды, – сказала она, – до того, как хорошенько по тебе шарахнуть.
– Спалить тут все, так? А? Тебе огонь нравится? Я покажу тебе огонь, детка. – Он повернулся и сунул бумажную дубинку в свечное пламя, он замахал ей этим факелом, портя воздух своими плевками издевок, черная буря вихрящегося пепла, из которой ее вопящее лицо возникало картонной маской, в которой пробиты три унылые бездонные дыры. При первом же укусе кожи его собственной руки пламенем он ринулся к утешению ванной, все еще сжимая палочку обгорелой газетной бумаги, волшебно живой от десятков крохотных тлеющих червячков. Звуки проклятий и текущей воды.
В его отсутствие Латиша попробовала решить, уйти ли ей или остаться, или же заправить еще чашечку. Он вернулся, не успела она вывести какое-либо заключение. На пальцы его правой руки был намотан драный отрывок мокрой туалетной бумаги. Он глянул свирепо, укоризненно.
– Где чертов костыль? – спросил он.
После он таращился в кипящий средний план, неся на лице своем то же выражение, какое представлял учителям посреди контрольных по математике в начальной школе. Он не шевелился, не говорил. Наркотик нескончаемо лучился наружу, к покалывающим границам его тела – и за него. Он обладал формой, это правда, очертания этой формы мерцали в дразнящем величии где-то там, где томился быть единственный загадочный неподавляемый толчок в этом узле противоречий, который вполне соразмерно служил ему самоопределением, где ему хотелось полностью населять очертания этой другой, более крупной самости. Он был на задании.
Что бы ни стало, то суждено. Не всегда получаешь то, чего хочешь[25]. Как пришло, так и ушло. Все та же херня. Завали ублюдков, пока они тебя не завалили. На любви мир держится.
В тот миг, когда услышал слово «крэк», он понял, что однажды его попробует. Он постоянно знал вот такую шизню про себя. Роковое знакомство произошло на вечеринке компании звукозаписи, но первый поцелуй трубки в опустелом внутреннем дворике ему предложил кто-то из торговли недвижимостью, лощеный маклер с наманикюренными ногтями и его претенциозная жена-адвокатесса. Мило. Поэтому теперь это была просто еще одна деятельность, какой он занимался, еще одна привычная причудь, что его определяла; в доме он носил бейсболку «Щенков»[26], каждый вечер понедельника ел пенне с томатным соусом, раз в неделю навещал могилу своего сына, проходил в двери с левой ноги, в церкви жевал резинку, покуривал «камешек»[27]. Теперь, добавив к своему репертуару этот последний номер и не более задумавшись об этом, чем если б подобрал с тротуара десятицентовик, он открывал для себя, что занятие несло с собою собственные неизбежные мысли, прямо-таки громоздящуюся систему переплетенных между собой… ну, не совсем идей, скорее – умственных событий, полную их философию, чьи доводы он – отнюдь не нерасположенный к этому школяр – призван был исследовать до тончайшего оттенка. Так проходили дни. Латиша уже не помнила, когда она в последний раз спала. Это как еда, много уже не требовалось. Она была нова – женщина из будущего. А вот грезы, напротив, в ней еще нуждались, налетали снаружи в любой час без предупреждения, иногда – неузнанные, вглубь изощренной насущности того мимолетного мгновения, когда ее удавалось спугнуть и пробудить внезапным испарением предметов, происходящего, истин, и окружающее ее умело подменялось другим комплектом, чья реальность могла быть так же постоянна, а могла и не быть. От некоторых грез ей требовалось убегать, уходить, снуя встревоженно от стены к стене в воображаемой протоптанной траншее, на том посту, куда ее назначили охранять двойные двери чулана, как будто он – камера строгого режима, из которой сбежали дурные мысли. В видении, которое она сейчас пыталась с себя стряхнуть, была стая голодных серых псов, слизывающих кровь с окна. Много крови – и собак много. Она с другой стороны стекла. Затем, подстегнутая личными знаками, выскакивала из комнаты с невнятными поручениями в жуткую ничейную полосу всего остального дома, и отсутствие ее, иногда позднее, увенчивалось чередой кухонных шумов, которые Мистер Компакт отказывался признавать. Он валялся навзничь, стараясь слишком уж не двигаться, потому что, когда он дышал, его внутренности издавали скрипы судна в открытом море. Он умирал точно, как предрекала Силиа, когда он от нее ушел сколько там уже месяцев назад, в поту и муках, в одиноком уголку и без единой нянечки за ним приглядеть. Ха. Ее проклятие. Женщины, единообразно произносившей его имя так, словно оно прилагательное. Легкость, с какой он мог бы ее придушить, задавить то самодовольство, что плескалось в обличительном формалине за ее лупоглазыми очками. Готово дело, если б не глупая лягушка, что присела на корточки на этом заставленном подоконнике, изумрудный фаянс в откровении солнечного света, подарок малыша Бенни своей мамочке. Ничто не было незначительным. Все было странным. Надоедливый образ его сына в костюмчике, который он никогда не носил при жизни, абсурдно выложенного в отвратительном зеленом гробу, который он так и не занял в смерти. Что это означало? Что он понимал? Тело Мистера Компакта, казалось, состояло из чесучего синтетического материала. При его последнем семяизвержении единственная капля спермы взбухла, как слеза, в глазу его пениса. За теми хрупкими потрескивающими стенами таилось – что?.. УБН[28]… ФБР… его жена. Но какое ему дело? Он был сталь, воля и плоть. Он проверил себе пульс. Мы чертовы боги.
Латиша вновь вошла в комнату, как раз когда он употреблял следующую чашечку. Он тут же заметил странное положение ее руки у нее за спиной, кратчайший проблеск лезвия ножа для стейков у нее в кулаке. Милостиво улыбнулся, протянул парообразную трубку в ее сторону.
А после, лицом к лицу с холодным экраном телевизора, она заговорила:
– Мне даже самой этого делать не нужно. У меня друзья есть.
– Ты что это за херню мелешь?
– Убить тебя.
Он гавкнул.
– О как? И кто же эти твои друзья? Поцелуйчик? Рентгенок? Прибамбас? Или кто-то из других гномов? Жуть.
– Я многих знаю.
– Ага, ну погоди-ка, вот ты и попалась. Тот пидарок, этот Рейс, или как он там сейчас себя зовет? Рейс – ну и херня же, бля.
– Его зовут Рис.
– Без разницы. Ссыкло это с канцелярским ножиком. Валяй дальше, не умолкай. Мне нравится, как у тебя рот шевелится, когда ты говоришь об убийстве. Поговори мне еще. Пришить, угондошить, чпокнуть.
– Я пошла отсюда. – Она сделала движение, как бы поднимаясь, но он снова толкнул ее на спину.
– Я с этим еще не закончил. – Он удерживал ее, осклабившись поверх, обыскивая пещеры ее глаз, нет ли в них необъяснимых силуэтов.
– У Риса никакого ножа не было, там даже не было самого Риса, чтоб ты понимал.
– Я достаточно понимаю, чтоб распознать кусок острого металла, когда его суют мне под нос.
– То был пацан в белых трениках, я его никогда раньше не видела. И никого не поранило, так чего ты все время ноешь?
– Кто был бандюган в кожаной кепке?
– Никто. Я уже тебе это сказала. Господи, какой ты…
– Если б Прибамбас меж нами не влез…
– Ничего, вот что там, совершенно ничего. Господи, какой же ты параноик.
– Осторожный, чувырла, я осторожный.
– Так параноишь под старость, что ни хуя уже не помнишь.
Но он ее больше и не слушал; у него в зубах была трубка, и он сосал черенок, как утопающий. Сквозь окутавший дым на ней несдвигаемо остановился один безразличный глаз, какую бы позу ни приняла она, какое предательство ее лицо б ни явило. Он выгнул бровь и произнес:
– Надевай форму.
– Ох нет, прошу тебя.
– Давай, детка, папочке нужна нянечка. Очень.
– О как? Ну так и мне тоже. Меня кто нянчить будет?
– Ой, ну пожалуйста, пожалуйста, так больно. – Он катался, стиснув руки между ног непристойной пародией боли.
Она подошла к чулану, порылась в куче одежды.
– Я это делаю, – бормотала она. – Я по правде это делаю. – Она вступила в мятое белое платье, повозилась с пуговицами.
– Нет, идиотка, не тут, черт. В ванной. Потом войдешь уже одетая. Как на обходе, помнишь?
– Есусе, блядь, Христе.
Он принял образцовую позу пациента. Сомкнул веки и наблюдал у себя внутри за тонким лучом лазерной энергии, что, как указка, обследовал его нутро, приостанавливаясь высветить господствующие органы, каждый в свою очередь играл собственную отдельную песню. Когда рубиновая палочка коснулась заскорузлой поверхности его сердца, глаза самопроизвольно раскрылись – и над ним стояла Мисс Ангельский Тортик, дежурная нянечка, и с состраданием взирала на него. Голова его приподнялась с подушки.
– Стетоскоп, – закричал он. – Неужели ты забыла этот долбаный стетоскоп?!
– Извини, – бормоча, она вышла.
Мгновение спустя, экипированная, как должно, вернулась.
– Итак, Мистер Компакт, на что жалуетесь? – Он показал. – Ох какая гадкая опухоль. Болит?
Он кивнул.
– Ну, сейчас посмотрим, что можно сделать, чтобы уменьшить опухоль и облегчить боль.
Она помнила, чем все закончилось после того, как умолила его наконец прекратить, и помнила, как сорвала с себя эту ненавистную форму, и все это было до сейчас и чуда потолка в трещинах, которое она обостренно созерцала за часом час, он тлел, напряженность его освещения наверняка, однако неощутимо увеличивалась под ее присмотром, она воображала, как некая усохшая старая рука регулирует спрятанный реостат, а потом – вдруг – осознала значение этого чарующего явления.
– Это сегодня или вчера? – спросила она.
– А теперь ты что за хрень несешь?
– Дни. Дни наших жизней.
– Ни капли смысла. Вообще. На самом деле в тебе ни понюшки смысла не было с тех пор, как я тебя встретил.
– Ага, ну – валяй, покажи тебе грязь – ты и захрюкаешь. Какое тебе дело?
– Мне беседовать нравится, знаешь. Я наслаждаюсь доброй беседой. Но мне в ответ должно поступать такое, что я могу понять.
– По зубам.
– Еще б. – Он скатился с матраса и на пол, где принялся выполнять череду отжиманий с выгнутой спиной. – Думал тут, – сопел он, – раздобыть себе… парочку… хороших… наручников.
Она отвернулась, лицом к окнам, к наступающему свету.
– Сама себе не верю, – объявила она отвердевавшему дню. – Сколько времени я провела в этом доме с тобой. В темноте. – Для нее время было памятью о вылепленном ощущении, а у этого, самого недавнего, периода ее жизни, казалось, никакой формы и нет, если не считать стержня из хрома, на котором только что скакала.
– Ты меня любишь.
– Правда? – Она слышала, как он возится с пластиковыми пакетами.
– Правда.
Из-за ее плеча на него уставилась пара больших карих радужек.
– Но кто ты такой?
– Я Мис-тер Ком-пакт, – пропел он, – нижай-шие це-ны, крупней-ший ка-та-лог…
Мелодия напоминала ту, какую она уже слышала, значит, это была та мелодия. Она сидела в поле клевера под сенью дерева с лохматой корой, гнедая кобыла жевала горсть каликов, разбросанную среди одуванчиков, легкий ветерок ерошил солнечную травку, ясное небо – мягкое, как фетр. Она предполагала, что здесь есть и облезлый красный амбар с приклеенным к стене рекламным плакатом, на котором краснокожий жует табак, а на телефонном проводе уселись в ряд дрозды и тут же белый штакетник: все, что жило в песенке. Ложные воспоминания. Клево.
– Так у кого ты вообще эту песенку спер?
– В каком это смысле? Я ее сам сочинил. Это дань Бенни.
– Ой. – Конец обсуждения. Пятилетний сынишка, изувеченный до смерти соседским доберманом. Единственная история в жизни Мистера Компакта, которую она знала во всех уместных подробностях. Компенсационные деньги от иска стали первым платежом за бизнес. Жена – Силиа – целый год плакала. Поэтому они родили еще ребеночка. И еще одного. Она все равно плакала. Уаа-уаа, за что мне? Почему мы? Мистер Компакт был вообще без понятия. Но вот это уж он-то знал: деньги – святое, они освящены кровью его чресл, поэтому бизнес, разумеется, пойдет в гору, и каждый покупатель, уходящий из лавки с компакт-диском в руке, уносил или уносила домой живую частицу Бенни.
– Ты сегодня пойдешь? – спросила она.
– Ага, ага. Минутку.
– Я даже не знаю, какой сегодня день недели. – Она с тоской взирала на экран. – Без телевидения нет времени.
– Не говори мне, о чем я думаю. Даже не пытайся.
– А?
По всему полу в безжалостном свечении зари высился отталкивающий пейзаж несвежей одежды, потерявшейся обуви, пластиковых пузырьков с красными и синими колпачками, удостоверений личности и кредитных карточек, как липовых, так и настоящих, сигарет, журналов, газет, банок, чашек и пенопластовых коробок из-под бургеров. При свечах эта колоритная мешанина текстур и очертаний казалась интригующей. Он встал и без единого слова вышел из комнаты. Она осталась на матрасе читать и перечитывать все тот же обтрепанный номер «Людей»[29], и звезды все улыбались ей, небеса были дружественны к пользователю, и у обочины стояли лимузины. Он вернулся. В театрально завивающемся плаще снежного дыма.
– Ты когда-нибудь дул лунный камень? – спросила она.
– Лунный камень? Это еще что?
– Новое.
– Я видел все, что на улице ходит. Ни про какой лунный камень и не слышал.
– Это потому что новый, прям сейчас.
– Да ну?
– Это астронавты втыкают. Одобрено НУАК[30].
– Добудь.
Затем неопределимая странность, что до этого плесенью ползла через окна, разрешилась, и настала ночь. Опять.
– Ого. – Она с трудом поднялась на ноги, не в состоянии справиться с ответственностью прямохождения за пределами обезьяньего приседа, и вот из этого положения созерцала чудеса планетарного вращения. – Прямо мимо этого дня проскочила. Теперь быстрее дней.
– Что?
Она вновь обмякла на матрас, как сдувшийся шарик.
– Что ты сказала?
– Когда я была маленькой, – начала она, и громадные глаза ее все еще были полны того, что она узрела за тем черным окном.
– Ох святый боже.
– Когда я была маленькой, мне хотелось – больше всего на свете – сбежать с карнавалом.
– Прошу тебя. У меня с сердцем плохо будет.
– Знаешь же такие сомнительные карнавалы, каждое лето они приезжают на парковку за торговым центром? Те же никакущие аттракционы, из года в год все те же убогие призы, но каждое лето мы не могли дождаться туда попасть в первый же вечер, как только они открывались. И каждый вечер те девушки, которые в ларьках там работали, ух – нам их только дай. Бобовый пуф. Дротики. Воздушка. Шарик от пинг-понга в аквариуме с золотой рыбкой. Я их изучала. Как они движутся, какие у них лица. Мы тут о штукатурке на лице говорим – и о таких стеклянных глазах, какими прямо на тебя смотрят, но не видят. Тела у них всегда были твердыми и костлявыми, и будь уверен, по крайней мере, одна всегда оказывалась рыжей, а у всех из джинсов торчало по пачке «Мальборо», и никто им был не указ, и о тебе они были невысокого мнения, когда ты шаркал мимо, набив себе рожу сахарной ватой. Мне так хотелось быть одной из тех девчонок, носить на бедрах засаленный фартук с мелочью и отращивать себе жесткое лицо под теми желтыми огнями и карнавальной вонью, и орать оскорбления всем квадратным.
– Ага, – сказал Мистер Компакт, – тебе просто хотелось посидеть на «кукурузной собаке»[31].
Той ночью она тоже не спала.
– Мы на задании, – напомнил ей он.
Поутру, когда вновь чудовищно объявился свет, она оказалась в позе балерины у окна, в раздумьях, как это красиво, это день розового торта. Оделась из ближайшей кучи и сказала:
– Пора выдвигаться, туристы. Пошли, нам пора. Кино, мы идем в кино, папаша. – Папаша же почти всю ночь провел на шухере в гостиной, наблюдал, как корчатся деревья.
– Минуточку.
Много часов спустя Латиша и Мистер Компакт вынырнули из тенистого дома на жаркую ослепительность разгара дня, облаченные словно в горный поход – во много слоев одежды, какой обычно не увидишь до поздней осени, трезвые лица защищены от болезненных лучей и пристального осмотра согласованными парами дорогих итальянских солнечных очков. Покрыв редкую поросль на голове Мистера Компакта неоново-синей бейсболкой с золотым лоскутом «Начала сеанса»[32] на тулье. Машина – немытый, ненадраенный, решительно неновый зеленый «Форд Галактика» – пеклась на подъездной дорожке.
За всем этим из-под опущенного лба наблюдали уклончивые глаза из дома по соседству, где мистер Хьюго, преподаватель антички на пенсии, с мерзким грибовидным пятном, что обесцветило ему одну румяную щеку, стоял на коленях в росичке и лил из чайника кипяток в расширявшиеся трещины своей зацементированной дорожки, – безмолвный зритель, рано сообразивший, что мало смысла обращаться к соседям, которые отвечают ледяными взглядами или, как это случилось один неприятный раз, непристойно длинным высунутым языком. Он, считай, уже заключил, что субъекты эти – парочка наркоманов из города, в особенности – девка с грязно-светлыми волосами и костлявым крупом. Жена его Филиппа полагала, что они могут быть мафией, возможно – профессиональными убийцами, «механиками», которые затаились тут от ФБР и прочих бандитских типов. Но Филиппа, заключил он, поглощает слишком уж много телевидения, слишком поспешно льнет к крайностям человеческого поведения: прошлой зимой, к примеру, умоляла, как подросток, купить ей снегоход – разумеется, безуспешно. Поэтому возделывай свой садик, уничтожай паразитов безопасным органическим способом и не вмешивайся, по крайней мере, покуда телепередача эта не завершит свой несомненно развлекательный прогон.
Латиша неистово заняла переднее сиденье – собачка, которая любит кататься: голова прямо, ногти впились в теплый кожзам, раздутые зрачки нацелены на персонажей и оттенки, летящие на нее. Мистер Компакт просто ехал, правил машиной сквозь определенную последовательность прямых углов, по формальному лабиринту предместной геометрии, к головокружительным петлям, завиткам и прямым федеральной импровизации. Латиша откатила окно, тряхнула головой, драный флаг ее волос привольно бился за нею; она закричала навстречу ветру, она шлепнула болтавшейся ладонью о дверцу. Мистер Компакт рассмеялся; она развлекала его – своею чепухой; он глянул на нее и рассмеялся.
– Погляди на всех этих ослов! – закричала она, разбрасывая слова по загрязненному вою. – Я их всех ненавижу!
– Ладно, – предупредил Мистер Компакт своим глубоким папашиным голосом. Его крупные кисти и толстые руки (золотые часы, туго застегнутые на запястье, похоже, туда имплантировали) удерживали дребезжавшую машину на неприметной средней полосе; ехал он вообще-то с уверенностью дальнобойщика, с неоспоримым превосходством ума над материей, осуществляемым с тем же натренированным изяществом, какое требуется для быстрого зажигания одного натертого большим пальцем «бика» и поднесения его пламени к заматеревшей губе стеклянной чашечки, которую с таким энтузиазмом сосут на сиденье с ним рядом.
– Эй! – Он схватился за быстро отдернутую трубку. – Ты что это творишь такое? Что с тобой? Совсем обалдела?
– За дорогой следи, – пробормотала она, вдыхая, вдыхая, вдыхая.
– Ты считаешь, мы что, в лесу, блядь, ради, мы ж не… – Он взял трубку, которую она ему отдала. – Ох нет, – пых, – кто там заметит, – пых, – пару отъявленных торчков, – пых, – что гоняются за драконом, – пых, – по восьми полосам уличного движения в разгар дня? – пых. – Кто обратит внимание на такое обычное зрелище? – пых.
Вдруг их окружили легавые машины, здоровенные громады легавых машин, легавые машины огромные, как динозавры, проносились мимо, маячили в зеркалах, вздымались впереди, никто никогда еще не видел столько легавых машин. Мистер Компакт поглядывал на спидометр, он посматривал в зеркала, он следил за дорогой – все сразу. Двигатель начал издавать скверный звук, чокнутый дребезг шарика рулетки, падающего в ячейку. Или это его сердце?
Латиша, как всегда, слепая к кризису, вытянула руки, вжимая расплющенные ладони в податливую захезанность винилового потолка.
– Жалко, что у нас не кабриолет, – произнесла она. – Такая машина была б по нам, не думаешь? Для таких, как мы. Я хочу скорость чувствовать. – Она щелкнула радиоприемником (Глобальный Распор: «Ты Чё Такой Упоротый?»), и за те полсекунды, что ему потребовались на то, чтобы вырубить эту дрянь, легавые исчезли. А это отбившийся крейсер там ныкается в нескольких машинах впереди на соседней полосе или, да, просто электрическая компания. Он взмок от пота, а потеть ему не хотелось; от пота воняло, он притягивал насекомых.
– Ты глянь на этого тупого говнюка. Не рожа, а жопа просто. Эй, пошел ты на хуй! – Из проходящего «Мерседеса» на шестидесяти ей предложили средний палец. – Вся эта публика должна сдохнуть, – сообщила ему она и, приметив еще одно автотранспортное безобразие: – Эй, дама, у тебя волосня на ебаной манде есть? – Наполовину она высунулась из машины, его рука вцепилась в пояс ее джинсов. Мистер Компакт улыбался, кашлянул смешком-другим.
– Мое сердце, – простонал он. Ну и женщина.
Из угла его левого глаза выстрелила белая торпеда, взорвалась полноразмерным «транс-амом», огибающим его со скрежетом высшей передачи, очевидно, потеряв управление, после чего резко свернула обратно в невозможный карман в одном гудке клаксона от их крапчатого радиатора, и одна щуплая омногобраслеченная рука безразлично болталась из водительского окна. «Галактика» сотряслась, визжа под тормозами. Из-под сиденья выскользнул забытый «глок», ткнулся разок, два раза в ответ у его педалирующих ног, чтобы выскользнуть снова. Он был полностью заряжен.
– Блядь! – завизжала Латиша, жестко наваливаясь на плечо Мистера Компакта. – Сгони ее с дороги! – Она попыталась схватить руль, и тут же тылом ладони он двинул ей по носу и скуле. На переднем сиденье «Галактики» завязалась неуклюжая потасовка, бдительные транспортные средства в непосредственной близости отодвинулись на благоразумную подушку дистанции вокруг куролесящей машины.
– Хватит! – скомандовал он, голос – из того же холодного колодца, что и бледные лягушки со слепыми глазками зародышей, и безволосые крысы, и ночи без возврата.
– Сволочь, – прошипела она. – Я видела, как ты на нее смотрел. Я не дура. – И она кинулась на него, руку удалось просунуть ему в штаны. Он ее оттолкнул, нацелив согнутый локоть ей в голову.
– Если мне придется съехать на обочину, ты пожалеешь, что это вообще ты. – Ей не пришлось дважды смотреть ему в лицо. Она села на место, неподвижная и немая, ум – безнадежная круговерть неразбираемых очертаний, – покуда машина не перестала двигаться, и они не уставились друг на дружку на парковке торгового центра. Она держала его за плечо и не желала выпускать из машины. Ей хотелось потрахаться на заднем сиденье. Он посмотрел на нее.
– У тебя не мозги, а жижа, – сказал он. – Сраный кисель. Ими, наверное, можно, блядь, машину драить.
Ее шлепок он перехватил в воздухе, придержал ее запястье и, глядя прямо в глаза, выкручивал ей руку, пока она не поморщилась.
– А теперь пошли внутрь, – сказал он, – и давай будем паиньками.
Мимо их лобового стекла продрейфовал представитель нормального общества в нормальной одежде и с нормальными чертами лица, с комом густых курчавых волос, похоже, балансирующих на макушке, словно шерстяная шапка, – поглощенный хитроумным потреблением тающего рожка мороженого. Заметив их пристальные взгляды, ускорил шаг.
– Глянь на этого придурка, – сказала Латиша. – У него, к черту, стояк в штанах.
– Заходим, – произнес Мистер Компакт. – Ведем себя хорошо. – Он крепко схватил ее за предплечье, как джентльмен, сопровождающий свою даму по раскаленной дорожке к билетному окошечку, где валандалось несколько скучающих пацанов в вырвиглазно-окрашенной пляжной одежде. Экранов было с дюжину, в половине залов показывали одно и то же.
– Хочу «Бэтмена» посмотреть, – сказала она.
– Нет.
– «Бэтмен», – потребовала она.
– Опять, что ли? В прокате возьмем. Я тебе куплю эту долбаную кассету.
– Он еще не вышел на кассете, ублюдок[33].
Серьезная девушка за стеклом немигающе смотрела преувеличенными мультяшными глазами, ум милосердно сведен на нет в предвкушении ее первого ограбления, а поскольку жизнь у нее была относительно коротка, полный повтор программы оставлял еще много времени для Скоро На Экране, и ни одна из грядущих сцен не была красива. Затем мужчина стал девушку тянуть и сердито шептать ей на ухо. Затем девушка сердито зашептала в ответ. Затем мужчина обратился к ней.
– «Бэтмен», – сказал Мистер Компакт. – Два. – Он расплатился и, сам толком не понимая зачем, послал кассирше воздушный поцелуй.
Кармазинный вестибюль выглядел борделем и пах раздевалкой. У стойки с закусками и напитками полная близняшка Мисс Кассы не могла принять у Мистера Компакта его хрусткую стодолларовую купюру, не посоветовавшись с управляющим, худосочным назойливым мальчишкой в галстуке-бабочке, который уж точно ни в каком смысле не был законен. Затем на полпути по проходу Латиша уронила ведерко с воздушной кукурузой и после того, как они устроились на своих обычных местах на четырех задних рядах, отказалась двигаться с места, поэтому Мистер Компакт, жалуясь, но не чинясь, отправился назад за добавкой. Покатый пол был липок и по щиколотку завален мусором. Ее жесткое бесприютное сиденье, похоже, грубо обили нестираным бельем. Нервно разглядывала она призрачные колебания огромного красного занавеса; ощущать предвкушение – любого размаха – всегда, и даже в детстве, лично трудно было переносить, и в закрытой со всех сторон темноте зала привольно плодилась нежеланная осознанность. Какие таинства б ни таил занавес, сам акт их явления до некоторой степени всегда потрясал. (И хотя этот фильм она уже видела дважды, ей вполне удавалось удивляться знакомому; такому она была рада.) Она ощущала множество тлеющих умов, деливших с нею это пространство, – убежденная, что всякая чужая и отдельная душа в соучастной сосредоточенности нацелена на ее незащищенный затылок.
– Засранцы, – бормотала она. – Козлы. Уроды. – Она готова была уйти, когда Мистер Компакт прибыл со свежим попкорном, высыпающимся из ведерка вдвое больше первоначального размера.
– Что я пропустил? – пошутил он. Свет в зале еще не погас. – Блядь! – Подавшись вперед, он выплюнул полный рот частично пережеванных ядрышек себе между ног. – Что это за говно? – Она подумала, что у него сердечный приступ. – Чертово скисшее масло. На вкус как антикоррозийка.
Она попробовала несколько катышков.
– По-моему, нормально.
– Тогда все твое, детка.
Через десять минут после начала картины – не вполне неприятного развертывания распухших событий в оттенках черного и синего, – она отошла в уборную. Когда поднялась вторично еще через двадцать минут, Мистер Компакт без единого слова пошел за нею. В запертой кабинке дамского туалета они дожгли остаток «камешка», заначенного в разных хитрых областях на их личностях. Вернувшись на свои места, они обнаружили, что габариты экрана подверглись видоизменению. Мистер Компакт безостановочно гоготал всякий раз, если кого-то пристреливали; Латиша была Бэтменом, она рулила. Но под конец, когда повествование исправно запыхтело по рельсам высокобюджетного пафоса на удовлетворяющий заплесневелый вокзал, кинотеатр загудел от всех нюансов отдела спецэффектов, визга восторженных посетителей, Латишу стиснуло необъяснимым ощущением опустошения, и она заплакала – и, хоть Мистер Компакт обнимал ее, поглаживал ей тряскую спину, прекратить она никак не могла, и когда шуму кино уже перестало удаваться покрывать ее шум, он помог ей пройти вверх по проходу, а позади у них Джокер вилял злорадной задницей перед носом у Крестоносца в Плаще.
В неприкрытой наготе грубого дневного света она шаталась, как алкаш, на полпути к машине перецепилась через собственные ноги, ударилась о мостовую с тошнотворным звуком.
– Коленка, – взвыла она, катаясь, словно раненное животное, рукой зажавши прореху в джинсах, – я себе, блядь, коленку сломала.
Мистер Компакт глянул сверху на ее маленькое беззащитное тело, в утонувший мир ее глаз, из ее ноздрей протекали ручейки соплей, которые она слизывала языком.
– Боже, – произнес он, – а это еще и твое любимое кино.
Она изучала урон с любознательным детским ужасом.
– О-о-о-о-ой, кровь идет, – стонала она.
На опасливом расстоянии притормозили две женщины в беговом костюме. Машины, кружившие по парковке в поисках места, проезжая, притормаживали.
– Вставай, – сказал он. На солнцепеке температура ползла вверх, с лиц покупателей стаивала глазурь. Он переживал осознание накапливающихся взглядов. В поле непорядок, в секторе Е6 чужаки. – Подымайся, – приказал он, подталкивая ее ботинком, – вставай давай, а не то я тебе, блядь, и башку разобью. – Костяшками пальцев она двинула ему по ноге. – Ладно, – спокойно произнес он, нагнулся и вздернул ее на ноги – и умело поволок за собой, словно был легавым, а она – опасным кем-то под арестом. В одной руке уже был «бик», другая нетерпеливо обшаривала бардачок, не успел он переключиться с заднего хода. Не найдя ничего и осознав, что вокруг нет ничего, чем можно было б утолить ее слезы, развесить по душе рождественскую гирлянду, она заплакала вновь. Обвиняла его в том, что он ее не любит, даже не заботится о ней. Мистер Компакт вел машину.
Он заехал на дорожку у дома и остался сидеть, мотор не глушился. Она посмотрела на него. Он пялился в лобовое стекло.
– Вылезай, – приказал он.
– Я в настроении, К. Сам знаешь.
– Мне надо за покупками.
– Мне тоже.
– За серьезными покупками. Новые люди.
– Что за новые люди? Где?
– Там. Привезу тебе подарок.
– А сколько тебя не будет?
– Чем быстрее вылезешь, тем быстрее вернусь.
Она открыла дверцу.
– Час, – произнесла она. Выбралась наружу. – И я не шучу. – Хлопнула дверцей. «Галактика» покатилась назад по дорожке. Она несколько шагов ковыляла следом. – Разузнай, нет ли у них лунного камня, – крикнула она.
Она не могла ему сказать, до чего боялась оставаться одна. Однажды он бы использовал это знание против нее. Она спускалась в одиночество, как в пропасть, и, как только достигалась определенная глубина, страх набрасывался на нее голодной пастью. Первый час одна она провела, обыскивая дом, – и наконец нашла, проверив там дважды, прекрасный белый самородок, угнездившийся в отсеке для батареек пульта управления видеомагнитофоном, куда она сама его спрятала, предвидя такую вот дождливую ночь. Она раскочегарила трубку. Дым, повисший перед нею сладострастными шелковистыми обрывками, хотелось лизать, словно человечью кожу. Бесцельно послонялась она по пустоте дома, сбрасывая с себя одежду, в каждой комнате – по разному предмету. Закончила посреди матраса, куда уселась, уперев подбородок в грудь, не шевелясь, пока столбик естественного света полз вверх по стене, съежился, потом пропал…
Над головой у нее, трепеща, словно бумажные игрушки среди бамбуковых стропил, – пара поразительных птиц в переливчатых синеве и золоте тропических рыб. Она сидит на каменной полке, ноги болтаются в клокочущей ясности бассейна с пресной водой у нее в гостиной. Спокойствие жизни в далеком домике на пляже под тростниковой элегантностью. В соседствующем бунгало та знаменитая актриса-блондинка с зубами из «Как вращается мир» или «Путеводного света», или из «Дерзких и красивых»[34]. Она тихонько осознает новое, непривычное тело; яркое, разоблаченное «я». Ей хочется трахаться круглосуточно, без выходных. Бар – хижина под открытым небом на побережье, благоухающем рассолом и орхидеями. Ее дайкири – замороженный кубок бледных сливок, из которого торчит соблазнительный очерк очищенного банана. Плоть банана испорчена присутствием нескольких синяков, бурых лун тления. Она – завсегдатай, девушка, которую все знают. Ее ракушечно-розовые пальчики на ногах раскрывались эстетически приятным контрастом на полу из чисто-белого песка. Свет здесь – возбуждающе преобразующей природы, при его касании – мгновенный пейзаж сущностей. Смуглый бармен не носит рубашку. По нутру стакана повизгивает барное полотенце. У его опасных синих глаз нет дна. Она понимает, что ее проживание в отеле «Делириозо» может, если она пожелает, продлиться неопределенно долго, но сможет она уплатить цену или нет – вопрос без ясного ответа. Ей трудновато платить аренду за это нынешнее тело, чьи улицы и переулки теперь, раз уж она заметила это, погружены в гомон толпы, тяжесть их рушащихся тел влечет ее стоически вниз. Полна трупов голова. Тот груз, что волокла она по жидкой грязи туманных дней. Господи, неудивительно, что она все время так утомлена. В этом и беда с тем, как раскочегариваешь. После бесподобной радости вида с воздуха тебя сводит вниз, вниз до путаницы ходов под землею, вниз по тем коридорам в холодные комнаты, куда не хотелось заходить. Вроде морга, к примеру. Ее трогательная неспособность сделать эту процедуру привычной, живенько обернуть усопших в саваны, чтобы повезти на замаскированной каталке мимо ничего не подозревающих пациентов и посетителей вниз к охлажденным выдвижным ящикам, и каждую из тех белых мумий, кого приготовила своими руками, она могла помнить по табличке, по палате, по лицу, данные, каких вроде бы потерять не может никогда вместе с образом себя – угрюмого инструктора по прыжкам из самолета-гиганта, придерживает дверь перед каждым пронумерованным обрабатываемым, чтоб тот выплыл наружу – куда? На вражескую территорию, вот куда.
Стол был черен. Телевизор сер. Стены белы. Она полистала «Ярмарку тщеславия»[35], тьма украдкою вползала – безмолвная и почтительная горничная. Она встала и побродила по комнате, поглаживая каждую холодную свечу верным «биком». Вернулась на матрас и напряженно вчиталась в страницы «ТВ-гида», рисуя перед собою любимые передачи, старые фильмы. Скарлетт О’Хара была одним из ее самых любимых персонажей. Как и Нора Чарлз. Как и Крысеныш Риццо[36]. Она составила в уме список всех передач, какие посмотрела бы сегодня вечером, если б дали ток. Она так и видела, как сама смотрит эти передачи. Поступление образов было неистощимо. Жизненные знаки ее модулировались мило. Затем прозвучали дверные колокольцы, и она оказалась на ногах, не осознавая, что двинулась с места, предметом дрожащей скульптуры, сердце – как будильник, по всему ее телу вверх и вниз прокатываются покалывающие волны: не уверенная, слышала ли что-то вообще. Она встревоженно оглядела комнату, словно в ней мог находиться кто-то еще, какой-то другой объект, сказавший бы ей, что делать. Затем это произошло опять – мелодичный динь-дон, сломавший ей позу. Она натянула футболку и джинсы, выхватила из-под матраса 44-й и сторожко добралась до переда дома, пальцы легонько пробегали по стенам, как будто она пересекала нестойкие проходы судна. Остановилась в тенях, хорошо в стороне от бледного параллелограмма уличного света, небрежно наброшенного поперек пола без ковра. Сквозь венецианское окно она его видела – мужчину в темноте у ее двери. Подергивается вверх-вниз. Он нажал на кнопку в третий раз, отвернулся осмотреть пустую улицу. На дорожке стояла чужая машина. Лицом он прижался к стеклу. Массивом сплошной неподвижности она не дрогнула.
– Я тебя вижу, – сказал он. – Давай открывай.
Сердце у нее в груди колотилось дикими копытами. Обеими руками она подняла пистолет.
– Я выломаю дверь, сама же знаешь. – Ногти быстро застучали по стеклу. Звук – это царапанье когтей – испугал ее, и она нажала на спуск, подумала, будто нажала на спуск, ничего не случилось, и теперь уже свирепо трясли дверную ручку, а колокольцы звенели без перерыва, и голос звучал у ее головы, угрожая: – Давай же, Латиша, открывай. – Латиша?
Она спрятала пистолет в размокшем мешке мусора в углу и отперла дверь.
Вскинув руки, чтоб обняться, он вошел в дом, ухмыляясь от мысли о том, что удивился, застав ее дома.
– Рис. – Она кратко кивнула, не подпуская его близко мертвым звуком своего голоса.
– Эй, разве так вообще можно?
– Чего тебе?
– Так параноишь. Что с тобой произошло в этих «местьях»? Тот старый хрыч, с кем ты ебешься, тебе мозги засрал?
– Он не старый.
– Давай-ка на него поглядим, выволакивай его, он под кроватью прячется или как?
– Его нет.
– Не ври мне. – Взгляд у него отвелся от нее, через стены, к другим комнатам.
– Ох, ладно, я забыла. Он за углом, «узи» мацает, ждет, чтоб только тебе башку отфигачить.
– Расслабься, я тебе верю. А чего ты, к черту, свет не зажжешь, мы хоть в лицо друг дружке посмотрим или как-то.
– Мне и так нравится, это романтичней, не считаешь?
– Я по тебе соскучился, милаха.
– Прошу тебя, только Элвиса не включай, сегодня-то. У меня голова болит.
– Эй. – Он поднял руки и медленно закружился перед ней. Посмотрел на нее, пожал плечами. Таков был его способ показать: я чист, я невинен. Не виновен ни в чем. В правой руке его знакомая мятая спортивная сумка держала в себе шану и аптеку.
– Как ты меня нашел?
– Все улицы соединяются, детка, просто по ним едешь.
– Ты вроде какой-то другой стал. – Вообще-то нет, но она забыла, как во всей полноте действует его присутствие. Глядя на него, она полностью онемела.
– Знаю, я просто все лучше и лучше. – Он заметил, какое у нее лицо, и рассмеялся, вновь пожимая плечами. – Так мне говорят.
– Что есть?
– Ну, есть вот это… – он приподнял сумку, – …и вот это, – показывая пальцем с невероятно длинным ногтем на свою промежность.
Она двинулась к нему без единого слова, будто кто-то делал вид, что ходит во сне, упала перед ним на колени и расстегнула ему штаны, стащила их ему до носков, все это время не сводя взгляда с глубины его глаз, но ничего не выдавая взамен, – так, знала она, ему и нравится.
– Что это? – спросила она. Мошонка его была туго обмотана куском белого шнурка так, что связанные яйца, распирая натянутую и обритую кожу, напоминали доли-близнецы нелепого миниатюрного мозга.
– Когда постучу тебе по голове, дернешь за веревочку.
– Сильно?
Он раздраженно глянул поверх ее головы.
– Будто свет включаешь.
– А больно не будет?
– Вот и поглядим.
Немного погодя он ей сказал, что можно прекратить.
– Это как играть с мокрой резиновой сосиской, – пожаловалась она. В такой ситуации ничего нового, кроме веревочки. – А можно все равно подергать?
Дернула, и он отозвался:
– Бип-бип.
Затем Рис расстегнул свою спортивную сумку и показал ей громадные горсти заряженных пузырьков.
– Даешь вечеринку, – провозгласила она.
Позднее (что б это ни значило применительно к точке, затерявшейся среди извергающихся туманностей времени) он растолковал, что шнурок – приспособление, напоминающее ему об этости его тела. Люди больше не сознают действительностей плоти. А если личность, будь она мужской или будь она женской, поддерживает недостаточно активный симбиоз с жизненно важными органами тела, то такое тело станет подвержено вмешательству чужих. Его займут чужие из правительства. Стало быть, простые инструменты, вроде веревочки и различных контролируемых веществ, необходимы для того, чтобы не закрывались важные каналы к твоей биологической основе.
– Да, – сказала она. – Я в это верю.
На лице его возникали новые блики. Да, теперь она видела ясно, переживала все таким, как оно было.
– У тебя симпотные уши, – сказала она.
Рука его потянулась к ней, каждый волосок – отдельный индивид, особо вложенный в яркую кожицу, чтобы ей приятно было смотреть.
Некогда она уже повелась на него, потому что, обшаривая невинность его лица, засвидетельствовала осуществление его третьего глаза в должно зацентрованном положении у него на лбу – и ее околдовало. То был глаз, что станет ею повелевать. Они познакомились в Институте искусств, и сорок минут спустя он уже шворил ее в лифте, намеренно остановленном между этажами (греки и импрессионизм). Ему нравилось искусство, и музей был хорошим, безопасным местом для сделок. Любил он футбол, историю Америки и ширево. Лицо у него выглядело здорово, особенно на фоне Рембрандтов. И вот они немного потрахались, а потом принялись трахаться с другими людьми. Его веснушчатая кожа – как хлопья корицы, плавающие в молоке в убаюкивающем свете на исходе дня на Милл-стрит, под самыми некрашеными свесами крыши на обрюзгшей кровати, где она начала отговариваться болезнью, покуда ей не позвонили из больницы. К тому времени, наскучив учебой, Рис беззаботно дрейфовал к улице, Латиша тащилась следом. Сбывала она из своей машины на перекрестке возле библиотеки собственной избранной клиентуре друзей или друзей друзей, или посторонних, утверждающих, что они знакомые давнишних друзей. У него паранойя упрочивалась, он спал со «смитом-и-вессоном» в руке; однажды ночью, защищая его от нападения во сне, пистолет выстрелил, лишь на несколько дюймов промахнувшись мимо ее столь же попутавшей головы и проделав незаштукатуриваемую дыру как в стене, так и в отношениях. Она ушла. Жила с разными. Делала то, что нужно. Заметила подозрительные язвочки у себя на теле. Волновалась из-за СПИДа то и дело. Язвочки пришли и ушли. Мистер Компакт был одним из тех образчиков современного парнейшества, что получше.
И вот опять Рис тут, хочет, чтобы она вернулась. Он так параноил. Умолял ее. Она не желала идти. Он произнес свои реплики. Она произнесла свои. Вот так вот. Взад и вперед. Он так параноил.
После того, как он убрался, она не была уверена, что кто-то вообще побывал сегодня вечером с нею в доме. За последний год она привыкла к нескончаемой неясности, к жизни в этом нео-«мягком» мире, где все края податливы и нечетки, единообразный слой озабоченности наброшен покрывалом и на великое, и на незначимое в равной мере. Она ценила такой взгляд; большинство вещей, похоже, мало что значили.
Как хороший солдат, в час своего караула она взобралась на парапет и расхаживала – от стены к стене – по узкой спа́ленной тропке, с которой расчистили половой мусор, чуланный часовой. Я жива. Я личность. Я настояща. Меня зовут Латиша Шарлемань. Мое имя Латиша Шарлемань. Настоящая. Где-то в ночи необъяснимый гул исполинской машинерии. Она сжимала себя за плечи, внезапные спазмы, дрожа в августовской жаре. Когда так плохо бывало Женщине-Пиявке, она убивала очередного молодого человека, вкалывала себе сок его гипофиза[37]. За дверью она обнаружила старый свитер (не ее), весь утыканный сигаретными ожогами, разъезжающийся по швам, и, когда его надевала, а ум убрел при этом на минуту-другую куда-то играть сам по себе, пальцы ее вдруг отпрянули в ужасе от неожиданного ощущения: она вскальзывает в одеяние из человеческой кожи (ее собственной), застегнутое шиворот-навыворот.
В раннем детстве она знала, что никогда не умрет. То был факт до того неопровержимый, до того ощутимый, до того истинный, как дождь в лицо, свет в деревьях, а иногда и сейчас, во многих годах от той невинности, что дала возможность подобному откровению, она умела найти дорожку назад, к укрывающему кряжу того знания. Такой улет случался нечасто, никак не предсказать, где или как может он произойти, но когда нужная тропка перед нею открывалась, к ней, виляя хвостиком, подбегало счастье, чтобы вести ее и снова напоминать: все, что ей известно, – не так. Зачем пошла она в медсестры? Она терпеть не могла больных. Зачем связалась с Мистером Компактом? Он жирный и гадкий урод. Зачем ебется с такими, как Рис? Она же слыхала, что у него СПИД. Зачем на Рождество отправила родителям открытку с яростно накорябанными на ней непристойностями? Они ведь тоже ничего не знали. Почему ее жизнь улетает дымом? Когда она была маленькой, ей хотелось сбежать с карнавалом.
Она перекатилась, и в дверях оказался подпертым Мистер Компакт, одутловатый, потный, восставший из мертвых, – зыркал на нее. Выглядел он скверно.
– Что это? – требовательно осведомился он.
– А?
– Скажи опять то, что говорила.
– Что ты делаешь? – Она не была совсем уж уверена в том, что это он.
– В каком это смысле, что я делаю? Что ты делаешь?
Она потерла себе лицо сбоку пяткой ладони.
– Я не слышала, как ты пришел.
– Ты сама себе пела.
– Да ну? Я пела?
– Что с тобой такое? Прочисти дыры в ушах.
– Что это я пела?
– Какую-то дурацкую херню. Откуда я, блядь, знаю?
«Бик» был у нее в руке, щелкал кастаньетами.
– Где срань?
Он кинул ей заряженный пластиковый чек.
– Становится хуже, – сказал он, стараясь не обращать внимания на трение металлических деталей. – Меня чуть не убили.
– Да ну?
– Новый шифер принял меня за душмана.
– Жуть под куполом, – отозвалась она, не отвлекаясь от драмы трубки.
– Думал, у меня, блядь, сердце схватит.
– Это было б скверно. – Ее камни и деревья, тучки и тушки ее уже начинали посверкивать, словно спецэффекты зачарованного леса в старых черно-белых фильмах.
– Ебать-копать, лапуся.
Он все еще перелопачивал этот несчастный случай на вершине своего одинокого холма в гостиной, смотрящей на долину теней. Смерть. Она могла напрыгнуть в любое время, словно мишень в тире, с той лишь разницей, что вооружена. На нем были только его цепочки, восемнадцать каратов золота, медалька св. Христофора да целительный кристалл, который ему подарила дочка Линдзи на его последний день рождения, который им выпало отмечать вокруг очага из фальшивых кирпичей. Если он сейчас скопытится, кто его похоронит? Кто будет траур носить? Немощный и слабеющий, подвешенный в паутине трубок и проводов, не в силах шевельнуться, не способный говорить, без надежды ждущий того же паука, что слопал Бенни, тужась одними глазами сказать нянечке, безупречному видению в белом, чтобы коснулась, тепло к теплу, всего лишь раз, пока холод не окутает всех нас. Подержи меня за руку, Латиша! – визжит он, голос в манекене. Содрогающийся вентилятор щелкает, включаясь и выключаясь. Спаси меня, шепчет он стенам, что никому не скажут, даже моги они.
Когда пришел в себя – лежал ничком на полу гостиной. Он не знал, заснул он, потерял сознание или хуже.
В спальне Латиша съежилась над обтрепанным номером «ТВ-гида», который читала с библейским рвением.
– Сейчас «Челюсти» показывают, – объявила она.
– И что? – Он вытирал влажное лицо плесневелым полотенцем.
– И то, что я хочу посмотреть, это мое любимое кино.
– Завтра тебе в прокате возьму.
– Генератор тоже в прокате возьмешь?
– Может, Мистер Озабоченный Динозавр по соседству пустит тебя к себе вместе посмотреть.
Он вошел в комнату, чтоб либо взять какой-то предмет, либо сообщить Латише нечто важное, ни то ни другое теперь не было ему очевидно; он вернулся в ванную посмотреть, нельзя ли отыскать там то, что он потерял. После опять пришел, не сводя глаз с одежды у своих ног и со странной пары черных трусиков. Мужские. Держа предмет этот изысканно на весу двумя скрюченными пальцами, он обшарил дом. Латиши нигде не обнаруживалось. В кухне он проверил и перепроверил замки на окнах, затем погрузился в чистку стекол самодельной смесью этилового спирта и сока четырех лимонов, купленных много недель назад для профилактики цинги. Дольше всего он стоял у задней двери. Подмел пол. Когда проходил гостиную, его отвлек черный дуб, стоявший снаружи на газоне. За его стволом кто-то прятался. Пока он ждал, чтобы человек этот вновь показался, – смерил себе пульс. Биение казалось быстрым, ускоренным, но не чрезмерно, быть может – постоянным, размеренным и крепким, уж точно в нем не слышалось красноречивой хлюпающей ноты пробитой камеры, или неработающего клапана, или забившейся артерии. Завтра ему придется бросить курить. Он больше не мог так дальше.
Латишу он обнаружил в спальне – она лежала навзничь, выполняя удивительно оживленную череду подъемов ног.
– Я тут все время была, – сказала она. – Ты чокнулся?
Он подрыгал трусами у нее перед носом.
– Это что?
– Что что? – Она считала в уме повторы, и ей ни до чего больше не было дела. – Ебическое исподнее. Что с того?
Он потыкал ей в ребра ногой.
– Это не мое, плюша.
Ноги ее грохнули об пол. Она уставилась в потолок.
– Так ты какого… от меня в связи с этим хочешь?
Он набросился на нее, не успела она полностью встать на ноги, стиснул клок немытых волос в руке и дотащил до самой стены, где упер ее и предупредил – нос к носу:
– Ты мне давай не хами, сучара косоглазая.
Усилие резко подвести колено вверх ему в пах встречено было жестким шлепком, за ним другим и презрительным фырканьем – он всю ее голову оттолкнул прочь, словно бы избавлялся от особенно гадкого мусора. Она упала на пол в позе личинки муравьиного льва, тело съежилось в тугой ком, каска из рук защищала голову. Он отхлестал ее оскорбительным исподним, а когда рука устала – пинал босой ногой, остановившись лишь обматерить ее кости, когда ушиб себе большой палец. Запыхавшись и сопя, он высился над нею, созерцая зловредное яйцо ее очертаний, и обнаружив, что еще не закончил, нет, он должен упасть еще на колени и воздетыми кулаками стремиться повредить, если не сломать, ту защитную клетку, где содержалось ядовитое месиво ее сердца. Все это она претерпевала без жалоб.
Словно изможденный спортсмен, рухнул он поперек матраса, вытер лицо простыней.
– Милая, милая, ну почему ты вынуждаешь меня так с тобой поступать? – Ответа не было. Медленно покрасневшее тело ее развернулось, поднялось от него прочь. – Эй, ты куда это пошла? Ответь мне, отвечай сейчас же.
Она вернулась из кухни, легко неся над головой один из двух остатков мебели во всем доме – дешевый деревянный табурет, который, как наблюдал он завороженно, приблизился и без задержки опустился ему на плечи и выставленное в защиту предплечье. Она готовилась ко второму удару, когда он выдернул эту штуку из ее хватки и, с глазами буйными и воспаленными в глазницах своих, рыча, вскочил на ноги.
– Так ты этого хочешь? А, этого? – И он шарахнул табуреткой об пол и бил, пока стыки ее не расселись и не потрескались, пока палки не повалились у него из рук, а она не рванулась в сортир, избежав кромсающей ножки (теперь дубинки) всего на дюймы. Хлопнула дверь, наглухо щелкнул замок, он с одной стороны, молотя во взрыве чешуек краски, долбящийся волшебник, раз-два-три, наслаждаясь своею властью над деревом, она – изнутри, дрожа и съежившись над унитазом, словно тот, кто свирепо только что тошнил или сейчас станет, пальцы до первого сустава захоронены в звенящих тоннелях ее ушей.
Когда грохот прекратился, она неуверенно опустила руки и прислушалась. Сперва – к туп-тупу его толстых неизящных ног взад и вперед по узкому коридорчику, затем, уже из спальни – к щелк-Щелк-ЩЕЛКУ зажигалки, после – всепроникающая роящаяся тишина, что выманила ее из кафельного убежища встать робко в дверях спальни, наблюдателем с большими спаниелевыми глазами. Окруженный подушками, Мистер Компакт развалился на матрасе, спина оперта о стену, лицо слегка напряжено от усилия сдержать дыхание, смешанное со сладкими добавками. Он благосклонно кивнул в ее сторону – румяный сельский помещик, наслаждающийся своею вечерней вересковой трубкой. Докурив, положил костыль в блюдце на полу и, мимоходом заинтересовавшись, глянул снизу на нее.
– Так, чего эт ты пошла и заставила меня тебя эдак вот отделать? – спросил он. – Меня б мог сердечный приступ свалить.
Она промямлила ответ.
– Что? Погромче давай. Ты похожа на какую-нибудь жену Дракулы.
Она мямлила дальше.
– Я ни хера не понимаю, что ты там говоришь. Что такое? – Он приложил чашку ладони к уху, делая вид, что вслушивается. Рука его произвела быстрый пренебрежительный жест. – На хер. – Он с трудом поднялся на ноги со стариковской осторожностью, протрюхал мимо нее, не глянув и не тронув, лишь для того, чтобы возобновить свое нескончаемое изучение освещенного луной натюрморта, обрамленного передним окном. Существовал предопределенный способ рассматривать картину, обязательное обозрение в несменяемой последовательности определенных деревьев, кустов, столбов, теней, чтение этого шаблона в поисках аномалий, которых наверняка уже ждешь на этом рубеже. Через безлюдную дорогу – знакомые дома, неизменно темные, даже забытая настольная лампа не разделяет бдения этих покинутых часов, их аналогичные фасады являют все то же загадочное выражение, одинокий уличный фонарь отбрасывает розоватую свою бледность на украшенья предместий, и от него еще глубже становятся утесы и пруды глубочайшей тени, кишат возможностями, луна – серп хрома средь устрашающего массива льдистых штифтов, где оторвалась единственная заклепка, спутник связи на сходящей орбите, спешащий к забвению дома. Потом он заметил дыру в своем обзоре. Его собственная «Галактика» – ее не было. Он вгляделся неверящими глазами в пустое пространство на дорожке к дому. Оглядел темный ряд машин, запаркованных у обочины. Распахнул дверь и выскочил на газон, неистовый голый человек, совершенно не в силах осознать – его оставшийся без пригляда пульс рванул галопом вперед к финишной черте без него – довольно неисключительный факт того, как его превращают в жертву силы современной жизни. Кто-то посмел угнать его машину.
В спальне Латиша раскинулась наполовину поперек скомканной постели, ноги ее затерялись в сумбуре компакт-дисковых обломков, неопрятная поза, воображала она, последнего полицейского снимка. Она нашла трубку и чек, и теперь снаряд за взмывшим ввысь снарядом взрывались в грубом великолепии под высокими сводами ее черепа, запущенные деловитой минометной батареей у нее в середке, где меж бедер у нее приятно угнездился теплый костыль, уютная ось, вокруг которой начало двигаться ее предложенное тело, поначалу нежно, затем со скоростью все энергичнее, вверх и вниз, из стороны в сторону, бурливо исторгая новые миры, один за другим.
Три
Черный прокат
Дождь застал его в темноте врасплох – холодным пальцем по щеке постукал и разбудил его в ночь и бурю, и смятенья сознания. Он не осмеливался шевельнуться; не узнавал ни места, ни самого себя; внезапный нахлест чувства он схватил за шею, отжал голову паяца обратно в коробку и стал ждать, чтобы память снова нашла его, как отыскивала всегда. Затем, выпрямившись, сел на высоком мокром ветру. Злые тучи сталкивались и искрили. Под горкой по своим дорожкам наперегонки мчались все те же дурацкие машинки, словно игрушки без водителей. Часов на нем не было, и он не понял, сколько проспал. Спешить некуда. Он тщательно поднялся на ноги, как будто движенье было тем товаром, какой надлежит упаковать по сверткам и судить неодобрительным взглядом. Пошарил в траве – где рюкзак, – легко закинул его тяжесть за плечо и, склонив набок голову, обнажил неполный комплект пожелтевших зубов ускорявшемуся дождю. Пусть льет[38].
По полю он спустился живенькой боковой рысью, осекся на гравии, чуть не доходя дорожного покрытия, где мечущиеся машины неслись мимо, словно стадо перепуганных зверей, и дождь в их огнях яростно вскипал на темной проезжей части. Здесь он обратил лопатку большого пальца набегавшему сверканию, то и дело прерываясь, чтобы смахнуть с глаз воду. Сплетенные пряди волос, черные, как расколы, липли к черепу с кожей белой, как у подопытного. Железная стружка небритой его бороды. Под левым глазом – единственная драматичная опухоль раздувшегося цвета, происхождение неведомо. Промокшая одежда. Туловище пугала. Кто тут остановится ради этой одинокой фигуры, утопшей в ночи и обрамленной в каплющую мольбу у границ национальной коммерции? Назад двинулся он шатко на разбитых сапогах из потрескавшейся ящеричной кожи, правая подошва обернута толстой обмоткой серебристой армированной ленты. Змеи дождевой воды сползали ему по ребрам, словно охлажденное масло. Под дождем он уже бывал. И снова под дождем окажется. Оно высыхало, все высыхало – со временем.
Под укрытием эстакады он встал, дрожа меж громкими занавесами водных каскадов, переутомленные машины проезжали здесь за кулисами по пути к другому спектаклю. Свежие лужи вокруг него углубились и зашевелились. По-обезьяньи вскарабкался он по крутому бетонному откосу на небольшую полку под шелушившимися балками. Следы старого гнездовья: россыпь истрепанных окурков, опрокинутые пивные банки, пустые книжки спичек, скопление имен, дат, проклятий, нацарапанных на поддерживающей стали. На рюкзаке он сложил из рук подушку, куда преклонить мокрую голову, и уснул, не отягощенный снами. Привыкши ко вторжениям жесткого света время от времени, он сразу понял, кто это, не успел еще громкоговоритель пролаять свои приказы. Из сапога вынул кожаные ножны, оставил нож в темноте. По скату спускался он не спеша, таща за собой рюкзак. Водитель, не заморочившись даже выйти из патрульного крейсера, не сводил прожектор с его лица до самого низу. Второй расположился возле переднего бампера, рука значительно возлежала на рукояти его револьвера в кобуре. Под носом – мазок усиков Брюзги Маркса[39].
– Где-нибудь вон там и постойте.
Остановился – свет испещрял ему глаза, – аккуратно опустив котомку к ногам. Он хорошо понимал нестойкость почвы, на какой строятся такие вот мгновенья. Из окна крейсера подымалась серая тучка сигаретного дыма, расползалась испуганной эктоплазмой в сыром воздухе. Одна-единственная капля воды разбилась о его макушку с высоты протекающего моста. Он моргнул, подождал следующей, которая так и не прилетела, а ветер от каждой проезжавшей машины бил его через неровные промежутки, словно тяга от лопастей гигантского вентилятора, что вращался где-то рядом, но вне досягаемости.
– Удостоверение есть какое-нибудь?
Он глянул на ком синего мешка между своих сапог. Помедлил – раз-два-три. Поднял взгляд.
– Думаю, что нет, – ответил он.
– Будьте любезны выложить содержимое своей котомки на землю перед собой, сэр? Просто поднимите его и высыпайте. Медленно. Имя у вас есть, сэр?
В удлинявшейся тишине, раз-два-три-четыре-пять… глаза инспектора принялись морщиться, рот приоткрылся, жилы на шее вздулись от недоверия. Мягкая физиономия перед ним выказывала допущение полной покорности… восемь-девять-десять.
– Ну, поде́литесь со мной секретом?
– Билл, – наконец-то произнес он. – Билли Прах. – Полицейский стоял достаточно близко, чтоб можно было прочесть у него на рубашке табличку с именем, которого он не забудет, услышать, как угрожающе поскрипывает толстый ремень легавого, что щекотало волоски его центра развлечений.
– Детское какое-то имя, нет? А ведь вы не ребенок, мистер Прах?
Он пожал плечами, рожа дурацкая.
Водитель позвал из машины на холостом ходу, надо Джорджу помочь или нет? Нет, Джорджу не надо.
– Будьте добры опустошить котомку, пожалуйста.
Он нагнулся и резко вытряхнул на мокрый бетон, в темные лужи учебники колледжа на целый семестр, комки кое-какой одежды, немного упаковок еды – жалкую кучку студенческого мусора. Надраенный черный носок штата поворошил «Введение в западную цивилизацию», «Отелло», «Современную биологию».
– Знаете, что перемещаться автостопом по федеральным трассам нельзя.
– Я не ехал стопом.
Инспектор подобрал «Общую бухгалтерию», прочел на внутренней стороне обложки: Б. Прах. Швырнул книгу обратно в кучу.
– Что это? – Потыкав в плосковатый металлический контейнер.
– Банка «Стерно».
– Это?
Он пригляделся, словно рассматривал этот предмет впервые.
– Резиновая мышь, – ответил он.
Инспектор наблюдал за ним.
– Ладно, я даже спрашивать не стану. – Полицейский сделал шаг в сторону. – Хорошо, мистер Прах, теперь будьте добры принять положение, пожалуйста?
Он выступил вперед, уперся ногами и нагнулся над теплым капотом всего в нескольких дюймах от водителя с глазами, что как изюм в шоколаде, курившего за лобовым стеклом, под его влажной одеждой плоть ежилась от касаний чужих рук, а одеколон инспектора пах голубым льдом и детской присыпкой. Он вытерпел.
Инспектор прекратил и сделал шаг назад.
– Благодарю вас, мистер Прах. Пожалуйста, соберите свои личные вещи, и я вам сообщу, что мы с моим напарником сейчас сделаем. Сейчас мы доедем по этой дороге до съезда на Вейлтаун, а там развернемся и приедем назад, и когда окажемся здесь, мы рассчитываем, что вас и вашего йо-йо на нашей трассе больше не будет. Не разочаровывайте нас.
Инспектор уставился на него так, будто немигающий взгляд был единственным выражением воли, истиннейшей формой понимания, и движения под кожей их лиц отражались друг в друге тесно, нос к носу. Миг затянулся, истончал, разломился на что-то новое, не такое опасное – на взаимное воздание должного непризнанному друг в друге. Инспектор коснулся козырька своей фуражки и вернулся в поджидавший крейсер, где что-то сказал водителю, который рассмеялся, пока они оба не засмеялись, наблюдая, как он собирает свои пожитки, вновь набивает их в драный рюкзак Университета Флориды, который закинул потом на одно округло выставленное плечо и направился под проливной дождь. Но стоило задержавшемуся патрульному автомобилю наконец проплыть мимо, а задним габаритным огням медленно раствориться в черной микстуре ночи, он повернулся и пошел назад, вернулся за тем ножом.
Пустой свет зари застал его с вытянутой рукой на уклоне въезда. Из свалявшегося неба сдувало мелкую дымку; запечатанные машины спешили мимо, размеренные, как дворники, царапавшие им лобовые стекла, шелест шин по влажной мостовой – словно ленту сдирают с перевязки. Подушечки его пальцев побледнели и сморщились, а ноготь большого, который он выставлял миру этим серым утром, сгрызен был до мяса и сильно потускнел – сколок металла, безразлично приделанный. Свое положение он поддерживал много часов липкой темноты и невнимательного движения – и не удивился, не исполнился благодарностью, когда просто ради него до длинной вздыхающей остановки скользнула сверкающая цистерна, чистая, как и то молоко, которое везла. Он рысцой подбежал к кабине, где дверца распахнулась, явив ему водилу – тот перегнулся над сиденьем из потрескавшейся кожи и пригласил его «запрыгивать», перекрикивая бас затейливой стереосистемы.
На водиле были бейсболка «Кливлендских индейцев»[40] и красная фланелевая рубашка, выгоревшая до телесно-розового, один рукав аккуратно закатан выше локтя, другой, незастегнутый, болтается на запястье. Темные волосы его толстой косой свисали на спину. Руки он облек в старую пару садовых перчаток. Со всех сторон под любыми углами выставляли и надували губки голые женщины, их невозможно совершенные тела вырезали ножницами и приклеили к любому доступному дюйму внутренности кабины – современная фотографическая разновидность форм, нарисованных на стенах пещеры древними невообразимыми руками.
– Ты там хуже битой собаки смотрелся, – заметил водила. Проверил зеркальце и плавно вывел рокочущую громаду на полосу движения.
Стопщик пожал плечами.
– Бывало и лучше. – За один миг он уже знал все, что можно было знать: о водителе, об устройстве тела, о пределе прочности души на разрыв – остальное было несущественными подробностями, – и ничего в этом особом знании не содержалось в словах или не касалось их, ни говорения, ни думания ими. Любопытство его удовлетворилось. Особой нужды разговаривать не было. Он с преувеличенным интересом наблюдал, как под капот убегает дорога, словно бы слишком робел или стыдился предъявить характер своего взгляда на осмотр другому. Его маленькие болтавшиеся кисти тряслись между ног от дрожи двигателя. Никаких мыслей он не думал. Ум его лежал совершенно открытым для отпечатка этого мгновения. Важно быть спокойным.
– Дождь отсюда до Чикаго, – сказал водила.
– Мерзкий день.
– Мерзкие дни, мерзкие ночи, мы в нашем деле вот какие песенки поем. – Водила то и дело поворачивался, обращая к нему крупный выжидательный взгляд, словно бы знал его или видел его прежде и теперь рассчитывал на такой же знак узнавания.
– Свисти за работой, – произнес стопщик.
Водила сообразил, что не знает, как ему ответить на это замечание, поэтому испустил хохоток, который можно было бы принять за фырчок согласия или тот звук, с каким прочищают горло, и эта краткая сцена знакомства двух человечьих посторонних возникла, продлилась своим чередом и тихонько издохла вместе с доброй толикой возможности, теперь вовеки неведомой. Встреча их обретала свои особенные очертания.
– Куда направляешься? – спросил водила и обнаружил, что его пассажир дерзко уставился ему в глаза таким взглядом, точно в его тайных вещах роются грязные пальцы.
– На запад, – последовал ответ. – На самый запад.
– Ладно, – отозвался водила. – Наверное, с этим мы управимся.
– Эй. – Стопщик показал на вспыхивающие датчики уровня на компакт-диск-плеере, вмонтированном под приборную доску. – Вы не возражаете?
– Но это ж Мадонна. Тебе не нравится Мадонна?
Стопщик показал себе на голову.
– Уши чувствительные.
– А потрахаться бы с ней не отказался, а?
Стопщик пожал плечами.
– Для кого угодно я так не делаю, – объявил водила, двинув кулаком по кнопке «выкл.», – поэтому очень надеюсь, что ты хороший собеседник, поскольку мне требуется развлечение – мегадозы развлечения, пока свой груз по дорогам тягаю. – Он все время поглядывал вбок, выискивая хоть малейший утвердительный знак. – Я не шучу. – Опять поглядывал. – Ё! – завопил он.
Стопщик посмотрел на него.
– Ты что-то сказал? – Высыхая, одежда его испускала постоянный тихий душок, что-то вроде испортившегося бекона.
Водила покачал головой.
– Сколько ты уже так вот?
Стопщик сидел молча, либо раздумывая над вопросом, либо нет.
Водила вздохнул.
– Дорога, чувак, – на ней никому не место. – Он вытянул руку. – Рэнди Соерз.
– Билли Прах, – ответил стопщик, пожимая.
– Ну, Билли Прах, поговори со мной. – Он подождал, последует ли реакция. Не последовало. – Я ж не шутил, когда сказал. Не потерплю я, чтобы кто-нибудь, даже мой собственный брат, с которым мы уже двадцать лет не разговариваем, пятьсот миль кис тут со мной рядом на сиденье и хоть изредка ломтика в общий котел не кидал. Мне от такого нервно, понимаешь? Очень нервно. Не болтаешь – так гуляй. – Водила умолк, довольный собственными словами.
– Ага, – произнес стопщик. – А что с волосами?
Водила издал звук, не уверенный, что расслышал правильно.
– С твоими. Я такой ботвы не видал с эпохи динозавров.
– Если не стричь, отрастает.
– Хиппи-дальнобой.
– Мы повсюду.
– А я думал, когда рейганочь пробило, вы все превратились в яппи и давай сосать друг у друга кровь.
– Кое-кто из нас в горы сбежал. Слышь, «Вудсток», кино, видал когда-нибудь?[41]
– Не знаю. Наверно. Ну да.
– Помнишь там сцену, где все с голыми жопами в грязи барахтаются? Я парень слева, с бородой и здоровенной елдой. Боже, вот мы там оттягивались. Операторы, эти братья Мейслес?[42] Я думал, они какие-то правительственные агенты, приехали снимать, как мы ширяемся. – Он потрясенно дернул крупной головой. – Планета чудес. Хотелось бы еще разок ее навестить, пока живой. – Он глянул на своего слушателя. – И вот теперь я увековечен на целлулоиде, поди ж ты, а?
Стопщик шевелил губами, играя с улыбкой или стараясь выковырять кусочек пищи, застрявший между зубов.
– Шикарные тогда были замыслы. Думал, врачом стану. Когда вся балеха свернется. По книгам вдарю будь здоров. Практику себе заведу где-нибудь в гетто, спасать бедных, угнетенных стану, а меж тем бесплатно раздавать рецепты на контролируемые вещества себе и избранным друзьям. И вот подумать только – я окажусь на верхотуре в кабине, стану возить коровий сок в Омаху. Чё такое-то? А хуй его знает. Узлы на веревке этой я до сих пор распутываю. Бросил планировать, экономить, надеяться – всю эту буржуазную херню уже давно. Теперь просто по ухабам гоняю, на равнинах газу поддаю, на поворотах мило и легонько, надеюсь, тормоза сдюжат, коли передо мной что начнет громоздиться. Это и есть счастье, ближе к нему никого из нас уже не подпустят. Конечно, тут одиноко иногда, но стараться обогнать – это как пытаться дышать без воздуха. Колымага – моя, знаешь. Еще б. Много лет назад за эту клячу расплатился. Семью из-за нее потерял, переехал семейство всеми восемнадцатью колесами, просто скосил всех и дальше себе попыхтел. А что я еще мог сделать? Вот ты мне скажи. Все равно никогда этого дела не понимал. Детишек пару раз забирал. Никаких тасок. Звезде, похоже, больше нравилось, чем мальчишке. Кто знает. Может, она баранку у старого своего папаши перехватит. Но отметки у нее хорошие, может, станет врачом, знаешь, как это мана-мана-тарам-бум-бум…
Скрежещущая монотонность голоса этого человека сливалась со смесью дороги, с ветром, машиной, шинами, движением, и в успокаивающей темноте за прикрытыми глазами стопщика возникли ясные ленты мягкого света, желтого, как малярная краска, они перемежались симметрично расположенными полосами тьмы, и полосы эти, как ни странно, были горизонтальны и без видимого окончания. Он мог выползти между них. Он открыл глаза, и водила на него взирал.
– Ты храпел, чувак. Громко.
– Мне это уже говорили.
– Можешь вообразить развлекательную ценность.
– Да без всякого. Имеющим на руках билеты следует обратиться в ближайшую кассу для полного возмещения их стоимости.
– Так ты забавник.
Стопщик пожал плечами.
– Женат?
Стопщик рассматривал свои сапоги, скромненько сидевшие бок о бок на полу кабины, их умеренный размер – частый источник стыда, детские ноги у него вообще-то, ни к чему им прикрепляться к обычному взрослому телу.
– Уже нет, – ответил он.
– Так и знал. Я всегда знаю. Такой род занятий, как у меня, – великий учитель. Узнаешь о человеческой природе, как распознавать в ней определенные аспекты. И дорога, конечно, – это колоссальная аллея раскуроченных браков.
Стопщик получил это наблюдение без единого замечания.
– Так расскажи мне про себя.
– Твою коллекцию пополнить?
– Исследования, чисто научные изыскания. Думаю сварганить книжку, когда на пенсию выйду: «Белые полосы и плюхи жучков», автор – Рэндолф Соерз, ДФН – дрючит фефёл надежно.
– Я тебе для этого не нужен.
– А ехать тебе нужно?
Стопщик посмотрел на свои руки, безвредно лежавшие на коленях. Дяде нужна история – что ж, историю он получит.
– Ничего особенного, – начал он. – Старая грустная песенка. Бывшая забирает ребенка и валит. Муженек горюет. Звонит 1–900-НЕВЕЗУХА. Видишь ли, Рэнди, я тут на охоту вышел, и не имеет значения, сколько эта экспедиция займет, неделю, месяц, целый год, потому что охота не закончится, пока ее не выследят и в мешок не посадят, так сказать. Говорили мне, они залегли на дно в Эл-А, и вот оттуда я и намерен их выкурить. – На водилу он при этом не смотрел, а произносил монолог свой прямо вперед, в тонированное лобовое стекло и за него, быть может – публике в конце дороги.
– Она просто цапнула ребенка и сбежала, а?
– Я так злюсь, когда об этом думаю, что иногда сам себя боюсь. – У него перед глазами действительно вставала маленькая семья, позирующая для снимка, который рассылали друзьям и родне на последнее Рождество, которое они провели вместе. Он мог видеть свой дом, изгородь, боярышник. Видел своего мальчишку. Его веснушчатого мальчишку. Видел безупречную белую форму Малой лиги. Видел мяч, серый бейсбольный мяч с красными швами. Когда он заговорил, слова цедились у него между зубов, словно сухие вещества, комки материи один за другим падали на лист металла. – Клянусь, когда я найду этого мальчишку, я его упрячу куда-нибудь так хорошо, что его как будто никогда и не существовало.
Водила сочувственно кивнул.
– Хуже нет такого преступления, – сказал он.
– Федеральное похищение. За такое пекут.
Водила вздохнул.
– Мне моих двоих выпадает поцеловать, то есть – мне назначено такой честью наслаждаться – через выходные, но черт – когда же я дома, тут мили пожираю, когда у меня на поводу кто-нибудь пойдет?
– Тяжко, – согласился стопщик.
– Все тяжко и тяжко. И легче, похоже, никогда не становится. – Водила повернулся к окну извергнуть сгусток безвкусной резинки. – Ты в коммуне когда-нибудь бывал?
– Может. Это что?
– Так, ладно. – Водила приготовился читать лекцию. – Это такое место, где единомышленники, типа – свободные духом, знаешь, собираются где-нибудь в деревне и живут вместе, и работают вместе и делят друг с дружкой жизнь. Там нет частной собственности. Чем владеет кто-то один, владеют все.
– А деньги у кого?
– Ни у кого. Нет там никаких денег.
– Да ну. Деньги всегда есть. Тебя, наверное, к ним просто не подпускали.
– Деньгами мы только в городе пользовались.
– Так и у кого тогда они были?
– У того, кому нужно было что-то купить.
– Вот дурачье.
– Спали мы тоже все вместе.
– В позиции для траха?
– Там еще в старой коммуне в Вермонте все мы были одной семьей. Всякий взрослый был родителем каждому ребенку, каждый ребенок был твоим.
– Каждая женщина была твоей женщиной?
– Если хотела.
– Ну да, я теперь вспомнил – я слыхал про такие фермы траха. Полностью взрослые мужчины и женщины бегают повсюду в тряпье и волосах; что шевельнется, тому кранты. А хозяин там – какая-то жирная старая коряга с усами. Она из России и любит, когда ей в очко вдувают.
– Нравится тебе такое?
Стопщик разразился приступом неприятного смеха.
– Что смешного?
– А что нет?
Измученной гроздью с ножки небольшого вентилятора, привинченного над лобовым стеклом, болтались: красная, зеленая и желтая кожаная подвеска в виде Африки; комплект использованных солдатских жетонов; цепочка бумажных скрепок; потускневшее распятие на строгом ошейнике; несколько студенческих перстней; десятки канцелярских резинок; символ мира; парочка целебных кристаллов; кольцо для ключей, унизанное популярными картонными елочками, опрысканными освежителем воздуха; и на своей соломенной метелке волос висела голая куколка с круглым морщинистым животом и янтарными глазами навыкат. Когда водила жал на клаксон, раздавался громкий трагичный звук, плач морского зверя, тяжко барахтающегося вперед сквозь бурю и голод. Поперек оконного стекла скользили зреющие сельхозугодья, не отмеченные блуждающим взглядом стопщика; тот обдумывал иные факты, иные виды.
Подсказка водилы вернула его, направила внимание на приближающийся виадук, где вдоль высокого ограждения неуклюжими птицами примостилась троица облезлых малолеток.
– Вон за ними приглядывать надо, – пояснил водила. – Видел когда-нибудь, что делает бетонный блок с лобовым стеклом, не говоря уже про человека за ним? У меня дружок схлопотал такой в лицо на 70-й федералке под Индианаполисом прошлым летом. Голову хоронили в отдельном мешочке.
Стопщик молчал.
– Всякие гадости тут на федеральной трассе.
И рот водилы продолжал ходить вверх-вниз, из той неутолимой ямы всякое изливалось и дальше, но антенны стопщика вновь опустились, втянулись в замкнутые молчанья, перемещавшиеся по его уму, непостижимые, как тучи, едва ощутимые сдвиги, что намекали на очередной изгиб в калейдоскопе личности, намек, которому он полностью сдался, слабый, как наркоман.
На заправке стопщик остался ждать в кабине. Он видел водилу внутри – тот валял дурака с кассиршей. Имени водилы он не знал. Он не знал, упоминалось это имя или нет. Сидел сам по себе, в собственном мире, смотрел наружу, как ветер толкается в грязную вывеску «Пеннзойла». Вывеска была желтой. На ней черные буквы. На ней красные буквы.
Водила вернулся к цистерне, потешно семеня, слегка ссутулившись, словно бы наступал на незримое сопротивление, шел в горку по плоской мостовой, заляпанной маслом. Он застегивал сдачу, горсть серо-зеленых купюр, в объемистый бумажник из воловьей шкуры, пристегнутый у него цепочкой к поясу.
– Эй, – окликнул водила, поднимаясь в кабину и швыряя целлофановый пакетик с чем-то кондитерским на колени стопщику.
– Что это? – Руки стопщика взметнулись в воздух, не желая касаться того, что ему кинули.
– «Лунный пирожок»[43], Билли. Похоже, ты из тех, кто их ест.
– Не ем я это говно. – Стопщик швырнул его обратно. Водила пожал плечами, зубами принялся отдирать уголок упаковки.
– В чертовой дряни только жир да сахар, но приход есть приход, верно, Билли?
Стопщик опять отвернулся к окну, рассматривая колонки, серьезные, как солдаты, кольца шлангов, ветошь в пятнах, автомобильный скребок цвета десен. Одиночество американской заправки, ее осиротевшие предметы.
Цистерна содрогнулась и заворчала. Водила уставился в отвернутое лицо стопщика.
– Тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на Роберта Де Ниро? – Очевидно, нет. Цистерна ринулась в поток машин, пробивая дыру в ускоряющейся стене протестующего четырехколесного транспорта. Водила уже хохотал – делился шуточкой с проплывающим пейзажем и хохотал. – Тогда ладно, тебе вовсе не обязательно меня любить. Лично я тоже не считаю, что ты мне сильно нравишься. – Махина катила дальше, и вскоре водила насвистывал у себя в голове какую-то личную мелодию, а немного погодя начал ее и мычать, и еще чуть позже стукнул по кнопке «вкл.» на своей стереосистеме и уже подпевал Мадонне несдержным, на удивление мелодичным баритоном. Все двенадцать номеров. В шипящей тиши в конце стопщик откашлялся и произнес:
– Ты не против тут прижаться? – небрежным указательным пальцем ткнув никуда в особенности чуть впереди.
– Что-то не так?
– Вон там, – все еще показывая, уже настойчивей. – Мне нехорошо. – Он схватился за живот. Опять откашливание.
Водила выругался, подбирая руль и понижая передачу, он ругался, направляя массивную цистерну к остановке с хрустом на берме ярдах в ста от ближайшего съезда: «ТОПЛИВО ЕДА СТРАНА КЕРАМИКИ И ПТИЧНИК». Стопщик, кому очевидно нездоровилось, согнулся в поясе, возился где-то у себя в ногах.
– Эй! – предупредил водила, дотянувшись до руки другого. – Только не в кабине, блядь. – Он увидел руку, на конце руки – нож, разоблаченное лицо стопщика, свои собственные запинающиеся кисти, сверкнувшее лезвие, а затем – мрачное безмолвное развертывание последнего любопытства.
Стопщик откинулся на спинку сиденья. Его переполняла новая жидкость. Он выглянул в лобовое стекло, вся панель в веснушках крови. Все было богато и странно. Водила обмяк у дверцы, голова откинулась назад, словно бы неправильно подсоединена к шее. Из-за глаз водилы, веки приспущены и так и застряли, казалось, его разглядывает кто-то другой, родной или двоюродный брат водилы – бесстрастно, сквозь сгущающееся остекление. Пусть так и будет. Зернистая рукоять ножа торчала из груди водилы, будто очень большой выключатель. В заряженном воздухе она мягко подрагивала. Стопщик считал толчки, пока пульсация не прекратилась, лепя ртом каждую жизненно важную цифру, словно священник свою латынь. Сто три. Вычесть зеро и получишь тринадцать. Ну вот. Сложи, что осталось, и будет четыре, столько букв в имени стопщика. Уж точно. Таинственно мир себя ведет.
Компакт-диск как-то завелся вновь, и голос певицы без голоса раздражал ему уши жестяными, электронно усиленными воззваньями к ее собственным генитальным ду́хам. Он побил по всем кнопкам перед собой, музыка грохотала дальше. Залез в штаны к водиле, нащупал бумажник, из которого извлек обильную пачку денег, и не застегнутым на цепочке оставил его свисать с сиденья. Внимательно посидел перед улыбчивыми взорами сотни голых женщин, руки на коленях, тщательно наблюдая за водилой. Глаза выглядели липкими, уже подсыхали – как у рыбы на дне лодки. Ветер от проезжавших машин мягко покачивал кабину на ее амортизаторах. Глаза стопщика моргали, моргали, моргали, с отвлеченной целенаправленностью запечатлевая все, что нужно было видеть. Под скучным невыразительным обликом сердце у стопщика колотилось, вены ревели от крови по всей опьяненной тьме его слушавшего тела. Вдруг он протянул руку и грубым отрывистым движеньем выдернул нож из места его упокоения. Пригнулся вперед, осматривая поверхность клинка, на которой кровь собиралась бусинами, как масло, пробующий язык свой прижал разок к металлу, вытер лезвие начисто о рубашку водилы и вновь устроил его в ножны у своей ноги. Затем, яростный, как ангел, перегнулся и поцеловал водилу в безответные губы – и вылез из кабины, двигатель цистерны работал вхолостую, музыка гремела, и зашагал через поросль и траву к словам, манившим в небе, и стальным опорам, что поддерживали подобную рекламу, к признакам цивилизации, оседлавшим покоренную землю, а немного погодя принялся насвистывать, а еще чуть позже замычал себе под нос.
Дождь прекратился, тучи раздвинулись и растворились, и солнце взялось за свой долгий спуск жаркого дня. Желудок, разговаривавший с ним уже несколько дней, направил его к кафельному оазису сети быстрого питания, где он тщательно вынимал из выступа у себя в кармане лишь необходимые купюры. Сидел в углу, спиной к стене, жевал свою пищу, ничего не ощущая на вкус, ни о чем не думая. Совиного вида папаша предписанной семейной ячейки за столиком поблизости позволил своему взгляду пренебрежительной респектабельности мазнуть по стопщику. Тот запихнул остатки таинственного бургера себе в рот и, все еще жуя, направился к двери, оставив убирать разбросанный мусор какому-нибудь рабу с минимальной оплатой.
Он был человеком на обочине, персонажем столь же значимым для опыта езды, как дальнобой с автопоездом, любовники, угнавшие машину покататься, легавый-отступник и слабоумный мировой судья: неприкаянный, одичавший, лишенный чувств, он был человеческим пугалом в поле скверных снов для отупевших от средств информации мозгов, с опаской проезжавших мимо, но рано или поздно кто-нибудь остановится, всегда кто-нибудь останавливается.
Звали его Темплтон Мор, семидесятишестилетней древности и не очень этим довольный.
– Я старый, приятель, и я не человек-серебро, не хронологически обремененный, я просто старый, я вижу амбар, и он, блядь, черный. – В «Додже-Дротике» у него невнятно пахло молотым красным перцем, что, как позднее понял стопщик, и служило ароматом самого старика. На Море была белая рубашка с длинным рукавом, с пожелтевшими манжетами и монограммой на кармашке. Жена – полувековая палка зажигательной смеси, к которой ему следовало поднести спичку не один десяток лет назад. Затем поцеловаться по-французски с выхлопом, от многих хлопот бы всех избавил. Особенно самого себя. В глазах кляксы, зубы – фаянсовое кладбище, суставы заржавели, и пора на японский поезд-пулю прямо к навозной куче. – Я вижу, ты слушаешь, но ты меня не слышишь. Ладно. Никто никогда мне и ничего сказать-то не мог. Сам поймешь, что тебе уже билет прокомпостировали, и, если честно, теперь, раз я хорошенько на тебя посмотрел, даже не знаю, насколько хорошо ты продержишься весь остаток поездки. Никаких, знаешь, исключений тут, мозги у тебя раскрошатся, как высохший сыр, волосня на яйцах поседеет и погоди, когда отпечатки пальцев у тебя пойдут морщинами. Тогда и вспомнишь Темплтона Мора, вспомнишь, что я тебе сказал, что я всем вам, молодым ездокам, говорю.
Стопщик выразил намерение жить несуразно долгую жизнь.