Читать онлайн Тревожная жизнь: дефицит и потери в революционной России бесплатно
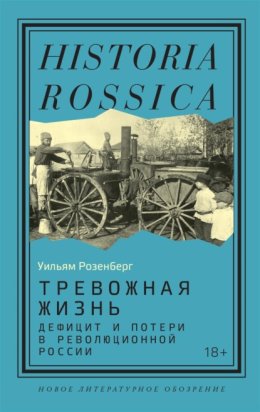
William G. Rosenberg
States of Anxiety
Scarcity and Loss in Revolutionary Russia
Oxford University Press 2023
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман Редактор серии И. Мартынюк Научный редактор В. Семигин Перевод с английского Н. Эдельман
На обложке: Красноармейцы готовят обед в полевой кухне на глазах у деревенских детей. 1919 год. Из фондов ЦГАКФФД СПб.
© William G. Rosenberg, 2025
© Н. Эдельман, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Моим российским коллегам всех поколений, отважно стремящимся к пониманию истории в ее полноте
Предисловие к русскому изданию
Исторический труд невозможно написать в одиночку. Учителя и ученики автора, его коллеги и их многочисленные статьи и монографии неизбежно оказывают влияние на концепции, точку зрения и природу восприятия источников. Это в особенности справедливо по отношению к событиям, процессам и значимым персонажам русской истории конца XIX – начала XX века, в совокупности составляющим то, что я понимаю под «революционной Россией».
В ходе моих рабочих поездок в Россию, особенно после того как перестройка отворила многие двери, я пользовался содействием со стороны историков и архивистов – сперва моих сверстников, а затем и наших с ними учеников. Это содействие было критическим в обоих смыслах, имеющихся у этого слова в английском языке: и необходимым, и бросавшим аналитический вызов. Мне очень дорога память о совместной работе с увлеченными и отзывчивыми русскими коллегами и в бурные 1990-е годы, и в годы последующих перемен.
Большое значение для меня, как для историка, имели совместные публикации и международные коллоквиумы. В 1998–2000 годах два сборника документов о протестах рабочих в Советской России стали плодом международного сотрудничества ученых[1]. Среди публикаций можно выделить и «Критический словарь Русской революции». Он вышел сперва в Великобритании и США, а затем – в России. Вместе со мной его соредакторами были Эдвард Актон, профессор Новой истории Европы Университета Восточной Англии, и Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. А над созданием тома работали лучшие специалисты по русской истории из Великобритании, Израиля, Италии, Канады, России и США[2].
Международные исторические конференции позволяли собраться за одним столом самым неожиданным личностям. На одной из первых таких конференций, в 1987 году, московский историк Владимир Булдаков представил меня академику Исааку Израилевичу Минцу. Почтенный академик сразу же вспомнил мое имя. Он заявил, что читал мою книгу о русских либералах[3], и выразил удовольствие от личной встречи с «буржуазным фальсификатором». По инициативе Бориса Ананьича, Павла Волобуева, Валентина Дякина и Леопольда Хеймсона с 1990 года в Петербурге проходил коллоквиум, посвященный ключевым аспектам российского революционного опыта до, во время и после 1917 года. Итогом петербургских встреч стали русскоязычные издания с лучшими (и нередко противоречащими друг другу) образцами современных исторических исследований[4].
Памятен мне и годичный семинар при Мичиганском университете, где собирались выдающиеся русские историки и архивисты и их коллеги со всего мира. Мичиганский семинар был площадкой для разговора об архивах, документах и институтах социальной памяти. Борис Ананьич, например, в своем интересном докладе сравнил источники и этику процесса над декабристами с источниками и этикой процесса по «Академическому делу» 1928 года. А Владимир Лапин рассказал о том, как историки цитируют архивные материалы, и о том, как предубеждения ученых могут повлиять на их восприятие источников[5].
За долгие годы сотрудничества с учеными из разных стран я научился любить и ценить коллегиальность, коллективную научную работу. Я благодарен российским коллегам – преданным своему делу архивистам и историкам – за теплый прием и постоянную поддержку. Я признателен Игорю Мартынюку из «Нового литературного обозрения» за помощь и поддержку в более сложные времена и Валерию Семигину за кропотливую и трудоемкую работу научного редактора, а также Николаю Эдельману, который превосходно перевел мою книгу на русский язык. Кроме того, я благодарен Борису Колоницкому, моему коллеге и давнему другу, за то, что он взял на себя труд прочитать перевод моей книги и дополнил его конструктивными замечаниями и уточнениями. Любые оставшиеся ошибки, конечно, исключительно на моей ответственности. Все фотографии для книги предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов в Санкт-Петербурге (ЦГА КФФД СПб). Я выражаю огромную признательность Алевтине Сергеевне Загорец и Оксане Игоревне Морозан за помощь в их отборе и подготовке к публикации.
Мое посвящение к русскому изданию книги – всего лишь ничтожная попытка выразить мою огромную благодарность коллегам – архивистам и историкам – в России.
Предисловие к английскому изданию
Данная работа, долго вызревавшая, отражает еще более давний интерес к революционной России, пробудившийся у меня задолго до того, как Ричард Пайпс подал мне идею изучить дилеммы и трудности, с которыми столкнулись в те дни либералы из числа конституционных демократов. Будучи молодым и наивным, поначалу я считал этот период временем их надежд и ожиданий, равно как еще больших разочарований, последовавших за тем, как проблемы революционных изменений взяли верх над наилучшими намерениями. В те давние годы в наших представлениях о революционных событиях главенствовали политика, партии и политические идеологии. С ними же была связана и большая часть доступных фактов. (Моя армейская карьера покатилась под откос, когда я не пожелал отказываться от подписки на «Правду».) Наибольшие возможности для доступа к советским материалам мне давала тема «кризиса верхов». Обилием материалов по этой теме отличались Ленинская библиотека в Москве и библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Архивы за этот и последующие периоды были заперты на замок. Хорошо помню московскую библиотекаршу, которая не желала выдавать мне номера журнала, издававшегося в 1917 году кадетской партией, пока не прочтет их сама. Дело было вовсе не в цензуре, а в любопытстве и восторге открытия.
Став гораздо старше (хотя и не обязательно гораздо умнее), я по-прежнему восхищаюсь теми поразительными и прогрессивными изменениями, которых в эту революционную эпоху добились в таких сферах, как уголовная теория и право, гражданский брак, получение женщинами независимости от церкви и от своих мужей и даже (или даже особенно) литература, театр, искусство и архитектура. Некоторые утопические идеи этого первого, весьма недолгого этапа русской и большевистской культурной революции однозначно заслуживают восхищения. Одну из стен моего жилища до сих пор украшает репродукция картины К. С. Малевича «Крестьянки». (На другой висит одна из поразительно душевных русских фотографий Джека Колмена.) Сущность и масштабы личной и коллективной катастрофы данного периода сделались невыразимым фоновым шумом, феноменом, распознаваемым статистически, но не поддающимся полноценному описанию из-за недоступности нужных фактов. Над нашим мышлением продолжала довлеть политика, особенно в 1960-е годы, когда в фокусе антивоенных протестов находились преимущественно политические изменения, в то время как социальные и культурные аспекты в целом сохраняли маргинальное значение.
Мое собственное мышление начало меняться, когда я попытался вникнуть в дилеммы русских либералов той эпохи в надежде, что они могут пролить некий свет на тогдашние потрясения. Вывод, к которому я пришел, написав в 1974 году книгу «Либералы в русской революции», состоит не в том, что усилия кадетов по построению демократического политического строя и институционализации таких ценностей, как гражданские права и свободы, не были достойны восхищения, – а в том, что их политика чем дальше, тем сильнее расходилась как с социально-экономическими реалиями русского революционного движения, так и с тем влиянием, которое самая опустошительная война в истории могла оказать на революционную культуру насилия. По этой причине я проникся интересом к неформальному кружку Чарльза Тилли в Мичиганском университете и к плодотворной деятельности Леопольда Хеймсона и его семинарам в Колумбийском университете. Вступив в ряды все более обширного (и все более проницательного) отряда, я приступил к серьезному изучению российского рабочего движения вместе с Дайаной Коенкер. К моменту публикации нашей книги «Забастовки и революция» в 1989 году в Советской России снова развернулась полноценная политическая революция, хотя, как и в 1914–1922 годах, ее социальные, экономические и культурные аспекты – и особенно текущие и будущие последствия лишений и потерь – были еще не вполне понятны.
Понятно, что в данной работе отразилось влияние огромного числа учителей, исследователей и студентов, слишком многочисленных, чтобы указывать их всех поименно. При том что в библиографии указаны только цитируемые источники, на мой образ мысли, безусловно, повлияло множество других первоклассных книг и статей. На протяжении почти полувека большим стимулом для меня служили идеи и критические замечания моих студентов в Мичиганском университете. Многие из них впоследствии сами сделали блестящую карьеру, опубликовав (по последним подсчетам) около сорока книг. Мне отрадно думать, что моя работа с ними не создавала мне препятствий, каких я порой опасался. Ежемесячный междисциплинарный семинар, проводившийся на протяжении 1990-х годов небольшой группой сотрудников факультета, позволял мне быть в курсе различных концепций и теорий социальных изменений. Серия выдающихся коллоквиумов, организованных Леопольдом Хеймсоном в Санкт-Петербургском университете истории, дала мне возможность познакомиться со множеством блестящих исследователей из России и других стран, с тем, над чем они работали, и с их нередко спорными интерпретациями. Я очень благодарен моим коллегам как из старшего, так и из нынешнего поколения, прилагавшим все усилия к тому, чтобы каждые три года проводить этот семинар, затрагивающий темы, интересные широкому кругу историков.
Леопольд Хеймсон на протяжении многих лет был для меня постоянным источником идей, критических замечаний и дружбы. Моя верность двум совершенно разным историческим школам, сложившимся при Колумбийском и Гарвардском университетах, возможно, покажется кому-то удивительной, однако дружба и солидарность, проявленная сотрудниками и моими коллегами из обоих университетов, сделали мое мышление более масштабным, несмотря на различие между точками зрения (а может быть, благодаря ему). Этому же способствовало и то, чему меня научил Фрэнсис Блоуин по части изучения архивов и их содержимого. На международный семинар в Анн-Арборе в 2004–2005 годах съезжались ведущие ученые и архивисты как постсоветского пространства, так и многих других стран. С уверенностью утверждаю, что сборник статей и материалов семинара, любезно выпущенный издательством University of Michigan Press, представляет собой огромную ценность и для историков, и для архивистов. В ходе юбилейных мероприятий 2017 года я имел возможность ознакомить с фрагментами данной работы своих коллег из английского Кембриджа, а также из Кембриджа в штате Массачусетс, Парижа, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Принстона, Уэллсли и Кеннановского института в Вашингтоне. Я благодарен им за отзывы и критические замечания, ко многим из которых я отнесся со всей серьезностью. Все фотографии для данной книги были предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб).
Дэн Орловский ознакомился со всей моей книгой, Хизер Хоган – с главами, посвященными 1917 году. Серьезную помощь и ценные советы я получил от Бориса Колоницкого и Альфреда Рибера, а также от анонимных рецензентов из Oxford University Press. Мой редактор Нэнси Тофф из Oxford уже на первых порах понукала меня дополнить этой книгой обширную литературу по данной теме. В ее лице я имел замечательный источник поддержки при работе как над этим проектом, так и над предыдущей книгой об авторитете в истории и в архивном деле, которой открывается оксфордская серия «История и архивы». Кроме того, большую помощь на всех этапах издания книги мне оказывал Брент Мэтени из Oxford University Press, за что я ему очень благодарен. Моя книга, несомненно, заметно выиграла от всех этих утомительных трудов и понуканий.
Как часто бывает с историками, изучающими далекие края, моей семье приходилось мириться с моей поглощенностью данным проектом, моими частыми отлучками с целью сбора материалов и тревогами, знакомыми большинству евреев, эмигрировавших из этой страны. (Моя теща всякий раз радовалась, что меня не «посадили».) Все мои уверения, что переход через улицу – дело куда более опасное, были тщетными. К моему счастью, моя чудесная жена Элинор на протяжении более шестидесяти лет упорно сопротивлялась моим попыткам вовлечь ее в русистику несмотря на ее пятерки по русскому языку. Ее здравомыслие в этом и во многих других отношениях позволило нам избрать для себя два совершенно разных, но в равной мере плодотворных дела, сильно обогативших нашу жизнь и снабдивших если не нас обоих, то хотя бы меня рядом важных тем и вопросов, заслуживающих внимательного рассмотрения. Я нахожусь перед ней в глубоком долгу.
Европейская часть Российской империи (по состоянию на октябрь 1917 года)
Введение
«За рамками Больших сюжетов» российских войн и революций
Столетие русской революции осталось в 2017 году практически никем не замеченным. Из печати вышло несколько новых удачных обобщающих работ, в ведущих институтах и университетах был проведен ряд научных конференций и лекций, а к нашим представлениям об этом событии, до сих пор имеющем репутацию ключевого узла в истории XX века, добавилось несколько новых и не очень новых подробностей. В отличие от семидесятилетия революции, отмечавшегося в 1987 году, на этот раз дело обошлось без оживленных дискуссий о его историческом значении. Также не прозвучало никаких новых аргументов о его последствиях в глобальных масштабах и отмечались в лучшем случае лишь случайные указания на его значение в плане понимания современного мира. Стоит ли удивляться, что в первую очередь это было характерно для Российской Федерации. Тело Владимира Ленина до сих пор лежит у кремлевской стены на Красной площади, сохраняемое и выставленное на обозрение в качестве исторической диковины, но более не связываемое каким-либо четко обозначенным образом с исторической памятью. Проходящие мимо него посетители слабо, а то и вовсе не осведомлены в отношении десяти дней, которые якобы потрясли мир. Внеисторический режим В. В. Путина насаждает церемониальные связи главным образом с воображаемым величием Российской империи, нежели с реальным миром потерпевших фиаско советских богов.
С другой стороны, юбилейные торжества 1987 года пришлись на ключевой момент советской истории. Затеянная Михаилом Горбачевым перестройка была отмечена доселе небывалым уровнем открытости (гласности), которая быстро начала подрывать формальную монополию партии на власть, прописанную в пресловутой 6-й статье Советской конституции. Сам по себе юбилей 1987 года в этом отношении был знаменательным не как чествование свершенного Коммунистической партией за семьдесят лет, а как ровно противоположное. Связь между политической монополией партии и ее легитимностью в принципе носила исторический характер, опираясь на официально бесспорные представления о предопределенности исторического прогресса. Советский социализм был спланирован и построен последователями Ленина, однако власть партии была предписана и узаконена историей в качестве необходимого и неизбежного этапа на пути к построению коммунизма во всем мире. Большой сюжет о триумфах большевизма в буквальном смысле представлял собой прескриптивные знания, самым очевидным образом переставшие действовать. Более того, не будет большой натяжкой сказать, что крах исторического эссенциализма в Большом советском сюжете был и причиной, и следствием крушения СССР как функционального государства. Причиной – потому что формальная законность права партии на власть опиралась на истины, вытекающие из конкретного понимания истории и ее предполагаемых законов, которые чем дальше, тем больше представлялись ложными. Следствием – потому что сам этот сюжет, утратив смысл в качестве орудия легитимизации, был сочтен лишенным какой-либо исторической ценности.
Истоки Большого советского сюжета предшествовали революции, увековечившей его: хорошо известные идеологические и политические корни этого сюжета восходят к радикальному российскому народничеству XIX века и нараставшей волне европейского марксизма. То же самое верно и для второго Большого сюжета, тоже оказавшегося под ударом в 1980-е годы, на этот раз в связи с отмечавшимся в 1989 году двухсотлетием Французской революции. В данном случае в нападках участвовали ведущие французские консерваторы, включая таких видных историков, как бывший коммунист Франсуа Фюре. Консерваторы усматривали в революционной Франции не фундамент демократического социализма, а источник кровавого авторитаризма, отразившегося во французском большом терроре[6]. Среди прочих к Фюре вскоре присоединился выдающийся принстонский историк Арно Майер. В книге «Фурии» он возводил французский и советский террор к их общим революционным истокам[7]. Немецкий исследователь фашизма Эрнст Нольте и Ричард Пайпс из Гарварда, только что закончивший свой собственный монументальный труд о русской революции, пошли еще дальше, обозначив большевизм в качестве важнейшего источника нацизма и Холокоста[8]. Когда на юбилейные торжества 1989 года в Париж в качестве представителя монархии прибыла английская королева Елизавета II, газета «Фигаро» призвала Францию расстаться с революционными иллюзиями. «Французская революция кончилась, – писал редактор издания, – левое дело мертво»[9].
Идея о том, что революция способна построить демократический социализм и выполнить несбывшиеся обещания 1789 года, служила Большим сюжетом и для многих ведущих фигур в революционной России. Ее решительно продвигали социал-демократ Н. С. Чхеидзе, возглавлявший умеренную меньшевистскую фракцию имперской Государственной думы, а с февраля по сентябрь 1917 года руководивший Петроградским советом; его коллега И. Г. Церетели, видный грузинский меньшевик и главный рупор партии в 1917 году, участник первого состава Временного правительства; и А. Ф. Керенский, в 1917 году ставший военным министром, а затем министром-председателем, самая известная фигура революции после В. И. Ленина. В глазах российских демократических социалистов гегельянские и марксистские концепции причинности, коренившиеся в социально-экономических классовых интересах и отношениях, в то же время структурировали оптимистическую логику исторического будущего Российской империи, хотя, вопреки представлениям большевиков, едва ли определяли его. Прогрессивное будущее демократических социалистов было предсказуемым в «нормальные» времена, но его без труда могли изменить такие чрезвычайные обстоятельства, как Первая мировая война. Таким образом, за Большим сюжетом демократических социалистов скрывался куда больший пессимизм в отношении того, каким путем на самом деле (а не согласно логике) может пойти история. Такая великая катастрофа, как война, могла спровоцировать революционный взрыв прежде достижения социальной и культурной зрелости, необходимой для построения социализма на демократической политической основе. С точки зрения многих российских демократических социалистов, именно в этом заключалась главная беда 1789 года, который в конечном счете принес политические свободы и возможность равенства после бурного и жестокого периода бедствий, с наследием которого так и не было вполне покончено.
После исчезновения Советского Союза в 1991 году уцелел только один Большой сюжет о русской революции – сюжет о возможности либерального общественного прогресса в России, связанной с ответственной представительной политикой и полноценными гражданскими свободами. Этот нарратив тоже глубоко коренился в российском прошлом. Хотя российский либерализм так и не получил массовой народной поддержки, его различные течения после Великих реформ Александра II 1861–1874 годов получили развитие в рамках представительных сельских институтов (земств) и городских дум, и в еще большей степени – в ходе становления юридической профессии и модернизации ведущих российских университетов. Когда в России во время революционных событий 1905 года возникли политические партии, центральное место ненадолго заняли либералы из числа кадетов – членов Конституционно-демократической партии. Их лидером был видный историк П. Н. Милюков, хорошо известный в мире благодаря своим трудам о реформах Петра Великого и сформулированной им «этатистской» позиции в русской историографии, согласно которой ключевую роль в процессах социально-экономической модернизации и политических реформ играло само государство.
П. Н. Милюкова окружали другие светила, отражавшие различные течения либерального движения: передовой врач, специалист по финансам и знаток сельского хозяйства А. И. Шингарев, в 1890-е годы потрясший Россию своей книгой «Вымирающая деревня»; консервативный юрист и блестящий оратор В. А. Маклаков, брат царского министра внутренних дел; провинциальный эксперт по железным дорогам Н. В. Некрасов; и А. А. Мануйлов, экономист и ректор Московского университета. Все они в 1917 году стали министрами. В число членов кадетского ЦК входил и В. Д. Набоков, отец знаменитого писателя, а также М. М. Винавер и С. В. Панина. Первый был ведущим защитником прав евреев, в 1906 году вместе с прочими изгнанный из новой Государственной думы после протеста против ее роспуска, оглашенного в финском Выборге. Вторая – прославленной общественной деятельницей и основательницей Народного дома в Петербурге. После прихода большевиков к власти С. В. Панина была обвинена в антисоветской подрывной деятельности, но оправдана в ходе захватывающего публичного процесса. Основу кадетской программы составляли требования всеобщих гражданских прав, более демократически избранных представительных собраний, полноценного решения злободневного вопроса о землепользовании и землевладении и устранения препятствий к промышленному развитию и экономической модернизации. Их разделяли либеральные промышленники и прочие члены так называемой Прогрессивной партии, во главе которой стоял московский текстильный фабрикант А. И. Коновалов, и более консервативной либеральной партии октябристов, основанной А. И. Гучковым, которые поддерживали царскую конституционную реформу 1905 года в качестве важного шага в верном направлении. В 1917 году Коновалов стал первым российским демократическим министром торговли и промышленности, а Гучков – первым военным министром.
Большой либеральный сюжет, снова набравший популярность в ходе крушения советского строя в 1980–1990-х годах, отражал этатизм П. Н. Милюкова и общую либеральную приверженность гражданским свободам. Имея прочную опору в виде прав частной собственности, социального значения экономического роста и неограниченного индивидуализма, Большой либеральный сюжет подчеркивал историческую необходимость насаждения равных прав и социально-экономических возможностей сильным государством, выступающим против прочно окопавшегося земельного дворянства, отстаивающего свои привилегии. В более сконцентрированной «неолиберальной» форме этого сюжета, укоренившегося в России в 1990-х годах, даже умеренный демократическо-социалистический нарратив не был лишен изъянов вследствие его идеи о возможности справедливого распределения экономических благ и социальных услуг путем регулирования рыночного обмена и установления пределов к накоплению личного богатства.
Русская революция и в этом отношении не только посеяла семена советского авторитаризма, но и определила судьбу политических свобод и демократических прав в условиях социального взрыва при отсутствии сильного государства, которое могло бы их защитить. Как внутри России, так и за ее пределами эти неолиберальные посягательства после 1991 года оформились как Большой сюжет о политическом заговоре, безжалостных политических амбициях и личных трагедиях, не дававший ни малейшего повода для восторгов. В работах, написанных и внутри, и вне России, тропы власти, заговора, насилия и жестокости, долгое время имевшие антисоциалистическую направленность, были вскоре переработаны в элементы старого консервативного нарратива о самой революции. В рамках этого старого/нового подхода все социально-политические революции снова превратились в сомнительные по самой своей природе. Великие революции стали скорее ужасными, чем великими. При этом утверждается, что определяющий эффект материальных условий или социально-культурного менталитета и эмоционального состояния неспособен сопротивляться воздействию со стороны человека, то есть идеологически обусловленной политике. Всюду, где бы ни происходили революции, их творцами были эгоистичные, властолюбивые, движимые идеологией революционеры, чьи поступки подтверждают знаменитые слова Ханны Арендт о том, что «свобода лучше сохранилась в странах, где никогда не было революций, какими бы возмутительными ни были обстоятельства, связанные с властью»[10].
В своих более свежих формах разновидности трех Больших сюжетов о 1917 годе в то же время являются упражнениями в исторической апроприации, представляющей собой изучение прошлого сквозь объектив презентизма и наделение его смыслом в презентистских целях. Большинство подобных «переоценок», за исключением тех, что тщательно подкреплены новыми фактами, ошибочно предполагают, что такие текущие события, как крах Советского Союза, каким-то образом изменяют контекстуализованный смысл прежних событий – в данном случае обширные и болезненные неурядицы 1914–1922 годов, когда ленинский режим временно отложил цель построения коммунизма на пепелище мировой и гражданской войн. Сознательно или нет, но большинство больших нарративов вплетают такой контекстуализованный смысл в предзаданные телеологии. Они создают и воссоздают социальную память о прошлом, которая нередко более важна как порождение современной политической культуры, нежели как точка доступа к реальному живому опыту. Иными словами, на первый план выходит нарратив, излагающий сам себя, а не его эмпирические основы. Переоценки исходят из того, что историки прежних дней ошибались. Согласно большим нарративам, общую картину можно понять лишь путем указания ее (больших) политических причин и (как правило, еще более больших) политических последствий, то есть путем ее помещения в телеологические рамки.
Беда этих переоценок и апроприаций – не их презентизм per se и не их зачастую неприкрытое морализаторство. Любой хороший историк старается не допустить ошибок в своем сюжете отчасти для того, чтобы верно оценить его значение для настоящего. На самом деле беда в том, как именно презентистские подходы ставят сложную реальность живого опыта в зависимость от нарратива преднамеренных политических либо идеологических задач. Хорошо известные исследователям российской истории различия между интерпретациями Ричарда Пайпса (выстраивающего свои представления об этом периоде вокруг темы политического заговора) и Мартина Малиа (ставящего во главу угла марксистско-ленинскую идеологию), собственно говоря, являются неотъемлемой частью того же самого (или очень похожего) подхода. Хотя лишь немногие станут отрицать, что русская революция 1917 года занимает серьезное место в истории XX века, само признание того, что наши французские коллеги назвали бы ее événementiel значением, ставит сложные процессы его выстраивания на одну доску с упрощающими обобщениями. Великие события потворствуют Большим нарративам. Те же обычно делают упор на политике и идеологии отчасти потому, что их легче всего вычленить из хитросплетений момента, легче всего описать и задокументировать и проще всего связать с последствиями. При этом личный и коллективный социальный, культурный и эмоциональный опыт объявляется несущественным или, по крайней мере, относительно несущественным с точки зрения исторических последствий[11].
Самим по себе интересным историческим обстоятельством в этой связи выглядит то, что крушение Большого советского сюжета совпало с моментом невероятного взлета постмодернистской критической теории. Особо тщательному рассмотрению подверглась сноска как исследовательский инструмент, так же как и процессы структурирования самими историческими архивами сюжетов, запечатленных в архивных документах, посредством их сбора, каталогизации и изучения. Наряду с прочими сложностями, при этом под сомнение ставится сама ценность нарративной истории как объективного рассказа о прошлом, «каким оно было на самом деле». По мнению таких видных американских историков, как Гертруда Химмельфарб и Лоуренс Стоун, критическая историческая теория способна убить саму профессию историка[12].
Важный, хотя и не столь заметный вклад в эту дискуссию в 1990-х годах внесла работа Роберта Беркхофера «За рамками Большого сюжета», аллюзией на которую служит подзаголовок данного введения. Откликаясь на вызов, брошенный постмодернизмом устоявшемуся пониманию «исторической репрезентации и правдивости», Беркхофер развивает идеи Хайдена Уайта и других авторов о роли нарратива, риторики и контекстуализации как неявных исторических методологий. Особое внимание он уделяет переходу «от риторики к политике посредством роли голоса и точки зрения в истории»[13].
Хотя Беркхофер никак этого не подчеркивает, иллюстрацией к этому моменту служит сама по себе конфигурация исторических архивов. Центральный государственный архив Октябрьской революции в Москве стал новым национальным архивом Советского Союза, диктуя своим клиентам представления о том, каким образом из самой революции проистекало все дальнейшее, обладающее историческим значением. Любой документ с упоминанием В. И. Ленина или И. В. Сталина был помечен как «исключительно важный». Когда в США в 1930-х годах состоялось формальное основание Национального архива, Герберт Гувер посвятил его новое здание «романтике истории, [которая] будет жить здесь в написанном государственными деятелями, солдатами и всеми прочими, и мужчинами и женщинами, выстроившими великое здание нашей национальной жизни». Таким образом, и там и там Большие национальные сюжеты выстраивались вокруг ключевых фигур, политических партий и их документов, а также институтов, на которые они опирались[14].
Какое отношение эти вопросы имеют к нашему пониманию революционной России? После того как в России в целом исчезли преграды на пути к архивным документам и стали доступны всевозможные новые факты по данному периоду, связанные с событиями в провинции, распадом империи, гендерными проблемами, мобилизацией национальностей и прочим, это привело к заметному уплотнению историографии при видимом всеобщем снижении интереса со стороны публики. Ответ, предлагаемый в данной работе, дополняющей и без того обширную литературу, носит двоякий характер. Во-первых, существует вопрос о природе и последствиях возраставших материальных лишений и физических потерь 1914–1922 годов, а также о сложном эмоциональном поле беззащитности и тревоги, сопровождавшем их тем или иным образом. При этом актуальная ситуация с трудом поддается оценке. Материальные условия серьезно варьировались в зависимости от времени и места и даже в пределах различных общин. За мнимой объективностью статистики нередко скрываются несовершенство методов ее сбора и радикальные различия между конкретными местностями, искажающие выводы современных исследователей. Настроения, эмоции, эмоциональные поля – ситуации, когда чувства человека определяются в том числе и атмосферой, в которой он находится, подобно патриотизму, охватывающему солдат на параде, или заразному гневу бастующих рабочих, – все это по своей природе с трудом поддается оценке даже в реальном времени и тем более в исторической перспективе. Более того, ключевыми вопросами в данном случае служат не просто, а в некоторых отношениях даже и не преимущественно социальные и эмоциональные обстоятельства, окружавшие российские войны и революции в эту ужасную пору социопсихологических неурядиц и политических переворотов, а то, каким образом эти обстоятельства, при всей создаваемой ими неопределенности, отражали очень реальные и очень сложные проблемы, которыми был вынужден заниматься каждый из привычных претендентов на власть. Ключевой частью самих этих проблем стали формы и местоположение самой власти. В революционной России источником власти служило «дуло ружья», но она коренилась и в способности остановить жизненно важные промышленные предприятия, контролировать средства транспорта, необходимые для распределения дефицитных товаров, и перестраивать социальные отношения в деревне посредством достижения консенсуса, а не законов или указов: например, о том, что плодородные и незасеянные земли не могут быть частной собственностью, или о том, что крестьяне, чьи наделы были выделены из общинных земель, должны вернуться в общину.
Во-вторых, с этими проблемами тесно связан вопрос языков, служивших для их выражения и рассмотрения: значение понимания роли «голоса и перспективы», как выразился Беркхофер, заключается в том, каким образом ведущие индивидуальные и коллективные игроки выражали или отражали их, каким образом они могли быть услышаны или найти воплощение в конкретных шагах и политических мерах, и в их взаимоотношениях с представляющимися в исторической перспективе возможностями в плане рационального и логичного движения России в сторону полноценной модернизации и благосостояния. Как будет показано в первых главах настоящей работы, сам масштаб военного насилия и его последствий вызвал дестабилизацию исторических умонастроений начиная с того момента, когда Российская империя вступила в войну в июле 1914 года. Кроме того, он породил свои собственные новые и мощные голоса. Лишения, ужасающие потери и тревоги, связанные с нуждой и беззащитностью, сами по себе создавали все более насущную необходимость объяснить и описать то, что для многих становилось все более необъяснимым и неописуемым, иными словами, придать сюжетную связность индивидуальным и коллективным конвульсиям на землях распадающейся Российской империи.
Хотя по некоторым из этих вопросов был написан ряд важных работ, особенно молодыми британскими, немецкими и американскими исследователями, а также небольшой группой российских ученых, сейчас, в постсоветский период, освободившихся от прежних профессиональных ограничений, ни один из Больших сюжетов о войне и революции в России не делает принципиального упора на этих конвульсиях в плане спектра решений, доступных политическим игрокам всех убеждений, или разновидностей власти и языков, служивших для их рассмотрения. И либеральные, и демократическо-социалистические, и Большие советские сюжеты во всех своих изводах прямо или косвенно проводят мысль о том, что соучастие, разум и долгосрочные процессы модернизации представляли собой элементы прогрессивных исторических изменений, дававшие возможность исправить то, что в России после 1914 года как будто бы испортилось самым вопиющим образом. Собственно говоря, «модерная» война принесла с собой рост инакомыслия, мятежи, радикальные политические изменения и неудержимое насилие гражданской войны. Лишения, потери и сопутствующие им тревоги постепенно переросли в «жизнь в катастрофе», согласно эмоциональному выражению российского историка И. В. Нарского, поставив как современников, так и историков перед сложной задачей – понять и объяснить, как это могло случиться[15].
«Голос и перспектива»
На протяжении всего революционного периода в России одним из поразительных аспектов того, что Беркхофер называет «голосом и перспективой», являлась общность исторического мышления среди ведущих политических деятелей. В противоположность тому, как 1917 год оценивается в 2017 году, это выглядит причудливым анахронизмом. Как в России времен правления В. В. Путина, так и в Америке времен президентства Дональда Трампа нет ни исторической перспективы, ни понимания истории. Ни та ни другая не имеет сколько-нибудь отчетливого видения ни прошлого, ни будущего. После 1991 года в течение недолгого времени все задавались вопросом «Куда идет Россия?», представлявшим собой наследие институционализированной советской телеологии и название ежегодника. К 2017 году различные версии идеи Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» как будто бы пустили столь крепкие корни, что этому вопросу уже не уделялось серьезного внимания[16]. И США, и Россия опирались на презентистскую идеологию социальной стабильности и личного богатства, не стреноженную какими-либо идеологизированными представлениями о прогрессивных исторических изменениях. Для Путина и его сторонников необоснованная ностальгия по воображаемому былому «величию» подменяла просвещенное понимание исторических корней или хотя бы рудиментарные представления о них. Телеология была греческой философией. Как это непохоже на ситуацию в революционной России, когда буквально все основные политические фигуры отличались историческим подходом к условиям, в которых они находились, и своему положению. Их взгляды телеологически выстраивались на четких представлениях о том, куда может и должна идти история, причем это относится и к царю с его прискорбной беспомощностью, считавшему себя носителем Богом данных ценностей и трехвековых традиций Романовых, полученных от своего «незабвенного» отца, печально известного своими репрессиями Александра III, о чем Николай II и заявил на своей коронации в мае 1896 года.
Полезный способ понять эти исторические умонастроения состоит в том, чтобы не допустить их представления в виде конкретных политических идеологий, хотя они, несомненно, уязвимы для такого упрощения, и вместо этого относиться к ним как к разновидностям того, что историк и теоретик Уайт изящно назвал «глубинными структурами исторического воображения»: как к образам мысли, которые, сознательно или нет, предопределяют способ изложения исторических сюжетов[17]. Он внимательно рассматривает в этом свете европейские исторические работы XIX века, делая упор на Г. В. Ф. Гегеле, Ж. Мишле, Л. фон Ранке, А. де Токвиле и Я. Буркхардте: ни один из них не проявлял политической ангажированности при выстраивании разбираемых ими сюжетов. Напротив, русская революция отличалась тем, что историческое воображение ведущих игроков формировало конкурирующие варианты понимания революционного сюжета в ходе его развития, так же как и варианты его изначального изложения в документах, мемуарах и рассказах его участников. Имея за плечами видимость авторитета, проистекающего из личного опыта, историк и публицист П. Н. Милюков, в 1917 году недолгое время занимавший должность министра иностранных дел, сочинил одну из первых личных версий Больших сюжетов наряду с ленинским наркомом иностранных дел и руководителем Красной армии Л. Д. Троцким и прочими. И Милюков, и Троцкий написали многотомные работы, объективно названные «История русской революции»[18]. В. М. Чернов, эсер и министр земледелия в 1917 году, сделал следующий шаг и дал своей книге название «Великая русская революция»[19]. В случае А. Ф. Керенского, стремившегося к оправданию и самовозвышению, речь шла уже о «Гибели свободы» и «России на историческом повороте»: и то и другое заглавие подразумевало, что гонимый Керенский лично стоял на гребне всемирно-исторических изменений[20].
Эти и прочие исторически мыслящие деятели вплетали документы, в создании которых они участвовали, в мощные и по-разному убедительные нарративы, фильтруя как источники, так и события сквозь представления и языки их собственного исторического воображения и опыта. Более того, между ними наблюдалось интересное сходство, невзирая на разделявшие их острые политические разногласия, что являлось следствием воспитания, полученного ими всеми в эпоху модернизации – век научного мышления и открытий. В глазах историков на семинаре, проводившемся Леопольдом фон Ранке в XIX веке, с его приверженностью архивам и фактам, извлекаемым из текстов, рождалась историческая наука, на страницах сочинений Г. В. Ф. Гегеля – законы самой истории. Огюст Конт и новая дисциплина социологии разбирали сообщества и социальные взаимоотношения исходя из диалектической логики изменений, особенно (но не только) в ее марксистских версиях. В дополнение к ядовитым газам, аэропланам и дальнобойной артиллерии наука создавала и карты разума. Был популярен Зигмунд Фрейд. В ходе лечения беспрецедентных травм современной войны врачи из России и других стран, опираясь на новые идеи психологии, вскоре изобрели понятие «снарядный шок»[21]. В глазах буквально всех крупных политических фигур в революционной России исторический прогресс был не просто мирской метафорой общественной и политической жизни. За этим понятием скрывалось общее убеждение в опирающейся на науку возможности социального совершенствования, гражданских свобод и разумного управления.
Согласно либеральному историческому воображению в широком смысле слова, движителем прогресса служила рациональная власть компетентных и осведомленных чиновников, способных к эффективному управлению государством. Надлежащее обращение к разуму и целесообразности обеспечивало движение истории в прогрессивном направлении – в сторону личной и коллективной свободы и социально-экономических достижений. Кроме того, разум и целесообразность давали возможность для реализации заложенной в истории логики и процессов социально-экономических улучшений и расширения личной свободы. Наряду с прочими элементами сюда входили институциональное посредничество между конкурирующими социальными интересами, рационализация экономического производства и распределения, а также структурирование государственных институтов, обеспечивавшее поддержку личных прав и юридических структур, отвечающих требованиям целесообразности: хорошо известные пункты либеральных политических программ. Либеральный Большой сюжет в его русском революционном контексте избегал каких-либо ссылок на божественное вмешательство или фатализм. Имея перед собой «окно в Европу», прорубленное Петром Великим, он также отвергал какие-либо идеи об исторической неизбежности и небесном предопределении, даже если заложенная в нем логика предсказывала не просто желательность, но и высокую вероятность социальных и политических изменений определенного типа.
В политическом плане русских либералов революционного периода можно разделить на консервативные, центристские и левые группы, однако ключевое место в их общем историческом воображении занимала мощная идея об исторических силах, возвеличивавшая исторические роли Наполеонов и Распутиных, так же как «ответственных» монархов и премьер-министров. В этом отношении авторитетный просвещенный самодержец мог прибегнуть к государственной власти с целью преодолеть сопротивление со стороны замшелого чиновничества, устаревших социальных формаций, неэффективных экономических практик, древних традиций и недоразвитых культурных и социально-экономических условий. Серьезный шаг в этом прогрессивном направлении был сделан во время бурных событий 1905 года, когда Николай II был вынужден учредить представительную Государственную думу, наделенную значительными полномочиями, особенно в том, что касалось гражданской части государственного бюджета, хотя и избиравшуюся отнюдь не всеобщим голосованием. В принципе, конституционная Россия была вполне возможна, и так считали многие, особенно после начала войны в 1914 году.
В число кадетов как главной российской либеральной партии входили фигуры различных убеждений, по большей части сохранявшие единство благодаря авторитету П. Н. Милюкова. Совместно они выставляли себя сторонниками принципа надпартийности, а также прогрессивной и просвещенной государственности. Наряду с более консервативными либералами из партии октябристов они видели в сильном государстве необходимую защиту от деструктивного потенциала массовых политических движений, а также гаранта права и формальной власти. Центристы и более консервативные либералы считали себя борцами за права ущемленных и менее культурных социальных слоев, которых П. Н. Милюков в 1905 году по этой причине призывал «сохранять мир и спокойствие»[22]. Что касается либералов более левого толка, как входивших в кадетскую партию, так и не состоявших в ней, они стремились донести свой голос разума до всех живых социальных сил России, вместе со своими коллегами из рядов демократических социалистов поддерживая рабочие и крестьянские профсоюзы и прочие объединения, способные добиться того, чтобы народные нужды были разумно сформулированы и удовлетворены.
В том, что касается социальной позиции, историческое воображение демократических социалистов отличалось большим разнообразием. Причиной этому было не только то, что оно проводило связь между государственными институтами и конкретными социальными (классовыми) интересами, но и то, что различные демократическо-социалистические партии и течения делали упор на возможности низов добиться социального обеспечения, гражданских свобод и либеральных политических реформ посредством рациональной организации и социальной мобилизации при наличии руководства, способного в коалиции с другими силами использовать инструменты государственной власти с целью установления стабильного демократическо-социалистического строя.
Здесь мы тоже сталкиваемся с различными направлениями мышления и политическими уклонами – от социал-демократов меньшевиков, связанных с быстрорастущим российским пролетариатом и сближавшихся с либералами в таких вопросах, как гражданские свободы, до таких людей, как Ю. О. Мартов (наставник Троцкого) и прочих меньшевиков-интернационалистов, близких к Ленину с его радикальными интернационалистами. В число демократических социалистов также входили центристская и правая фракции эсеровской партии В. М. Чернова, опиравшейся на крестьянство, корни которой восходили к русским народникам. Совместно, как и все социалисты, они признавали существование дополнительного источника власти, не подчинявшегося государству, а именно – способности рабочих и крестьян воздерживаться от работы ради достижения политических целей посредством забастовок и демонстраций протеста, либо иными способами осуществлять нажим снизу, добиваясь проведения верхами жизненно необходимых реформ. В этом отношении более радикальные левые эсеры видели себя наследниками террористов-народников 1880-х годов, сумевших убить царя-освободителя Александра II в попытке спровоцировать крестьянское восстание. Иными словами, исторически предопределенные процессы модернизации превратили социально обусловленные силы в мощного конкурента монополии на власть, принадлежащей государству и узаконенной им.
Кроме того, демократическо-социалистическое воображение опиралось на объяснение событий при помощи их взаимосвязи и ссылок на более формальные «законы» исторического развития: гегельянские и марксистские законы диалектической причинности коренились в классовых интересах и взаимоотношениях. Таким образом, предметом разногласий между большинством демократических социалистов и либералов служил и вопрос о движущих силах. Многие умеренные социалисты полагали, что русским рабочим и крестьянам следует «дорасти» до полного осознания условий их существования, чтобы демократический социализм мог пустить корни, и в глазах некоторых эта точка зрения сужала диапазон видов деятельности, которыми следовало заниматься им и их партиям. Социальные силы нужно было не просто мобилизовать и бросить в бой, а эффективно применять с целью насаждения гражданских прав и политических свобод.
В этом плане события 1905 года имели последствия, связанные не только с возможностью построения конституционной демократии. Октябрьский манифест царя об учреждении Думы и даровании других ограниченных прав являлся следствием массовых забастовок в сентябре и октябре 1905 года, отчасти координировавшихся советом депутатов от многих ведущих петербургских заводов. Массовые общественные движения служили проявлением несомненной и бесспорной силы. Но столь же бесспорной была и сила государства, способного подавить их при помощи репрессивных военных и полицейских мер, находившихся исключительно в его распоряжении. После того как забастовки и демонстрации охватили и Москву, невзирая на издание Октябрьского манифеста, царские власти бросили на рабочие районы города войска с артиллерией. Жертвы были огромными. На выступления крестьян, все более активно требовавших земли и отмены повинностей, учрежденных в рамках реформ 1861 года, председатель Совета министров П. А. Столыпин ответил объявлением военного положения. Сельские военно-полевые суды повесили не менее 5 тыс. человек, хотя, скорее всего, эта цифра занижена. В этом отношении за Большим демократическо-социалистическим сюжетом стояло однозначное признание (диалектической) силы реакции. Идеологический оптимизм в отношении исторической неизбежности социализма умерялся пониманием тех ролей, которые могли сыграть зловредные игроки и заговоры, причем речь шла не о мелочах, а о немалой силе и стойкости тех, кто многое терял в случае гибели самодержавного строя. На протяжении всего революционного периода память как социалистов, так и либералов о 1905 годе укрепляла хватку, с которой сама история держала точки зрения и голоса.
Впрочем, в том, что касается «глубинных структур исторического воображения» Уайта, многие демократические социалисты во время войн и революций, в которых погрязла Россия после 1914 года, имели много общего со своими партнерами из числа либеральных демократов. В глазах и тех и других телеология исторического прогресса коренилась в процессах модернизации: институциональной рационализации соперничающих социальных интересов, экономических процессах производства и распределения и технической компетентности присматривавших за ними государственных институтов. Таким образом, как Большой сюжет демократических социалистов, так и Большой сюжет либеральных демократов исходил из ключевой роли разума и целесообразности в историческом прогрессе, причем это относилось даже (а может быть, и особенно) к пониманию мыслей и дел, расценивавшихся как «иррациональные», и борьбе с ними. Также неуместными были фатализм и что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее божественное вмешательство. Более пассивную, чем в либеральном воображении, но также ключевую роль играли партии, объединяющие политически сознательных и активистов, обладающих четким мышлением, – скорее повивальные бабки, нежели родители прогрессивных исторических изменений.
Соответственно, в этом плане подавляющее большинство исторических документов, изготовленных и созданных демократическими социалистами, имеет сильное сходство с аналогичными документами либералов. Дело тут не только в сложности сбора данных о настроениях и поведении рабочих и крестьян, но и в том, что Большой демократическо-социалистический сюжет тоже выстраивался вокруг политики, программ и действий партий и точек зрения их членов. Обширные пласты меньшевистских материалов, до 1990-х годов лежавшие непрочитанными в московском Центральном партийном архиве, содержат точно те же документы, из которых состоят архивы русских либералов: официальные протоколы партийных собраний, многочисленные варианты резолюций и прочее[23]. В Стэнфорде, Амстердаме и других местах эти материалы дополняются частной перепиской, мемуарами, различными брошюрами и прочими реликвиями из частных собраний, имеющими огромную ценность, но почти ничего не способными сказать историкам по поводу социальных вопросов, волновавших демократических социалистов.
Материалы такого рода, очень ценные для специалистов по социальной истории, вышли на передний план только в ходе выстраивания Большого советского сюжета благодаря их систематическому сбору и передаче в архивы большевиками после национализации всех российских архивов и частных собраний документов указом В. И. Ленина в июне 1918 года. Само собой, в глазах Ленина и его сторонников Большой сюжет был исторически обусловлен социальной позицией и силой рабочих и бедных крестьян несмотря на относительную недоразвитость капиталистического строя в России. Этот сюжет, радикально конкурировавший со всеми другими сюжетами, тем не менее тоже занимал ключевое место в мировоззрении, согласно которому в результате действия законов истории (спонтанного либо вынужденного) социалистической/коммунистической утопией будут управлять разум и целесообразность. Как считали Ленин и его сторонники, согласно Гегелю и Марксу разум не просто служит орудием историческим деятелям, а заложен в историю, опираясь на исторические законы причинности. Движущие силы при этом имели значение не с точки зрения неизбежной долгосрочной траектории, а в плане момента воздействия. Историю можно было подталкивать – и даже самым решительным образом – в направлении, в котором она не могла не пойти в том случае, если бы толкающим ее хватило сил для осуществления предопределенных ею радикальных изменений. Короче говоря, построение на пустом месте социализма в советском стиле, это крайнее проявление историцизма, в ходе своего революционного воплощения оправдывало и формально рациональные теории марксистов XIX века, и самые иррациональные элементы их жестокого осуществления под эгидой Ленина.
В силу того что ленинский, а затем и советский Большие сюжеты идеологизировали марксистскую целесообразность, объявляя ее историческим законом, научные документы стали необходимы уже не только для подтверждения исторических трактовок. Помимо этого, они содержали научные основы большевистской политической легитимности, исторически предопределенного права партии на власть. Свидетельства, опровергающие это, сделались опасными по самой своей природе. Национализация архивов в 1918 году являлась национализацией исторических описаний, объяснений и истины наряду с советской исторической памятью. Крупнейший в мире отряд государственных архивных работников рассортировывал многие сотни тысяч документов по заранее предписанным категориям, тем самым превращая радикальное большевистское историческое воображение в советскую историческую реальность, хотя законы, согласно которым самовольное уничтожение документов считалось преступным посягательством на государственную собственность, в дальнейшем, после краха советского режима и его Большого сюжета, обернулись пусть непреднамеренным, но щедрым подарком для историков[24].
Главное в данной работе
Настоящая работа выходит за рамки Больших сюжетов о русской революции, рассматривая весь период 1914–1922 годов как эпоху все более усложняющихся проблем, которыми в силу обстоятельств были вынуждены заниматься сменявшие друг друга правительства и силы, ведущие борьбу за власть. Самые насущные из этих проблем были связаны с реальным или мнимым увеличением нехватки самых разных жизненно необходимых благ – в первую очередь продовольствия и прочих предметов «первой необходимости» (как они именуются в русском языке); топлива для печей и промышленных предприятий; оружия и припасов для армий и военизированных сил; средств на зарплату трудящимся и обеспечение промышленного производства; работоспособных паровозов и товарных вагонов для распределения товаров. Как мы увидим далее, со всем этим был тесно связан вопрос о роли и эффективности рынков и рыночного обмена, так же как и сложная проблема эффективного контроля над ценами.
Вторая группа проблем была связана с колоссальными масштабами потерь на протяжении революционного периода во всех их многочисленных проявлениях: потерь жизней военнослужащих в невообразимых и беспрецедентных масштабах; соответствующих потерь среди гражданских лиц и предполагаемых врагов, убитых либо изгнанных из их жилищ и общин; потери многими людьми своего места и положения в обществе; а также утраты общего чувства безопасности в революционном мире, в то время и позже называвшемся миром горя, тревог, страха, огорчений и смуты. Все это было сопряжено с травмами разного вида и находило выражение в скорби и ностальгии, унынии и отчаянии, а порой и в яростном гневе[25]. Для многих, кто уцелел, потери такого масштаба меняли само понятие добра и зла, порождая различные виды агрессивного поведения. По мнению других, например великого писателя В. В. Набокова, большевики отняли у них детство[26].
Разумеется, в эти бурные годы существовали и другие проблемы, с которыми приходилось сталкиваться политическим игрокам всех мастей, включая хорошо освещенные в литературе: например, сам масштаб Первой мировой войны, как и последовавших за ней кровавых гражданских войн; этническое и национальное разнообразие империи, все политические институты которой были уязвимы перед непрерывными требованиями автономии и независимости, особенно институты политической демократии; положение революционной России в мире, охваченном ожесточением, а также угроза и последствия иностранной интервенции; резкое расхождение между формальной и массовой культурами, усугублявшее социальные различия и подрывавшее чувство национального единства и общей цели, в те трудные годы занимавшее такое важное место в Германии, Франции и Англии. Однако проблемы, связанные с лишениями и потерями, имели иную природу и иной масштаб. Они осуществляли сцепление окружающей реальности с личными чувствами и общей эмоциональной атмосферой. Они находили выражение в громких словах и жестоких случаях проявления насилия. Они требовали учитывать не только реалии, но и представления. И что самое важное, своими масштабами и запутанностью они лишали действенности любые решения, связанные с умонастроениями и историческим воображением главных политических фигур эпохи, включая даже самые идеологизированные.
Согласно этой трактовке, политические революции 1917 года представляли собой последствие народного восстания и неожиданного, но успешного военного мятежа. Их непосредственные истоки восходят к июлю 1914 года, когда началась и мировая война, хотя, как справедливо указывается во многих работах и как будет показано в соответствующих местах настоящей книги, их социально-экономические и культурные аспекты имели более глубокие структурные корни, скрывавшиеся в попытках России осуществить политическую, социокультурную и экономическую модернизацию, предпринимавшихся после освобождения крестьян и других важных реформ 1860-х годов. Кроме того, первый революционный опыт, полученный Россией в 1905 году, очень сильно повлиял на политические и исторические умонастроения после 1914 года, как и на такие политические события, как организация Петроградского совета в феврале 1917 года и последующее возникновение сети местных комитетов и советов. Но как будет показано в первой части настоящей книги, мировая война радикально изменила контекст и условия не только будущего развития России, но и краткого исторического момента установления политической демократии в феврале – октябре 1917 года, а также жестоких столкновений и опустошения в ходе тотальной Гражданской войны.
Каким образом ранние военные катастрофы осмысливались и истолковывались на фронте, а также на вершинах государственной власти, после того как российская императорская армия, крупнейшая в Европе, была послана воевать «за царя и отечество»? С июля по декабрь 1914 года в России было призвано 5,1 млн человек в регулярную армию, насчитывавшую 1,4 млн человек. К лету 1915 года было мобилизовано еще 2,3 млн человек, благодаря чему общая численность армии за первый год войны достигла гигантской цифры в 8,8 млн человек. К 1917 году это число почти удвоилось[27]. Кроме того, в 1914–1916 годах в солдатах побывало небольшое, но заметное число женщин – некоторые из них после Февральской революции были призваны в знаменитый Батальон смерти, в том числе и с целью пристыдить их товарищей-мужчин, склонных к бегству с поля боя[28]. Согласно наиболее надежным источникам, в период между началом войны и 1 января 1917 года военные потери России составили почти 3 млн человек. Многие из тех, кто был «тяжело ранен» на фронте, включая многих из 32 тыс. человек, серьезно пострадавших в ходе газовых атак, вскоре умерли. Еще более 2,7 млн человек попали в плен или числились пропавшими. Таким образом, за тридцать месяцев военных действий потери составили 40% русской армии – почти 200 тыс. человек в месяц. Около 1,5 млн пропало без вести. Более 3 млн гражданских лиц стали беженцами – как уместно выразился Питер Гатрелл, «вся империя пришла в движение». К январю 1917 года совокупное число военных беженцев достигло 6 млн человек, к июлю – 7,4 млн. Сами по себе общие военные потери к моменту, когда мировая война завершилась для России, тоже превышали 7 млн человек[29]. Как и в чем эти «военные потрясения» находили выражение? Как они распознавались, оценивались и просачивались в государственную политику и массовые представления? Было ли российское общество и его политическая экономия подготовлены к конфликту такого масштаба? Имелась ли связь между такими огромными потерями и нехваткой товаров, снижением боевого духа и громкими словами о «крайней нужде», которые расходились по стране быстрее, чем сами лишения, заслоняя реальность и превращаясь в отдельную проблему?
Каким образом по мере приближения России к февралю 1917 года углублялось понимание сопутствующих проблем и аргументов, относящихся к производству, распределению, инфляции и сложным вопросам рынка и политики цен? Как и почему эти проблемы были связаны с управлением государственными финансами, с одной стороны, и системами ценностей, с другой, которые реагировали на то, как с этими проблемами в условиях реквизиций и конфискаций пытались справиться сами рынки, сталкиваясь одновременно с ростом лишений и сопутствовавших им тревог? С 1914 по 1917 год цены на товары первой необходимости выросли по всей России, как и в прочих воюющих странах. Это все чаще выливалось в голодные бунты и другие формы протеста: например, отмечались случаи, когда толпа, состоящая «в основном из женщин», кричавших, что они голодают, бросала камни в витрины магазинов, не желавших отоваривать их продовольственные карточки[30]. Колоссальными оказались и финансовые военные потери, намного превышавшие то, что предсказывалось даже самыми проницательными людьми в России (и в других странах), и резко усиливавшие инфляцию. В начале 1916 года министр финансов П. Л. Барк и убедительно критиковавший его либерал А. И. Шингарев вступили в яростный диспут по поводу вероятных издержек и последствий еще двух лет военных действий, что никто не мог предусмотреть в момент начала войны. В ноябре П. Л. Барк докладывал, что расходы на войну, покрываемые за счет займов и выпуска необеспеченных денег, превысили 15 млрд рублей, возможно, достигнув 25 млрд[31]. Каким образом государство могло выполнить эти обязательства (и могло ли оно их выполнить), было неясно. Между тем печатные станки не сбавляли оборотов. К осени 1917 года, после того как уже А. И. Шингарев в качестве министра финансов в составе Временного правительства попытался сделать все возможное, чтобы остановить катастрофу, государственные расходы достигли ошеломляющей цифры в 1,5 млрд рублей в месяц, покрывавшейся почти полностью за счет эмиссии[32].
Как новые общественные организации, такие как военно-промышленные комитеты и городские и сельские земства, о которых пойдет речь в главах 4 и 5, связывали эти проблемы с ошибками в руководстве страной и с централизацией власти – до того как либералам и демократическим социалистам пришлось самим вплотную заняться ими в 1917 году? В самом ли деле в сфере царских финансов творилась «вакханалия коррупции», как утверждала в январе 1916 года газета «Биржевые ведомости»?[33] Являлись ли правильным решением усилия государства по «милитаризации» рабочей силы? Действительно ли фронтовые невзгоды и обманчивая объективность статистики заслоняли реальный уровень личных и коллективных лишений и тем более сопутствующих им тревог – особенно (но не только) в случаях, касающихся женщин, обремененных как утратой мужей, сыновей и отцов, так и прочими страданиями? И в верхах, и в мелких городах и селах серьезную озабоченность вызывали спекуляции и рыночные манипуляции. Такие консервативные либералы, принадлежавшие к правительственным кругам или близкие к ним, как П. Б. Струве и А. В. Кривошеин, хотели установить твердые цены на все продукты питания. Председатель Думы М. В. Родзянко и вождь лояльной царю либерально-консервативной партии октябристов А. И. Гучков выступали за национализацию крупных военных производств, остававшихся в частных руках, – в первую очередь гигантского Путиловского завода в Петрограде, чьи бастующие рабочие вскоре поспособствовали резкому росту масштабов народного восстания, покончившего с властью Романовых. Как именно А. И. Шингарев, выступавший в Думе от лица совести ее либеральной части, отзывался о возрастании разрыва между богатыми российскими социальными элитами, имевшими доступ к дефицитным товарам, и «низами», многие представители которых в городах лишились работы или были каким-либо иным образом наказаны за то, что в поисках еды оставляли рабочие места? И наконец, как могли выглядеть возможные связи между практиками и культурой «военного капитализма», массовым сопротивлением и противостоящими друг другу представлениями о справедливости?
К зиме 1916 года практически все ведущие политические фигуры полагали, что Россия приближается «к настоящей катастрофе», как предупреждал царский министр внутренних дел[34]. Важным событием как в практическом, так и в символическом плане была неудачная попытка генерала А. А. Брусилова пробиться сквозь позиции немцев и австрийцев в конце весны 1916 года с целью вывести их из войны. Прославленный Брусиловский прорыв тоже был катастрофой с точки зрения сопутствовавших ему потерь. Вопреки едва ли не всем наставлениям, озвученным представителями противоборствующих в конце 1916 года идейных направлений, перед Россией явно маячили взрыв и перспектива «утонуть в крови»[35]. К октябрю лишения и «продовольственный вопрос» занимали уже всех ведущих игроков, публичные форумы и печать. В этих условиях директивные «решения» сделались главными сценариями последующих революционных событий.
Как же нам в таком случае помещать рассказ о политических изменениях в 1917 году в их социально-экономический и социокультурный контекст – всевозможные состояния и аспекты лишений и потерь, продолжавших усугубляться в условиях первого в российской истории эксперимента по насаждению политической демократии? Роль представлений, а также реалий, связанных с тревогами, вызванными лишениями и ценами, а также их материальным уровнем, по-прежнему служит камнем преткновения – так же как и сложный вопрос потерь, поставленный сейчас открыто и четко в связи с попытками отыскать в Первой мировой войне какой-либо внятный и приемлемый смысл.
В этом отношении способы подхода к этим и другим вопросам и места, где это происходило, оказались под влиянием радикальных политических изменений, столь тщательно описанных в литературе. Расползание государственной власти из центра, столь вдохновлявшее еще до 1917 года усилия российской «ответственной публики», направленные на превращение в носителей власти особых уполномоченных и местных должностных лиц, теперь обретало институциональные рамки самым неожиданным образом. Вследствие демократизации сверху, происходившей на железных дорогах, власть получили административные комитеты на линиях. Профсоюзы и фабрично-заводские комитеты формально получили полномочия отстаивать интересы рабочих перед лицом владельцев предприятий с целью роста объемов производства и установления обоснованных окладов. И либералы, и демократические социалисты сходились на том, что пресечь эскалацию социального конфликта можно лишь путем успешного посредничества.
В ходе формирования первого коалиционного правительства либералов и социалистов в начале мая 1917 года было создано новое Министерство труда, которое возглавил известный меньшевик и вице-председатель ВЦИК Советов М. И. Скобелев, занимавший эту должность до сентября. В то же время экономист В. Г. Громан, демократический социалист и один из руководящих членов престижного Общества им. А. И. Чупрова для разработки общественных наук, действовавшего при Московском университете, возглавил экономическую комиссию Совета. Маститый социал-демократ Г. В. Плеханов встал во главе подчинявшейся инженеру и министру путей сообщения кадету Н. В. Некрасову комиссии, цель которой заключалась в определении размеров окладов для железнодорожных рабочих.
Кроме того, В. Г. Громан в 1915–1916 годах играл активную роль в действовавшем при правительстве Особом совещании по обороне государства и задавал тон в Совете городов, публично поднимая вопросы рынков и цен. В 1917 году Исполком Петроградского совета поручил ему решить их. Перед лицом аналогичной задачи применительно к железным дорогам России – «артериям» страны, как их называли, – Г. В. Плеханов фактически расписался в своем бессилии. Пожалуй, наиболее драматичным оборотом в развитии Больших сюжетов 1917 года было занятие пламенным социалистом А. Ф. Керенским должности военного министра в дополнение к уже занимаемой им должности министра юстиции. В тесном сотрудничестве с генералом Брусиловым он сразу же взялся за разработку планов нового наступления, которое, согласно их ошибочному убеждению, должно было защитить революцию, успешно приведя войну к завершению. Еще до того, как оно началось в июне, Керенский, как детально показал российский историк Б. И. Колоницкий, стал первой культовой фигурой революционной эпохи, на короткое время далеко обойдя в плане публичного признания и массовой поддержки недавно вернувшегося В. И. Ленина и всех прочих[36].
Почему в конечном итоге проблемы лишений и сопутствующие им тревоги не отступили? Почему А. И. Шингарев, так резко критиковавший царского министра П. Л. Барка, оказался неспособен побороть инфляцию и в отчаянии опустил руки? Почему В. Г. Громан и прочие не сумели предъявить Совету и Временному правительству действенный план по введению твердых цен и регулированию обмена? Какими были последствия безуспешной работы министра труда М. И. Скобелева в созданном им Особом отделе по разрешению конфликтов между управляющими и рабочей силой, а также усилий Г. В. Плеханова в железнодорожной сфере? Почему в этом контексте было отдано предпочтение непродуманным решениям проблемы дефицита и распределения товаров, принятым до 1917 года, несмотря на попытки Скобелева, Плеханова, Громана и прочих не допустить этого? В ходе этого процесса как формальные проявления власти государства и советов, так и усиливавшееся (и ожесточавшееся) соперничество между политическими партиями и общественными формированиями резко контрастировали с различными формами проявления власти во время забастовок и демонстраций. Впрочем, в противоположность Большим сюжетам во всех их разновидностях главное значение в данном случае имеют пределы возможностей в эффективной борьбе с материальными и эмоциональными лишениями, на которые опирался собственно революционный подъем – октябрьские события, ставшие «бедой для демократии».
Изучение русских революционных процессов с этой точки зрения позволит нам рассмотреть известный сюжет о захвате Лениным и большевиками того, что к октябрю осталось от государственной власти, в совершенно ином свете по сравнению с тем, как его преподносят теории о политических интригах и волевых решениях – в отсутствие которых, как писал Керенский в работе «Гибель свободы», ничто не помешало бы приходу в Россию гражданских свобод и политической демократии[37]. Разумеется, политические махинации Ленина и его почти невероятное властолюбие тоже сыграли здесь важную роль. Укрепление своей власти, а не просто ее захват, несомненно, послужило для большевиков орудием, посредством которого была осуществлена успешная институционализация их диктатуры, по крайней мере в смысле ее тотальной монополии на формальную власть и абсолютного контроля над проявлениями неформальной власти в ходе демонстраций и прочих разновидностей социального протеста. Тем не менее социально-экономические и социокультурные обстоятельства Октябрьской революции – от недолгой, но пророческой истории «Железнодорожной республики» в сентябре и все более широкого распространения отлаженных практик конфискаций и реквизиций, призванных решить проблемы дефицита и распределения, до последствий совокупного эффекта материальных и эмоциональных утрат, наряду с прочими возможными факторами, – нуждаются в дальнейшем изучении. В соответствии с этим нарративом, Ленин и его соратники пришли к власти, воображая, что понимание исторических процессов позволит им наконец решить эти проблемы – по крайней мере, в том, что касается рабочих, крестьян и некоторых других групп, имевших право на лучшую жизнь согласно большевистскому мировоззрению.
При этом я исхожу из того, что эти темы можно проследить до их пусть и ужасающего, но логичного конца, отразившегося как в социально-экономических, так и в политических хитросплетениях гражданской войны. Вопрос о том, почему «военный коммунизм» оказался еще менее эффективным, чем «военный капитализм», в борьбе с обстоятельствами революционной России, дает нам отправную точку для рассмотрения некоторых неизученных аспектов укрепления большевистской власти, включая «летучие инспекции», энергично, но тщетно пытавшиеся обнаружить мифические склады припрятанных товаров (что повторилось во время товарного голода, последовавшего за распадом Советского Союза), а также всеобъемлющую институционализацию реквизиций и конфискаций и милитаризацию рабочей силы – меры, на которые возлагали надежды в свое время царские власти в попытках преодолеть проблемы дефицита и потерь. Сложная задача, встающая перед историками, изучающими данный период, не сводится к поиску слов для адекватной передачи материальных и эмоциональных лишений, сопутствовавших жизни в условиях катастрофы, разразившейся после 1918 года. Требуется также разобраться в причинах и сущности не только безудержного насилия, проникшего во все уголки бывшей царской империи вместе с демобилизованными солдатами и дезертирами, возвращавшимися в свои города и села и превращавшимися в красных, белых и зеленых всевозможных оттенков, втянутых в свирепую борьбу, имевшую целью расплату и выживание, но и развернувшегося как на подвластных, так и на неподвластных большевикам территориях противостояния между стремившимися воплотить в жизнь ленинские исторические фантазии о прошлом и будущем России, с одной стороны, и теми, кто старался не допустить этого – с другой.
Методологическая задача: прочтение ненаписанного
В предположении, что последствия дефицита и потерь составляют ключевую часть опыта, полученного за годы русской революции, встает вопрос о том, какие методы их оценки могут быть плодотворными в аналитическом плане. В данной работе мы обратимся к письмам, выступлениям, требованиям протестующих, описаниям действий и прочим первичным источникам, выражающим широкий спектр настроений, особенно настроений солдат и их родных, для которых последствия потерь стали практически обыденностью. С тем чтобы свести к минимуму эффект сортировки, который историческое повествование неизбежно привносит в способ использования источников, будут рассмотрены главным образом архивные документы. Но как можно быть уверенным в том, что настроения, описанные в архивных документах и прочих первичных материалах, сами по себе точно отражают реальные чувства, ощущавшиеся людьми, что индивидуальные или коллективные чувства, зафиксированные в архивных описаниях, не были отфильтрованы через социальные и культурные нормы, тоже отраженные в них, или через возможные ожидания их читателей, включая военную цензуру и полицию?
Помимо этого, имеется проблема взаимосвязи между выражением личных эмоций и тем, что изображается в данной и других работах в качестве коллективных настроений, под которыми приближенно имеется в виду то, что ощущал бы коллектив, если бы представлял собой органическое эмоциональное целое. Существуют ли обстоятельства, когда о личных эмоциях с достаточной точностью можно сказать, что они отражают эмоции целой группы? И может ли тот способ, каким конкретные события и их описания задают коллективные настроения, в некотором смысле быть настолько же важным, как собственно и сам спектр переживаний – как, например, эмоции, испытываемые во время военных парадов, патриотических торжеств, крестьянских протестов или забастовок? В данном исследовании будет неоднократно указано, что способы выражения и описания чувств достаточно значимы сами по себе, как бы точно они ни отражали то, что ощущалось на самом деле. Не составляет труда увидеть вероятную связь между тревогой и реальной либо ожидаемой нехваткой продуктов питания, с учетом того, насколько массовым было ощущение голода, то есть связь, удостоенную отдельной категории в психологическом репертуаре тревожных расстройств и известную как «продовольственная уязвимость». Задача становится особенно сложной в том случае, когда первичные материалы ссылаются на последствия потерь или описывают их. Такие свидетельства, как солдатские письма, следует читать, проявляя особую внимательность в отношении возможных фильтров, влиявших на выражение авторских чувств, так же как и причин, по которым это происходило.
Более того, даже в самых пронзительных описаниях, содержащихся в письмах и мемуарах, пережитый опыт нередко передается языком, который столь же многое скрывает, сколь и сообщает. «Шампанское льется рекою, оплачиваемое щедрой рукой интендантства, до сих пор не приславшего нам куска хлеба», – писал один солдат еще в январе 1915 года. За словами другого, писавшего в 1916 году домой, что их вели в бой, словно скот на бойню[38], почти наверняка скрывается чувство бесящей и унизительной беспомощности, даже если иные военные цензоры усматривали в «ожидании смерти» выражение патриотического стоицизма. В 1917 году солдаты описывали ужасающие условия на фронте и отсутствие заботы о раненых, желание поскорее вернуться домой, злобу в адрес рабочих и прочих, своим «предательством» лишающих смысла понесенные ими «жертвы» («Перевешать мерзавцев!»), кровожадные чувства по отношению к коррумпированным офицерам, распродающим драгоценное продовольствие и обмундирование, возмущение, вызванное известиями, будто бы в Москве убиты две тысячи женщин, и тем, как относятся к самим бойцам («…Тяжело нам живется, гоняют нас как собак!»). После того как солдатам и рабочим в 1917 году было позволено создавать свои организации, повсюду стало выдвигаться бескомпромиссное требование о достойном обращении[39]. Здесь мы почти наверняка имеем дело с эмоциональным варевом из гнева и потерь, способствовавшим выбору того кровавого пути, которым пошла революция.
Тем не менее аналитическая проблема оценки эмоциональных состояний и взаимосвязи между индивидуальным и коллективным насилием не снижает исторического значения собственно проблемы потерь. В еще большей степени, чем в случае, связанном с дефицитом и финансами в пошатнувшейся политической экономии революционной России, сама природа потерь и их последствия таковы, что их было трудно оценить иначе, нежели в плане объективных цифр из статистики о военных потерях или докладов о числе беженцев, которых приходилось кормить городам и селам. Насилие, санкционированное государством, всегда имеет четкие проявления в действиях и поступках и всегда становится расплывчатым в том, что касается его субъективных последствий, о чем свидетельствуют первые дискуссии о снарядном шоке в годы Первой мировой войны. Всеобщее насилие почти всегда определяется своей непосредственной жестокостью, а не обусловившим его социальным и психологическим ожесточением.
Рядом исследователей – особенно это касается небольшого числа российских историков, освобожденных от оков Большого советского сюжета, – предпринимались серьезные попытки выявить эмоциональные умонастроения революционного периода. Особенно впечатляющий вклад в литературу по этой теме внесли В. П. Булдаков и Т. Г. Леонтьева, серьезно повлиявшие на мою позицию по данному вопросу[40]. По мнению их коллеги А. Б. Асташова, определяющим элементом крестьянской жизни накануне Первой мировой войны было «чувство принадлежности к конкретному месту своего рождения», «сакрализация» своей личной «родины», вместе с которой крестьяне отправлялись на фронт защищать абстрактное отечество[41]. Как пишет О. С. Поршнева, настроения солдат-крестьян структурировались нестабильностью традиционной сельской общины и были пронизаны враждебностью к помещикам и государственным чиновникам, на которых возлагалась ответственность за бедность деревни. По ее мнению, эти настроения выливались в почти непрерывное сопротивление межпоколенческому давлению со стороны модернизирующейся и претерпевающей индустриализацию экономики, которое ослабляло традиционную крестьянскую религиозность и еще сильнее обостряло трения. Франко-канадский историк Коринн Годэн делает следующий важный шаг, показывая, что призыв солдат из их сел подрывал представления о справедливости, службе и жертвах и делал мишенью крестьянского гнева отношения с государством и его представителями. В то же время французский историк Александр Сюмпф изучил все разновидности фронтового опыта, которые не могли не породить мощную эмоциональную реакцию – от убийственного воздействия артиллерийского и пулеметного огня на тех, кто оказался на «ничейной полосе» между окопами, до опасной и эмоционально пагубной практики поиска трупов и их фрагментов и захоронения того, что осталось от погибших[42].
Впрочем, когда речь идет, в частности, о самых свирепых формах насилия, пронизывающих русский революционный опыт с первого и до последнего момента, мы можем только выдвигать догадки относительно возможного набора его источников. Например, подозрительное отношение к евреям в прифронтовой зоне до 1917 года легко объясняется предположением о том, что они вполне логично отдавали предпочтение австрийским и германским властям, более толерантным по сравнению с русскими, но оно не объясняет той жестокости, с какой на них нападали, и того явного удовольствия, которое погромщики испытывали, видя их страдания. Вопрос о насилии следует рассматривать в свете российских социально-экономических обстоятельств в 1919–1920 годах, но у нас нет убедительного объяснения, почему в эти годы было убито около 100 тыс. евреев, главным образом мародерствующими антибольшевистскими силами.
Можно также признать, что в этом отношении так же полезными, как документы и прочие источники, могут оказаться солдатские письма и прочие документы, отражающие эмоции, «идущие вразрез» с общими или совместными историями, как выразилась антрополог Энн Столер[43]. Она развивает эту идею, ставя во главу угла материалы из таких архивов, как бывший Центральный государственный архив Октябрьской Революции в Москве, где в специальных закрытых отделах хранились письма и документы, противоречившие официальным нарративам. Как своим составом, так и степенью своей сохранности эти материалы отражают подавлявшиеся контрнарративы, или вторичные нарративы, согласно определению Сэмюэля Хайнса[44]. Например, как минимум до февраля 1917 года солдаты на свой страх и риск писали то, что шло вразрез с патриотизмом, насаждавшимся царским правительством. Наказание за подрывные взгляды обычно было жестоким и скорым. Весьма суровыми были даже санкции за клевету на царя и членов царской семьи. Аналогичные практики впоследствии были возрождены и в Красной, и в белых армиях.
Тем не менее имеются многочисленные свидетельства того, что вторичные нарративы, или контрнарративы, были распространены в той или иной форме среди русских солдат с момента мобилизации вплоть до завершения гражданских войн, рисуя иную картину, нежели патриотическая лояльность «царю и отечеству» и «приподнятый дух», что противоречит тому, как царские военные цензоры описывали преобладающие солдатские настроения на фронте на протяжении всей войны. Также эти контрнарративы в какой-то момент обязательно оставляли отпечаток радикально нового опыта, пришедшего в Россию вместе с революцией, даже если его было непросто или небезопасно излагать на бумаге: изумления, страха, паники, неуверенности и эмоционального замешательства, которое порой взывает к классификации. В этом отношении проблему извлечения настроений из текстов можно частично решить, признав, что источники, особенно письма, которые солдаты отправляли домой, сами могли порождать описываемые в них эмоции. Но вопреки общепринятой трактовке, опасность, грозившая тем, кто «шел вразрез» с патриотическим нарративом на фронте, на заводах, в селах и на многочисленных отчаянных митингах, столь оживлявших политическую жизнь в 1917 году и впоследствии, повышает достоверность их эмоционального наполнения, придавая ему более «правдивое звучание». Перед историками по-прежнему стоит проблема оценки чувств, и из этого вытекает, что, по крайней мере, некоторые письма и документы такого рода могут убедительно донести до читателей прочитываемые в них эмоции, отчасти устраняя проблему доступа как препятствие на пути к эмоциональному пониманию.
Революция в историческом контексте: Большие сюжеты и исторические объяснения
Устойчивость Больших сюжетов вытекает не из их способности к описанию прошлого. Большие сюжеты, опирающиеся на научные нарративы, тщательно выстроенные историками на основе документов или изложенные в книгах, призванных освежить общественную память, неизбежно включают объяснения случившегося, проводя связь между событиями и людьми посредством исторического воображения таким образом, который превращает их нарративные структуры в орудия объяснения. Составной частью рассказа о революции становится вопрос о том, почему она случилась. Вопрос о том, почему большевики пришли к власти, позволяет вывести из причин и последствий понимание того, каким образом могут происходить радикальные социальные преобразования. В политической биографии заложена теория истории, объяснение, основанное на вопросе о движущих силах. В настоящей работе речь идет не о том, что политика и биографии не имеют никакого значения с точки зрения исторических итогов, а о том, каким образом реальная и эмоциональная стороны потерь и социально-экономических тревог и лишений контекстуализируют пределы политического воздействия самого по себе – например, каким образом концептуализация демонстраций не как «бунтов», а как проявлений эмоционально заряженной социокультурной активности помогает выявить возможности социальных и политических преобразований с точки зрения различных видов власти, заложенных в социокультурных формациях, и их связи с социально-экономическими и политическими случайностями.
Согласно расширенной трактовке, отход Ленина и его партии от военного коммунизма в 1921 году ознаменовал конец революционного периода в России – этого современного «смутного времени», как его часто называют, имея в виду годы, предшествовавшие воцарению династии Романовых в 1613 году, в течение которых смерть и разрушения на треть сократили численность российского населения. Каким же образом в таком случае нам понимать ужасающий голод, разразившийся в конце 1921 – 1922 году, когда боевые действия в целом прекратились, и прибавивший еще 5 млн жертв к цифре в 20 с лишним миллионов военных и гражданских лиц, расставшихся с жизнью с момента начала мировой войны в 1914 году? Действительно ли в стране не осталось хлеба и других продуктов питания? По-прежнему ли проблема заключалась в неудовлетворительном состоянии железных дорог, как утверждали многие после 1914 года? И что именно из происходившего в те годы с самими деньгами подрывало попытки большевиков контролировать их использование как средства обмена либо покончить с ним? Каким образом на перспективы победы, особенно во время наступлений белых армий в 1919 и 1920 годах и большевистских контрнаступлений, наряду с политикой и уровнем военной компетентности влияли злободневные продовольственные проблемы? Как случилось, что даже на территории большевистской России «сознательные» (по их собственному определению) рабочие, сообщавшие, что они «уже много месяцев терпеливо голодают», телеграфировали из Иваново-Вознесенска, протестуя против политики центра: «…все отдали, ничего не получаем… мы голодны сейчас и не имеем фунта запасов… Мы вынуждены будем сложить с себя всякую ответственность за положение дел»[45]. В этот кровавый период становления советской власти с жизнью от всех причин рассталось не меньше, или даже больше, людей, чем в годы Второй мировой войны. И почему дефицит и потери никуда не делись, несмотря на Новую экономическую политику, провозглашенную Лениным в 1921 году? В 1927 году, когда отмечалась десятая годовщина революции 1917 года, Л. Д. Троцкий и прочие кандидаты в проводники перемен были уверены, что надежды революции на безопасность и благополучие не могут воплотиться в жизнь при И. В. Сталине. Что же в таком случае можно в качестве эпилога сказать о возможных связях (если они были) между последствиями дефицита и потерь, имевших место десятью годами ранее, и инициированной последним из «великих вождей» революции атакой революционного государства на тех рабочих и крестьян, интересы которых оно якобы представляло – жестоким поворотом к насильственной коллективизации и милитаризированной индустриализации, в очередной раз свирепо подтолкнувшим историю в «правильном направлении»?
И наконец, почему после революции Большой либерально-демократический сюжет пустил такие крепкие корни за пределами Советской России? Отчасти причина скрывается в природе документов, подкрепляющих его фактами и подтверждающих осуществимость его обещаний. Знакомство с бесценными собраниями документов либеральных и демократическо-социалистических партий, опубликованными после 1991 года, не может не навеять убеждения в ключевой роли, которую в тот период играли политика и возможности. Зачастую потрясающие речи и партийные протоколы заставляют забыть о сложных социально-экономических и социально-психологических проблемах, среди которых вершилась революционная политика и которые настойчиво требовали решения. С другой стороны, еще одной причиной, пожалуй, была, как полагает Арендт, совместимость демократическо-либерального сюжета с общими западными представлениями об исторических силах и угрозах, заложенных в революционных обстоятельствах. Несомненно, это помогает объяснить, почему такой авторитет приобретают труды наподобие «Русской революции» Пайпса, опубликованной точь-в-точь тогда, когда Советская Россия сама отказалась от своего Большого сюжета в пользу предложенной ним неолиберальной версии.
В целом недостаток, присущий наиболее распространенным изложениям Больших сюжетов о войне и революции в России, который пытается исправить данная работа, сводится к отсутствию понимания связи между сложными и исторически контекстуализированными последствиями дефицита и потерь и ходом революции и ее результатами – понимания, усматривающего в политике и проявлениях власти в первую очередь набор усилий по решению этих проблем. Соответственно, она пытается внести вклад в дальнейшее понимание этих чрезвычайно сложных проблем, включая порожденные ими эмоциональные состояния – проблем, с которыми в те годы каким-то образом приходилось иметь дело всем сменявшим друг друга обладателям какой бы то ни было власти; проблем, с которыми как прежде, так и впоследствии сталкивались прочие крупномасштабные революции. Иными словами, на страницах данной книги мы пытаемся показать, что могли представлять собой как в политическом, так и в социальном и эмоциональном плане ключевые элементы этого эпохального исторического момента, и тем самым дать более точное представление о значении революционной России и ее месте в российской и мировой истории.
Часть I. Дефицит и потери в контексте империи
Глава 1
Бог и дальнобойные орудия: языки потерь
Сразу же после вторжения австрийских сил в Сербию 14 июля 1914 года (по юлианскому календарю) в Санкт-Петербурге перед грандиозным Казанским собором на Невском проспекте, представлявшим собой православное подражание римскому собору Святого Петра, собралась огромная толпа. То, что происходило в столице и по всей России, сходным образом описывалось и очевидцами, и историками. В Петербурге толпа криками одобрения откликнулась на слова священника о том, что «отступление перед опасностями войны было бы для России нравственно неприемлемым отказом от вековых исторических задач и кровных интересов собственного русского народа». Под ударом оказалось достоинство органического Российского государства, как и солидарность всех славян[46]. Спустя несколько дней благообразный 46-летний царь Николай II издал императорский манифест, в котором призывал своих подданных встать на защиту отечества. Оглашение манифеста состоялось на торжественном богослужении в большом Георгиевском зале Зимнего дворца. Сам этот зал был оформлен как мемориал Отечественной войны 1812 года против Наполеона. Церковная служба, проведенная перед чудотворной иконой Казанской богоматери, специально доставленной во дворец, играла роль связующего звена между святостью исторической традиции, жертвами и национальной идеей, с одной стороны, и божественной волей и провидением, с другой. Николай II испытывал глубокую веру в возложенную на него Небом роль защитника православного русского государства. По словам французского посла Мориса Палеолога, царь молился «со священным пылом, придававшим его бледному лицу трогательное мистическое выражение»[47]. После богослужения царь вышел на дворцовый балкон, где его приветствовала огромная толпа, вставшая на колени, чтобы вместе с ним вознести молитву о ниспослании успехов русскому оружию.
Вскоре после этого царь созвал чрезвычайную однодневную сессию двух органов законодательной власти – Государственного совета и Государственной думы. В глазах некоторых этот день стал одним из самых «исторических» и «незабываемых» моментов во всей русской истории, когда наконец стали реальностью «светлые мечты лучших наших людей»[48]. Николай II всегда смотрел на Думу с возмущением и презрением, видя в ней опасную угрозу своей собственной Богом данной власти. Однако перед лицом новой угрозы, принявшей обличье войны, царь по совету своего хилого и слабосильного 75-летнего председателя Совета министров И. Л. Горемыкина обратился к презираемому им институту, чтобы быть «в единении с народом»[49]. Даже самые оппозиционные думские фигуры ответили ему тем же, заявив о своей безусловной готовности пойти «за своим Царем на защиту своего отечества», поскольку «иначе и не могло быть»[50].
Собравшиеся депутаты были носителями самого разного опыта и мировоззрения. Они устроили овацию престарелому Горемыкину, обещавшему, что Дума будет созвана прежде истечения полугода, оставшегося до ее следующей плановой сессии, «если по чрезвычайным обстоятельствам это будет признано необходимым»; еще громче они аплодировали в ответ на его несколько пророческие слова: «Мы доведем эту войну, какая бы она ни была, до конца»[51]. Затем, после выступлений министра иностранных дел С. Д. Сазонова и министра финансов П. Л. Барка, возможность высказаться получили еще пятнадцать депутатов, представлявших все основные фракции Думы, кроме большевиков.
Каким бы удивительным это ни могло показаться в ретроспективе, все без исключения ораторы так или иначе затрагивали тему возможностей, которые война открывала для России, хотя и не без ссылок на благородные и необходимые жертвы, которые придется принести солдатам и их семьям. Министр финансов П. Л. Барк, бывший директор одного из ведущих русских банков, уже давно сетовавший на общую стагнацию русской промышленности и говоривший о необходимости стимулирования инвестиций государством, воспользовался возможностью, чтобы решительно указать на необходимость «наряду с военной мобилизацией произвести также мобилизацию финансовую», для чего требовались серьезные реформы, которых давно добивались либералы и другие политические деятели. Первым делом П. Л. Барк заверил, что государство выделит колоссальные средства, необходимые для ведения войны. Под аплодисменты и возгласы «Браво!» он объявил, что первым шагом в этом направлении будет наделение госбанка правом «учитывать краткосрочные обязательства государственного казначейства» в объемах, требуемых для удовлетворения военных потребностей. Россия могла быть уверенной, «что правительство и в дальнейшем готово идти на самые широкие затраты на эту неотложную надобность»[52].
Темы открывшихся возможностей и единства поднимались во всех дальнейших выступлениях. Депутат Н. М. Фридман от имени российских евреев, которые «всегда чувствовали себя гражданами России и всегда были верными сынами своего отечества», дал обещание, что еврейский народ встанет под российские знамена и «исполнит свой долг до конца». Представитель ультраправых, печально известный реакционер Марков 2-й из Курска, полагавший, что Талмуд запрещает евреям приносить присягу, и добивавшийся их изгнания из армии, заявил, что война только укрепит и очистит Святую Русь. Он уже собственными глазами видел в Курске, как «часть русского народа провожала свою армию» на фронт. «Более 20 000 людей, – говорил Н. Е. Марков, – среди которых, я думаю, не было ни одного, который не отправил бы в армию или брата, или сына, или мужа; было много женщин; они шли проводить тех своих родных по духу и по крови, которые, быть может, никогда не вернутся и сложат свои головы на защиту дорогого отечества». И он не слышал «ни одного слова, ни одного упрека по поводу того: зачем война?»[53]. Впрочем, самыми знаменательными были выступления двух людей, которым в 1917 году было суждено стать ведущими действующими лицами только-только разворачивавшейся драмы: П. Н. Милюкова, влиятельного историка, публициста и вождя либеральной российской Конституционно-демократической партии (кадетов), в 1917 году ставшего министром иностранных дел, и А. Ф. Керенского, склонного к актерству демократического социалиста из Саратовской губернии, будущего военного министра, а затем, с июля по октябрь 1917 года – последнего министра-председателя демократической России и самого яркого из ее персонажей.
Стремление П. Н. Милюкова превратить Россию после революции 1905 года в современную европейскую конституционную демократию хорошо известно[54]. Даже в самый разгар бурных дебатов о наилучших способах достижения этой цели он сохранял твердую уверенность в том, что до царя в конце концов удастся донести мысль о необходимости разумных либеральных реформ для социальной и экономической модернизации России, без которой она окажется не в состоянии защищать и продвигать свои интересы в качестве мировой державы. Война давала русским либералам исключительную возможность убедить царя в том, что они поддерживают государство, и в необходимости провести в духе национального единства прогрессивные реформы, требуемые для победы[55]. Каким бы ни было отношение партии Милюкова к государственной политике в прошлом, первейшая задача либералов отныне заключалась в том, чтобы защитить страну и сохранить ее «единой и неделимой». Затронув тему возможностей, открывавшихся благодаря войне перед российским государством, П. Н. Милюков во всеуслышание огласил оптимистическую либеральную убежденность в том, что посредством рационального воздействия режим удастся поставить на рельсы прогрессивного исторического развития. Согласно стенограмме, впервые за свою длительную парламентскую карьеру он удостоился «бурных аплодисментов» от всей палаты[56].
Этой убежденностью вождь либералов резко отличался от пламенного А. Ф. Керенского. Тридцатитрехлетний Керенский, выбранный в IV Думу в качестве одного из десяти депутатов от умеренных трудовиков – партии, близкой к опиравшимся на крестьянство эсерам, – выставлял себя в качестве незаменимого звена между интересами российских сельских и городских трудящихся. Подобно другим социалистам, не откликнувшимся на призыв радикалов голосовать против кредитов и решительно выступить против войны, Керенский надеялся, что рабочие и крестьяне мобилизуются и принудят режим к политическим и социальным реформам. Проявив в своем выступлении ту же страстность, к которой он будет так активно прибегать в 1917 году, он со всем блеском риторики высказал идею, что «на полях бранных в великих страданиях укрепится братство всех народов России». По его мнению, власть, заложенная в крестьянском и рабочем движении, являлась необходимым элементом успешной политической борьбы. Он обращался со своим воззванием не к царю и не к своей аудитории, а к широким массам крестьян и рабочих, которые, как он надеялся, проведут Россию через «нечеловеческое страдание, нищету и голод» и, «защитив страну, освободят ее»[57].
По крайней мере, в этот исторический момент будущий глава Временного правительства был уверен, что его слушает вся Российская империя. И он был прав. Через несколько дней стенограмма думской сессии была напечатана отдельным изданием в 1 млн экземпляров[58]. Все ведущие газеты и журналы снова и снова подвергали разбору речи депутатов, в большинстве своем вычитывая в них возможность фундаментальных изменений в отношениях между правительством и обществом, как выразилась ведущая газета «Русские ведомости», писавшая об исторической возможности пересмотреть устаревшие настроения и в силу необходимости создать нечто вроде французского «священного союза», который обеспечит военную победу и обновление русской нации[59]. Как минимум в тот момент В. И. Ленин и большевики-интернационалисты, чьи голоса, осуждающие войну, вскоре будут раздаваться из различных европейских убежищ, представлялись фигурами, нисколько не способными повлиять на российское будущее. Вскоре по стране разошелся самый знаменитый военный лубок «Священная война» с изображением облаченного в доспехи царя на белом коне с лучами восходящего солнца за спиной, с мечом в руке и щитом, по которому шла надпись: «С нами Бог!»[60] Патриотические настроения, словно растекаясь из Петербурга, переименованного в Петроград, что должно было подчеркнуть его русскую сущность, охватили европейские губернии, Урал и обширные пространства Сибири до самого Владивостока – города в пяти тысячах миль от столицы, вскоре оставшегося единственным крупным портом, куда круглый год могла прибывать иностранная военная помощь.
Оценки патриотизма
В глазах многих сторонников политического и социального режима Российской империи ни одно событие из случившихся за годы правления последнего русского царя не казалось более полезным для судеб самодержавия, чем начало Первой мировой войны – «эти чудесные дни в начале августа», как впоследствии называл их британский посол сэр Джордж Бьюкенен[61]. За первые шесть месяцев 1914 года волнения с участием рабочих достигли уровня, не наблюдавшегося со времен революционных потрясений 1905 года, хотя с тех пор прошло каких-то девять лет. Бойня (как ее вскоре стали называть) на Ленских золотых приисках в 1912 году стала искрой, от которой, как многие опасались, могла разгореться новая революция. В 1913 году почти 900 тыс. промышленных рабочих приняло участие более чем в 2400 забастовках, протестуя против низких заработков и скверных жилищных условий. За семь месяцев, с января по конец июля 1914 года, эти цифры выросли, составив более 1 300 000 рабочих и 3400 забастовок[62]. В местах сосредоточения промышленности, особенно на Выборгской стороне Петербурга, отделенной рекой Невой от городского центра, где располагались дворцы и министерства, бурлило недовольство. Пресненский район в Москве, где в декабре 1905 года шли бои с царскими войсками, снова стал ареной агитации и протестов. Перемен требовали рабочие, студенты, интеллигенция и публичные фигуры, как состоявшие в главных партиях, так и беспартийные.
Волнениями была охвачена и деревня. Попытки председателя Совета министров П. А. Столыпина, впоследствии получившего репутацию последнего великого государственного деятеля России, выделить отдельные хозяйства из состава традиционных сельских общинных земель для модернизации российского сельского хозяйства сталкивались с традиционными крестьянскими ценностями. Они вызывали возмущение, а кое-где – и упорное сопротивление. Ширились масштабы социал-демократического движения как умеренного (по большей части меньшевики), так и радикального (преимущественно большевики) направлений. К тому же во многих местах различия между этими соперничающими группировками размывались, повышая уверенность их сторонников в том, что Большой социал-демократический сюжет – исторически обусловленный переход к социал-демократическому строю – вскоре будет воплощен в жизнь. Возрастала и крестьянская поддержка опиравшихся на более широкую базу эсеров, бойкотировавших Думу в порядке протеста против дискриминационного избирательного закона, лишавшего крестьян сколько-нибудь равноправного представительства в Думе. Свою политическую стратегию накануне войны перестраивали даже либеральные кадеты и более консервативные октябристы. Одни из них требовали от своих партий вступления в тактические альянсы с более левыми группами. Другие подумывали о возвращении к более воинственной тактике, благодаря которой в 1905 году и появился на свет российский парламент. Накануне войны, как справедливо отметил Леопольд Хеймсон, Российская империя находилась в состоянии серьезной социальной нестабильности, в этом отношении резко отличаясь от Германии и Австрии[63].
И все это после начала войны словно испарилось в одночасье. Казалось, страну охватила волна патриотизма, невиданная со времен победы над Наполеоном, одержанной более ста лет назад. Перед режимом как будто бы открылась возможность обратить тлеющий конфликт в сплоченное противостояние иностранному вторжению. Возникла надежда на становление коллективного чувства русской идентичности в условиях этнического разнообразия империи на почве православия и веры в славянское братство. Сам царь полагал, что его законное место – во главе армии. По настоянию верховного командования и с большой неохотой он назначил верховным главнокомандующим своего дядю, великого князя Николая Николаевича. Не прошло и нескольких месяцев, как бестселлером стал роман Л. Н. Толстого «Война и мир».
Оптимистичные настроения в июле 1914 года бурлили по всей Европе. «Union Sacrée», «Священный союз» едва ли был обычным делом для России. Однако в противоположность демонстрациям в Париже, Берлине и остальной Европе вся Россия как будто бы объединилась не просто в священный союз, но и ради святого дела. Немецкий поэт Пауль Эндерлих, воспевавший войну, вплетал в свои оды немецкой жертвенности мотив «священной цели». Отголоски подобных настроений были заметны в Англии и во Франции. Но только в России священные основы царского самодержавия непосредственно увязывались с военными судьбами России. «Сыны России! – вещал архиепископ Арсений (Стадницкий). – Будущее ведомо одному Богу. Судьбы царств и народов в руках Божьих. Но мы, взирая на прошедшие судьбы нашего Отечества, несомненно веруем, что и в этой войне Господь есть и будет с нами. На эту войну нужно смотреть как на священный Крестовый поход»[64]. Неудивительно, что британский посол Бьюкенен называл войну «находкой» для Николая II и его режима[65].
После того как в постсоветской России были открыты архивы, историки вновь обратились к вопросу о русском патриотизме в годы Первой мировой войны, разбирая его аспекты с точки зрения символических репрезентаций, эмоций и моделей поведения. Как показали историки, ключевую роль в создании образов патриотических чувств, как и повсюду в Европе, играли визуальные проявления патриотизма[66]. Популярные издания – такие, как «Синий журнал» – были полны фотографий добродушных русских солдат в жизнерадостных позах. Деревню заполонили лубки с изображением злобных врагов в разнообразных обличьях. Важную роль вскоре начали играть театр и кино, так же как новые литературные произведения и популярная классика. Свой вклад в это дело внесли такие известные художники и писатели, как К. С. Малевич, В. В. Маяковский и Л. Н. Андреев. К героизму в облике русского дракона, убивающего тевтонских рыцарей, присоединились более образные изображения немцев как пауков, скорпионов и убийц женщин и детей[67].
В случае визуальной репрезентации тех эмоций, которые были призваны отражать эти патриотические артефакты, они легко прочитываются, будь то любовь к царю и стране, готовность пожертвовать собой, чтобы защитить родину и своих любимых, гордость за прошлые победы и героические традиции, уверенность и спокойствие, обеспечиваемые личным отождествлением с коллективными стараниями. То же самое относится и к изображаемым ценностям. Они оставляли на долю воображения не больше, чем сценки, служившие иллюстрациями к ним. Мы можем проследить распространенность и популярность этих артефактов как на протяжении всей войны, так и по другую сторону революционного водораздела. До 1917 года своей символикой и содержанием они в своей массе отражали господствующие тропы великорусского национализма. По мере того как война затягивалась, к ним присоединялись указания на непатриотичные поступки тех людей, которых обвиняли в «предательстве». После Февральской революции символические репрезентации культуры патриотизма свидетельствовали о неизменности целей, которые без труда превратились из защиты «царя и отечества» в защиту российской «свободы» и призывы подписываться на «Займы свободы».
Массовые демонстрации, которые проходили в первые дни войны в Петрограде и по всей стране, тоже как будто бы без труда поддавались объяснению. Флаги, шествия, гимны, брань в адрес врагов, патриотические речи – все это были языки единства с режимом, нацией и государством: «за царя и отечество», или «Боже, царя храни». Посредством коллективного порыва, охватившего и марширующих солдат, и зрителей, возможная тревога словно вытесняется уверенностью и надеждой, нередко опирающимися на оружие, которое порой кажется более могучим, чем оказывается впоследствии. Само событие создает, так сказать, эмоциональное поле, в рамках которого языки патриотизма претендуют на гегемонию, связывая грядущие жертвы с общим благом и заранее оправдывая неизбежные потери. Национальный флаг, будь он поднят на флагштоке, изображен на значке или находится в руках у кого-то, служит знаком идентичности высшего порядка, лояльности и преданности – патриотизма, который все могут увидеть и ощутить.
Как можно выйти за рамки этих трактовок? Как выявить или измерить глубину патриотических чувств? Общепринятые определения патриотизма подают его как эмоциональную идентичность с конкретными представлениями о государстве, любовью к стране или, как выразился психолог и социолог Леонард Дооб, с «более или менее сознательным убеждением» в том, что благополучие индивидуума или группы зависит от сохранения функциональной или защитной силы существующего государства[68]. Наличие подлинных либо мнимых патриотических чувств наделяет легитимностью даже очень непопулярные режимы, делая возможной мобилизацию попавшихся в его эмоциональную хватку, даже если ее проявления ставят оборону страны или благосостояние народа на одну доску с имперской агрессией или бессмысленной растратой человеческих жизней. Да и сам патриотический язык отвергать трудно («непатриотично») или опасно («попахивает изменой»). В рядах войск, отправляющихся на фронт, тропы патриотических языков – стойкость, фатализм и героическая (мужественная) готовность умереть за свою страну – оправдывают неизбежные потери и коллективизируют индивидуальные чувства таким образом, что личная тревога становится социально неприемлемой. При этом происходит конструирование и дегуманизация врагов при одновременном возвышении политических вождей во имя государства и органичности нации. Таким образом, патриотизм представляет собой систему языков, практик и эмоций, которые сами способны стимулировать эти чувства даже в тех, кто проявляет наибольшую неотзывчивость к их коллективному призыву.
Более того, в историческом плане наиболее важными в массовой волне патриотизма, столь очевидной для наблюдателей в первые дни войны, были не только чувства, которые эта волна как будто бы отражала, но и внушаемые ею в верхах уверенность и убежденность в массовой поддержке царского режима и только что провозглашенной им «священной войны». Таким образом, всячески превозносившийся «священный союз» в России являлся опьяняющей фикцией. Его насаждение было особенно важным для тех членов правительства и прочих лиц, которые полагали, что для успешного ведения войны в первую очередь требуется эффективное сосредоточение государственной власти. Хорошо функционирующее самодержавие было попросту самой желательной формой правления в воюющей России, так же как предполагаемая необходимость в сильной, централизованной власти во Франции и в Англии повлекла за собой принятие специальных законов о военных полномочиях и временный отказ от ряда демократических практик.
Тем не менее трудно себе представить, что воинственность бастующих русских рабочих, проявленная ими весной 1914 года, после начала войны неожиданно уступила бы место патриотизму. Также война была не в силах стереть из сознания многих тысяч крестьянских семей память о жестоких репрессиях, обрушившихся на них всего восемью годами ранее, по окончании войны с Японией. Американский историк Джошуа Санборн делит реакцию жителей страны на мобилизацию в 1914 году на три категории: частную реакцию на опасности войны, выражавшуюся больше в молчании и в рыданиях, нежели в демонстрациях; патриотические демонстрации, нередко инспирированные или организованные властями, – если не прямо в поддержку войны как таковой, то по крайней мере в поддержку царя, армии и задач, взятых ими на себя; и активное публичное противодействие в виде мятежей против призыва на военную службу и других видов протеста, большинство из которых были сопряжены с грабежами. В таких городах, как Томск и Барнаул, «бунты» против мобилизации, как их называли в печати, вылились в полномасштабные столкновения между полицией и призывниками[69]. В донесениях, сохранившихся в архиве Министерства внутренних дел, зафиксированы «кровавые стычки» между полицией и призывниками в Перми, Екатеринославе, Симбирске, Минске, Ставрополе и по всей Томской губернии. Более тысячи столкновений произошло в Томске. В ходе событий в Барнауле, называвшихся «погромом», было сожжено тридцать три «богатых дома», а также отделения Русского для внешней торговли банка. В Новониколаевске на железнодорожном вокзале была убита группа из семи призывников, явившихся для прохождения службы. Эти протесты, несомненно, подпитывались пьянством в первые недели войны, озлобленностью, вызванной введением запрета на продажу алкоголя, а также тревогой, порождаемой перспективой попасть на фронт. Впрочем, существуют свидетельства о том, что бунтующие поджигали государственные учреждения и рвали русские флаги[70].
Что же касается деревни, многие крестьяне, может быть, и были готовы защищать страну от иностранного вторжения, однако с их стороны наблюдалась лишь слабая поддержка и, пожалуй, еще более слабое понимание империалистических целей войны, как и во время войны с Японией. По мнению О. С. Поршневой, крестьянский фатализм был сильнее патриотизма в каком-либо современном смысле[71]. С этим согласны В. П. Булдаков и Т. Г. Леонтьева[72]. Они считают, что концепция патриотизма сама по себе непосредственно связана с ощущением гражданства, которого «не было и не могло быть» в крестьянской общине. По мнению Аарона Ретиша, в Вятской губернии в первую очередь ощущалось глубокое беспокойство по поводу возможного воздействия войны на деревню[73].
Впрочем, более важный исторический вопрос заключался не в том, проявляют ли солдаты и новобранцы патриотические настроения, и если да, то как. Как и в других странах, военные парады и язык церемоний порождали в России образ лояльности государству и нации, толстовское чувство органического единства и неизбежного хода истории, никому не подконтрольного. Когда солдаты отправляются на войну, их настроения всегда представляют собой смешение карнавала, праздника, бахвальства и беспокойства. Это событие требует особого эмоционального лексикона, языка бравады, использующего и определяющего такие понятия, как мужество, гордость и отвага, и в то же время скрывающего тревогу, печаль и горе разлуки с близкими. Кроме того, исследования говорят о том, что в чувствах солдат, которым предстоят смертельно опасные бои, страх и отвага нередко идут рука об руку, равно как и тоска по родине и дух товарищества, пассивность и агрессия, тревога и моменты внутреннего спокойствия, подчинение и злоба, даже ненависть к командирам, отправляющим их навстречу опасности[74]. Даже некоторые из современников ничего не замечали в деревне, кроме сопротивления и покорности. Имеется свидетельство очевидца из числа военнослужащих, описывавшего угрюмую реакцию новобранцев на воодушевление, с которым их приветствовал командир: «Можно было заметить, что призыв к быстрой победе над немцами не встретил сочувствия в солдатских сердцах. Все глядели мрачно, напряженно и выслушали речь как необходимость»[75].
Патриотические языки и то, что можно было бы назвать порождаемыми ими эмоциональными полями, насаждают чувства, конфликтующие с теми, которые они призваны подавить, и в этом плане ожидания не расходятся с реальностью. Лихой призыв умереть за свою страну с легкостью заставляет человека задуматься об исходе, которого тот никак не может принять. Таким образом, под эмоциональными полями мы имеем в виду контексты, порождающие связь между чувствами и конкретными видами поступков или поведения, например между страхом на поле боя и атакой на вражеские позиции или между беспокойством и депрессией и самоубийственной беззаботностью и неподчинением. Важные вопросы, встающие в связи с патриотическими эмоциями и национальным единством, наблюдавшимися в России после начала войны, касаются взаимоотношений между образом и реальностью: насколько возвышенные образы патриотических и выносливых крестьян, готовых и стремящихся умереть за царя и отечество, отображали реальные эмоциональные поля сражений, на которые попадали солдаты, и каковы были последствия в том случае, если этого вообще не происходило. Сам по себе патриотический образ являлся мощным фундаментом военной стратегии и публичной позиции. Что же в таком случае стойкие российские солдаты из крестьян на самом деле думали и ощущали, когда плац-парадная бравада сталкивалась с новейшим оружием и ужасающей жестокостью современной войны?
Лояльность под надзором
Для царского режима и его военачальников это не было абстрактным вопросом. Ни один из режимов, ввергших свои страны в войну в 1914 году, не испытывал такого же страха перед народными волнениями, как российский. Революция 1905 года продолжала жить в общественной памяти по всей стране, но воспоминания о ней нигде не были столь же острыми, как в Зимнем дворце и Ставке – штаб-квартире армейского командования. Война с Японией, спровоцированная Россией в 1904 году, в значительной степени имела своей целью подавить растущее политическое недовольство, обратив его на иностранного врага. Но она вместо этого обернулась катастрофическим разгромом Балтийского флота при Цусиме, мобилизацией и решительной либеральной, и радикальной политической оппозиции, массовыми забастовками в сентябре и октябре, когда по всей стране замерла жизнь, а также вырванной у сопротивлявшегося царя уступкой – учреждением некоего подобия парламента с целью предотвращения полномасштабной революции, которой многие боялись. Мощная волна забастовок на фабриках и заводах в 1913–1914 годах и сопротивление крестьян замене общинного землевладения частным служили четкими сигналами о нарастании новой волны недовольства. Вопрос о настроениях в деревне остался наиважнейшим и после начала «священной войны» – их следовало внимательно отслеживать и тщательно оценивать.
В 1914 году надзор в России был глубоко укоренен в административной культуре и досконально институционализован – в большей степени, чем в какой-либо из других держав, участвующих в войне. Со времен Петра Великого русская политическая культура формировалась в условиях озабоченности вопросом безопасности. Охранка, не такая уж и «тайная полиция» Министерства внутренних дел, ведавшая политическим сыском, имела отделения в шестидесяти городах и агентов по всей стране и даже за границей. Высочайшие чины петроградской штаб-квартиры охранки вели самое пристальное наблюдение за вождем кадетской партии П. Н. Милюковым и А. И. Шингаревым, ведущим либералом в Думе и автором книги «Вымирающая деревня» – за ним шпионили еще с 1891 года.
После начала войны охранка перенаправила основные усилия с политического надзора на контрразведку. За активистами рабочего движения вели тщательную слежку, сажая их под арест, когда те пытались создавать профсоюзы или устраивать забастовки. (По закону забастовки были разрешены, но их организация запрещалась.) Особое значение придавалось надзору в армии. В ноябре – декабре 1905 года, после подписания Портсмутского мира, по стране прокатилась волна армейских мятежей; еще около 130 произошло с января по июнь 1906 года. Наиболее известные из них, по примеру восстания на броненосце «Потемкин», сочетали протесты, вызванные скверным питанием, с сопротивлением начальству. Однако хаосу и отсутствию дисциплины повсеместно сопутствовала жестокость, с которой подавлялись городские и сельские выступления, лишь увеличивающая размеры унижения от военного поражения. В 1905–1914 годах предпринимались меры по улучшению управления русской армией и повышению ее слаженности, а также усовершенствованию армейской подготовки. Делались попытки решить проблему недоверия офицеров к солдатам, пересмотреть учебную программу военных училищ и академий, повысить компетентность Генерального штаба, но главное – поднять уровень подготовки и грамотности призывников[76]. Хотя бы кое-как читать и писать умело более двух третей армии[77]. Рост грамотности вел к повышению политической сознательности.
Задача отслеживать солдатские мысли и настроения была возложена на военную цензуру. В ходе войны все воюющие державы стремились контролировать переписку между фронтом и тылом. Однако только в России указ о введении военной цензуры был издан уже 20 июля 1914 года, на следующий день после объявления войны[78]. И только в России перед цензурой сразу же была поставлена цель: следить за эмоциональным состоянием солдат и их умонастроениями. Цензорам предстояло оценивать солдатские «настроения». Иными словами, внимание было обращено к чему-то среднему между эмоциями и установками, между такими культурно обусловленными чувствами, как патриотизм («За Царя и Отечество!») или бодрость духа и намного менее однозначными чувствами, связанными с опытом пребывания на поле боя. Таким образом, речь здесь идет о более серьезном, чем просто моральное состояние («morale» в английском языке), как с точки зрения соответствующего диапазона чувств, так и с точки зрения последствий в плане надежности солдат и воинских частей. Из всех воюющих держав только в России командиры с самого начала знали бы, будут ли их войска выполнять приказы. В случае возникновения мятежных настроений цензоры воспрепятствовали бы их распространению из армии по селам, городам и заводам, предоставившим фронту солдат, так же как и не позволили бы проникнуть в армию недовольству гражданского населения. До новых восстаний на броненосце «Потемкин» дело бы не дошло. Командиры могли бы использовать эту информацию для контроля над своими частями и, что немаловажно, для принятия тактических решений об их применении на поле боя. По крайней мере, в этом отношении русское верховное командование в 1914 году считало себя полностью подготовленным.
Первые потери и их последствия
Общее число русских солдат, поставленных под ружье за первые одиннадцать месяцев войны, достигло ошеломляющей цифры в 8,8 млн человек. Согласно детальным исследованиям Мелиссы Стокдейл и Лори Стофф, среди них числилось и некоторое количество женщин, которых иногда принимали в армию и для того, чтобы стимулировать героизм у соратников-мужчин. (В 1917 году был сформирован женский батальон, призванный подать стране пример «героизма» и впоследствии получивший название Батальона смерти[79].) Кроме того, важнейшую роль на фронте играли сестры милосердия, и, хотя их не учитывали в официальных списках потерь, их, несомненно, следует считать частью российских вооруженных сил[80]. Масштабная мобилизация была призвана обеспечить русское численное превосходство над Германией и Австрией. Отчасти за этим стоял подход, предполагавший опираться в первую очередь на как будто бы неисчерпаемые ресурсы крестьян, их патриотизм, а не на передовую военную технику. Кроме того, цель заключалась еще и в том, чтобы не допустить усиления германских войск на Западе, что царский режим пообещал Франции и Англии.
Обе задачи вскоре потребовали срочного выполнения по причине небывалых потерь, понесенных русскими войсками уже в первые недели войны, когда 1-я и 2-я армии во главе с генералами А. В. Самсоновым и П. К. фон Ренненкампфом вторглись в Восточную Пруссию в надежде ударом на Берлин добиться быстрой победы в войне. В ходе двух первых сражений, при Танненберге и среди Мазурских озер, русские потеряли убитыми и ранеными до 140 тыс. человек. Еще около 120 тыс. было взято в плен, хотя точные цифры неизвестны и пленных могло быть намного больше. Вся 2-я армия А. В. Самсонова была обескровлена. Под огнем новейших германских пушек погибло до 70 тыс. наиболее боеспособных русских солдат. Почти 100 тыс. сумело выжить, бросив оружие и сдавшись в плен. Самсонов в отчаянии ушел в лес и, по всей видимости, покончил жизнь самоубийством. Этот поступок вскоре стал истолковываться как акт раскаяния в своей некомпетентности. П. К. фон Ренненкампф, с разгромом 2-й армии лишившись поддержки на своем южном фланге, тоже понес громадные потери и был вынужден отступить.
Исправить последствия этих первых катастроф было нелегко. В течение почти всей поздней осени русская армия окапывалась на протяжении всего Северного фронта в центральной Польше, к западу от Вислы. Сражения на этом участке и под Лодзью, несмотря на их ожесточенность, не привели к заметному изменению линии фронта ни в ту ни в другую сторону. Тогда главной точкой приложения усилий стала австрийская Галиция. Здесь русские начали успешно сражаться на широком фронте под началом генералов Н. И. Иванова, Н. В. Рузского и А. А. Брусилова, имевших репутацию более компетентных, чем их коллеги на севере. Несмотря на катастрофы, произошедшие и здесь в августе и сентябре 1914 года, когда русская 5-я армия едва не капитулировала и понесла тяжелые потери, галицийские армии сумели перегруппироваться, восполнить потери и перейти в наступление. В сентябре была взята историческая столица региона, хорошо укрепленный город Лемберг (Львов, Львiв). К ноябрю русскими контролировалась уже почти вся Галиция. В то время как потери с обеих сторон уже превышали 500 тыс. человек, русские армии приступили к длительной осаде австрийской крепости Перемышль, от которой открывался путь к Карпатам и дальше, на Будапешт и Вену.
Менее чем за четыре месяца боев было убито и ранено больше русских солдат, чем в каком-либо из прежних конфликтов с участием России, включая вторжение Наполеона в 1812 году. При этом за еще более короткий промежуток времени в плен, возможно, попало больше солдат, чем за все предыдущие войны, вместе взятые. Кроме того, стало ясно, что война затянется. Подобно публичным фигурам в Лондоне, Париже и Берлине, видные русские деятели, включая представителей правительственных кругов, выражали удивление и разочарование. Известный публицист и один из основателей Конституционно-демократической партии А. М. Колюбакин, вскоре погибший на фронте, в партийной газете «Речь» писал о полном крушении иллюзий. Этой точке зрения вторило и консервативное «Новое время». В районе Варшавы в руки немцев попало более четырехсот заводов и фабрик. Впрочем, все это никак не отразилось на официально объявленных целях войны. В том, что касается живой силы, а также пространства, российские ресурсы казались безграничными. Лишь сроки и издержки, связанные с победой, требовали перерасчета. Вместо того чтобы задаться принципиальными вопросами о том, каким образом вести дальше столь масштабную и неожиданно жестокую войну, внимание общественности под влиянием поражений в основном лишь обратилось от превозносившихся возможностей, созданных войной, к известному русскому вопросу о причинах неудач: кто виноват?
На этот вопрос имелось несколько возможных ответов. Самым очевидным был вывод о некомпетентности русского военного командования. Как случилось, что Самсонов и Ренненкампф попались в такую ловушку? Почему была так плохо поставлена координация между обеими армиями? Почему Верховное главнокомандование не приняло мер к исправлению недостатков, выявленных в ходе предыдущих маневров, и почти в точности воспроизвело план нападения, несостоятельность которого выявилась в ходе учений, проведенных весной предыдущего года? Кроме того, с самого начала было ясно, что нужно резко улучшить положение со снабжением боеприпасами и продовольствием, а также работу транспорта. По сути, и в этом случае речь шла о некомпетентности. Британский военный атташе генерал Альфред Нокс имел возможность лично наблюдать за действиями русской армии. Координация и связь между русскими частями была слабой или вовсе не существовала. Не хватало жизненно важных припасов. Командиры были совершенно не готовы к вывозу в тыл огромного числа раненых. И что самое серьезное, Ренненкампф, чрезмерно самоуверенный кавалерийский офицер старой школы, которого Нокс считал опасным анахронизмом, более уместным для наполеоновских войн, не позаботился оказать Самсонову и 2-й армии поддержку людьми и оружием, в которых те отчаянно нуждались, причем это удивляло даже немцев[81].
Впрочем, имелась еще одна возможная причина поражений, причем вызывавшая еще большую тревогу: она была связана с солдатской лояльностью. Насколько хорошо солдаты сражались? Какими были настроения в армии? И, что самое важное, в какой мере ошеломляющие поражения подорвали верность солдат и их родных царю и отечеству? Нокс с явным удивлением отмечал, что один из главных командиров в армии Самсонова, генерал Ф. И. Торклус, «больше интересовался психологией своих людей, чем подготовкой к наступлению». Торклус «восторгался их духом» и не видел «ни следа нервного напряжения» в солдатах, проходивших строем мимо его окна. Сам же Нокс видел беспорядок, замешательство и даже панику, когда во время немецкого наступления жестокий артобстрел обратил солдат в бегство[82].
Собственно говоря, на протяжении всей ужасной осени цензоры подтверждали точку зрения генерала Торклуса. Если верить тому, что они вычитывали в солдатской переписке осенью 1914 года, катастрофы под Танненбергом и у Мазурских озер почти никак не сказались на эмоциональном состоянии солдат. Согласно донесениям, настроение фронтовиков оставалось «бодрым и патриотическим». Попытки России овладеть Восточной Пруссией закончились бесславным концом, а вместе с ним исчезли и надежды на то, что война будет короткой. Тем не менее, как доносили цензоры, солдаты на фронте были готовы и полны решимости «полностью прогнать проклятых немцев из России». «Спокойно, без малейшего признака сомнения в грядущем, войска жаждут только приказа о наступлении и высказывают полную уверенность в близкой и окончательной победе над жестоким врагом». «Настроение армии прекрасное», – сообщалось в секретном донесении, адресованном Ставке. – «Огромное большинство <…> горит желанием разбить врага»[83].
На фронте: военные потрясения
К новогодним праздникам Великая война, которую множество русских восторженно приветствовало в июле 1914 года, уже обернулась величайшей гуманитарной катастрофой в современной российской истории. Установившийся фронт не знал себе равных по своим масштабам, природе и поразительному спектру переживаний, которые испытывали попавшие на него русские солдаты, особенно новобранцы. Напрашиваются сравнения с намного более известным опытом фронтовой жизни во Франции, особенно после того как на смену немецкому наступлению пришла относительно статичная, хотя не менее смертоносная окопная война. Изнурение свирепствовало и на Западном, и на русском фронтах. Однако сами размеры русского фронта делали ситуацию на нем из ряда вон выходящей. Кроме того, давали о себе знать суровые морозы, растянутые линии снабжения, сложности с эвакуацией раненых и уходом за ними и последствия применения более передового немецкого оружия, особенно авиации и артиллерии. Все это ужесточало природу борьбы на фронтах этой «забытой», как ее называют, войны на Востоке[84].
Русская военная зона в целом представляла собой обширную территорию, занимавшую большую часть современных Белоруссии, Польши, Прибалтики и Украины и официально объявленную приоритетным регионом, в котором хлеб и прочие ресурсы могли быть реквизированы в пользу армии. Само слово «фронт» было сложным понятием, означавшим тонкую подвижную линию, вдоль которой и разворачивались собственно военные действия, становившуюся для многих солдат буквальным рубежом между жизнью и смертью. Фронт как таковой представлял собой эмоциональное поле личной и коллективной тревоги, по-разному находившей отражение в языке и в поступках, подавляемой или управляемой каким-либо иным образом, как того требовали эмоциональная и психологическая стабильность и просто физическое выживание. В противоположность Западному фронту во Франции, русский фронт порой протягивался более чем на тысячу миль вдоль подвижных немецкой, австрийской, а в 1916 году и румынской границ. Кроме того, Россия, подобно Германии, вскоре была вынуждена сражаться на двух отдаленных друг от друга фронтах: около 100 тыс. солдат осенью 1914 года было отправлено воевать с союзниками немцев – турками на Кавказе. Впрочем, Кавказский фронт никогда не имел особого значения с точки зрения исхода войны, так же как и обстоятельства войны с Турцией были куда менее требовательными в плане использования передового оружия и даже физических условий существования в окопах, учитывая климат и ограниченные возможности турецкой артиллерии. После поражений при Танненберге и у Мазурских озер Верховное главнокомандование даже сократило численность русских войск на Кавказе примерно до 60 тыс., перебросив почти половину солдат на германский фронт. Новоприбывшие, доставленные туда как раз перед тем, как наступила холодная зима, столкнулись с неожиданной угрозой, исходившей от намного лучше выученного и оснащенного противника в условиях радикально иного климата.
Разумеется, в узком смысле слова фронт представлял собой узкую вытянутую зону личного участия в боевых действиях, включая смертоносную ничейную полосу между русскими и вражескими позициями, а также более статичную окопную войну, служившую ареной кровопролития в северной Франции. Как там, так и здесь окопный опыт включал беспрецедентное воздействие на все имеющиеся органы восприятия, что происходит и сейчас, спустя сотню с лишним лет, в ходе боевых действий между Россией и Украиной: оглушительный грохот продолжительных артиллерийских канонад, длительные и полные зловещей тишины периоды тревожного ожидания, долгие недели существования в промокшей одежде и неизменная вонь. Когда та или иная сторона переходила в наступление, ничейная полоса между противниками превращалась в арену сплошного и неописуемого кровопролития, полную невообразимых сцен, звуков и запахов моментальной или медленной смерти, своей жестокостью наверняка заставлявшую многих позабыть о вере и тех представлениях о природе человечества, с которыми они могли прибыть на фронт. Французский историк Александр Сюмпф называл эту зону «опасной пустыней» – физическим, эмоциональным и психологическим пространством, в котором солдаты, «время которых истекает», «теряют друг друга и самих себя»[85]. По мнению его американского коллеги Эрика Лида, при подходе к этому вопросу обращающегося к теории Эрика Эриксона о развитии эго, ничейная полоса в годы Первой мировой войны служила источником военного утомления, растворявшего в себе само понятие эго-идентичности, разрывая фибры, которыми скрепляется личность[86].
Окопная жизнь на фронте также включала плохое питание, кишечные расстройства, недержание и долгие дни тоскливого существования на морозе, внезапно прерывавшиеся яростными артобстрелами или атаками на вражеские позиции. В ту первую военную зиму солдаты на фронте неделями, а порой и месяцами не имели возможности сменить белье: «Наши солдаты лежат в окопах 11/2 месяца. Не могут переменить белья. Сколько сходит с ума»[87]. Широкое распространение получили дизентерия и другие болезни. Свирепые морозы набросились на только что мобилизованные войска уже в ноябре 1914 года. Русские траншеи и блиндажи на первых порах отличались низким качеством постройки. Даже после того как оно улучшилось в 1915 году, в целом они слабо защищали от падавших поблизости снарядов. Войскам на Северном и Северо-Западном фронтах, подвергавшимся частым артобстрелам в условиях, когда температура едва поднималась выше нуля, казалось, что «все измучились, как черти, не знаем день и ночь; живем как в аду» в окружении покойников: «много пропало нашей братии, убитых валят как дрова по 200 человек в яму»[88]. Дальнобойная артиллерия, как и аэропланы, не позволяла взглянуть в лицо врагу. Особенно ужасными были внезапные артиллерийские налеты. Такие престарелые русские командиры, как генерал Н. В. Рузский, полагали, что сосредоточение максимального количества войск на небольшом участке фронта повышает наступательные возможности армии. («Начальство у нас такое, всех бы их перестрелять», – писал один солдат[89].) Однако подобные скопления живой силы только превращались в удобные мишени для германской артиллерии. Обстрелы шрапнелью были причиной ужасных ран и увечий.
Как пишет Ян Плампер, за поразительным ростом проявлений страха в текстах писем европейских солдат, наблюдавшимся на рубеже веков, стояло несколько причин, включая появление современных видов оружия[90]. Россия не была исключением. Многие солдаты и офицеры, прибыли ли они на фронт из сел или с заводов и в каком бы чине они ни были, боялись внезапной гибели, которую несли с собой новые орудия, танки и летательные аппараты. Перед лицом беспрецедентного кровопролития многие испытывали страх перед ранениями сильнее, чем перед смертью. Раненые во время атак были обречены на часы мучений среди окружающих их кошмарных картин несмотря на старания хронически недоукомплектованной медицинской службы. Вынос раненых с поля боя всегда был опасной задачей. Бесчисленное множество солдат видело и слышало, как умирают их товарищи[91]. И вдобавок к этим фронтовым ужасам немцы в 1915 году начали применять газ. Русские солдаты и офицеры были плохо подготовлены к этому несмотря на многочисленные предупреждения. В ходе одной из газовых атак погибло около 900 человек – почти целый батальон, бойцы которого, инстинктивно спасаясь бегством от наползавших на них туч, не смогли правильно надеть противогазы. Армия не была застигнута врасплох. Командиры просто не имели возможности подготовиться из-за отсутствия нормального снаряжения и обученных людей[92]. «Спаслось только пятьдесят человек, растрепанных, измотанных, настолько потрясенных испытанным, что они были не в состоянии ничего сказать нам» (курсив мой. – У. Р.)[93].
Здесь мы сталкиваемся именно с одним из первых и наиболее четких описаний снарядного шока (шока от артобстрелов), состояния, хорошо известного и ставшего одним из долгосрочных последствий войны по всей Европе. Ему с тех пор было посвящено много полезных исследований, касавшихся не столько его политических и социальных аспектов, сколько его природы и методов лечения. К тем, кто лишился дара речи вследствие газовой атаки, присоединились много тысяч других людей, аналогичным образом травмированных своим боевым опытом. Снарядный шок во всех его проявлениях был проклятием для уцелевших. Многие из тех, кто погиб на фронте, тоже почти наверняка были поражены им, вследствие чего имеющиеся данные о его масштабах не могут быть полными.
Размах поражения солдат снарядным шоком вызывал озабоченность медиков в России уже во время Русско-японской войны, когда военные врачи создавали первые небольшие больницы для лечения состояния, которое первоначально диагностировалось как «депрессивный ступор» и «нервное истощение». Считалось, что большинство его жертв получили те или иные ранения головы. Многие офицеры усматривали в его проявлениях признаки трусости и слабости, не подобающей мужчинам. Собственно говоря, в России тех лет снарядный шок описывался словом «контузия», подразумевавшим сотрясение мозга либо удар по голове.
Как полагает И. Е. Сироткина, русские военные врачи вполне могли ставить такой диагноз чаще, чем их коллеги на Западе, отчасти в силу их более критического отношения к российскому режиму, но также и вследствие несогласия с позицией многих офицеров, по-прежнему не сочувствовавших жертвам снарядного шока[94]. И хотя этот предрассудок сохранялся и до начала Первой мировой, к 1915 году в России, как и в других странах, снарядным шоком для краткости стали называть самые разные психические травмы, изобиловавшие на всех фронтах войны, за которой стояли промышленные масштабы производства вооружения. Русские военные врачи обращались к этой проблеме на ряде совещаний в начале мая 1915 года, более подробно рассмотрев ее на своей следующей встрече в июне. Осознавая значение этого синдрома даже при отсутствии полного понимания его физиологических аспектов, они признавали, что для борьбы с ним России не хватает опыта и обученных кадров[95]. Так или иначе, число его жертв в России было уже значительным, даже с учетом погрешностей статистики, как и во Франции. К маю 1915 года диагноз снарядный шок был официально поставлен примерно в 13 тыс. случаев; к концу 1915 года это число более чем утроилось, вследствие чего «Психиатрическая газета» решительно высказалась за создание специальных палат для травмированных им солдат[96]. За 1916 год было поставлено еще 53 185 таких диагнозов[97].
Тем не менее современные исследования в качестве важнейшего источника боевого стресса и его последствий называют не реальные неврологические травмы, связанные с артиллерийскими налетами и газовыми атаками, а не столь явный, хотя и не менее коварный итог «повседневной» жизни на фронте: массовую тревогу и страх, которые в той или иной форме наверняка ощущало большинство из 15 млн мобилизованных русских солдат в период с 1914 по осень 1917 года. В подавляющем большинстве таких случаев причиной посттравматического стрессового расстройства (как оно называется сегодня) служили столь безвредные, казалось бы, испытания, как длительное лишение сна, дискомфорт, вызванный постоянной сыростью и холодом, голод, а также глубокая и непрерывная эмоциональная усталость из-за пассивного существования на грани гибели, равно как и получение собственно боевых ранений и наблюдение их случаев. Иными словами, соответствующие социопатические последствия были вызваны не просто эпизодическими ужасами личного военного опыта, развивавшимися в качестве итога постоянного напряжения, связанного с их ожиданием, особенно в трудных физических условиях, когда опасности битвы постоянно предчувствовались на протяжении длительного времени. Питер Уотсон, тщательно изучив эту тему, указывает, что как в этом, так и в других отношениях боевой стресс был настолько суров, что «коренным образом отличался» от тех стрессов, которые проистекают из «обычных» превратностей жизни[98].
Вполне возможно, что на первом месте среди этих состояний на русском фронте находилось простое, но нередко смертельно опасное состояние изнурения[99]. Несомненно, изнурение было характерно для большей части русской армии начиная с первых сражений у Мазурских озер и при Танненберге. Одним из элементов, внесших вклад в эти первые потери, была доводящая до бесчувствия усталость, вызванная тремя с лишним неделями непрерывных переходов по сложной местности в условиях почти постоянного контакта с врагом. Область Мазурских озер была сама по себе труднопроходима, к тому же солдаты Самсонова наступали, нагруженные тяжелыми вещмешками и оружием, при отсутствии достаточного времени на отдых и передышку, и не имели почти ни минуты сна. Когда 1-я армия Ренненкампфа впоследствии тоже исполняла приказ о наступлении, почти нигде не останавливаясь на отдых, последствия были аналогичными, как и в дальнейшем, когда его войска были вынуждены совершить почти двухсоткилометровое отступление в условиях непрерывных артобстрелов, слабея и в физическом, и, как можно себе представить, в эмоциональном плане. Однако язык проигранных сражений никогда не признавал усталости в качестве законного оправдания.
Изнурение ощущалось и русскими войсками на обширном Юго-Западном фронте во время более удачных кампаний осенью 1914 года, когда «бои шли без передышки», как писал генерал А. А. Брусилов[100]. Командиры из армейских штабов словно выстраивали на популярном образе выносливого русского крестьянина свою стратегию и оперативные приказы, которые были не только нереальны в физическом плане, но и серьезно подрывали физическое и эмоциональное состояние солдат. Генералы из армейских штабов на Юго-Западном фронте, как и в армиях Самсонова и Ренненкампфа, не желали признавать, что войскам нужен отдых. Они непрерывно давили на Брусилова и прочих фронтовых командиров, чтобы те не прекращали наступления, отчасти с целью компенсации потерь в Восточной Пруссии. У солдат, совершавших непрерывные переходы, не имелось ни времени, ни сил, чтобы толком защититься от обстрелов. Наступление неуклонно продолжалось даже в условиях ужасающего кровопролития, развернувшегося на открытых галицийских равнинах. Плохо накормленным и плохо одетым солдатам приходилось терпеть дождь, снег и грязь; практиковались суровые телесные наказания. Более того, некоторые солдаты с Северного фронта в письмах домой пересказывали слухи о массовом дезертирстве. Согласно донесениям, некоторые части даже «объявляли забастовки». Сам язык этих донесений служил тревожным напоминанием командирам о том, что призванные в армию рабочие могут принести на фронт воинственность иного рода. Кроме того, многие в открытую писали на открытках об «ужасах» сражений, беспорядочном бегстве перед лицом наступающего врага, страхе артобстрелов и вызываемом ими хаосе, а также о том шоке, в который ввергало попадание в плен «целых полков». Те, кто в начале осени писали родным, чтобы те не посылали им теплое исподнее, потому что они скоро вернутся домой, теперь посылали жалобные просьбы прислать им одежду, поскольку конца войне не было видно. Существование вдали от своих семей было особенно тяжело для тех новобранцев, которым впервые пришлось надолго покинуть родной дом. О тяготах жизни на фронте говорилось открытым текстом, что беспокоило даже иных цензоров, помогая им понять, почему некоторые солдаты пишут о желании сдаться в плен. Некоторые цензоры докладывали, что армию охватывали депрессия и тоска, когда холодные ночи становились все длиннее, а страшные дни – все короче[101].
Таким образом, зимние сражения в лесах на Западном и Северном фронтах словно собирали с изнуренных войск как физическую, так и психологическую дань. Русские военные врачи вскоре начали проводить различие между симптомами, которые они объясняли изнурением, и тем, что они называли «окопным психозом»: распадом адаптивных и резистивных механизмов, имевшим своим следствием в первую очередь маниакальную депрессию и помешательство. Хотя аналогичные симптомы наблюдались и у солдат на Западном фронте, физические тяготы окопной войны на Востоке почти наверняка ощущались более остро, чем во Франции с ее мягким климатом. Жестокие морозы, нехватка одежды и, что самое главное, скверное питание лишь усиливали мучения, причиняемые артобстрелами, и постоянную угрозу жизни для тех, кто покидал окопы. Зимой даже относительно длительные периоды затишья, возможно, только усугубляли ситуацию в этом отношении, поскольку короткие, ничего не решавшие сражения перемежались с днями и неделями скуки, к которой прибавлялись, делая ее особенно нестерпимой, физический и эмоциональный дискомфорт.
Солдатские письма содержат множество свидетельств об этих страданиях, не прекращавшихся даже тогда, когда бои временно затихали. В них описываются сырость и потопы («Везде по окопам вода, едва ноги вытаскиваешь»); снег, лед и обморожения («У нас было 850 человек в нашем батальоне, и к утру отошло 400, половина с обмороженными пальцами и ногами»); вонь от помоев и немытых тел, которую порой приходилось терпеть неделями в тщетном ожидании, когда же пришлют замену («Мы сидим в окопах как звери»); почти несъедобная пища, которой к тому же очень мало («Мы голодны, устали… дают сваренной воды (то есть кипяченой, цитируется оригинал источника. – Прим. пер.) и то на двоих, а слабая [каша] по одному фунту на человека в сутки»)[102]. «Жизнь как тюрьма, – писал один солдат домой, – даже хуже»[103]. Жалобы с протяженного Галицийского фронта в конце 1914 года в меньшей степени были связаны с зимними невзгодами, хотя и здесь они тоже были суровыми: бойцам приходилось терпеть дождь, снег и грязь при отсутствии приличной одежды и питания, раненые надолго оставались без ухода, врачи же заботились только об офицерах, а к солдатам относились «хуже, чем к скоту»[104]. Солдаты писали домой письма о командирах, ворующих деньги и вещи и открыто торгующих с «евреями-шпионами», а затем проявляющих такую готовность сдаться, что враг прекращает огонь: «мы тогда отступили назад, только этим и спаслись»[105]. Здесь было «огромное количество неприятностей, о которых я не могу писать», – сообщал с Галицийского фронта ротмистр Белорусского полка 7-й кавалерийской дивизии. – «<…> Хочу исчезнуть… от всех ужасов войны и кровавого кошмара… живем как звери – грязные, часто голодные и холодные, каждую минуту готовые к смерти и к борьбе с врагом»[106].
Читая эти письма, легко понять, почему дезертирство стало такой большой проблемой уже в первые месяцы войны, и тем более в дальнейшем, и почему с июля 1914 по 1 мая 1915 года в плен было взято около 1,5 млн русских солдат, что составляло 45% всех военных потерь за тот период[107]. Как показал в своей тщательно выполненной работе А. Б. Асташов, дезертирство среди солдат из крестьян, тоскующих по дому, было высоким еще до Первой мировой войны. Точные цифры неизвестны, однако полицией на Юго-Западном фронте в конце зимы 1914/15 года было задержано более 13 тыс. дезертиров, причем дезертирство вскоре приобрело большой размах и среди новобранцев, едущих на фронт, и среди тех, кто уже был там. Многие фронтовики наносили себе раны, а затем сбегали из госпитальных поездов – согласно донесениям, порой целыми группами. Дезертирами становились и многие солдаты-отпускники, просто не возвращавшиеся в свои части. Между тем армейское начальство в массовом порядке наказывало тех командиров, которые считались ответственными за случаи дезертирства и сдачи в плен. Когда под Кенигсбергом в плен попало 30 тыс. солдат из 10-й армии, ее командующий генерал Ф. В. Сиверс, допустивший это, был с позором уволен[108]. Тем не менее, как справедливо заметил А. И. Солженицын в романе «Август Четырнадцатого», капитуляция нередко представляла собой акт моральной отваги со стороны командиров, понимавших, что в противном случае их солдаты будут перебиты[109].
Считывание солдатских настроений
Если задача «выяснения настроений войск и их духа» была так важна для армейского начальства, то почему же преобладающим тропом в донесениях цензоров оставались «бодрость духа и патриотические чувства»? На протяжении всего кровопролития цензоры неизменно доносили об очень хорошем, и даже превосходном воинском духе подавляющего большинства русских солдат. «Войска не закрывают глаза на трудности войны, на упорство и силу врага, на препятствия, которые еще стоят впереди», но все же отмечалось, что долг перед царем и родиной «выше всех трудностей»; «Настроение хорошее, доброе. Солдат буквально не удержать, не признают никакой задержки. По их психологии оно и понятно – кругозор не идет дальше своей роты или полка и победный марш не хочется задерживать»[110]. Цензоры, писавшие это, не страдали от нехватки проницательности и ума. У нас отсутствует информация об их происхождении и карьере, но, насколько известно, в их число входили и профессиональные офицеры, чья подготовка улучшилась после войны с Японией, и другие способные люди из числа как военных, так и штатских, включая ряд высокопоставленных чинов полиции[111]. Некоторые из них явно были не согласны с такими широкими обобщениями патриотического толка. Когда один солдат открыто написал об ужасах войны, о громадных потерях, о попадании в плен не только целых полков, но даже корпусов, о бегстве перед наступающим врагом, о трудностях походной и боевой жизни, это произвело на цензора «самое тяжелое впечатление, которое рассеивается только тогда, когда понимаешь, что в огромном количестве писем это лишь небольшой процент»[112].
На первый взгляд может показаться, что русские военные цензоры вместе с Верховным главнокомандованием активно занимались систематическим самообманом. Однако одной из причин регулярного появления сообщений о воодушевленных и патриотично настроенных войсках было то, что во многих письмах действительно выражались такие настроения, особенно в 1914 году, когда они отражали нарративы воодушевления и патриотической мобилизации, обращенные к новобранцам и доминировавшие среди офицерских собраний. Грандиозные демонстрации в поддержку царя и отечества, проходившие в первые дни войны, оказывали мощное эмоциональное воздействие на разных уровнях, в первую очередь в армии и государственных учреждениях. Сам царский режим, его солдаты, а также многие цензоры по сути стали жертвой порочного круга эмоциональных презумпций и ожиданий. Как солдатские письма, так и донесения цензоров по большей части отражали представления о том, что солдатам полагалось чувствовать, вместо того чтобы подтверждать опасения, из-за которых собственно и был создан разветвленный цензурный аппарат. Таким образом, в глазах и Стэнли Уошберна, и А. А. Лобанова-Ростовского, имевших тесные связи с цензорами, содержащиеся в донесениях описания крестьян, преданно защищающих царя и отечество и воодушевленно выполняющих свой долг, отражали конфликт между надеждой и отчаянием, наблюдавшийся и в рядах Верховного главнокомандования армии, и за его пределами. Иными словами, составлявшиеся цензорами сводки солдатских настроений отражали то, что, в их понимании, они должны были читать в солдатских письмах, равно как и то, что солдаты и их офицеры в их собственном представлении должны были (сами или под внушением) чувствовать или то, что некоторые из них действительно чувствовали. Согласно любопытной формулировке Уильяма Редди, русская армия по сути выстраивалась как «сообщество, пытавшееся управлять эмоциями» и стремившееся иметь точное представление о них[113]. При том что патриотические нарративы во многом вполне могли выражать то, что реально чувствовали войска, эмоции, которые они описывали, также могли отражать общие культурные ценности и эмоциональные ожидания, а не реальные чувства. Как указывает Лори Стофф, они также могли влиять на представления гендерного плана, которые мог поставить под сомнение боевой опыт. Солдаты должны быть «храбрыми». «Тревога» – удел женщин. «Страх» – признак трусости[114].
Предписания, запрещавшие эмоциональную открытость, исходили из различных источников и принимали различный облик. Высокий моральный дух объявлялся нормой и даже вменялся в обязанность – это требование почти наверняка было призвано обуздать выражение альтернативных чувств. Верховное главнокомандование, обеспокоенное тем, что множество писем и открыток содержало важную военную информацию, осенью 1914 года издало специальную директиву, предписывавшую войскам «писать осторожнее»[115]. Многие, должно быть, поняли это указание как требование писать в более позитивном ключе, если они хотят, чтобы их письма дошли до адресатов. Некоторые цензоры явно осознавали это, что создавало им дополнительные сложности при составлении донесений. Они понимали, что, в частности, неграмотные солдаты несвободны не только в плане выражения своих чувств, но и в плане того, что «правду писать нельзя» – иначе их письма не будут доставлены по назначению[116]. Энтони Гидденс называет это «рефлективным мониторингом»: речь идет о том, что отдельные солдаты и офицеры не давали воли своим чувствам и скрывали свой опыт в попытке соответствовать тому, что, по их мнению, ожидалось от хорошего солдата с точки зрения чувств и полученного им опыта. (Неграмотные солдаты, как правило, диктовали письма своим сослуживцам или землякам, умеющим читать и писать. Раненые и госпитализированные солдаты диктовали письма сестрам милосердия[117].) Плампер вдумчиво развивает эту идею посредством оценки того, что может быть выражено через «герменевтику молчания»[118].
Проблема усугубляется сложностями «исторического опыта» самого по себе. В то время как многие авторы склонны объявлять «опыт» краеугольным камнем исторического понимания («Я был там, и потому я-то знаю!»), приведенные на этих страницах страшные цитаты напоминают, что описанное в качестве чужого опыта во многих случаях вполне может в большей степени отражать чувства и представления описывающего, а не описываемого. Так же как и в случае проблемы, связанной с попытками выявления патриотических чувств и описания солдатских настроений посредством наблюдения парадов и чтения писем, главным источником сложностей здесь выступают проблемы оценки ощущавшихся в прошлом чувств и последующей переработки опыта, основу которого они составляют, в связный исторический нарратив. Ю. М. Лотман описывал этот процесс следующими лаконичными словами: то или иное событие может показаться тем, кто пережил его, чем-то дезорганизованным, хаотическим, лишенным какого-либо общего смысла или исторической логики. Однако рассказ об этом событии и последующие пересказы при помощи языка неизбежно наделяют его структурным единством. Это единство, которое в реальности существует только на уровне выражения, естественным образом переносится и на уровень содержания[119].
Эти соображения Ю. М. Лотмана особенно полезны применительно к солдатам на войне, тем более с учетом беспрецедентной природы современной войны, с такой жестокостью давшей о себе знать осенью и зимой 1914–1915 годов и ничуть не смягчившейся впоследствии. С тем чтобы передать полученный на ней опыт в письмах и мемуарах, следовало каким-либо связным образом выразить эмоциональные аспекты столкновения с беспрецедентными средствами уничтожениями и жестокостями войны, «вообразить невообразимое», как выразился Аарон Коэн[120]. Примерно о том же ведет речь Сэмюэл Хайнс, когда говорит в «Солдатской истории» о «восторженных россказнях» – сведении опыта, в буквальном смысле полного ужасов, к позитивным и социально желательным рассказам о мужской отваге и выдержке. Солдатские истории в тех или иных отношениях не могут не противоречить эмоциям, которые их авторы по понятным причинам не желают упоминать: страху, безразличию, трусости и даже моментам непроизвольного недержания, которые являются неизбежными аспектами современного боя. Кошмарные ужасы войны становятся патриотической жертвой. Выход из окопов в атаку описывается как акт отваги, без упоминания о сопровождающих его страхах, тревогах и проявлениях фатализма[121]. Солдаты, пишущие домой, так же как журналисты и публичные фигуры, подвергают себя угрозе, выказывая недостаточную патриотичность.
Как же в таком случае историки могут быть уверены, что чувства, описываемые в их источниках, переданы достоверно? Отнюдь не исключено, что все это – убедительные выдумки хитроумных мемуаристов и биографов. Такие блестящие писатели, как А. И. Солженицын или Эрих Мария Ремарк, способны вызвать у читателя доверие к своим словам, убедительно изображая эмоционально заряженные ситуации и сцены, даже если литературоведов интересует лишь то, каким образом эти описания затрагивают или порождают чувства, испытываемые читателями, в придачу к тому, что якобы чувствуют литературные персонажи. Что касается мемуаристов, писателей и корреспондентов, их рассказы о том, чему они были «очевидцами», подвергаются воздействию той же эмоциональной маскировки, которая помогает посылать солдат в бой. «Стоические солдаты из крестьян», «самые добродушные, по-детски непосредственные, шаловливые существа в мире», проявлявшие «удивительную» способность идти в атаку – все эти тропы сплошь и рядом встречаются у самого известного из иностранных военных корреспондентов, освещавших ситуацию на русском фронте, Стэнли Уошберна, не говорившего по-русски, так же как и в мемуарах куда более сдержанного и проницательного гвардейского офицера князя А. А. Лобанова-Ростовского, который служил на Юго-Западном фронте, а впоследствии преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и в Мичиганском университете[122]. Эта позиция характерна и для большинства газетных корреспонденций и мемуаров, содержащих описания русского фронта до 1917 года. Такие охранительные тропы, как стойкость, фатализм и патриотическая готовность пожертвовать собой ради родины, придавали личному опыту облик социально и культурно приемлемых репрезентаций коллективных чувств.
Кроме того, стойкость и фатализм воспринимались в более широком плане как особенности русского крестьянского менталитета, и эта точка зрения имеет определенную ценность. По мнению О. С. Поршневой, чья работа выстроена вокруг амбициозной цели провести анализ «механизмов и содержания психоментальных изменений, определивших особый психический склад, настроения и коллективные автоматизмы поведения» русских солдат в условиях мировой войны и выявить их «роль в формировании ментальных особенностей крестьянства», солдаты-крестьяне приносили из деревни на фронт фаталистические настроения, инстинктивное чувство неизбежности фронтовых катастроф. Их мировоззрение не позволяло им разбираться в политических причинах войны, чьи ритуалы и дисциплина воспринимались ими скорее сквозь призму религии, а их причастность к насилию не только делала их более жестокими, но и внушала им боязнь того, что они не смогут вернуться к «нормальной» жизни[123]. По мнению А. Б. Асташова, крестьяне испытывали глубокую привязанность к «близкому миру» – своей семье и деревне, в противоположность чуждому им миру на фронте. Как полагают и он, и Поршнева, «малое отечество» крестьянина (собственно место его рождения), имевшее для него наиважнейшее значение, в его глазах было весьма слабо связано с большим Отечеством, его страной, ради защиты которой он и был призван в армию[124].
Важные работы О. С. Поршневой и А. Б. Асташова отражают широко распространенные в 1914 году представления, фигурирующие во многих источниках, на которые опираются эти авторы. Например, вскоре после начала войны во многих газетах появилось сообщение о том, что целая воинская часть, включая офицеров, увидела в небе над своими позициями Богоматерь с младенцем Иисусом на руках, которая одной рукой указывала на запад, призывая их идти в бой. Рядовые опустились на колени, а видение у них на глазах превратилось в большой крест и исчезло[125]. Донесения цензоров ясно давали понять, что солдаты-крестьяне страдают от одиночества и тоски, испытывают постоянную тревогу за свои семьи и с нетерпением ждут увольнения: «Почти в каждом письме говорится о страстном желании видеть семью, свой дом, в особенности теперь, когда дома идет уборка хлеба, причем в некоторых письмах говорится, что исполнение их желаний зависит от времени заключения мира»[126]. По мере продолжения войны солдаты все чаще выражали беспокойство по поводу роста стоимости жизни в деревне и того, как это скажется на благополучии их семей, что, как отмечалось выше, было главной причиной дезертирства. «[При таких высоких ценах] мне на душе становится больно и тяжело, когда подумаешь, как же вы живете», – читаем в одном из писем[127]. В одном из донесений цензор предположил, что солдаты вызываются идти на опасные разведывательные задания именно по этой же причине, после чего покидают свои позиции и уже не возвращаются[128].
Несомненно, тот факт, что около 80% русских солдат были выходцами из деревни, важен для понимания социальных взаимоотношений и культурных перспектив на фронте, включая, вероятно, и тот фатализм, который многие испытывали перед лицом возможной гибели. Глубоко ощущавшаяся в деревне враждебность к помещикам вполне могла найти выражение в озлобленности из-за нехватки необходимого, взяток и коррупции в воинских частях, а также, возможно, и в особенно сильной ненависти к офицерам, считавшимся ответственными за неоправданные потери или несправедливо накладывавшим суровые дисциплинарные наказания, включая трибуналы, за которыми следовал немедленный расстрел. Однако как очевидцы, так и историки последующих времен поддались некоторым из тех заблуждений, которые разделяли и армейские командиры: заблуждений относительно физической силы и выносливости крепких солдат-крестьян, чей коллективный менталитет, сохранившийся в неприкосновенности благодаря религии и тяжелой деревенской жизни, якобы оберегал их от большей части военных стрессов. Православная вера и отсутствие образования не делали их людьми глупыми и недалекими. Солдаты злобно ругали своих офицеров и командиров за тактические ошибки, за непонимание того, что бойцы крайне нуждаются в отдыхе, и за бессмысленные потери, которых мог бы избежать компетентный военачальник. Многие из них писали о том, как их возмущает нехватка нормального оружия, что вместо сапог им выдают ботинки с обмотками, что офицеры и унтер-офицеры разворовывают и продают предназначенное солдатам продовольствие и амуницию. Кроме того, негодование вызывало и унизительное отношение к солдатам, в том числе со стороны медицинского персонала, что даже в прискорбных условиях фронтовой жизни заставляло их вспомнить о своем достоинстве[129]. По мере того как получить увольнительную становилось все более трудно, а в некоторых частях сделалось и вовсе невозможно, если только не заплатить кому надо, некоторые солдаты начали открыто говорить и писать о том, как хорошо было бы получить рану, особенно в суровое зимнее время[130].
Основным мотивом, звучавшим в солдатской корреспонденции, была несколько натужная «жизнерадостность» и выражение преданности царю и Отечеству, но в некоторых письмах, где вопреки этому мотиву прочитываются выражения самых различных чувств и тревоги, свойственных фронтовой жизни, все же можно усмотреть серьезную претензию на подлинность. Сама дистанция, отделяющая письма такого рода от выцеженных предписаний сохранять отвагу, лояльность и стойкость перед лицом лишений, придает правдивое звучание содержащимся в них откровенным признаниям. «Трудно привыкнуть к бесконечному каждодневному морю крови, от которого у меня из груди вырывается сердце»; «Я нахожусь не на воле, а… под страхом и под трепетом – потому что здесь льется кровь и дрожит земля и стоит всегда огненная туча»[131]. Как полагает Уильям Редди, те, кто, невзирая на эти страхи, писал, что он «полон бодрости» и «готов бить врага», могли в самом деле какое-то непродолжительное время действительно испытывать подобные чувства, подобно тому как охваченные тревогой солдаты, проходящие маршем мимо ликующих толп, могли ощутить приступ «патриотизма»[132].
Прочтение некоторых мемуаров, как, например, тех, что принадлежат перу Флоренс Фармборо, может оказаться довольно плодотворным занятием в том случае, если удастся разглядеть в них противоречия с господствующим современным дискурсом[133]. Именно таким является вдумчивое прочтение историком Карен Петроне неоднозначных воспоминаний о первом годе войны, написанных и изданных в 1920-х годах (и переизданных в 1998 году) психологом Л. Н. Войтоловским, евреем, который был призван в армию в качестве врача во время Русско-японской войны и в 1914 году[134]. Советские редакторы, публиковавшие их, превозносили Войтоловского за его проницательность, однако современный историк И. В. Нарский оценивает эти мемуары очень низко, называя их выдумками, основанными не на непосредственном опыте, а на том, что их автору рассказывали другие[135]. Однако Войтоловский, похоже, умел разбираться в противоречивых эмоциях, испытываемых некоторыми из солдат, с которыми он общался и которых лечил. Впрочем, подтвердить или опровергнуть его способности в этом случае – задача для историка, как собственно и оценка значимости его наблюдений.
Петроне, проявляя восприимчивость к умению Войтоловского понимать своих пациентов и осознавать собственный опыт, сумела показать, каким образом в его повествовании отразились конфликты, вызванные противоречием между преданностью и непокорностью, страданиями, а также попытками заглушить тревогу ради исполнения служебного долга. В описываемых им сложных чувствах ощущается подлинность, как и в его дистанцированности от требований сохранять преданность, отвагу и стойкость перед лицом лишений. Правдиво звучит само признание факта его собственных и чужих терзаний, так же как и его слова об одиночестве, о его неспособности пресечь жестокие грабежи и насилие, особенно в отношении гражданских лиц еврейской национальности, но в первую очередь, пожалуй, о том, как ему было страшно после отлучки вернуться на фронт с его ужасными условиями жизни и опасностями[136]. Аналогичным образом примечательные наблюдения этнолога и писателя-еврея С. А. Рапопорта, выступавшего в печати под псевдонимом С. А. Ан-ский, становятся особенно содержательными, если читать их с учетом разницы между ними и позицией большинства офицеров, с которыми приходилось иметь дело Ан-скому[137].
Последняя часть этой сложной головоломки зависит от того, каким образом всякий пережитый опыт становится связным по мере того, как его фрагменты приобретают нарративные формы, о чем мы уже говорили, и как эти формы затем наделяются личным и социальным смыслом в рамках различных (и по-разному структурированных) языков выражения[138]. (В соответствующей литературе содержится много подтверждений того, что точно так же работает и социальная память[139].) Контекстуально важным здесь является то, что мировая война, начавшаяся летом 1914 года, была беспрецедентной по своему размаху и масштабам, невообразимой как в буквальном, так и в фигуральном смысле. В этом плане реальный фронтовой опыт в значительной степени почти никак не был связан ни с прежней повседневной жизнью, ни с ожиданиями относительно него, возникшими в тылу или сразу после мобилизации. Каким образом совершенно новые уровни опыта могли быть усвоены и описаны, было непонятно ни с эмпирической, ни с эпистемологической точки зрения. Прибегая к терминологии Уильяма Редди, можно сказать, что повествование об ужасах войны как о патриотической жертве (или как об ужасающей растрате человеческих жизней, или как о том и другом одновременно) в реальности позволяло провести связь между определенностью выражений и неопределенностью чувств. Иными словами, для многих солдат и, пожалуй, особенно для неграмотных, которым приходилось диктовать описание своих ощущений другим, безопасное обращение к патриотическим или «бодрым» нарративам, образцами которых в годы войны служили вездесущие плакаты и открытки, кинофильмы, газеты, книги и журналы, а также бесчисленные военные церемониалы, возможно, просто отражало стремление не лишиться связи со знакомыми чертами домашней жизни, а вовсе не конфликт между выражаемыми и реальными чувствами.
Разумеется, в эмпирическом плане невозможно сказать со всей точностью, как все эти ужасы сказывались на поведении русских солдат и офицеров, так же как невозможно четко обозначить эмоциональные и психологические конфликты, которые ожидали солдат-крестьян и прочих людей, попадавших на фронт. Ни русские, ни советские власти, занятые другими неотложными делами, не занимались сбором соответствующих сведений. Кроме того, в России было написано мало книг, сопоставимых с тем, что писалось о «сломленных людях» на Западе после 1918 года, и не было ничего похожего на то, что Джордж Мосс называл «культом павшего бойца»[140].
В то же время, как будет показано ниже, хорошо известно, что полученные на войне эмоциональные травмы легко могут находить невербальное выражение посредством индивидуальных и коллективных актов насилия, а не в письменном виде – особенно когда дело касается не очень грамотных солдат. Эти акты могут отражать как чистый гнев и злобу, так и глубокие, неоднозначные желания и тревоги. Бывает, что посредством насилия душат в себе страх перед озверением. В иных случаях нападение на беспомощного противника помогает вновь почувствовать себя храбрым. Кроме того, давая волю своим эмоциям, люди нередко идут на поводу у социальных или социокультурных условностей. Даже неохотное участие в таких еще более ужасных формах группового насилия, как изнасилования и грабежи, может быть способом показать, что их участник остается уважаемым членом данной группы. С самого начала российских войн и революций вопрос «настроений» отнюдь не сводился к вопросу о «боевом духе» солдат.
Военная цензура и Галицийская катастрофа
Русское Верховное главнокомандование, вооруженное неизменно позитивными донесениями о солдатских настроениях, стабильно сохраняло оптимизм в отношении боеспособности армии. В начале февраля 1915 года немцы предприняли новое наступление в Восточной Пруссии. Русское командование снова крайне недооценило вражеские силы, но первые немецкие успехи не привели к существенному изменению линии фронта. Русские потери снова были ужасающими. Русская 10-я армия потеряла более 50 тыс. человек. Генерал Эрих Людендорф превозносил германский удар как второй Танненберг. Однако к концу февраля благодаря русским контратакам положение стабилизировалось. Казалось, что дела у русской армии налаживаются. Хотя количество дезертиров, и без того большое, только возрастало, а число попавших в плен вызывало сильную тревогу – причем второе наверняка было связано с первым, – военные цензоры по-прежнему не видели почти никаких намеков на возможность беспорядков подобных тем, которые терзали и армию, и флот менее десяти лет назад, во время войны с Японией. Лояльность и воодушевление солдат, о чем военные цензоры докладывали штабам, устраняли нужду в пересмотре зимних планов удара по Австрии через Карпаты с выходом на венгерскую равнину.
Имея в виду как это обстоятельство, так и тот факт, что немецкие войска в Восточной Пруссии окапывались, готовясь к обороне, русское Верховное главнокомандование продолжало настаивать на наступлении против австрийских сил в Галиции, опираясь на осенние успехи А. А. Брусилова и прочих военачальников. Русские собирались сосредоточить здесь свои силы под началом фронтовых командиров, считавшихся наиболее компетентными, для удара по намного хуже оснащенной австрийской армии, в рядах которой находилось много славянских солдат с Балкан, чья лояльность оценивалась как сомнительная. Австрийская армия выглядела особенно уязвимой после предпринятого воинственным начальником австрийского штаба Конрадом фон Гетцендорфом несвоевременного и плохо спланированного наступления в конце зимы в Карпатах, обернувшегося полной катастрофой. За последнюю неделю февраля обморожения, болезни и отсутствие медицинской помощи унесли в могилу тысячи австрийских солдат. Если бы Австро-Венгрию удалось вывести из войны, то численное превосходство русских на фронте могло бы принудить Германию к миру, особенно с учетом масштабов кровопролития на Западе. В середине марта русские взяли крепость Перемышль. В плен сдалось около 120 тыс. человек ее гарнизона, что расчищало путь к полномасштабному русскому наступлению в Карпатах[141].
В начале апреля 1915 года русские газеты надеялись на успешное развитие наступления русской армии. Поездки военных корреспондентов на фронт тщательно планировались. В донесениях по-прежнему подчеркивались дисциплина и высокий воинский дух. Например, корреспонденту лондонской газеты Times С. Уошберну все казались «довольными и веселыми, особенно в случае хорошей погоды… Сами солдаты видят одно поле боя за другим, то одну, то другую сцену кровопролития… Их полки у них на глазах обращаются в ничто, ряды их офицеров поредели, три четверти их товарищей убиты или ранены, и все же каждую ночь они собираются на биваках, явно не переживая из-за этого». В апреле 1915 года британский журналист не наблюдал на фронте «ни одного признака каких-либо волнений среди солдат». Все донесения, в которых утверждалось противоположное, «извращали факты»[142]. Популярный иллюстрированный журнал «Нива» и прочие издания в России укрепляли эти представления.
Русский оптимизм дополнялся германской обеспокоенностью. Людендорфу и другим становилось все более ясно, что Юго-Западный фронт не удержится без немецкой помощи. Согласно некоторым расчетам, вопрос о немецком содействии становился тем более злободневным вследствие угрозы итальянского удара, однако его следовало срочно решить и по той причине, что крах Австрии грозил дестабилизацией всей Центральной Европы. Поэтому после потери Перемышля Германия бросила дальнобойные орудия и значительное число войск против наступающей русской армии. Многие русские новобранцы впервые столкнулись с яростными артобстрелами. В середине апреля в западную Галицию было направлено еще больше немецких войск; в начале мая немецкое командование предприняло мощное наступление.
Огонь германской артиллерии снова косил русских солдат. Зимние уроки оказались не выучены. Резервов было мало. Боеприпасы были исчерпаны. Дороги были забиты, связь то и дело прерывалась. Генерал Н. В. Рузский, призывавший к отступлению, назвал положение безнадежным. Русские войска были вынуждены отходить по всему фронту. Перемышль, совсем недавно взятый ценой больших потерь, был эвакуирован. После подхода свежих немецких подкреплений с Балкан галицийское отступление обернулось разгромом намного более жестоким, чем под Танненбергом и у Мазурских озер. К июню 1915 года Львов, столица Галиции, вновь был захвачен немцами и австрийцами и немедленно переименован обратно в Лемберг. Было взято в плен или пропало без вести до полумиллиона русских солдат. К 1 мая 1915 года русские потери составили почти 1,2 млн человек, чьим родственникам, численно превосходившим это количество в три или четыре раза, приходилось как-то жить с подобными потерями[143].
Хотя многие военные цензоры, как ни странно, продолжали писать, что отступление не повлияло на настроение солдат, некоторые донесения были куда более мрачными. Великое отступление русской армии, как его вскоре стали называть, вновь отражало последствия изнурения русских войск, наряду с прочими печальными итогами. Солдаты были «несказанно измотаны, будучи не в силах даже стонать, когда им перевязывали раны», – писала британская сестра милосердия Флоренс Фармборо[144]. По словам генерала Брусилова, на фронте творился «хаос невообразимых размеров», ни офицеры, ни рядовые «не знали, что делать им самим и что делают их соседи»[145]. Многие солдаты выражали крайнюю неприязнь к офицерам, которые посылали их в бой, не вооружив как следует. На командиров частей возлагали вину за прерванные линии снабжения и нехватку продовольствия и боеприпасов. Галицийские города подвергались беспощадному разграблению солдатами, все больше проявлявшими «стремление к миру»: как сообщал один цензор, это стремление отмечалось почти в трети из прочитанных им писем. К тому же, несмотря на угрозу сурового наказания, и солдаты, и офицеры по-прежнему приводили в своих письмах «целые печатные планы с обозначением путей передвижения, позиций и всего прочего», как будто им было на все наплевать: «почти в каждом письме говорится о страстном желании видеть семью, свой дом, в особенности теперь, когда дома идет уборка хлеба…»[146].
На фоне разгрома, которым обернулось Великое отступление из Галиции, геройское стремление сражаться за царя и за Родину словно испарялось по мере того, как легионы уцелевших, неся на себе шок войны, возвращались в родные села и города, и шли навстречу новым военным катастрофам. Точно так же исчезали и хрупкие границы между священным и мирским. Как сетовал один боец, «справедливо говорят немцы: русские воюют с Богом, а мы с дальнобойными орудиями»[147].
Глава 2
Была ли Россия готова?
Как мы знаем, в июле 1914 года все воюющие державы ожидали, что Великая война будет недолгой и продлится самое большее несколько месяцев. Практически все полагали, что при наихудшем раскладе все участники войны через год будут физически и экономически истощены, даже если ни одной из сторон не удастся одержать безусловную победу. Бывший товарищ военного министра по снабжению армии и будущий военный министр, генерал от инфантерии А. А. Поливанов ожидал, что война продлится от двух месяцев до года, но не больше, после чего воюющие державы заключат мир, исходя из того, что им удастся захватить к тому моменту, как это было после Франко-прусской войны 1870 года, Русско-турецкой войны 1878 года и недавней войны с Японией. Мало кому приходило в голову, что спустя год после начала войны России придется содержать более чем одиннадцатимиллионную армию, ведущую бои против Германии и Австрии на фронте, протянувшемся более чем на тысячу миль, в дополнение к еще одной армии, которая будет сражаться на Кавказе с турками – союзниками немцев.
Одной из причин такого оптимистического сценария служили относительно ограниченные потребности Русско-японской войны, представлявшейся разумным образцом в деле мобилизации и накопления адекватных военных запасов. Мало кто задумывался о том, что в случае более продолжительного конфликта снабжением армии наряду с государственными заводами придется заняться и частным предприятиям. В 1913 году была принята программа деятельности Главного артиллерийского управления, созданного в 1910 году, в то время как «Большая программа» строительства вооруженных сил, принятая в июне 1914 года после нескольких лет дебатов, запустила процессы планирования и финансирования, призванные сделать русскую армию не только самой большой в Европе, но и самой сильной. В 1908–1911 годах Государственная дума отпускала на военные нужды меньше денег, чем запрашивало Военное министерство, но в 1912–1914 годах она выделяла в три раза больше средств. Несмотря на сокращение некоторых статей бюджета, в 1909–1913 годах Дума одобрила выделение более 2,5 млрд руб. на покрытие «обыкновенных» расходов армии. В 1912 и 1913 годах объем выделяемых средств вырос более чем на 17%. Благодаря дополнительным «чрезвычайным» расходам, санкционированным непосредственно Советом министров, русская армия в 1914 году финансировалась более щедро, чем немецкая, и должна была вскоре вырасти в три раза, что, по мнению некоторых историков, ускоряло сползание к войне[148].
Насколько подготовленной была экономика Российской империи к современной войне? И насколько серьезно неожиданные масштабы и размах войны подрывали способности России к обороне в конце весны 1915 года, когда ее армии хаотично отступали после катастрофического поражения в Галиции? В свете широких исторических интерпретаций этот вопрос меньше всего связан с экономикой. При его рассмотрении встают ключевые проблемы понимания Октябрьской революции 1917 года и истоков большевистской системы. Чем была в первую очередь обусловлена слабость царского режима – экономическими сложностями или политической бездарностью? Являлись ли причиной экономического краха 1917 года последствия войны или же он был вызван свержением царизма и последовательными попытками большевиков и прочих сил подорвать законность Временного правительства? И в какой степени большевистская политика военного коммунизма, проводившаяся после Октября, исходила из ленинской идеологии в противоположность (или вдобавок к) необходимости справиться с социально-экономическими последствиями предшествовавшего экономического краха? Иными словами, экономическая ситуация в России после 1914 года в основе своей была непосредственно связана с вопросами эффективности политических мер, практик и той политики, которая вызвала их к жизни.
Относительная недоразвитость России как современной экономической державы в сравнении с Германией, Австрией, Англией и Францией издавна рассматривалась как ключевой фактор, ограничивавший ее военные возможности во время Первой мировой войны. Специалисты по экономической и социальной истории обращали внимание на противоречия, присущие процессу перехода от преимущественно аграрной экономики к частично индустриализованной, особенно в 1890-х годах, перед Русско-японской войной, и в 1908–1913 годах, когда в свете сложного международного положения России и возросшего значения промышленности для обороны был взят курс на ускоренную индустриализацию. Многие усматривают истоки революции именно в этих долгосрочных исторических процессах, а не в собственно мировой войне. Оба Больших сюжета – и демократическо-либеральный, и демократическо-социалистический – исходят из идеи о том, что в отсутствие войны обусловленные историей представления о том, как будет проходить модернизация России, реализовались бы на практике. Более того, один из ведущих европейских историков экономики даже утверждает, что корни 1917 года следует искать в глобальных