Читать онлайн Мамин мозг. Как понять себя, чтобы стать идеальной мамой для своего ребёнка. Научное обоснование нашим тараканам, фишкам и пунктикам бесплатно
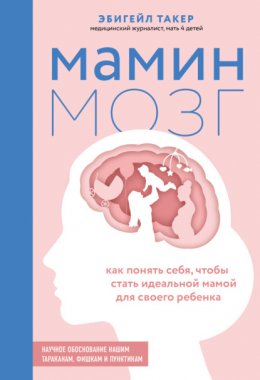
И все мальчишки опустились на колени и стали ее просить:
– Тетенька Венди, будь нашей мамой!
– Да? – сказала Венди и просияла. – Я бы очень хотела. Только я не знаю, справлюсь ли я. Я ведь еще только девочка.
– Это неважно! – сказал Питер, как будто он прекрасно разбирался в мамах. – Нам нужно, чтобы ты была, как мама. И все.
– По-моему, я как раз такая и есть, – сказала Венди.
– Дж. М. Барри, «Питер Пэн» (1911), перев. И. Токмаковой
MOM GENES
Inside the Somewhat Unfl attering, Totally Fascinating Science of Motherhood
by Abigail Tucker
Copyright © 2021 by Abigail Tucker
This edition is published by arrangement
with WAXMAN LEAVELL LITERARY AGENCY and The Van Lear Agency LLC
Во внутреннем оформлении использована иллюстрация:
GN / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Захаров А. В., перевод с английского, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Введение: о мышах и мамах
«Кажется, словно у меня выросло новое сердце».
Вот что сказала мне лучшая подруга в день, когда родилась ее дочь. Тогда я закатила глаза, услышав дурацкую мамскую фразочку. Но через десять лет, сама уже родив троих детей, я вспомнила слова Эмили, когда ехала в переполненном лифте в лабораторию нью-йоркского госпиталя «Маунт-Синай», где кардиологи изучают тайны материнских сердец.
Каждый год тысячи беременных женщин и рожениц попадают в реанимацию с опасной для жизни сердечной недостаточностью. Среди симптомов – распухшие вены на шее и одышка. Их сердца едва могут перекачивать кровь. Причина этой «перипартальной[1] кардиомиопатии» неизвестна, но для обычных людей такое состояние означает либо необходимость срочной пересадки сердца, либо смерть.
Но вот новоиспеченным мамам уготована другая судьба. Примерно половина из них спонтанно выздоравливают – у них вообще самый большой процент выздоровлений от болезней этого типа[2]. У некоторых мам сердца буквально через две недели уже становятся, как новенькие[3]. Сердечная ткань у взрослых обычно восстанавливается с трудом, но вот роженицы, похоже, умеют отращивать себе новые сердца примерно так же, как саламандры – новые хвосты.
Кардиолог Хина Чаудри, работающая в лаборатории госпиталя «Маунт-Синай», считает, что нашла ответ. Ее исследовательская команда сначала наносила беременным мышам хирургические травмы, которые имитируют сердечный приступ, а потом вырезала и препарировала их крохотные сердца. Ученые обнаружили именно то, чего и ожидали: сердечные клетки с ДНК, не совпадавшей с ДНК матери.
Таинственные клетки принадлежат нерожденным мышатам. Во время беременности клетки мышат пересекают плаценту и начинают циркулировать по кровеносной системе матери до тех пор, пока у той не повреждается сердечная ткань; после этого, обнаружив воспаление, они спешат к раненому сердцу. Примерно как моя вторая дочь несется ко мне с пластырем всякий раз, когда я оцарапаюсь, натирая на терке пармезан для ужина.
– Они реагируют сразу же, – говорит Чаудри. – Эти клетки ищут сердце, словно самонаводящиеся ракеты.
Размножаясь внутри материнской груди, стволовые клетки зародышей превращаются в трубки, подобные кровеносным сосудам, и даже во что-то сильно напоминающее священный Грааль кардиологии: полноценные клетки сердечной мышцы, над воссозданием которых в лаборатории ученые бьются уже не одно десятилетие. Пострадавший мамин орган, скорее всего, использует эту свежую ткань, чтобы залечить себя.
Кажется, словно у меня выросло новое сердце.
На стоящем рядом мониторе Чаудри открывает сильно увеличенное изображение беглых мышиных клеток в чашке Петри. Помеченные зеленым флуоресцентным белком, они напоминают свежие горошины в тарелке с серым мясным соусом.
Она нажимает кнопку проигрывания, и горошины начинают пульсировать, подергиваться. «Га-ган, га-ган», – словно говорят они, как Патрик Суэйзи в «Грязных танцах[4]. Я прищуриваюсь. Почему вообще, спрашиваю я, зародышевые клетки вот так дергаются?
Чаудри ухмыляется.
– Они бьются.
* * *
И сердцем все не ограничивается. Организм матери очень похож на ее гостиную: повсюду валяется то, что дети с себя скинули, и прочий мусор. Ученые находили зародышевые клетки в самых неожиданных местах – примерно как я обнаруживаю чьи-то футбольные щитки за телевизором, а в корзине с бельем – диадему. Наши дети колонизируют легкие, селезенку, почки, щитовидную железу, кожу. Их клетки встраиваются в костный мозг и молочную железу.
Часто они остаются там навсегда. Ученые находят беглые зародышевые клетки, вскрывая тела пожилых женщин, чьи младшие сыновья уже сами готовятся к пенсии. В организмах суррогатных матерей еще долго после родов задерживаются гены чужих детей.
Этот феномен называется «фетальным микрохимеризмом». «Микро» – потому что этих клеток остается мизерное количество, всего несколько на кубический миллиметр крови беременной женщины, и еще меньше – у тех, кто уже родил.
«Химера» – это неуклюжее греческое чудовище, сделанное из кусков всем известных животных, которые слепляли до тех пор, пока они не начинали подавать признаки жизни.
На экране компьютера я смотрю на статуи этих древних чудовищ, отлитые в бронзе: козлиные ноги, львиные сердца, драконьи крылья и огненное дыхание, вырывающееся из пасти – или сразу из трех.
«Это не монстр, – думаю я. – Это я почти каждое утро. Это мама».
* * *
Хотя фетальный микрохимеризм – явление древнее с точки зрения эволюции и распространенное у многих самок млекопитающих, от кошек до коров, современные ученые лишь недавно добрались до его изучения. Собственно, примерно так же обстоит дело и с почти всеми научными данными о почти двух миллиардах человеческих мам, живущих ныне на планете[5]. Правда, если подумать, нас на самом деле намного больше, потому что микрохимеризм работает в обе стороны: беглые мамины клетки попадают в организмы младенцев и живут в них. Соответственно, хотя одна из моих самых близких подруг умерла от рака три года назад, небольшая часть ее клеток сейчас ходит во второй класс.
Более 90 процентов женщин во всем мире становятся мамами[6]. Но до совсем недавнего времени лишь очень немногие ученые, особенно в суперсовременных отраслях вроде нейробиологии, хоть сколько-нибудь интересовались тем, что происходит у них внутри. Можете, конечно, винить в этом исторически патриархальный научный истеблишмент: некоторые мыслители возводят такое пренебрежение аж к Чарльзу Дарвину, который вырос без матери, из-за чего ему, бедняжке, возможно, было просто тяжело о нас думать. Лишь в 2014 году Национальные институты здоровья США признали, что «слишком часто используют только самцов животных и их клетки» в своих исследованиях, и поручили ученым использовать в работе и самок, в том числе беременных и рожавших[7].
Еще один недостаток науки о мамах состоит в том, что по большей части даже те исследования, что все-таки проводятся, зачастую представляют собой слегка завуалированное исследование маленьких детей, которые в качестве модели человеческого состояния куда приятнее глазу (ну да, мы поняли), менее отягощены ужасными, назойливыми факторами вроде культуры и характера, а платить за участие им можно печеньками. По сравнению с быстро развивающимися младенцами мамочки имеют репутацию унылых и предсказуемых – с ними никаких соблазнительных гипотез не выдвинешь. В природе детеныши животных, например, китов, иногда принимают океанские буи и другие огромные неподвижные шарообразные предметы за своих матерей; ученые, возможно, тоже мыслят примерно теми же категориями.
Но сейчас ученые, в том числе множество молодых женщин, наконец-то занялись настоящими исследованиями, для которых они прикрепляют миниатюрные камеры к головам младенцев[8] или вшивают микрофоны в их ползунки[9]. Среди используемых суперсовременных экспериментальных инструментов есть вполне обычные для дома любой мамы вещи: семейные фотоальбомы, хлопья для завтрака, пластилин. Оказалось, что мамы совсем не такие унылые и предсказуемые, как все думали. Мы намного более интригующие и сложные.
Именно поэтому работа Чаудри с мышиными сердцами так привлекает внимание: это неопровержимое доказательство того, что если приглядеться внимательнее, то мамы зачастую будут очень сильно отличаться от всего остального человечества.
Ученые все еще пытаются понять, почему это так и что это значит для женщин. Ибо, хотя Чаудри и ее команда и надеются, что исследования микрохимеризма в конечном итоге лягут в основу многообещающих методов лечения сердца для самых разных людей, на данный момент никто точно не представляет, что же эти детские клетки делают внутри маминых организмов[10].
Мы, конечно, надеемся, что они нам помогают.
– Это эволюционная биология, – говорит Чаудри, статья которой о микрохимеризме вышла в 2012 году. – Зародыш создан для того, чтобы защищать мать[11].
Зародышевые клетки, сохранившиеся в организме после беременности, способны в прямом смысле исцелить сердце матери.
Логично: это организм, от которого в наибольшей степени зависит дальнейшее выживание плода. Зародышевые клетки действительно в основном играют роль добрых героев, словно им в скором времени положено щедрое выходное пособие. Они, судя по всему, лечат раны не только на сердце, но и на коже, – скорее всего, зародышевых клеток полно в моих шрамах от кесарева сечения, – а также защищают нас от множества жутких болезней. В одном десятилетнем исследовании нидерландские ученые следили за 190 женщинами в возрасте от 50 до 70 лет, и те из них, у кого в организме находили больше всего оставшихся детских клеток, меньше рисковали умереть буквально от всего[12]. Было даже предположение, что эти рои стволовых клеток замедляют процесс старения – без всяких кремов для лица, стоящих 300 долларов за унцию[13].
Был даже особенно знаменитый случай, когда врачи обнаружили, что оставшиеся в организме клетки сына восстановили целую долю почти отказавшей печени у одной женщины[14]. (Случай замечателен, в первую очередь, тем, что у этой женщины не было детей. Ее сын вообще не родился, но даже после аборта продолжал жить внутри нее).
В некоторых случаях, однако, детские клетки могут слишком расшалиться. Любой, кто видел, как маленькие дети играют в переодевание, понимает, что давать им решать, как должен выглядеть человек, не стоит. Жадные зародышевые клетки – ну, формально клетки, конечно, разумными существами не являются, но даже ученые склонны очеловечивать клетки, принадлежащие детям, – могут помогать развиваться некоторым видам рака, особенно раку груди, как результат безобидного стремления обеспечить максимальные объемы молока. Они могут вторгаться в щитовидную железу, повышая температуру тела, чтобы согреть себя, по пути вызывая различные метаболические расстройства. Несмотря на милые тоненькие голоски, как у персонажей «Маппет-шоу», на самом деле наши дети часто управляют нами, словно марионетками, и, возможно, даже немного нас третируют. (Некоторые эволюционные биологи также считают, что клетки троих моих детей воюют друг с другом в моем организме, и, если честно, я даже готова в это поверить).
Такое вот милое предательство, с которым знакома любая мама, чьи дети сначала с любовью нарезают конфетти для празднования ее дня рождения, а потом прячут какой-нибудь «сюрприз» в посудомоечной машине[15]. Именно поэтому, узнав, что фетальный микрохимеризм наблюдается даже в мозге, я остановилась и внимательно перечитала статью еще раз.
Может быть, именно детскими клетками, затаившимися в моем черепе, можно объяснить, почему в последние десять лет моя жизнь настолько странная? Почему я вдруг полюбила бархатные щечки с ямочками, лазурные глазки и глупые улыбочки, а мой ум постоянно витает в каких-то непонятных облаках? Почему прежнюю «меня» сменила новая, совершенно другая личность?
По правде говоря, то, что на самом происходит в маминой голове, намного, намного сложнее. Именно этому и посвящена книга.
* * *
Впервые я задумалась о серьезных научных данных, посвященных нежному материнскому инстинкту, много лет назад, когда побывала в знаменитой лаборатории с полевками в Университете Эмори, что в Атланте. Ларри Янг, ведущий исследователь, рассказал мне, что необычная химия мозга у желтобрюхих полевок[16] помогает им создавать прочные пары до конца жизни. Для этого они используют куда более простую и древнюю систему млекопитающих: материнские сигнальные пути, которые мобилизуются у самок после родов. (У людей похожее переподключение древней «материнской» части мозга, возможно, отвечает за наше слегка жутковатое желание называть возлюбленных «детка» или «крошка»).
Я тогда уже ждала второго ребенка, но все еще думала (или, может быть, заставляла себя думать), что материнство – это образ жизни, который можно для себя выбрать, а не нечто, обусловленное биологически, самоназвание, а не состояние, одна «маска» из многих, что я временами решаю надеть, а не вся моя голова с содержимым, накопленным за время долгой (и недешевой) учебы. Но Янг говорил о материнстве как о невидимой и плохо изученной революции на клеточном уровне, которая перестраивает женский мозг.
Ладно, хорошо. Да, я чувствовала себя далеко не лучшим образом, когда во время беременностей полный день работала журналисткой. Я была какой-то рассеянной, мысли появлялись и тут же исчезали, словно влажные салфетки, которыми вытираешь ребенка.
Но ведь все это закончится, когда я начну немного высыпаться, правильно? Мой мозг восстановится точно так же, как и мое тело, которое (как я наивно надеялась) когда-нибудь легко проскользнет в джинсы, которые я носила до беременности и которые сейчас лежали на нижней полке шкафа, на расстоянии вытянутой руки, но так далеко. Собственно, до того дня я больше беспокоилась о своих старых джинсах, чем о новом мозге.
Такие поверхностные рассуждения вполне оправданны. Видимые изменения материнского тела иногда просто пугают, даже в те моменты, когда я вся не обклеена наклейками с пиратами. За три беременности я набрала в общей сложности около 45 кг, а сбросила… ну, мягко говоря, не все. (Впрочем, могло быть и хуже: синие киты набирают по пятьдесят тонн!). Похожие на молнии растяжки до сих пор никуда не делись с моих боков.
Во время беременности весь организм находится в нестабильном состоянии. Наши родинки могут потемнеть, голос опуститься на октаву (как у беременной Кристен Белл, когда она озвучивала «Холодное сердце»[17] – знаменитый саундтрек, вполне возможно, мог бы быть и еще визгливее). Носы расширяются, своды стоп становятся плоскими, ногти на ногах отрываются. Волосы могут изменить цвет или начать виться. У нас может начаться такая отрыжка, словно мы проглотили циклон. Из печени просачивается желчь, и мы чешемся, как сумасшедшие. А еще нас особенно любят комары – потому что повышаются температура тела и выделение углекислого газа.
Подобные «пересборки» всего тела – это серьезная штука. Из-за них Серена Уильямс, например, не прошла квалификацию «Ролан Гарроса»[18], а Бейонсе[19] отказалась выступать на «Коачелле»[20], причем остаются с нами они надолго – если вообще не навсегда. В одной научной статье довольно глумливо описывают типичную «Шалтай-Болтаевскую»[21] мамину пересборку, с «увеличением окружности живота и уменьшением окружности бедер»[22]. А еще, как выяснилось, старая поговорка «родила ребенка – потеряла зуб» тоже в чем-то верна: по сравнению с бездетными ровесницами, мамы чаще теряют зубы – либо из-за недостатка кальция, либо из-за того, что не обращаются вовремя к стоматологу[23]. В пожилом возрасте мамам труднее ходить. Но есть и хорошая новость: у мам, кормивших грудью, ниже вероятность инсульта.
Тем не менее вся эта суматоха бледнеет в сравнении с тем, что творится у мамы в голове.
Пророчество написано на стене фломастерами, ну, если, конечно, мы вообще обратим на него внимание, проходя мимо. У беззубых старых мамочек еще и отношения с болезнью Альцгеймера складываются несколько по-иному; в одном недавнем исследовании с участием четырнадцати тысяч женщин говорится, что наличие трех или более детей на 12 процентов снижает риск деменции[24].
Но не все неврологические новости настолько же хороши. Мамы страдают от множества опасных и непонятных душевных проблем, особенно когда окончательно переключаются в режим материнства. Более половины новоиспеченных мамочек жалуются на «послеродовую хандру», а примерно у каждой пятой она перерастает в настоящую послеродовую депрессию[25]. Ученые не знают, как и почему это происходит. Повышенный риск депрессии у мам может сохраняться еще не один год после родов. Возможно, именно материнство – ключ к решению загадки, почему женщины в целом чаще страдают от различных душевных расстройств. В первый месяц материнства, например, вероятность развития биполярного синдрома у женщины в двадцать три раза выше, чем в любой другой период жизни[26].
Все это – довольно толстый намек на то, что процессы, происходящие у нас в голове, не менее экстремальны, чем непрошеная смена имиджа, которую видят все. Когда мамины нейроны впитывают вызывающие кайф вещества, вырабатывающиеся при деторождении, гены в клетках то включаются, то выключаются, вызывая изменения и рост мозга. Если говорить проще, то всего за несколько месяцев из нашего мозга выносят всю мебель, сдирают обои, а потом обставляют заново, примерно как в программе «Идеальный ремонт». Из-за этого мы начинаем относиться к знакомым стимулам – лицам незнакомцев или красному цвету, или запаху маленькой футболочки – новыми, очень странными способами. Детская улыбка внезапно превращается в нашу альфу и омегу. Наши старые системы желания перепрограммируются.
В общем, самая важная перемена в материнстве – не то, как мы выглядим внешне.
Мы даже видеть начинаем по-другому.
* * *
Вовсе не случайно идея, что нас угоняют, взламывают, подавляют, перепрограммируют или как-то иначе навязывают нам новую личность, стала популярным штампом для женских антиутопий, от «Степфордских жен» до «Рассказа служанки».
Но я много раздумывала над этой идеей превращения в «новую леди» – так меня окрестили дочери после того, как я пожаловалась, что меня обозвали «старой леди», – сидя долгими вечерами за обеденным столом и попивая «черное вино» (этот термин мои дочки придумали в противоположность белому вину). И я пришла к выводу, что идея на самом деле весьма свежая.
С тех пор как я услышала первый стук маленького сердечка в кабинете врача, у меня начинается мамское головокружение всякий раз, когда я представляю себе шесть мигающих глаз своих детей или рассматриваю рентгеновский снимок дочкиной лодыжки после того, как она неудачно скатилась с горки в «Чик-Фил-Эй»[27]. Я сделала этих людей у себя в животе. Это одна из самых странных мыслей, которые вообще могут прийти в голову; во многих отношениях представлять, как ты рожаешь себя саму, кажется даже более нормальным.
И это один из поразительных способов представить, через что же на самом деле проходят матери. На самом деле перемены, происходящие при материнстве, настолько уникальны и экстремальны, что ученые даже начали описывать нас терминами, которые ранее были зарезервированы лишь для наших великих научных соперников, маленьких детей. Матери вовсе не унылы и предсказуемы – совсем наоборот. Мы – новое начало, а не тупик. Мы «развиваемся», если говорить на психологическом жаргоне.
* * *
Подходит ли термин «материнский инстинкт» для описания чувств и чувствительности, которые появляются после этого перерождения? Сегодня инстинкт – это парфюм от Джорджо Армани, а не броское научное словцо. В инстинкты верят рыцари-джедаи, а не ученые.
Сто и даже меньше лет назад в New York Times и других газетах этот термин использовали в укоризненных описаниях сомнительных женщин, например, танцовщицы хула[28] с плохим чувством моды и «толстыми ляжками», которая украла чужого ребенка («неудовлетворенный» материнский инстинкт), или мамаши, которая сбежала из города, бросив мужа с детьми (тц-тц-тц, материнский инстинкт «отсутствует»)[29]. Это слово попахивает временами, когда женщины выставляли младенцев, словно призовых поросят, на ярмарочные конкурсы и слушали по радио программы для домохозяек от Министерства сельского хозяйства США.
Но мне этот термин все равно нравится, да и многие ученые против него не возражают – в основном потому, что сами женщины определяют его как «вы сами поймете, когда увидите», отождествляют себя с ним и не стесняются его применять. (И вообще, если бы за лингвистику у нас отвечали ученые, я бы сейчас написала не «женщины», а «субстраты с потенциальной возможностью стать матерью»). Находить прямую связь между новейшими научными находками и онлайн-восторгами Минди Калинг[30] в адрес своего новообретенного «сильного материнского инстинкта» очень приятно, потому что женщины действительно знают, о чем говорят. Материнский инстинкт существует, и он силен[31]. Это спонтанно появляющийся набор эмоций и действий, который связан с восприятием детей и уходом за ними.
Но поскольку «материнский инстинкт» – термин, мягко говоря, чреватый, давайте я сразу объясню, что я не имею в виду под «инстинктом». Бездетные женщины часто говорят, что у них нет материнского инстинкта, на самом деле имея в виду, что они не хотят иметь детей. Я (по большей части!) не собираюсь объяснять, почему некоторые женщины планируют или не планируют, или не стремятся иметь детей, и хорошо это или плохо. (Хотя, кстати, я как раз была такой. Все вот это странное материнское предприятие, как мы увидим позже, было идеей моего мужа). Это интересные, но очень «узкочеловеческие» и, по сути своей, очень современные вопросы: если говорить в целом, самки млекопитающих не хотят иметь детей. Они хотят заниматься сексом, а дети просто получаются в процессе. Кроме того, ответам самих мам на подобные вопросы доверять стоит не всегда. Прошлогоднее исследование показало, что многих мам настолько развозит от любви к детям, что они далеко не во всех случаях точно описывают свои намерения и часто называют случайное зачатие запланированным[32].
Меня больше интересует то, что происходит с женщинами во время беременности, потому что именно в это время они превращаются в матерей, мышление становится «материнским», а планы на жизнь, если они вообще были, летят куда подальше, словно банановая кожура из окна машины по пути на урок плавания.
Заодно давайте сразу развеем еще один «инстинктивный» миф: идею, что мамы каким-то магическим образом сразу сами понимают, что надо делать. В книге об этом будет намного подробнее, но сейчас я просто скажу: ничего мы не знаем. Инстинкт, о котором я говорю, – это измененное состояние сознания, новый репертуар чувств, ощущений и импульсов, а не подробный справочник «Как быть хорошей матерью».
В этом таинственном новом материнском репертуаре меня, в первую очередь, привлекают два вопроса. Во-первых: чем матери отличаются от всех других людей и чем похожи друг на друга? Мамы практически всех видов млекопитающих, от хомячков и валлаби до людей, следуют за одной и той же путеводной искрой. И пусть это может прозвучать и обескураживающе, нам в чем-то даже повезло, что мы так похожи на наших мохнатых сестер, потому что их, в отличие от нас, ученым разрешается вскрывать, и животные модели, в частности, овцы и мыши, рассказали нам многое из того, что мы знаем о себе.
Мой второй вопрос звучит так: почему мы, мамы людей, настолько отличаемся друг от дружки? Наши истории не менее извилисты, чем родовые пути. В Японии балом правят «мамы-монстры», следящие за каждым шагом детей, а вот немецкие «мамы-вÓроны» интересуются только своей карьерой. Есть «поздние» матери (это такой très[33] французский эвфемизм для «старых») и «единоличные» матери (печальный английский термин для матерей-одиночек). «Мерферш», или мам-серферш, полно в Австралии[34]. Ну, а в Америке за место под солнцем сражаются миллионы различных типов: домохозяйки, работающие из дома, работающие вне дома; «мамы свободного выгула» и «мамы-вертолеты»; кормящие смесью и грудью; спящие вместе и «пусть ревут, пока не уснут»; одевающие малышей в пеструю одежду или в однотонную.
Некоторые ученые пришли к выводу, что тайну наших различий можно найти в уникальном геноме каждой мамы – если, конечно, мы сможем взломать его, как печеньице с предсказанием, и заглянуть внутрь. Но еще мы видим, как на судьбу каждой мамы влияют мириады самых неожиданных факторов окружающей среды: есть ли у нее опыт няни, брала ли она уроки гобоя, ела ли слишком много фастфуда, кто любил ее в детстве.
Я надеюсь, что моя книга не станет «мамсплейнингом»[35], – напротив, я хочу, чтобы мы вместе узнали, что разделяет мам, а что нас объединяет. Я хочу увидеть – под микроскопом или, может быть, в загоне, где живут обезьяны, – силы, которые движут нами. Я хочу знать, что движет рукой, качающей колыбель.
* * *
Нет, может быть, «биология мам» – это вообще не для вас. Может быть, вы похожи на ту женщину двадцати с чем-то лет, интервью с которой я недавно слышала по Национальному Общественному Радио[36], – эта «родозабастовщица» знала все, что необходимо знать о материнском опыте, потому что у кого-то из ее любительской команды, с которой она гоняет в футбол, когда-то родился ребенок. Может быть, вам не так интересно будет узнать, что материнский инстинкт не только служит базой для прочной связи в паре и вообще социального взаимодействия млекопитающих, но и, возможно, лежит в основе таких разных чисто человеческих явлений, как женская дружба, религиозный опыт, праворукость, альтруизм, лесбиянство, языки, музыка, обсессивно-компульсивное расстройство и содержание домашних питомцев, а еще может помочь объяснить, почему прекрасный пол настолько лучше переносит злоключения вроде картофельного голода[37] или вспышки кори – и, да, COVID-19 и прочих эпидемий тоже. (Спасибо тебе, прапрапрапрабабушка).
Но есть еще и множество чисто практических, даже, можно сказать, макиавеллианских[38] причин разобраться в этих вопросах. Десятки тысяч женщин каждый день впервые становятся мамами[39]. Многие из них живут в развивающихся странах, например, в особенно богатом мамами Зимбабве, где в некоторых роддомах, как говорят, до сих пор берут с женщин деньги за каждый крик. На Западе из-за спада рождаемости кажется, что мамы постепенно выходят из моды, но на самом деле нет – мы все равно еще в тренде[40]. Мы заводим меньше детей и позже рожаем первенцев, но тем не менее сейчас процент мам среди населения Америки выше, чем десятилетие назад; 86 процентов женщин перерождаются в матерей даже в возрасте за сорок. Даже миллениалы[41] вступают в наши ряды со скоростью миллион мам в год[42].
Эти цифры говорят нам, что мамы – сила не только природы, но и экономики. Мы составляем огромную долю американского рынка труда: 70 процентов из нас работают, причем большинство – полный день, а в 40 процентах семей мы единственные кормилицы[43]. И мы, похоже, неплохо справляемся с работой, потому что Goldman Sachs[44] пытается сохранить новоиспеченных мамочек на работе, перевозя их сцеженное молоко международными авиарейсами. Даже МИ-6[45] активно пытается нанимать на работу мам-шпионок, – правда, к сожалению, не потому, что мы такие все из себя соблазнительные, а из-за нашего «эмоционального интеллекта».
Маркетинговым компаниям очень хочется узнать, как работают наши мозги, чтобы лучше научиться впаривать нам все, «от лифчиков до бухла» (реальное название одного из недавних семинаров)[46]. Согласно последним данным, мамы заходят в мобильные приложения для покупок, начиная аж с пяти утра, и, если верить ученым, закупаются на 15 процентов быстрее, чем все остальные[47]. («Помните о тяжелой работе» материнства, призывал один аналитик, советующий бизнесменам потчевать измотанных мамочек «легко перевариваемой информацией»[48]). Яйцеголовые гении из Microsoft даже разработали специальную программу, которая отлавливает в сети женщин, недавно ставших мамами: она определяет это по использованию безличных местоимений и некоторым другим лингвистическим признакам[49].
Наконец, мы еще и важнейшая часть электората: в последнее время женщины голосуют на выборах активнее мужчин, и скрытые перемены, связанные с материнством, каким-то образом влияют и на политические взгляды – причем мы не тупо поддерживаем кандидатов, которые открыто отстаивают интересы мам[50]. Есть эффекты и поинтереснее: например, мамы чаще испытывают «более теплые чувства к вооруженным силам». Однако подобные сдвиги неодинаковы в разных странах: взаимодействие между женщинами и политическими системами весьма сложно, и к материнскому инстинкту могут апеллировать партийные деятели самых разных взглядов. Больше двадцати женщин, заседающих в американском Конгрессе, воспитывают маленьких детей, так что, как видите, все растущая доля политиков у нас уже и сама по колено в пеленках[51].
* * *
Но, хотя, как вы видите, управлять глобальной материнской силой – перспектива весьма соблазнительная, вы должны понимать, что, в первую очередь, меня интересует то, что полезно для нас.
Чем больше материнство считается личным выбором, просто одним из многих возможных жизненных путей, тем больше женщин (по очевидным причинам) задумываются, будут ли они счастливы, став, по сути, совсем другими людьми. Собственно, рекордная доля возрастных, образованных мам в Америке говорит о том, что многие из нас буквально десятилетиями жили и радовались, прежде чем решили все круто изменить. Может быть, не стоит тогда удивляться, что у сегодняшних будущих мам депрессия встречается на 50 процентов чаще, чем у наших матерей[52]? Я сразу могу вам сказать: материнство вызывало у меня и самую большую радость, и самую глубокую печаль в жизни.
Вопрос «Буду ли я счастлива?», конечно, лежит немного в стороне от науки, но биология может показать нам силы, которые раскачивают маятник счастья. Мы находимся во власти стольких сил, как крохотных, так и огромных, – от процессов, происходящих внутри клеток, до предрассудков целых цивилизаций, не говоря уж о болезнях, которые могут внезапно обрушиться на наше общество и оставить нас взаперти с обожаемыми малышами на много месяцев. Не существует какого-то единого материнского пути, и каждая женщина может превратиться в самых разных мам. Собственно, вскоре вы увидите, что и я побывала сразу несколькими мамами, и наука помогла мне понять, как именно во мне появились эти лучшие и худшие варианты личности.
В этом и состоят парадокс и чудо материнского инстинкта. Он одновременно фиксированный и очень гибкий, мощный и хрупкий, древний и современный, всеобщий и уникальный. Я поняла, что даже сама смерть не может с ним совладать, видя, как моя умирающая подруга даже в самые последние дни следит, чтобы дочь не ела слишком много кексов, и выбирает ей стильный гардероб для средней школы. Тем не менее, в определенных обстоятельствах его можно подорвать или вовсе уничтожить.
А еще его можно восстановить и воспитать. Ученые, глубоко погруженные в эти исследования, с нетерпением ждут появления новых, улучшенных лекарств, предназначенных специально для мам, и того дня, когда сканирование мозга станет такой же неотъемлемой частью посещения женской консультации, как сейчас измерение давления. Но уже сегодня есть множество не имеющих отношения к медицине мер, которые могут принять государства, города, друзья и родные, чтобы изменить жизнь мам к лучшему.
Нужна ли нам на самом деле помощь? Самки вида Homo sapiens, в конце концов, мамскими делами занимаются уже двести тысяч лет. В каком-то смысле современные мамы находятся в лучшем положении, чем все предыдущие поколения: теперь мы можем сами выбирать, как и когда рожать – даже пересадить себе чужую матку, если уж совсем припрет. Мы можем сцеживать грудное молоко прямо во сне («цеди и спи») или когда бежим полумарафон (типа «цеди и топочи»?). Беременные женщины, которых общество когда-то отправляло в изоляцию, могут заниматься чем угодно: вести новостные репортажи из зоны военных действий, бороться за олимпийское золото, подниматься на вершины всевозможных альп, работать премьер-министрами и директорами компаний.
Тем не менее, несмотря на роботизированные коляски и навороченных радионянь, которые позволяют нам петь колыбельные, даже находясь в командировке в нескольких часовых поясах от дома, мы не всегда управляем ситуацией – да и вообще, по-хорошему, не являемся в точности такими же, как раньше. Становясь матерями, мы не просто «изменяем взгляды» на мир. Меняется сам наш ум.
В современную эпоху индивидуализма и подбираемых «на заказ» личностей это звучит не слишком комфортно. Тем не менее признать, что мы не полностью самостоятельны, и понять те аспекты материнства, которые изменяют нас без каких-либо раздумий или согласия с нашей стороны, – это первый шаг к восстановлению контроля.
Одно исследование, проведенное Принстонским университетом, показало, что немалая часть материнских страданий во всем мире вызвана простым несоответствием между ожиданиями женщин от материнства и «информационным шоком» от живой реальности, особенно если реальность тесно связана с учебой или работой[53]. Притворяться, что мы остались такими же, как раньше, – иными словами, такими же, как все остальные, – и мы можем реально что-то решать в этом вопросе, невероятно контрпродуктивно и даже опасно.
Может быть, некоторые из нас действительно захотят укрыться от этих истин, подобно самкам птиц-носорогов, которые замуровывают себя (используя для этого свои же собственные фекалии) вместе с птенцами в дуплах деревьев на весь период «молодого материнства», а самцов к себе подпускают, только чтобы те иногда кормили их свежими финиками.
Нет, я уж лучше встречу опасность лицом к лицу – даже если мой мамский мозг, в конце концов, действительно станет похож на кучу битых яиц или томленую свинину, чего я втайне опасаюсь. Осознать фундаментальный сдвиг моего центра тяжести – как физического, так и умственного, – это лучший способ двигаться вперед.
Недавно одна из моих дочерей написала красным маркером мое имя на своей ноге, как она любит. Но на этот раз, стоя рядом с ней, я заметила кое-что новое: если перевернуть слово MOM[54], получится WOW[55].
Глава 1
Тот самый мааамент
Рождение матери
– Мам…
Моя мама, лежащая рядом со мной, твердо вознамерилась поспать. Она сняла слуховой аппарат, поняла я, еще сама не до конца проснувшись. Но это не так и важно – я притащила свою 71-летнюю мать на продуваемую всеми ветрами овцеводческую ферму в Коннектикуте в основном для моральной поддержки.
Мы с мамой дежурим в качестве вечерних «наблюдателей» – следим за судьбой четырнадцати сильно беременных овец. Несколько из них должны были окотиться в этот холодный мартовский день в большом, побитом жизнью амбаре рядом с домом, в котором мы спали. Мы должны вставать каждые два часа и проверять, как дела у овец. Конечно же, я вскочила по первому же звонку будильника айфона: у меня трое маленьких детей, которые могут проснуться когда угодно, так что я уже привыкла не спать глубокой ночью, а вот у мамы такой практики не было довольно давно. Тем не менее вскоре мы уже натягиваем сапоги.
Большинство добровольцев, готовых не спать по ночам на ферме, приезжают ради возможности потискать новорожденных ягнят с розовыми носиками и мохнатыми коленками, но вот я здесь ради матерей. Овцы – ключевое животное-модель для изучения того, как зарождается материнское поведение, самых первых моментов материнства. Поскольку овцы – стадные животные, потомство которых обычно присоединяется к огромной толпе из сотен животных вскоре после рождения, материнские узы устанавливаются у них невероятно быстро: 30 процентов овец могут узнать своего ягненка сразу после рождения, а остальным для этого хватает четырех часов[56].
На улице так холодно, что звезды блестят, словно слезы.
Мы с мамой идем по лужайке, хрустя снегом. Войдя в пахучий, теплый, совершенно темный амбар, я повторяю про себя методики экстренного овечьего родовспоможения, которыми, возможно, придется воспользоваться, если управляющий фермой не успеет добраться вовремя. Самая пугающая из них – крутить безвольно обвисших ягнят у себя над головой. Я прочитала большой ламинированный буклет, где описывались разнообразные узлы, в которые спутываются двойни и тройни, и толком не смогла уснуть, потому что мне вечером сообщили две вещи: овца по кличке Леди 56 в прошлом году принесла сразу пять ягнят, а сейчас может окотиться в любой момент.
Я делаю глубокий вдох и включаю свет в амбаре.
Ничего. Волшебного превращения овец в мам не произошло. Собственно, они стоят и жуют себе сено, словно девушки из долины Сан-Фернандо[57] – жвачку. «Они что, просто сидят тут и едят всю ночь?» – не без зависти спрашивает мама. (Я привезла ей только зерновой батончик). Овцы огромные и спокойные, хотя иногда и задевают друг дружку своими здоровенными животами. «Они даже не представляют, насколько они большие», – предупредил нас работник фермы. Любая женщина на третьем триместре беременности с этим согласится.
Мы проверяем овец на характерные признаки начала родов: глаза, огромные, как блюдца, вытянутые шеи, искривленные губы. Я проверяю мохнатые попы в поисках амниотического мешка[58], который, как нам объяснили, «похож на большой воздушный шарик с водой, торчащий сзади», или слизистой пробки[59] («как большая сопля»). Когда я прохожу мимо Леди 56, та послушно поднимает хвост, и на землю падают маленькие какашки, похожие на драже в шоколаде. Она вздыхает, потом рыгает.
Мои бдения пропали втуне – ни один ягненок той ночью не родился. Но когда через несколько недель я снова приехала на ферму, амбар совершенно преобразился. Один за другим – или трое за тремя, бывает и так, – родились ягнята, и они скачут по переполненному загону, словно попкорн по сковородке.
Их матери тоже совершенно преобразились.
Дело даже не в том, что овцы стали до смешного худыми, и больше уже не кажется, словно у них запущенный случай вздутия живота от клевера. Их характер тоже поменялся. Я устраиваюсь на кипе сена, лежащей прямо на полу, чтобы смотреть на происходящее с высоты покачивающегося вымени, и стараюсь игнорировать подвижных маленьких созданий, которые кусают мои локти и блокнот.
Овцы больше не стоят рядом друг с дружкой, мирно жуя. Новоиспеченные мамочки очень вспыльчивы и предпочитают стоять в одиночестве – необычное желание для стадного животного. Две овцы не поделили место у яслей и теперь бодаются, как бараны.
– Они постоянно встревожены, – объясняет Лора Маллиган, управляющая фермы «Хикориз». – Они такие: «Эй, кто меня трогает? Где мой малыш? Где мой другой малыш?» Ягнята-то полезут под любую овцу, у которой есть молоко. Мамам приходится разбираться самим.
В поисках ягнят мамы-овцы забавно гогочут – формально этот низкий звук называется «материнским блеянием» или «рокотом», его издают только недавно родившие овцы.
Овцу по кличке Номер 512 только что выпустили из «кубышки», или послеродового загона, где она могла пить сколько угодно теплой воды с патокой. Она – одна из немногочисленных черных овец в стаде, но вот ее ягнята-близнецы – белоснежные, как и все остальные, и они тут же исчезают в овечьем буране. Кажется просто невозможным определить, где чей ягненок. На миллисекунду возникает паническая дрожь, а потом, словно в игре «Музыкальные стулья», овцы разбирают детенышей. Черной овце каким-то образом удается найти своих малышей среди толпы совершенно одинаковых ягнят, дремлющих под оранжевым светом нагревательной лампы.
Владелица фермы, Дина Брюстер, каждый раз восхищается этим представлением, словно видит его впервые. Брюстер и сама новоиспеченная мама, так что детские и овечьи принадлежности разбросаны по ферме вперемежку. (Я даже умудрилась перепутать какую-то висевшую на крючке шлейку, которая используется для случки овец, с рюкзаком-переноской BabyBjörn). Ей интересно, о чем же думают эти животные.
– Здесь очень много таинственного и целая куча гормонов, – объясняет она, перегнувшись через поручень. – Я всегда хотела знать: почему? Почему? Откуда они знают?
Пытаясь понять, как же обычные овцы превращаются в мам, некоторые ученые наблюдают за их обонянием.
У многих животных, впрочем, как и у людей, после родов сильно меняется характер: появляются раздражительность и беспокойство.
У овцематок нос – это главный орган, отвечающий за материнское поведение. В рамках одного эксперимента ученые посадили ягненка в прозрачный воздухонепроницаемый ящик, в котором овца могла видеть своего детеныша, но не чувствовала его запах[60]. Овцы быстро теряли интерес. А вот когда ягнят сажали в «дышащие», но непрозрачные ящики, и овцы их не видели, но чувствовали запах, то у овцематок «включалось» материнское поведение.
Через несколько мгновений после окота овцы запоминают запах своего ягненка и могут легко вынюхать самозванца: в эксперименте 2011 г. ученые всеми силами пытались убедить овцематок нянчиться с «чужим детенышем», одев новорожденных ягнят в хитрые свитера, пропитанные химическим веществом, которое очень сильно, но не в точности напоминало запах настоящего ягненка, создаваемый сотней с лишним летучих органических веществ[61]. Мамочек обмануть не удалось. Они знали характерный запах своего детеныша вплоть до последней молекулы.
Может быть, сверхчувствительный шнобель – неотъемлемая часть материнской любви и у людей? В какой-то степени это так. В одном эксперименте канадские ученые выдавали новоиспеченным мамам ванночки из-под мороженого «Баскин-Роббинс», в которых (какая жестокость!) было не мороженое, а ватные шарики, пропитанные различными запахами, в том числе и запахами младенцев[62]. Вуаля – женщинам часто удавалось распознать «букет» своих отпрысков.
Тем не менее эти поразительные изменения в органах чувств, – которые, кстати, намного лучше изучены у овец, чем у людей, – являются лишь очень малой частью радикальной перестройки, с которой сталкиваются новоиспеченные матери: этого тектонического сдвига, грубого пробуждения, переписанного сценария, обновления системы, перемешанной колоды, пересмотренной миссии, новых заповедей, последних правок.
Мы привыкли думать о беременности и родах как о процессе, который происходит «снизу вверх» – что-то растет внутри нашего тела (и, к сожалению, при этом нередко заодно вырастает и попа). Но материнство как явление на самом деле развивается «сверху вниз»: беременность и гормоны деторождения, которыми сначала управляет завоевательница-плацента, а потом и наш собственный организм, изменяют не только тело, но и разум.
Я не совсем уверена, хочу ли на самом деле знать, что произошло с моим мозгом после трех беременностей. Мне даже думать об этом некомфортно – словно я заглядываю в ящик с посудой Tupperware и вижу там опаленные микроволновой печью, кое-как надетые на контейнеры крышки не того цвета. В последнее время у меня в голове полнейший беспорядок.
Тем не менее, будучи дочерью женщины, которая через четыре десятилетия после моего рождения по-прежнему готова бегать со мной по холодным амбарам с овцами, и матерью девочки, которая собирается стать «первой женщиной на Марсе» и при этом родить двадцать два ребенка, я постоянно задаю вопросы об этом общем женском путешествии – и о том, куда оно может завести ничего не подозревающих женщин. Существует ли материнский инстинкт? Можно ли его увидеть и измерить? У всех ли матерей он есть? И только ли у матерей? Навсегда ли нами овладевает эта новая личность?
Словно фермер-овцевод, облокотившийся о поручень, я спрашиваю себя: почему? Почему? Откуда мы знаем?
* * *
Давайте начнем с очевидного: «материнского инстинкта» вида «мамы, чудесным образом сразу понимающие, что же надо делать», не существует. «Такого материнского инстинкта» у людей, по словам нейробиолога Джоди Павлуски, изучающей материнское поведение в Реннском университете во Франции, просто нет. «Всем нужно учиться быть родителями».
Это настоящая музыка для моих ушей. Я уже давным-давно перестала ждать, когда же проснется моя внутренняя супермама.
Тревожное чувство, что я не имею даже самого туманного представления о том, как стать и быть мамой, пришло почти десять лет назад, в начале моей первой беременности. Мне было тридцать. Работа бэбиситтером в старших классах уже превратилась в отдаленное (и не слишком приятное) воспоминание, а с тех пор я провела в компании маленьких детей лишь несколько часов. Да и по этому времени я, мягко говоря, не скучала. Мы с мужем вели типичную замечательную жизнь вашингтонцев, которым еще нет тридцати: разъезжали по всему земному шару, занимаясь журналистской работой, а по возвращении домой ходили в модный балканский ресторан, открывшийся в нашем районе, или очень медленно бегали трусцой по тропинкам в ближайшем парке. Единственным, на что я жаловалась, было то, что по выходным постоянно приходилось ходить по свадьбам друзей и подруг.
Но теперь все изменилось. Внутри меня кто-то путешествовал зайцем. Я стала будущей мамой, хотя раньше себе этого даже не представляла. В моей голове вообще не было никаких материнских познаний. Я понимала, что нужно заняться какой-то подготовкой, но какой? Однажды во втором триместре я пошла в торговый центр. Но вместо того чтобы купить, скажем, детское одеяло, я долго ходила по универмагу в поисках халата и тапочек одинакового цвета – такого ансамбля у меня раньше никогда не было, да и приобрести тоже особого желания не было, но я считала, что это будет как раз подходящим убранством, чтобы семенить по коридорам роддома среди таких же разодетых дам, иногда останавливаясь, чтобы элегантно вздрогнуть.
И, конечно, поскольку я всю жизнь обожала получать хорошие оценки, я не могла не записаться на курсы. Никто не представлял себе, существует ли сейчас вообще метод Ламаза или его полностью затмили другие, более модные течения подготовки к родам. Но я решила, что гоняться за модой не обязательно. В конце концов, моя мама тридцать лет тому назад окончила эти курсы, и дыхательная гимнастика а-ля «задувание свеч на день рождения» помогла ей достичь материнского триумфа.
У нашей учительницы по методу Ламаза были напомаженные седые волосы и потрясающе широкие бедра. Эти бедра, как она объяснила нам на первом занятии, помогли ее единственному ребенку выскочить из нее буквально за десять минут, так что у нее особенно не было времени воспользоваться всеми замечательными советами Ламаза[63], которыми она поделилась с нами в тот день.
Задув больше воображаемых свечек[64], чем на торте в честь дня рождения Мафусаила, я окончила курсы по методу Ламаза, но по-настоящему запомнила из них только одно. В начале занятий всем будущим мамам выдали очень большие круглые бейджики с именами, сделанные из картона. В какой-то момент наша учительница рассказала нам, что диаметр этих бейджиков – ровно десять сантиметров, как у полностью раскрытой шейки матки. Этот образ накрепко застрял у меня в голове, а вот более полезная информация куда-то подевалась.
Через десять лет, родив троих детей, я не стала особенно мудрее, превратившись в закаленную боями матрону, которая, что даже как-то тревожно, не может никому дать ни проверенный временем совет, ни поделиться последними модными рекомендациями по рождению и воспитанию детей. Я так и не поняла, в какой момент ребенок начинает меньше спать и в каком порядке вырастают моляры[65]. Мне пришлось обращаться к экспертам, о существовании которых я раньше и не подозревала, чтобы научить моих детей засыпать (консультант по сну), есть (консультант по еде), ездить на велосипеде (какой-то бедолага из магазина велосипедов). Однажды я пошла с дочерью к врачу, чтобы удалить занозу из большого пальца. Я несколько лет держала при себе визитную карточку профессионального удалителя вшей.
Когда я считаю, что наконец-то придумала какой-нибудь клевый родительский приемчик или чувствую, что меня посетила материнская интуиция, эта идея быстро опровергается. Достаточно вспомнить, например, как мне недавно пришлось внезапно кормить ребенка прямо во время семейного похода, и я оказалась без футболки – спортивные бюстгальтеры в таких ситуациях вызывают определенные затруднения, – да еще и окруженная целой толпой одетых в камуфляж пожилых мужчин, вооруженных биноклями. («Здесь же эпицентр миграции древесниц», – презрительно сообщил мне один из орнитологов-любителей). Или выходные, когда я отмахнулась от симптомов желудочного гриппа, которые начались у одного из детей, и мы поехали в давно запланированную поездку; это фиаско закончилось эпичным приступом рвоты в фойе гостиницы, потерянным кошельком, украденными ключами и угоном нашей любимой семейной машины. (Машину, в конце концов, удалось вернуть, но капот у нее был всмятку: угонщик попытался уйти от полиции на большой скорости и не справился с управлением. «Коляска ваша? – спросил полисмен, который обыскивал обломки в надежде найти наши личные вещи. – А кастет?»).
Мы с мужем даже придумали термин, обозначающий цепную реакцию, которая ведет к домашней катастрофе: «родительский каскад».
* * *
Слава небесам, от этого страдаю не одна я. Одно исследование за другим подчеркивают, насколько же на самом деле некомпетентны новоиспеченные мамы. Мы не знаем рекомендаций по питанию детей от Министерства сельского хозяйства США. Мы вообще не представляем, как сбить температуру, как не дать ребенку подавиться и как его безопасно усыпить. Один газетный заголовков гласил: «Приучение к горшку – это научная тайна», – которую мамы просто не в состоянии решить[66]. (В самом деле, средний возраст, в котором дети перестают писаться в штаны, все растет – от двух лет в 1950-х гг. до трех с лишним сейчас. Похоже, даже те немногочисленные материнские таланты, которые у нас были, еще больше атрофировались[67]). Неудивительно, что мамочки встают в очередь, чтобы присоединиться к группам типа Loom – это своеобразный загородный клуб для богатых, но тревожных жительниц Лос-Анджелеса, где предлагают «услуги без осуждения», которые помогут «сориентироваться в лабиринте современных протоколов ухода за детьми»[68]. Неудивительно, что мы скачиваем переводчики с детского языка вроде ChatterBaby, приложения для айфона, которое якобы расшифровывает, о чем именно сейчас кричит ваш ребенок.
Поначалу я ржала, узнав о Snoo, люльке-роботе за 1300 долларов, которая управляется через айфон и оснащена микрофонами, колонками и Wi-Fi-переключателями, считывающими выражения лица, крики и подергивания ребенка и автоматически запускающими механизм укачивания.
А потом, через несколько месяцев, я заказала себе такую. (К счастью, я взяла ее напрокат, потому что как с ней обращаться, я так и не поняла. Машина, несомненно, знала больше, чем я).
Конечно, не все мамы настолько безнадежны. Но во многих отношениях мы значительно отстаем от овец. Другие млекопитающие, конечно, не являются полностью предсказуемыми, но они обладают куда бо́льшим арсеналом так называемых «фиксированных паттернов действия» – врожденных, автоматических материнских моделей поведения, предназначенных для ухода за потомством.
После родов крыса-мать действует практически на автопилоте: съедает плаценту, очищает, достает и переносит крысят, выкармливает их, прикрывая своим телом, и энергично облизывает их анальные отверстия и гениталии. И, собственно, все, больше от нее ничего не требуется.
У мам-крольчих, пожалуй, самая живописная и специфическая программа материнства. Ровно за день до родов они начинают, словно сумасшедшие, выдергивать шерсть из своих бедер и устилать ею гнездо. Ученые пробовали брить крольчих наголо, чтобы предотвратить этот процесс; после этого другие ее материнские привычки давали сбой, и в большинстве случаев крольчата умирали.
Возможно, у человеческих женщин тоже сохранилось нечто похожее на этот «инстинкт гнездования»; анкеты говорят, что беременные женщины с приближением даты родов чаще испытывают «неконтролируемое желание переставить и отмыть» все в доме[69]. («Разложить резинки для волос!» – громогласно поклялась я в одном из списков дел во время беременности). Тем не менее, если от женщины спрятать жидкость для мытья окон, это никак не помешает ей ухаживать за ребенком.
Собственно говоря, ученые долго и безуспешно пытаются найти человеческую версию «фиксированного паттерна действия», хоть какой-то одной модели поведения, которой автоматически придерживаются все матери вида Homo sapiens. Один из возможных соискателей этого звания – «мамский язык», слащавые, произносимые высоким голосом речевые конструкции, которыми мамы пользуются в общении с младенцами. «Мамский язык» обнаруживали повсюду, от Америки до Японии, и даже глухие мамы инстинктивно начинают общаться похожим образом на языке жестов. Ученые могут определить, мама сейчас говорит или нет, не только по абсурдным фразам, которые мы произносим во время научных наблюдений (в одном из исследований прозвучало: «Давай не будем есть котика»), но и по тембру голоса[70]. Некоторые даже утверждают, что древний дуэт между матерью и ребенком – это предок всех человеческих языков и, возможно, даже музыки.
Но даже «мамский язык» не универсален, – по крайней мере, не настолько, насколько выщипывание шерсти из бедер для крольчих или материнское блеяние для овец. У некоторых народов матери почти не разговаривают с младенцами, да и смотрят на них редко. (В Папуа – Новой Гвинее, например, ребенок проводит первые два года жизни в просторном мешке, закрепленном на лбу матери, и, скажу я вам, доводилось мне слышать идеи и похуже). Не универсально и пение для детей: исследование американских мам в отделениях интенсивной терапии новорожденных показало, что 40 процентов из них не пели своим маленьким любимцам серенад[71].
У людей в меньшей степени, чем у животных развиты инстинкты. Так, дамы не всегда понимают, как приложить к груди малыша, а продолжать грудное вскармливание могут и год, и пять лет.
Даже поведение, характерное для всего класса млекопитающих – грудное вскармливание, – у нашего вида проявляется очень по-разному. Мамы-крысы, словно по часам, вскармливают детенышей ровно двадцать один день, а вот мамы-люди могут кормить пять лет, а могут и не кормить вообще. Если бы кормление было естественным, глубоко запрограммированным и инстинктивным процессом, нам бы не понадобился толстенный 400-страничный бестселлер, помогающий овладеть «женским искусством грудного вскармливания[72]», правильно? (Я, естественно, обратилась за помощью к консультанту по лактации.)
Пожалуй, самая впечатляющая из почти повсеместно распространенных моделей поведения – это так называемая «склонность к леворукому убаюкиванию». Примерно 80 процентов женщин-правшей и, что интересно, практически столько же левшей автоматически держат детей слева[73]. На большинстве статуй Девы Марии младенец Иисус сидит слева, да и обычные дети часто оказываются там же: несмотря на то, что я ярко выраженная правша, я почему-то просто не могу держать младенца правой рукой. Это кажется неправильным. Хотя эта тенденция больше всего заметна в первые три месяца жизни младенца, даже сегодня мои дети-школьники бьются изо всех сил за право сесть слева от меня, когда я читаю им книгу или мы смотрим кино.
Оказывается, склонность к левизне свойственна всем животным. Ученые недавно обнаружили это предпочтение у самых разных млекопитающих – даже у индийских летучих лисиц и моржей, которые держат детенышей слева, когда соответственно висят вниз головой или плавают в море[74].
Эта глобальная склонность скорее всего связана с несимметричным строением мозга млекопитающих. Если держать и смотреть на ребенка слева, то информация поступает в правое полушарие маминого мозга, где обрабатываются эмоции. Младенец, в свою очередь, видит более выразительную левую часть маминого лица. Ученые, просматривавшие семейные альбомы, недавно обнаружили, что матери, «более склонные к депрессии и менее – к эмпатии», чаще держат детей справа[75]. Итальянский ученый Джанлука Малатеста, эксперт в этой области, в разговоре со мной отметил, что принцесса Диана, которая была склонна к депрессии, чаще держала детей справа. (А может быть, раз уж она принцесса, для которой и пальцем пошевелить – уже непосильный труд, она оказалась просто не готова хоть что-то держать в руках, в том числе и детей?) Интересные исследования показывают, что младенцы, которых мамы держали справа, вырастают с худшей способностью распознавать выражения лиц[76]. Даже маленькие девочки держат пупсов с левой стороны – хотя я лично этого подтвердить не могу, потому что сама никогда с пупсами не играла.
* * *
С другой стороны, вполне возможно, что (по крайней мере, у людей) привычка держать младенцев слева характерна не только для мам.
В проведенном недавно очень милом исследовании 98 детям дошкольного возраста из Великобритании дали подержать подушки – никакого особенного предпочтения той или иной руке они не отдавали. Потом ученые нарисовали на подушках примитивные лица, и внезапно многие пятилетние девочки и мальчики – никто из них, очевидно, мамой не был, – начали держать их с левой стороны[77]. У взрослых мужчин склонность к леворукому убаюкиванию выражена не так сильно, но все же наблюдается (хотя мой муж, например, принципиально держит детей справа).
Вот мы и подошли к новой трудности с формулировкой определения для человеческого материнского инстинкта. У большинства видов млекопитающих, например, крыс, самцы, а также самки, у которых нет детенышей, игнорируют младенцев или, хуже того, даже поедают их. А вот люди – это аллопарентный[78] вид: мы суперсоциальны и обладаем универсальной способностью к уходу. Младенцы занимают особенное место в сердцах и нервных структурах всех мужчин и женщин.
Так что некоторые части того, что мы называем «материнским инстинктом», на самом деле характерны для всего человечества. Младенец – это один из самых возбуждающих стимулов, вне зависимости от биологического пола человека и наличия у него собственных детей. Когда мы смотрим на младенцев или тем более держим их на руках, у нас повышается температура. Мозг обрабатывает детские лица иначе, чем взрослые, задействуя дополнительные области. В исследовании 2012 г. бездетным взрослым итальянцам показывали фотографии незнакомых детей, взрослых и животных, а фМРТ-машины в это время отслеживали кровоток у них в мозге. Детские лица активировали характерные участки серого вещества. Эта «специфическая видовая реакция», писали ученые, похоже, «не зависит от биологического родства взрослого и ребенка»[79].
Не зависит она и от расово-этнической принадлежности: взрослые демонстрируют разные неврологические реакции на людей разного этнического происхождения, но раса вообще ничего не значит, когда они смотрят на детские лица, – это показало сравнение экспериментов с участием японцев и итальянцев[80]. Человеческий мозг сходит с ума по всем малышам.
Та же история и с детскими криками. В исследовании с участием британских пациентов нейрохирургии – их выбрали потому, что они очень удобны для исследователей: у них в мозг уже имплантированы электроды, – ученые поставили им запись со всхлипами младенцев. Глубокий участок мозга под названием «околоводопроводное серое вещество» активировался через 0,049 секунды после того, как начинал звучать дрожащий голосок младенца. Это примерно вдвое быстрее, чем реакция мозга на другие похожие шумы, например, испуганное мяуканье кошек[81].
Первобытные сигналы от младенцев, похоже, готовят людей к действию, а также заставляют внимательнее смотреть и слушать. Взрослые, только что услышавшие детский плач, в одном лабораторном эксперименте показали лучшие результаты в игре «Прибей крота», где требуются быстрые рефлексы, чем люди, слушавшие более приятные звуки, например, пение птиц[82].
Эти и другие исследования показывают, что люди запрограммированы обращать внимание на младенцев, реагировать хотя бы чуть-чуть похоже на то, как отреагировала бы их родная мать. Если мужчина или женщина услышат, как в канаве кричит брошенный ребенок, подавляющее большинство из них спасут его. Возможно, они не решат взять его домой и воспитывать как своего, но, по крайней мере, они попытаются найти какую-нибудь помощь и уж точно не поставят его на стол в качестве главного блюда. Такое поведение с виду кажется элементарным, но оно отличает нас практически от всех остальных млекопитающих.
Тем не менее наука показывает, что даже у людей некоторые навыки – эксклюзив, дарованный только матерям.
* * *
Через несколько месяцев после нашего ночного бдения с овцами мы с мамой снова поехали туда, где рожают, – в роддом в Питтсбурге, на расстояние одного короткого перелета, где лежала моя младшая сестра. Свой выводок я оставила в Коннектикуте, и пусть все эти материнские инстинкты идут к черту – мне вполне нравится отпуск от родительских дел. Я уже не помню, когда в последний раз в аэропорту не вскрывала бутылочки с грудным молоком для проверки, нет ли в них взрывчатки, или не разбирала коляску с такой же скоростью и точностью, как морской пехотинец – винтовку. Хорошо отдохнувшая, недавно из душа, вооруженная стопкой глянцевых журналов, я приветливо, словно на конкурсе красоты, машу рукой мужу сестры. Молодой отец с пустыми глазами ждет нас возле выдачи багажа.
– Я подержался за ножку, – сказал он. Больше за все время, что мы ехали до роддома, он не сказал ни слова. С глубоким удовлетворением я замечаю, что он пьет кофе из Dunkin’ Donuts – классический родительский напиток, который они с моей сестрой презрительно называли «коричневой водой». «Все, кончились для вас эспрессо из бобов домашней обжарки, ребята! – хихикаю я про себя на заднем сиденье. – И никакой больше горячей йоги!» Подобные злорадные мысли, похоже, вполне типичны для много рожавших женщин, или, как выражаются ученые, multipara, которые наблюдают за мучениями первородящей, или primipara – в данном случае моей несчастной сестры.
После напряженного противостояния в коридоре с госпитальным роботом, разносящим подносы с едой, я вхожу в палату моей сестры и вижу расставленные вокруг нее в беспорядке баночки с греческим йогуртом. Мой новорожденный племянник – на прогулке с медсестрой.
Лишь после того как ребенок покинул комнату, моя сестра, наконец, сумела встать с кровати. Она поклялась никогда не стоять, держа его на руках, потому что боится упасть в обморок.
– Это все запах его головки, – объясняет она. – Она как наркотик. Мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание.
Это вовсе не безумие: дети не только имеют характерный запах, что показали эксперименты с овечьим парфюмом и поддельными ванночками из-под мороженого. Они еще и пахнут необъяснимо восхитительно.
В другом исследовании запахов, где участницам предлагали понюхать сыр, специи и детские распашонки, у матерей двухдневных младенцев детский аромат получил более высокий «гедонистический рейтинг», чем у бездетных женщин[83]. Для новоиспеченных мамочек эти жуткие перепеленутые создания не менее ароматны, чем сирень или шоколадное печенье, только что вынутое из духовки.
Эта восхитительность, как мы увидим позже, объясняет примерно все. Это секретное оружие природы. Второе рождение, которое мы переживаем в материнстве, – это своеобразный неврологический ренессанс, который перестраивает систему вознаграждения женщины. В нашем восприятии удовольствия происходит настоящий сдвиг парадигмы, мы, словно наркоманки, хотим лишь новой дозы. Безволосое маленькое живое существо, которое около девяти месяцев назад взломало вашу иммунную систему, вдруг становится вашим солнцем и звездами, вашим новым истинным севером. Дело даже не только в том, что вы готовы разжижать свои кости и израсходовать жировые запасы, чтобы выкормить его грудью. Все ваше поле зрения теперь сходится в одну маленькую фокальную точку.
И, что еще замечательнее, эти потрясающие чувства удовольствия и радости наступают практически сразу после сильнейшего страха и страданий. Восхитительный спящий чурбачок на руках новоиспеченной мамы, скорее всего, только что доставил ей самые адские в жизни страдания.
* * *
Несмотря на два дня очень болезненных схваток, у моей сестры были так называемые «хорошие роды».
А вот мои первые роды получились… не слишком хорошими.
Все остальные были совершенно уверены, что природа свое возьмет. На моем первом УЗИ врач, – который вроде как должен был проверять, нет ли у плода каких-нибудь генетических отклонений и не ношу ли я близнецов, – вместо этого решил сообщить, что у меня «отличные возможности для вынашивания». Он что, назвал меня жирной? Ну, почти. После того как я его допросила, он объяснил, что имел в виду: я девушка крупная и крепкая, словно специально сконструированная для того, чтобы перенести тяжелую физическую нагрузку родительства, в отличие от несчастных худеньких феечек, которые встречались ему в практике. Увидев большие, испуганные глаза мужа, я сумела выдавить улыбку и даже не врезать врачу по лицу.
Да, у меня действительно обнаружились выдающиеся способности по укрупнению организма, но к концу третьего триместра больше ничего особенного не происходило. Я ощущала себя часовой бомбой – большой, круглой, тикающей и безнадежно подсевшей на яблоки, смазанные арахисовым маслом.
Прошла сорок первая неделя, потом сорок вторая, и, хотя я уже ходила беременной больше десяти месяцев вместо обещанных девяти, схватки так и не начинались. Так что в назначенный день – в это воскресенье как раз игрался «Супербоул[84]*» – я сложила в сумку пушистые тапочки и халат одного цвета и кучу других случайно собранных безделушек и отправилась в роддом на стимулирование родов.
В тот вечер мне вкололи спазмолитики[85], на следующее утро – стимулятор родов питоцин[86], а потом еще питоцин. Схватки начались, как рябь на воде, а потом быстро превратились в цунами.
– Еще порцию «Пита», – безучастно сказала медсестра. Волны поднялись еще выше. Я где-то слышала, что при родах помогают техники визуализации, и попыталась представить, как стою на доске для серфинга и успешно преодолеваю эти ужасные водные горы. Когда это не сработало, я попробовала другой трюк – сосредоточиться на одном предмете, но у меня не нашлось ничего символического, чтобы сосредоточиться, так что я изо всех сил рассматривала красную пробку от бутылки с «Кока-колой».
Моя официальная цель – родить без обезболивающих – была обусловлена не родительской философией (у меня вообще ее не было) и не страхом за нерожденного ребенка (которого я, собственно, даже не знала), а боязнью крови, шприцов и – в последние несколько дней – кесаревых сечений. Я знала, что роды без лекарств – это одна из стратегий, которая поможет избежать скальпеля и первобытного ужаса перед потрошением, даже если это потрошение временное, плановое и тщательно контролируемое.
К сожалению, сражение со стимулируемыми схватками я проиграла. После долгого утра приглушенных, – а потом уже и не таких приглушенных – схваток подошла медсестра, чтобы проверить, как у меня дела. Четыре сантиметра.
«Четыре сантиметра! – подумала я. – Это же даже не половина бейджика!»
В общем, я оказалась вовсе не здорова, как корова, и не смогла вывезти на себе все природные мытарства. Похоже, я проваливала задание, которого даже не понимала. Потом мне ввели эпидуральную анестезию – ну, привет, большая иголка. Выглядело все кошмарно, но затем наступил приятный, пусть и недолгий покой.
Парализованная ниже пояса, я не могла семенить ни по каким коридорам в своем модном родовом костюме, так что мы с мужем вместо этого запоем смотрели сериалы. Стоял суровый, серый зимний день. Жалюзи были наглухо закрыты.
– Вам что, солнечный свет совсем не нужен? – укоризненно спросила медсестра.
Настал вечер. Ничего особенного с виду не происходило, но вот где-то внутри, судя по всему, произошло. В какой-то момент пришел врач и сказал, что матка раскрылась уже на десять сантиметров, и пора тужиться.
Первые потуги стали катастрофой. Сердцебиение малыша, до этого отображавшееся в виде энергичного «тра-та-та» на мониторе, вдруг ослабло и стало больше напоминать стук камня, который падает в глубокий-глубокий колодец, отскакивая от стен, причем интервалы между каждым «отскоком» лишь росли. Врач вбежал обратно в палату. Но сердцебиение восстановилось само по себе. Так что я снова начала тужиться – и снова, и снова.
Похоже, какого-то прогресса добиться все же удалось. Этапы преодоления родовых путей подсчитывают от –3 до +3, последней остановки перед дневным светом. Медсестра сообщила, что я от –3, преодолев –2 и –1, пронеслась прямиком до нуля. Я еще никогда в жизни так не радовалась тому, что достигла нуля. Нуль – это просто эпично. Осталось преодолеть всего три этапа!
Первое ощущение мамы после родоразрешения, вопреки ожиданиям счастья и эйфории, – чаще всего усталость и желание просто поспать.
Но что-то пошло не так – и это выяснилось минут через двадцать. Еще одна проверка, и… да, предыдущая медсестра ошиблась в расчетах. Я так до сих пор и сижу на –3. Я несколько часов напрягалась, пыхтела и дула, словно Злой и Страшный Серый Волк, а младенец не сдвинулся и на миллиметр.
– По-моему, вы не сможете вытолкнуть этого младенца сами, – холодно произнесла новая медсестра, беспечно опираясь подбородком о мое трясущееся колено.
Мой муж, к этому времени уже впавший в лихорадочное состояние, попробовал другой подход.
– Ну, давай же! – крикнул он внутрь меня, словно призывая доблестную невидимую кавалерию к последнему прорыву.
Как можно вежливо указать всем этим людям, что я тут вообще-то умираю? Мне на самом деле уже было все равно. Боль, с которой удалось было справиться, снова вернулась. Сила воли, которой я всегда гордилась, покидала меня. Началась лихорадка, у меня подскочила температура. Лица окружающих блестели и расплывались. Я сделала длинный, крутой шаг в долину, полную звезд.
Операционная. Перед моими глазами подняли синий, почти веселый брезентовый занавес, похожий на только что установленный цирковой шатер. К счастью, он перекрыл мне обзор. Хирурги о чем-то болтали – мое экстренное кесарево сечение было явно не самым драматичным из тех, что им доводилось видеть. Они даже не дали мне наркоз, что с моей точки зрения на самом деле было не то, чтобы хорошо. В моем животе что-то дергали и тянули, в какой-то момент мне показалось, словно кто-то запрыгнул на грудную клетку. Я поняла, что меня расковыривают изнутри, словно огромный арбуз на вечеринке. Но, по крайней мере, больно больше не было. Я смотрела на мерцающие хирургические лампы на потолке.
– Ребенок вышел, – сказал кто-то. Послышалось долгое, зловещее молчание, а потом – наконец-то неуверенный вскрик.
В околоплодных водах оказался меконий – первый кал новорожденного. Похоже, во время схваток ребенок внутри паниковал не меньше, чем я снаружи, и, возможно, даже вдохнул немного вязкого черного вещества. Так что теперь младенца отправят в отделение интенсивной терапии новорожденных, и он пробудет там не меньше двадцати четырех часов для наблюдения.
Я успела увидеть нечто цвета докторской колбасы, потом его унесли.
* * *
Рассвет. Я все еще не до конца пришла в себя от многочисленных лекарств, но уже чувствовала болезненную рану на животе. Из-за кровопотери моя кожа была желто-зеленого цвета, а лодыжки жутко отекли из-за внутривенного ввода жидкостей. Я все еще не могла ходить, но, с другой стороны, не особенно-то и хотелось. Я не хотела звонить маме или говорить с Эмили. Я не хотела устраивать фотосессию с новорожденным или «составлять план игры» вместе с лактационной медсестрой, которая уже успела ко мне заглянуть. Я не хотела думать ни о вчера, ни о завтра, ни вообще о младенце. Я хотела просто еще поспать.
Позже – через несколько минут или, может быть, часов, не знаю, – мой шокированный муж наконец-то подал голос со своего места на диване, обитом искусственной кожей.
– Пойдем, посмотрим на него?
(На самом деле у нас родилась дочь).
Я решила, что да, стоит. Мне на самом деле было все равно, но меня немного беспокоило, что скажут медсестры, если я отвечу: «Нет».
Меня вместе с капельницей уместили в кресло-каталку, и муж повез меня по коридору. Мы проехали мимо процессии из торжествующих, хвастающихся друг дружке младенцами новоиспеченных мамочек; на некоторых из них были тапочки и халаты одного цвета, в точности как я всегда представляла. «Вот ты и стала мамой»